Флобер Г.
Письма
*****************************************
Библиотека Гюстава Флобера:
*****************************************
ЭРНЕСТУ ШЕВАЛЬЕ
Руан, пятница 14 августа 1835
Дорогой Эрнест!
Теперь я могу с огромным удовольствием сообщить, что мы скоро к тебе приедем; пишу с полной уверенностью, потому что это папины слова. Значит, визит будет за тобой, и ты, надеюсь, последуешь прекрасной привычке проводить у нас неделю. Я кончил свою «Фредегонду» почти две недели назад и уже переписал полтора акта, но не решил еще вопроса, нужно ли ее печатать. Сейчас я задумал другую драму. Гурго {Гурго — руанский преподаватель.} задает мне изложения.
Со времени нашей последней встречи я прочел «Катерину Говард» и «Нельскую башню». Кроме того я прочел произведения Бомарше, — вот у кого много свежих мыслей. Теперь увлекаюсь драмами старика Шекспира, как раз сейчас читаю «Отелло», а в поездку возьму с собой трехтомную «Историю Шотландии» Вальтер Скотта и кроме того буду читать Вольтера. Я работаю, как дьявол, и встаю в половине четвертого утра.
Я с возмущением замечаю, что дело идет к восстановлению театральной цензуры и уничтожению свободы печати! Да, этот закон пройдет, ибо депутаты — всего лишь грязное сборище продажных людей. Их цель — выгода, их желания — подлость, их честь — глупое высокомерие, их души — куча грязи; но придет день, скоро придет, и в этот день народ поднимет третью революцию; берегите тогда головы, берегитесь потоков крови. Теперь писатель должен поступаться своей совестью, — совестью художника. Да, наш век богат кровавыми событиями. Прощай, до свидания, будем всегда заниматься искусством, оно выше народов, выше корон и царей, оно вечно и вдохновенно возносится в божественном венце.
Тысяча приветов!
ЭРНЕСТУ ШЕВАЛЬЕ
Суббота, вечер, 24 [июня] 1837
(Иванов день, самый длинный в году, — тот день, когда иной раз случается, что этот шут-солнце, в числе прочих своих дурачеств, натягивает праздничный фрак, краснеет как морковь, вызывает пот у бакалейщиков, охотничьих собак, национальных гвардейцев и высушивает навозные кучи у тумб.)
Надеюсь, что теперь твоя яростная страсть к перемене мест прошла; твое письмо от пятницы успокоило меня — мне уж казалось, что скоро в мою комнату ворвется целое скопище билетов и плацкартов на места, и все они будут прыгать, плясать, вертеться густыми тучами вокруг моего изголовья, по моим столам и занавескам. У нас было пять дней вакаций, во время которых я занимался тем же делом, которым занимаюсь вот уж скоро шестнадцать лет, — я жил, то есть скучал, за исключением только дней, проведенных мною с Альфредом Ле Пуатвеном, а именно: 1) воскресенья, когда мы были в Радепоне, и 2) вторника, когда вечером я ел и пил у него за столом. Что до остальных дней, то они были, как все прочие, — вода так же текла в реке, собака моя ела свою похлебку, люди, как всегда, бегали, пили, ели, спали, и цивилизация, этот сморщенный недоносок человеческих усилий, шла вперед, ковыляла по тротуарам, глядела с набережной на пароходы, на цепной мост, на тщательно выбеленные стены, на охраняемые полицией бордели, а по дороге, пьяная и веселая, запечатлевала на стенах устричными раковинами и капустными кочерыжками кое-какие свои верования, кое-какие давно увядшие обрывки поэзии; потом, отвернувшись от собора и плюнув на его изящные контуры, эта уже безумная и озябшая бедная девочка схватила природу, оцарапала ее ногтями и принялась громко, очень громко хохотать и кричать визгливым, пронзительным голосом: «Я прогрессирую!» — Прости, что я оскорбил тебя, о прости, ибо ты ведь добрая, здоровая девка, ты, опустив голову, шагаешь по крови и трупам, ты смеешься, когда давишь живых, ты отдаешь свои толстые грязные груди всем детям, и грудь твоя еще вся красна, словно медью покрыта от поцелуев, которые ты продаешь всем за золото. О, эта милая цивилизация, эта милая распутная девка — она придумала железные дороги, тюрьмы, резиновые клизмы, сливочные торты, королевскую власть и гильотину! Как видишь, я в ударе — в бреду и в экзальтации. Ах, боже мой, раз уж перо бежит по бумаге, зачем останавливать его в этом движении, зачем переводить его от жара страсти к холоду чернильницы, так чтобы у него делалось воспаление легких: ведь оно все в поту, это бедное перо!
Теперь, когда я больше не пишу, когда я сделался историком (с позволения сказать), когда я читаю книги, серьезничаю и при всем том сохраняю достаточно хладнокровия и важности, чтобы смотреть на себя в зеркало без смеха, — я чувствую себя бесконечно счастливым, если под предлогом письма могу дать себе волю, оттянуть час работы и отложить свои выписки, хотя бы даже из г-на Мишле; ибо даже самая прекрасная женщина вовсе не прекрасна, когда она лежит на столе в анатомическом театре, с резиновой трубкой на носу, с ободранной ляжкой, и когда на ступне ее покоится погасший окурок сигары. Ах, нет! какое жалкое занятие — критиковать, изучать, углубляться в науку — и находить в ней одно тщеславие, анализировать человеческое сердце — и находить в нем эгоизм, понимать мир — и видеть в нем одно несчастье. О, насколько больше нравится мне чистая поэзия, вопли души, внезапные порывы, а потом глубокие вздохи, душевные голоса, сердечные мысли! Иной раз я готов отдать всю науку болтунов настоящего, прошедшего и будущего, всю дурацкую эрудицию мусорщиков, гробокопателей, философов, романистов, химиков, бакалейщиков, академиков — за два стиха Ламартина или Виктора Гюго; я стал противником прозы, противником рассуждения, противником истины, ибо что такое прекрасное, если не невозможное, что такое поэзия, если не варварство, не человеческое сердце, — а где найти это сердце, когда почти у всех оно постоянно разрывается между двумя огромными замыслами, часто заполняющими всю жизнь человеческую: сколотить состояние и жить для себя, то есть зажать сердце между собственной лавочкой и собственным пищеварением?
ЭРНЕСТУ ШЕВАЛЬЕ
Руан, четверг 13 сентября 1838
Твои рассуждения относительно Виктора Гюго настолько же справедливы, насколько они не твои. В современной критике установилось всеобщее мнение, что великий автор «Собора Парижской богоматери» во всех своих творениях искусно проводит противопоставление тела и души. На Гюго жестоко нападают, потому что он велик и потому что у него много завистников. Люди увидели гений, равный по мощи тем, перед которыми преклоняются уже целые века, они сначала изумились, а потом устыдились; человеческая спесь не любит чтить свежие лавры. Разве Виктор Гюго не так же велик, как Расин, Кальдерон, Лопе де Вега и другие гении, перед которыми преклоняются уже давно?
Я все еще читаю Рабле и присоединил к нему Монтеня. Я даже предполагаю написать впоследствии особый философский и литературный очерк о них обоих. По моему мнению, здесь лежат истоки всей французской литературы и мысли.
Право, если я кого-нибудь действительно глубоко уважаю, то только двоих — Рабле и Байрона; оба они писали для того, чтобы вредить роду человеческому, и смеялись ему в лицо. Какое величественное положение: человек один противостоит всему миру!
Нет, зрелище моря вовсе не веселит и не вдохновляет на шутки, хотя я важно курил и пантагрюэлически ел матлот, камбалу, колбасу, лук, латук, редиску, сосиски, баранину, телятину, корейку, индейку.
Я дошел до того, что стал смотреть на мир, как на зрелище, и смеяться над ним. Что мне до мира? Я не стану о нем беспокоиться, я буду свободно следовать влечению сердца и воображения, и если кто-нибудь начнет кричать слишком назойливо, я, быть может, обернусь и скажу, как Фокион: что это за вороны каркают!
ЭРНЕСТУ ШЕВАЛЬЕ
[Париж, 22 июля 1842]
Прекрасная наука — право! Восхитительная! Чистая литература! Черт, какой великолепный стиль у г-д Удо и Дюкудрей, какая артистическая внешность у г-на Дюрантон! Божественное тело! Настоящий эллин. Подумать, что вот уже месяц, как я не прочел ни одного стиха, не слышал ни одной ноты, не имел хотя бы трех спокойных часов, чтобы помечтать, не жил ни одной минуты. Представь себе, старина, я до такой степени озлился, что недавно ночью мне даже снилось право. Мне обидно за потерянные сны. Я работаю до кровавого пота, но если мне не удастся раздобыть тетради Удо, все пропало, меня оставят на второй год. Вчера я смотрел, как сдают экзамены, — кажется, это лучшее, что можно сделать. Придется и мне скоро надеть это грязное одеяние. Я плюю на право, только бы у меня осталось право курить трубку, лежать на спине и смотреть, прищурившись, на бегущие по небу облака. Это все, что я хочу. У меня нет ни малейшего желания стать влиятельным, быть великим человеком, человеком, которого знают в округе, в департаменте, в целом крае, человеком худощавым и с дурным пищеварением. У меня нет честолюбия чистильщика сапог, мечтающего быть сапожником, кучера, стремящегося быть конюхом, лакея, разыгрывающего барина, и честолюбца, желающего стать депутатом или министром, иметь ордена и быть муниципальным советником. Все это очень скучно и так же мало соблазняет меня, как обед в 40 су или гуманитарная речь. Но это общая мания, и, будь то даже не от вкуса, а от воспитания, не от природной склонности, а от хорошего тона, — нужно держаться вместе и оставить все это сброду, который всегда проталкивается вперед и кишит на улицах. Мы же будем оставаться дома и смотреть с балкона, как двигается толпа, и если иной раз станет слишком скучно, — ну что же, можно плюнуть на головы толпе, а потом спокойно продолжать беседу, созерцая заходящее на горизонте солнце.
Добрый вечер.
СЕСТРЕ КАРОЛИНЕ,
[Париж, конец января 1843?]
Здравствуй, старая крыса!
По-видимому, твое здоровьице неплохо и ты начинаешь крепнуть в теле. Продолжай следить за собой хорошенько, дабы, когда я через месяц приеду в Руан, ты была бы более цветущей и веселой, чем когда-либо. Если ты и дальше будешь хорошо чувствовать себя — и повеселимся же мы вволю этим летом в Трувиле!
У меня вакации с июня месяца, знаешь? Дай бог, чтобы они были настолько же удачными, насколько я рассчитываю продлить их.
Ты спрашиваешь меня относительно Колье. Я уже давно не был у них. Чтобы пойти к ним, мне необходимо потратить целый час времени и столько же на обратный путь, что составляет добрых два льё ходьбы. В дождь и слякоть это не годится. Средства не позволяют мне нанять экипаж, а вкус — ехать в омнибусе. Я хожу туда только пешком и в сухую погоду.
В прошлый четверг я видел у г-жи Прадье {Жена скульптора Прадье, которого Флобер называет в своих письмах Фидием.} Гертруду, Ашиль говорил тебе, но она ушла, лишь только мы приехали.
Ты ждешь подробностей о Викторе Гюго, — что же тебе сказать? Это самый обыкновенный человек с довольно некрасивым лицом и вульгарной внешностью. У него прекрасные зубы, великолепный лоб и нет ни ресниц, ни бровей. Он говорит мало, — как будто осторожен и не хочет сказать лишнее. Очень вежлив и немного напыщен. Мне нравится тембр его голоса. Я с удовольствием созерцал его. Я глядел на него с удивлением, как глядят на шкатулку, в которой лежат миллионы и царские бриллианты, размышляя обо всем, что создано этим человеком, сидящим на маленьком стуле, рядом со мною, и не мог оторвать глаз от его правой руки, написавшей столько прекрасного. Этот человек с самого моего рождения заставлял биться мое сердце, я любил его, быть может, больше, чем кого-либо другого. Беседовали о пытках, о мести, о ворах и т. п. Больше всех говорили великий человек и я; сейчас не помню, умно я говорил или глупо, но наболтал много. Как видишь, я довольно часто бываю у Прадье, я очень люблю этот дом, в нем не чувствуешь стеснения, и он вполне в моем роде.
ЭРНЕСТУ ШЕВАЛЬЕ
[Ножан, 2 сентября 1843]
Ах, без трубки жизнь была бы бесплодна, без сигары она была бы бесцветна, без табаку она была бы невыносима! Дураки постоянно твердят нам: «странное удовольствие — оно все улетает дымом!»; как будто бы не улетает дымом все, что есть прекрасного! А слава, а любовь? А мечты, — куда, куда улетают они, друзья мои? Скажите же, что оставляют самые прекрасные порывы юности, самые щедрые лобзания итальянок, самые мощные взмахи геройских мечей? Больше ли от них остается, чем от моей последней трубки? Надо сознаться, что добрые люди очень смешны и что именно им наше время обязано своими скудными элементами комического. Нет того священника у алтаря, нет того осла, нагруженного навозом, нет того дыбящегося метафорами поэта, нет той добродетельной женщины, которые казались бы мне более комичными, чем серьезный человек.
Итак, я сказал тебе, что курю; прибавлю еще, что немного читаю Ронсара, моего великого и прекрасного Ронсара, которого не я один чту особым культом. Удивительная вещь — репутация! Подумать только, что такой педант, как Малерб, такая рыбья кровь, как Буало, затерли этого человека, и что французы, этот умный народ, все еще держатся их мнения! О вкус, о свиньи, свиньи во фраках, двуногие свиньи в пальто!
Итак, я сказал тебе, что читаю Ронсара; ну а дальше, что же я делаю еще? Что ж, я купаюсь в Сене, — увы, в Сене, а не в море, в местечке, которое называется Ливон и находится под водопадом у мельницы. На днях я уеду за город, проделаю несколько прогулок, а еще через неделю мы, полагаю, вернемся в Руан, древнюю столицу Нормандии, главный город департамента Нижней Сены, примечательный своими мануфактурами, — город, где родились Дюгерне, Карбонье, Корнель, Жувене, швейцар коллежа Эгуэ, Фонтенель, Жерико, отец и сын Крепе; там производится большая торговля хлопчатобумажными тканями; город отличается прекрасными церквами и глупыми жителями. Я ненавижу его, презираю, призываю на него все кары небесные, ибо в нем я родился. Горе стенам, давшим мне приют, горе буржуа, которые знали меня карапузом, горе мостовым, где я начал набивать мозоли на пятках. О, Аттила! когда, наконец, вернешься ты, любезный филантроп, с четырьмя сотнями тысяч всадников и подожжешь эту прекрасную Францию, страну подметок и подтяжек! И прошу тебя, начни с Парижа и одновременно с Руана.
Прощай, старый трубадур.
ЛУИ КОРМЕНЕНУ
7 июня [1844]
Вы меня, наверно, вините, мой дорогой Луи! Но что поделаешь с человеком, который половину времени хворает, а вторую половину так скучает, что у него не хватает ни сил, ни ума писать даже те легкие и нежные слова, какие мне хотелось бы послать вам! Знакома ли вам скука? Не обычная банальная скука от безделья или болезни, но скука современная, вгрызающаяся человеку в самое нутро и превращающая разумное существо в ходячую тень, в мыслящий призрак. О, я жалею вас, если эта проказа вам знакома! Иногда кажется, что излечился, но в один прекрасный день просыпаешься и страдаешь сильнее, чем когда-либо. Случалось ли вам видеть цветные стекла, украшающие садовые беседки удалившихся от дел шляпников? Через эти стекла поля кажутся красными, синими, желтыми. Такова же и скука. Преломляясь через нее, самые прекрасные вещи принимают ее оттенок, отражают ее грусть. Что до меня, то это болезнь моей юности, возвращающаяся в скверные дни, как, например, сегодня. Обо мне нельзя сказать, как о Пантагрюэле: «и потом он учился едва полчаса, но духом всегда пребывал на кухне». Мой дух пребывает в еще худших местах: в пиявках, которые мне вчера ставили и от которых у меня чешутся уши, в только что поглощенной пилюле, плавающей у меня в желудке среди воды, которой я ее запил.
У нас, знаете, мало поводов к веселью. Максим уехал, {Максим Дю Кан уехал 4 мая в путешествие на Восток.} — вам это, наверно, тяжело. Мне не дают покоя нервы. Когда же мы встретимся все вместе в Париже, в добром здоровье и хорошем настроении? Как хорошо было бы завести тесный кружок славных ребят, живущих дружно, людей искусства, собираться раза два-три в неделю за хорошим обедом, орошенным хорошим вином, и смаковать какого-нибудь сочного поэта. Это моя постоянная мечта, — мечта не такая уж претенциозная, но, пожалуй неосуществимая. Я только что видел море и возвратился в этот глупый город: вот почему мне так тоскливо. Созерцание прекрасного всегда отзывается потом на некоторое время грустью. Можно сказать, что мы способны переносить только небольшие дозы прекрасного, — большее утомляет нас. Вот почему посредственные натуры предпочитают реку океану и столько людей провозглашают Беранже лучшим поэтом Франции. Не будем, однако, смешивать зевоту буржуа от Гомера с глубоким размышлением, с яркой и почти болезненной задумчивостью, поселяющейся в сердце поэта, когда он созерцает гигантов и мучительно говорит себе: О, altitudo! {О, высота! (лат.)} Поэтому меня восхищает Нерон: это величайший человек древности! Горе тому, кто без трепета читает Светония! Я недавно читал у Плутарха жизнь Гелиогабала. Красота этого человека не похожа на красоту Нерона. Она азиатичнее, лихорадочнее, романтичнее и необузданнее: это конец дня, бред при факелах, — но Нерон спокойнее, прекраснее, античнее, устойчивее, а следовательно, и выше. С христианством массы потеряли свою поэзию. Что же до грандиозного, то о современности не приходится и говорить. Нечем удовлетворить воображение самого последнего фельетониста.
Мне лестно, что вы разделяете мою ненависть к Сент-Бёву и ко всей его лавочке. Больше всего я ценю крепкую, ясную фразу с выпуклыми мускулами, со смуглой кожей. Я люблю фразы мужские, а не женские, как очень часто бывает у Ламартина и несколько реже у Вильмена. Мое обычное чтение, мои настольные книги — Монтень, Рабле, Ренье, Лабрюйер и Лесаж. Признаюсь, я обожаю прозу Вольтера и нахожу в его рассказах очаровательную пряность. Я раз двадцать прочел «Кандида», перевел его на английский и все-таки еще перечитываю его время от времени. Теперь я перечитываю Тацита. Когда я поправлюсь, возьмусь опять за Гомера и Шекспира. Гомер и Шекспир — в них все! Рядом с ними другие, даже самые великие поэты, кажутся маленькими.
На днях мне должны прислать из Гавра лодку. Я буду плавать по Сене под парусом и на веслах. Скоро наступит жара, и я буду раздеваться и плавать, — знайте, что это мои единственные развлечения.
Со мной случилось большое несчастье. Во время переезда с улицы Эст потерялась одна из моих трубок, — прекрасная, черная, привезенная из Константинополя трубка, которую я обкуривал семь лет. Я провел с ней лучшие часы моей жизни. Разве не мучительно горько знать, что она потеряна, осквернена! Чувствуете ли вы, кому ведомы прелести горизонтального положения, потерю тысячи прекрасных воспоминаний, которые вызывала во мне эта старая трубка, бедная трубка, утешавшая меня в дни меланхолии, разделявшая со мной радость в счастливые дни?
Славный Максим! Вот он и уехал! Когда-то он вернется? Его путешествие покажется нам долгим, и все-таки мы должны радоваться, ибо путешествие будет ему полезно. Он вернется и покажется нам постаревшим и возмужавшим. До его возвращения, как говорится, утечет немало воды. Не забывайте аккуратно пересылать мне те его письма, которые будут адресованы мне, и всякий раз сообщать полученные новости. Заклинаю всем наслаждением, которое вы сами будете испытывать: помните обо мне. Не берите примера с меня и не устраивайте долгих перерывов в переписке. Расскажите мне, что вы делаете, о чем думаете. Присылайте ваши стихи. Прощайте, желаю вам всего, чего вам только хочется. Прощайте, ваш всем сердцем.
АЛЬФРЕДУ ЛЕ ПУАТВЕНУ
Милан, 13 мая [1845]
Я опять покинул бедное Средиземное море!! Я простился с ним, и сердце мое странно сжималось. В то утро, когда мы должны были уехать из Генуи, я вышел в шесть часов из гостиницы, как будто на прогулку. Я нанял лодку и поплыл до входа в бухту, чтобы в последний раз полюбоваться синими волнами, так полюбившимися мне. Море было неспокойно, я отдавался укачиванию шлюпки, думал о тебе, жалел, что тебя нет; потом, почувствовав, что недалеко до морской болезни, я вернулся на сушу, и мы уехали. Три дня мне было от этого так грустно, что я боялся разорваться от тоски, — буквально разорваться, так как мне, несмотря на все мои усилия, не удавалось разжать зубы. Я решительно начинаю думать, что скука не убивает, ибо я живу.
Я видел поля сражений при Маренго, Нови и Версей, но был в таком жалком состоянии, что меня это нисколько не взволновало. Я все думал о потолках генуэзских дворцов (под которыми можно было бы любить с большой гордостью). Любовь к древности течет в моей крови, меня до самой глубины существа трогает, когда я представляю себе римские кили, прорезающие это недвижимое, постоянно волнующееся и вечно юное море. Быть может, океан красивее, но здесь отсутствие прилива, разделяющего время на правильные промежутки, как бы заставляет забывать, что прошлое далеко и что между Клеопатрой и нами лежат века. Ах, дружище! Когда же мы с тобой будем валяться на песке Александрии или спать в тени платанов Геллеспонта?
Ты погибаешь от досады, ты лопаешься от ярости, умираешь от тоски, ты задыхаешься... Терпенье, о лев пустыни! Я тоже долго задыхался, стены моей комнаты на улице Эст еще помнят мои ужасные проклятия, топот ног и отчаянные вопли, которые я испускал в одиночестве. Как я там рычал и как зевал! Научи свою грудь вдыхать мало воздуха, — с тем большей радостью она откроется, когда ты достигнешь вершин и надо будет дышать ураганом. Думай, работай, пиши, засучи рукава до самых плеч и руби свой мрамор, как добрый работник, который не вертится по сторонам, а радостно потеет над своим произведением. Путешествие хорошо только во втором периоде жизни художника, в первый же лучше выбросить за борт все, что в тебе есть по-настоящему интимного, оригинального и индивидуального. Подумай, чем для тебя через несколько лет может стать большая поездка по Востоку; дай волю твоей музе, не беспокоясь о человеке, и ты увидишь, как день ото дня твой ум будет расти с нежданной для самого тебя силой. Единственный способ не быть несчастным — это целиком замкнуться в искусстве и ни с чем другим не считаться, — гордость заменяет собой все, если у нее есть достаточно прочное основание. Что до меня, то, право, мне совсем хорошо с тех пор, как я согласился, чтобы мне всегда было плохо. Не кажется ли тебе, что я лишен очень многого и что я мог бы быть великодушен, как богач, нежен, как влюбленный, и чувственен, как необузданный сластолюбец? Впрочем, я не завидую ни богатству, ни любви, ни чувственности и удивляю всех своим благоразумием. Я сказал практической жизни решительное «прости». И впредь мне нужно только пять-шесть спокойных часов в своей комнате, жарко пылающий камин зимой и две свечи каждый вечер. Ты огорчаешь меня, дорогой мой, нежный друг, огорчаешь, когда говоришь о своей смерти, — подумай, что станет со мной? Моя блуждающая душа, как птица над землей во время потопа, не сможет найти ни утеса, ни малейшего клочка земли, чтобы отдохнуть от усталости. Зачем ты едешь на месяц в Париж? Тебе там будет еще тоскливее, чем в Руане, ты вернешься оттуда еще более усталым. Почему ты думаешь, что паровые ванны так полезны для твоей головы?
Мне очень хочется видеть, что ты сделал за время нашей разлуки. Через четыре-пять недель мы будем читать это вместе, одни, друг с другом, у себя, вдали от света и мещан, — одинокие, как медведи, и ворча из-под своего тройного меха. Я все еще обдумываю восточную сказку, которую напишу будущей зимой, а на днях у меня появилась идея довольно сухой драмы на эпизод из Корсиканской войны, который я прочел в истории Генуи. Я видел картину Брёгеля — «Искушение св. Антония», которая навела меня на мысль использовать искушение св. Антония для театра, но для этого был бы нужен молодец иного сорта. Я охотно отдал бы полный комплект «Монитёра», если бы он у меня был, да еще 100 000 франков в придачу за эту картину, которую большинство считает плохой.
Прощай, целую тебя.
АЛЬФРЕДУ ЛЕ ПУАТВЕНУ
Круассе [август 1845]
Я все анализирую театр Вольтера; это скучно, но сможет пригодиться мне впоследствии. Там, однако, встречаются удивительно глупые стихи. По-старому немного занимаюсь греческим; кончил «Египет» Геродота; через три месяца надеюсь хорошо понимать его, а через год, при терпении, справляться и с Софоклом. Еще читаю Квинта Курция. Что за малый был этот Александр! Какая пластичность в жизни! Так и кажется, что это — великолепный актер, постоянно импровизирующий пьесу, в которой он играет. Вольтер пишет в одной заметке, что предпочитает ему Марков Аврелиев, Траянов и т. д. Что ты об этом скажешь? Я покажу тебе у Квинта Курция несколько отрывков, которые, думаю, заслужат твое одобрение, — между прочим, вступление в Персеполис и перепись Дариевых войск. Сегодня я дочитал «Тимона Афинского» Шекспира. Чем больше я думаю о Шекспире, тем больше он меня подавляет. Напомни мне, чтобы я тебе рассказал о той сцене, где Тимон разбивает своим паразитам головы блюдами.
Этой зимой мы с тобой будем соседями, старинушка; мы сможем встречаться каждый день, писать сценарии, болтать v моего камина. А за окном будет идти дождь или снег будет покрывать крыши. Нет, когда я подумаю, что нас связывает дружба, что мы можем проводить вместе свободные часы или целые дни, то вовсе не нахожу себя несчастным. Но что осталось бы мне, если бы тебя у меня не было? Что сталось бы с моей внутренней, то есть подлинной жизнью?
Отвечай мне немедленно; ты должен бы писать мне чаще и больше. Вчера вечером я прочел в постели первый том «Красного и черного» Стендаля; по-моему, эта вещь свидетельствует об изысканном уме и большой тонкости. Стиль — французский; но разве это стиль, настоящий стиль, тот старый стиль, которым теперь не владеют?
АЛЬФРЕДУ ЛЕ ПУАТВЕНУ
Круассе, сентябрь 1845
Мне очень хочется посмотреть твою историю о чудесном сапоге и твой хор вакханок, и все остальное. Трудись, трудись, пиши, пиши, пока можешь, пока увлекает тебя муза. Это — лучший рысак, лучшая колесница жизненного путешествия. Когда мы сочиняем, бремя существования перестает тяготить наши плечи. Правда, тем ужаснее моменты утомления и бессилия, которые следуют потом; но что делать! Лучше два стакана уксуса и стакан вина, чем стакан подкрашенной воды. Что до меня, то я больше не испытываю ни пылких увлечений юности, ни тяжелой горечи былых дней. Все это смешалось и создало как бы всеобщую кровлю, под которой спутывается и сплетается все.
Я замечаю, что перестал смеяться и грустить. Я созрел. Ты с завистью говоришь о моей безмятежности, старина. В самом деле, она может удивить тебя. Я болен, раздражен, у меня по тысяче раз в день бывают приступы жестокой тоски, я живу без женщин, без жизни, без всех забав здешнего существования, я продолжаю свой медлительный труд, как добрый рабочий, который, засучив рукава, весь в поту, бьет по наковальне, не думая, дождь на дворе или вёдро, град или гром. Когда-то я был не таков. Эта перемена случилась сама собою. Но кое-какую роль сыграла в ней и моя воля. Надеюсь, она поведет меня и дальше. Одного я боюсь, — как бы она не поддалась, ибо в иные дни я так размякаю, что мне делается страшно. Я наконец понял одну вещь, одну великую вещь, — то, что для людей нашей породы счастье бывает только в идее. Улови, в чем твоя натура, и приведи себя в гармонию с ней. «Sibi constat», — говорит Гораций. В этом — все. Клянусь тебе, что о славе я не думаю, а об Искусстве думаю не очень много. Я стараюсь убивать время наименее скучным способом и нашел этот способ. Сделай то же самое: порви с внешним, живи как медведь — белый медведь, — пошли к чертовой матери все, все, в том числе и самого себя, кроме своего разума. Теперь между мною и остальным миром такое огромное расстояние, что я иногда удивляюсь, слыша, как люди говорят самые простые и естественные вещи. Иной раз банальнейшее слово приводит меня в изумление. Есть такие жесты, такие оттенки голоса, от которых я не могу прийти в себя; иная наивность доводит меня почти до головокружения. Приходилось ли тебе когда-нибудь внимательно слушать людей, говорящих на чужом, неизвестном тебе языке? Вот так и я живу. Я хочу понять все, и потому все заставляет меня фантазировать. А между тем мне кажется, что это изумленное оцепенение — не глупость. Так, например, буржуа — это для меня нечто бесконечное. Ты представить себе не можешь, сколько дала мне ужасная монвильская катастрофа. Чтобы вещь стала интересной, достаточно поглядеть на нее подольше.
Так вот! все дни — как один. Ни один из них ничем не может выделиться в моей памяти. Это ли не мудрость? Я немного займусь правкой своей восточной сказки; но это трудно. Я не стал продолжать доброго китайского философа: надоело. Возьмусь за него немного погодя. Там не часто встречаются прекрасные вещи вроде птичьих крыльев. Ты упражняешься? Я прочел «Курс драматической литературы» великого человека по имени Сен-Марк Жирарден. С этим следует познакомиться, чтобы знать, до чего могут дойти глупость и бесстыдство. Тоже из тех людей, которым я велел бы содрать кожу и влить в глотку расплавленного свинца, чтобы выучить их риторике. Здесь все здоровы. Прощай, отвечай поскорее.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Вторник вечером, полночь [4 августа 1846]
Еще двенадцать часов назад мы были вместе. Вчера в этот час ты была в моих объятиях... Помнишь?.. Как далеко уже это! Ночь сейчас горяча и мягка. Я слышу, как дрожит от ветра магнолия под моим окном, и, подымая голову, вижу, как отражается луна в реке. Твои туфельки здесь, я пишу, они около меня, я гляжу на них. Один, и запершись, я привел в порядок все, что ты мне дала. Два твоих письма я положил в вышитый мешочек, я перечту их, когда запечатаю свое. Мне не хотелось писать тебе на своей бумаге — на ней черная кайма, ничто печальное не должно идти от меня к тебе! Я хотел бы давать тебе только радость, окружить тебя спокойным и долгим счастьем, чтобы хоть сколько-нибудь возместить все, что ты, в великодушии любви, давала мне полными пригоршнями. Я боюсь быть холодным, сухим, эгоистичным, и все же один бог знает, что творится во мне в этот час. Какие воспоминания и какие желания! О, наши чудесные прогулки в экипаже! Как они были хороши, особенно вторая, при свете молнии! Я помню цвет озаренных фонарями деревьев и покачивание рессор. Мы были одни, были счастливы. Я смотрел в темноте на твою голову, — я видел ее, несмотря на мрак. Твои глаза освещали все лицо. Кажется, я пишу плохо, ты прочтешь это холодно, я не могу сказать того, что хочу. Это потому, что мои фразы сталкиваются, как вздохи, — чтобы понять их, надо заполнить то, что их разделяет, — ты это сделаешь, не правда ли? Будешь ли ты мечтать над каждой буквой, над каждым значком письма, как мечтаю я, глядя на твои коричневые туфельки, мечтаю о движениях твоей ноги, заполнявшей и согревавшей их.
Мать ждала меня на вокзале. Она заплакала, когда я вернулся. Плакала и ты, когда я уезжал. Наше несчастье в том, что мы не можем покинуть какого-нибудь места, не вызывая слез с обеих сторон! Это смешно и мрачно. Я нашел здесь ту же зеленую траву, большие деревья и текучую воду, как и перед отъездом. Мои книги раскрыты на тех же страницах, ничто не изменилось. Мы стыдимся внешней природы, ее ясность невыносима для нашей гордости. Не важно, не будем думать ни о будущем, ни о нас, ни о чем. Думать — это страдать. Отдадимся ветру наших сердец, пока он надувает паруса. Пусть он несет нас куда хочет, а что до подводных камней... что поделаешь! Увидим.
А что же сказал о посылке милейший X***? Мы вчера ужасно хохотали. Нам было приятно, ему — весело, а всем троим — хорошо. Я прочел по приходе почти целый том. Некоторые места растрогали меня. Поговорим об этом с тобою в дальнейшем. Как видишь, я недостаточно сосредоточен, у меня не хватает сегодня чувства критики.
Я хочу только еще поцеловать тебя перед сном, сказать, что люблю тебя. Не успел я тебя покинуть, как мысли мои, по мере того как я удалялся, стали возвращаться к тебе. Они бежали быстрее, чем уносящийся дым нашего локомотива (в этом сравнении есть огонь, — прости за остроту). Ну, скорее, один поцелуй, ты знаешь какой, из тех, о которых говорит Ариосто, и еще один, еще! Еще, и потом еще, под подбородок, в то место, которое я так люблю, на груди, где такая нежная кожа, где покоится мое сердце.
Прощай, прощай. Все ласки, какие хочешь.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Среда, вечер [12 августа 1846]
Ты провела сегодня весь день без письма от меня. Ты, вероятно, опять сомневалась, бедняжка. Прости. Не злую волю надо видеть в этом, а мою память. Мне казалось, что почта на Руан отправляется до часу дня, а оказывается, только до 11 часов. Но подожди, если ты еще сердишься на меня, то все пройдет в понедельник; ибо я надеюсь на понедельник! Фидий будет настолько добр, что напишет мне. Я рассчитываю получить от него весточку не позднее воскресенья.
До чего нравится мне план праздника, предлагаемый тобою! Я прослезился от умиления. О, да! Ты любишь меня! Сомневаться в этом было бы преступлением. Если же я не люблю тебя, то как назвать чувство, испытываемое мною к тебе? Каждое письмо, что ты посылаешь мне, глубоко проникает в мое сердце; особенно, полученное сегодня утром; оно полно чудесного очарования, оно веселое, доброе, прекрасное, как ты сама. Да, будем любить друг друга, будем любить, раз никто не любил нас.
Я приеду в Париж в четыре или в четверть пятого, так что буду у тебя еще до половины пятого. Чувствую уже, как поднимаюсь по твоей лестнице, слышу, как звенит колокольчик. «Дома барыня? — Войдите». Ах! Заранее вкушаю эти двадцать четыре часа. Но почему необходимо, чтобы всякая радость доставляла мне страдания? Я уже думаю о нашей разлуке, о твоей тоске. Ты будешь умницей, не правда ли? Ибо я чувствую, что буду больше огорчен, чем в первый раз.
Я не из тех, в ком обладание убивает любовь; напротив, оно разжигает ее.
Со всем, что у меня было хорошего, я поступаю, как арабы, которые в определенный день в году поворачиваются лицом к Гренаде и оплакивают прекрасную страну, где они больше не живут. Сегодня я случайно проходил мимо коллежа, на паперти часовни стояли люди. Шла раздача наград. Я слышал крики учеников, аплодисменты, звуки барабана и духовых инструментов. Я вошел, я вновь увидел все то же, что и в мое время, — те же портьеры на том же месте. Я размечтался под запах мокрых дубовых листьев, которыми венчали наши лбы, вспомнил горячку радости, охватывавшую меня в этот день, некогда знаменовавший для меня два месяца полной свободы. Здесь бывали отец, сестра, друзья — ныне умершие, уехавшие или изменившиеся. Я вышел оттуда с мучительно сжавшимся сердцем. Вся церемония была гораздо бледнее, чем в мое время; в сравнении с толпой, наполнявшей церковь десять лет тому назад, народу было мало; не так громко кричали, не пели марсельезы, которую я некогда яростно орал, ломая скамьи. Чистая публика потеряла вкус к этому зрелищу. Я вспоминаю, что прежде здесь бывало много нарядных женщин, бывали актрисы, содержанки и титулованные дамы. Они размещались наверху, на галереях. Как мы гордились, когда они глядели на нас! Когда-нибудь я опишу все это: опишу современного юношу, его шестнадцатилетнюю душу, расцветающую под дыханием огромной любви, влекущей его к роскоши, к славе, ко всему, что сверкает в жизни, опишу эту искрящуюся и грустную поэзию юношеского сердца, — вот струна, которой никто еще не касался. О, Луиза! Я сейчас скажу тебе грубость, но причина этой грубости — самая глубокая дружба, самая нежная жалость. Если когда-нибудь тебя полюбит бедный ребенок, который будет находить тебя прекрасной, — ребенок, каким был я, робкий, нежный, дрожащий, который станет бояться и искать, избегать и преследовать тебя, — будь добра к нему, не отталкивай его, дай ему целовать хотя бы твою руку, — и он умрет от блаженства. Урони свой платок, он подымет его и будет спать с ним, он будет плакать и прижиматься к нему. Сегодняшнее зрелище открыло склеп, в котором спала моя окаменелая юность, я вновь услышал увядший аромат, в мою душу вернулось что-то похожее на забытую мелодию, которую вспоминаешь в сумерки, в те медленные часы, когда наша память углубляется в воспоминания, бродит в прошлом, как привидение среди руин. Нет, знаешь ли, женщина никогда этого не поймет. Никогда этого не скажет. Женщины любят, любят, быть может, лучше нас, сильнее, но не так сознательно. А потом, достаточно ли быть одержимым каким-нибудь чувством, чтобы выразить его? Может ли пьяный написать застольную песню? Не нужно думать, что чувство — это все. В искусстве оно ничто, если нет формы. Все это к тому, что женщины, которые сильно любили, не знают любви, ибо слишком заполнены были ею: у них нет бескорыстной потребности в Красоте. Для них всегда необходимо связывать красоту с чем-нибудь еще, — с целью, с практическим интересом. Они пишут, чтобы удовлетворить свое сердце, а не из чистого стремления к Искусству, — началу, заключенному в самом себе, нуждающемуся в опоре не больше, чем звезда. Я великолепно знаю, что ты не разделяешь этих мыслей, — но зато это мои идеи. Когда-нибудь я разовью их тебе со всей ясностью и надеюсь убедить тебя, ибо ты родилась поэтом.
Вчера я прочитал «Маркиза д'Анкасто» {«Маркиз д'Антрекасто», новелла Луизы Коле («Разбитые сердца»,1843)} (sic!). Вещь написана хорошим, живым и сдержанным стилем; в ней есть содержание и чувство. Больше всего мне нравится начало — прогулка и сцена с г-жой д'Ан[трекасто], когда она одна в своей комнате, до прихода мужа. А я продолжаю понемногу заниматься греческим. Читаю путешествие Шардена, для дальнейшего изучения Востока; он служит мне также пособием для восточной сказки, которую я обдумываю уже около двух лет. Но с некоторых пор мое воображение стало очень ограниченным. Как же летать бедной пчелке? Лапки ее увязли в банке с вареньем, и она погружается туда по самую шею!
Прощай, моя любимая, вернись к своей обычной жизни; выезжай, принимай, не отказывай в приеме людям, которые были у тебя в то воскресенье, когда был и я. Мне бы даже хотелось вновь увидеть их, не знаю почему. Когда я люблю, мое чувство подобно наводнению, разливающемуся кругом.
Мне хочется оказать услугу добрейшему библиофилу, маэстро Сегаласу и другому болвану, находившемуся там, всем, кто близок тебе, всем, кто так или иначе касается тебя.
Часто думаю о Серванне; если бы я поехал на юг, то заехал бы; нет, не надо нам возвращаться на Восточную улицу, меня тошнит уже от одного Латинского квартала.
Прощай, тысячу поцелуев. Да, да! Тысячу таких, как у Ариосто, и таких, как мы умеем.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[27 августа 1846]
Мы, значит, все еще печальны, бедный мой ангел! Зачем выдумывать себе огорчения, зачем печалиться без меры? В тридцати трех милях от тебя я не могу вытереть льющиеся из твоих добрых глаз слезы, а ты не можешь видеть, как я улыбаюсь, получая твои письма, видеть радость на моем лице, когда я думаю о тебе или гляжу на твой портрет с длинными ласкающими локонами, теми самыми, что касались моих щек. Между нами слишком много равнин, лугов и холмов, чтобы мы могли видеть друг друга. Я не понимаю всех тех страданий, которые причиняю тебе. Ты думаешь, что в моем сердце еще живет другая, что она осталась в нем и так сверкает, что ты лишь промелькнула в ее тени. О, нет, нет! Поверь мне раз навсегда! Ты говоришь о моей цинической откровенности; будь же тогда последовательна, — верь этой откровенности. Все это старо, очень старо, почти забыто, я едва вспоминаю об этом, мне даже кажется, что это произошло в душе другого человека. Тот, кто живет сейчас, кто зовется «я», — только размышляет о другом, об умершем. У меня было два совершенно раздельных существования, и символом конца первого существования и начала второго были внешние события. Это чистая математика. Моя деятельная, страстная, бурная жизнь, полная различных потрясений и множества чувств, закончилась к двадцати двум годам. К этому времени я сразу сделал большие успехи, и началось другое. Тогда я резко и сознательно разделил весь мир, и самого себя в том числе, надвое: с одной стороны — часть внешняя, которую я хочу видеть разнообразной, красочной, гармоничной, обширной, из нее я приемлю только зрелище и наслаждаюсь им; с другой стороны — часть внутренняя, которую я концентрирую, чтобы сделать ее более сосредоточенной, и куда, сквозь открытое окно разума, я пропускаю широкие потоки чистейшего сияния Духа. Эта фраза покажется тебе не слишком ясной, но чтобы развить ее, понадобился бы целый том. И все же я не отказался ни от чего в жизни, как это тебе кажется. Я не меньше других люблю вдыхать запах розы и любоваться луной. Я не отбрасываю ни любви, ни дружбы. Напротив, я даже надеваю очки, чтобы яснее их видеть. Копайся во мне, как хочешь, — ты не найдешь ничего для себя печального ни в прошлом, ни в настоящем. Мне хотелось бы, чтобы ты могла читать в моем сердце. Тогда слезы сомнения и подавленности, что ты проливаешь, превратились бы в слезы радости и счастья. Да, я люблю тебя, люблю, слышишь? Неужели надо кричать еще громче? Но разве моя вина, что я неспособен к любви обычной, которая умеет только улыбаться, что в моем существе, во всех моих повадках нет ничего мягкого? Я тебе уже говорил, что на сердце у меня, как и на руках, мозоли. Прикосновения к ним ранят; но, быть может, тем нежнее то, что находится под ними. Что могу я ответить тебе, дорогой друг, на твои постоянные упреки, что я не хочу приехать повидаться? Это значит только нарочно мучить меня, напоминать мне (боже мой, это бесполезно, и я без того достаточно представляю себе), что ты от этого страдаешь и мучишься. Если бы я мог... если бы... если бы... всегда это проклятое условное наклонение, жестокое наклонение, которого не избежать всем временам глагола.
Сегодня я глуп. Может быть, причиной этому прекрасный лунный свет. Я сейчас гулял под деревьями, желал тебя, звал. Мы бы хорошо погуляли с тобой, помолчали бы, я бы держал тебя за талию. Я мечтал о белизне твоего лица, выделяющейся на слабо освещенной зеленой траве, о синеве твоих влажных глаз, полных света, как нежная синева этого ночного неба. Люби меня всегда, считай меня угрюмым, сумасбродом, чем хочешь, только люби меня, оставь в покое мои мысли. Какое тебе до них дело? Они никому не причиняют зла, а, может быть, делают и добро. Впрочем, они просто имеют право на существование, как и все на свете. К чему нужны сорные травы, — говорят добрые люди, — зачем они растут? Да сами по себе, черт возьми! А вы-то к чему плодитесь?
Еще раз благодарю за апельсинный цвет, твои письма продушены им. Когда поеду в Париж, украшу твою жардиньерку твоими любимыми цветами; эти бедные цветы, по крайней мере, без шипов. Цветы моей любви, по-видимому, на них не похожи. Итак, прощай, прощай.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Воскресенье [13 декабря 1846]
Ты была больна, моя бедняжка, ты страдала! Оставь излишества в работе, они ослабляют, они так утомляют, что в конце концов теряешь времени больше, чем выгадываешь. Мы питаемся не на пышных обедах и оргиях, — нужен постоянный выдержанный режим. Работай ежедневно и терпеливо одинаковое число часов. Приобрети привычку к спокойному и прилежному образу жизни, — ты найдешь в нем большое очарование, и он даст тебе силы. У меня тоже была страсть проводить за работой ночи напролет, — это ничего не дает и только утомляет. Опасайся всего, что похоже на вдохновение, — часто это только предвзятое намерение и обманчивая, нарочитая, внушенная себе экзальтация. К тому же, нельзя жить вдохновением. Пегас чаще идет шагом, чем скачет галопом. Весь талант в том, чтобы заставить его идти нужным тебе аллюром. Но для этого ни в коем случае не следует перенапрягать его, как говорят в искусстве верховой езды. Нужно читать, нужно много размышлять, постоянно думать о стиле, а писать как можно меньше, как раз столько, чтобы успокоить раздражение идеи, требующей себе формы, ворочающейся в нас до тех пор, пока мы не найдем для нее точного, определенного, равного ей выражения. Заметь себе, что хорошие вещи создаются терпением, долгой энергией. Изречение Бюффона — кощунство, но с ним слишком уж не считаются; доказательство тому — современные произведения. Умерь порывы духа, от которых ты так страдаешь. Лихорадка истощает ум, гнев бессилен, — это колосс с трясущимися коленями, он ранит себя больше, чем других.
Мне вчера сделали маленькую операцию щеки, вскрыли абсцесс. Лицо замотано бинтом и выглядит довольно нелепо. Как будто недостаточно всей той гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти, — мы и при жизни существуем только как последовательные, перемежающиеся, борющиеся друг с другом процессы порчи и гниения. Сегодня теряешь зуб, завтра волос, открывается рана, назревает нарыв, тебе ставят нарывные пластыри, делают заволоки. Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого вида и вкуса, — все это дает необычайно заманчивую картину человеческой особи. И подумать, что это любят! Что любят даже самого себя и что я, например, имею смелость глядеться в зеркало, не помирая со смеху! Разве в обычной внешности пары старых сапог нет чего-то глубоко печального, исполненного горькой меланхолии? Когда вспоминаешь о всех шагах, которые сделал в них, идя не помню уж куда, о всех потоптанных травах, о всей налипшей на них грязи... Зевающая, лопнувшая кожа как будто говорит: «Ну что же, глупец, ты купишь себе другие — лакированные, блестящие, со скрипом, но они превратятся в то же, во что превратились мы, во что превратишься и ты, когда успеешь загрязнить много голенищ и пропитать своим потом много головок...»
Я говорил с профессорами относительно ученья Д***, они мало понимают в этом деле. Не страдал ли сей гражданин когда-нибудь сильным насморком, поразившим ноздрю? А быть может, и это верней всего, г-н Д. преувеличил всю эту историю. Так делают часто люди, желая приукрасить свой рассказ и придать больше веса тому, чего они не понимают.
Прощай, береги себя, остерегайся холода и прими долгий поцелуй в губы.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Круассе, четверг вечером
Вот и зима; холодный ветер, поля одеваются туманным покровом. Наступает пора, когда вновь разводится огонь и снова начинаются длинные вечера, которые проводишь, глядя, как он горит.
Когда я собираюсь спать и смотрю с своего кресла на последние догорающие угольки, я посвящаю тебе, засыпая, долгую и добрую думу и шлю ее тебе без твоего ведома; она исторгается из моей груди как вздох.
Ночью я испытываю блаженный покой. При свете свечей, зажженных для усидчивой работы, ум загорается и горит ярче. Мне теперь живется хорошо лишь при их спокойном свете. Весь день я чувствую недомогание и постоянно раздражен. К тому же я сейчас пишу, но настолько отвык писать, что прихожу в состояние беспрерывной досады и мне всегда противны мои сочинения. Замысел стесняет меня, форма не подчиняется мне. По мере изучения стиля я замечаю, как он мне чужд, и временами мною овладевает такое глубокое уныние, что я готов все бросить и приняться за более легкие вещи.
О, Искусство! Искусство! Какая это бездна! Как мы ничтожны; где уж нам спускаться в нее, особенно мне!
Ты считаешь меня в глубине души довольно дурным существом, страдающим непомерным тщеславием. О, милый друг, если бы ты могла быть свидетелем того, что происходит во мне, ты поняла бы меня, ты увидела бы, сколько унижения я терплю от прилагательных, как обижают меня относительные частицы речи вроде «что» и «который».
Ты прочитаешь это путешествие, когда мы его окончательно перепишем. Будут две копии, я одолжу тебе свою. Но оно далеко не закончено. И, думаю, будет готово не раньше как через шесть недель.
За четыре дня я написал всего три страницы, к тому же отвратительные, слабые, вялые, скучные.
Видишь, я подвигаюсь медленно. Единственная заслуга этой работы — наивность чувства и точность описаний. Она будет неприемлема для печати из-за юмористических эксцентричностей, вкрадывающихся туда незаметно для нас самих.
Нас разорвали бы в клочья все честные, или, по крайней мере, мнящие себя честными, люди Прессы.
А что с драмой «Мадлен»? Когда читка? Когда будет принята к постановке? В какое приблизительно время, ты рассчитываешь, она будет поставлена? Вот что особенно меня интересует. У тебя были и другие планы в области драмы; поделись со мной.
Как я жалею тебя по случаю возвращения Благоверного! Помимо тоски от невозможности жить с людьми, которых любишь, самым неприятным можно считать жизнь с теми, кого не любишь. Вооружись терпением и избавься от случайного, как будто ты с Философом.
Прощай, целую тебя. Куда? Так вот! — в самое сердце.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Руан [конец декабря 1847]
Поговорим о серьезных делах, о вашей дорогой драме. Я никогда не тревожился так ни об одном из своих произведений (впрочем, я вообще не тревожусь о них, так что это не много). Итак, я никогда не думал столько о том, что мог бы написать сам, как о вашей пьесе; ее будущее, ее успех бесконечно меня интересует, и я озабочен, будто дело идет о брачной ночи моей дочери. Если Рашель не может сыграть роль Мадлены, разумнее подождать до будущего года. Но если на будущий год она, как и сейчас, не сможет или не захочет ее играть, надо немедленно передать пьесу во «Французский театр» — и больше никуда.
Половина успеха во «Французском театре» ценнее успеха в «Одеоне». Второстепенный театр может еще, пожалуй, сулить красивую постановку, что побудило бы лично меня пойти на уступки, и то! Впрочем, я давно уже не имею сведений о том, что происходит в цивилизованном мире; поэтому не могу вам дать хорошего совета — постарайтесь прежде всего и какими угодно способами, чтобы Рашель взяла на себя роль!
После последнего моего письма со мной опять случилась неприятность. Подмышкой вырос карбункул, я промучился несколько дней и не спал несколько ночей. Теперь он почти прошел, и я снова принялся за фехтование. Добросовестно упражняюсь в этом сложном искусстве, которое учит нас, как избавиться от ближнего. Впрочем, ближний мало меня стесняет, я его совершенно не вижу.
Тем не менее, я видел недавно нечто замечательное и до сих пор еще нахожусь под впечатлением этого зрелища — чудовищно смешного и в то же время жалкого. Я присутствовал на банкете реформистов! Что за вкус! Какая кухня! Какие вина! И что за речи! Ничто не вызывало во мне такого полного презрения к успеху, как лицезрение того, каким путем его добиваются. Я оставался холодным, и меня тошнило от отвращения при виде патриотического энтузиазма, вызванного «кормилом правления, бездной, разверстой у наших ног, честью нашего флага, тенью наших знамен, братством народов» и тому подобными пошлостями. Лучшие произведения больших мастеров не удостоятся и четвертой доли таких аплодисментов. Никогда Франк {Герой из поэмы «Кубок и губы».} Альфреда де Мюссе не вызовет столь восторженных кликов, какие неслись изо всех углов зала навстречу добродетельным завываниям Одилона Баро и причитаниям Кремье по поводу состояния наших финансов. После девятичасового с лишним заседания, с холодной индейкой и молочным поросенком, в обществе моего слесаря, хлопавшего меня по плечу, я вернулся домой, застыв до мозга костей. Какого бы ни были вы скверного мнения о людях, все же сердце ваше наполнится горечью при виде столь неистовой глупости, столь невероятного тупоумия. Во всех почти речах восхваляли Беранже. Как злоупотребляют беднягой Беранже! Я зол на него за то, что перед ним преклоняются буржуа. Существуют люди огромного таланта, которые имеют несчастье нравиться мелким натурам: вареная говядина особенно неприятна потому, что является главным блюдом в мещанском хозяйстве. Беранже — вареная говядина современной поэзии: доступно и вкусно!
Вот и снова наступает новый год, еще один год прошел! Смелей, милый друг! Будем надеяться, что этот год будет лучше!..
Существует обычай дарить подарки тем, кого любишь. Я ищу, что бы послать вам такое, что исходило бы от меня, что было бы действительно моим. Ничего не нахожу. Так вот, дорогая Луиза, примите поцелуй, крепкий поцелуй от всего сердца, в который я вкладываю себя всего целиком и в котором беру вас всю целиком. Он здесь, в конце письма, возьмите его.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе, март 1848]
Благодарю за заботу, проявленную ко мне во время последних событий, и на этот раз, как в предыдущие, прошу извинить меня за беспокойство и огорчение, какие я вам доставил.
Ваше письмо я получил с опозданием на целую неделю. Виновата почта, которая, как вы можете себе легко представить, была очень плохо обслужена минувшую неделю.
Вы спрашиваете мое мнение по поводу всего происшедшего. {Падение Луи-Филиппа и провозглашение Республики 24 февраля 1848 года (Февральская революция).} Так вот! Все это очень нелепо. Встречаешь много озадаченных лиц, на них забавно смотреть! Я искренно наслаждаюсь, созерцая столько повергнутого честолюбия. Не знаю, будет ли новая форма правления и вытекающее из нее социальное положение благоприятным для Искусства. Вот в чем вопрос. Трудно представить себе нечто более буржуазное или более ничтожное. А глупее — разве это возможно?
Очень рад, что ваша драма благодаря событиям выигрывает. Хорошая драма стоит короля. Я приеду, чтобы аплодировать ей на первом представлении. Как уже говорил вам, я буду там. Вы увидите меня. Я буду тщательно и от всего сердца приветствовать ее.
Зачем беспрестанно возвращаться к Дю Кану и к вашим обидам на него, основательны они или нет? Вы должны понимать, что для меня это давно уже тягостно. Ваше упорство, сперва только некрасивое, становится наконец жестоким.
К чему также все ваши разглагольствования, чтобы объявить мне новость? Вы могли бы сообщить мне ее с самого начала без многословия. Я избавляю вас от своих соображений по этому поводу и не стану посвящать вас в свои чувства, вызванные ею. Пришлось бы слишком многое сказать. Я жалею, очень жалею вас. Я страдал за вас, вернее говоря, я видел все. Вы понимаете, не правда ли? Ведь я обращаюсь к художнику.
Чтобы бы ни случилось, рассчитывайте на меня. Если даже мы прекратим переписку, если даже не будем встречаться, между нами всегда останется неизгладимая связь, прошлое, следы которого будут продолжать существовать.
Моя чудовищная личность, как вы весьма любезно выражаетесь, не способна уничтожить во мне всякое чувство порядочности или, если вы предпочитаете, человечности. Когда-нибудь, быть может, вы осознаете это и раскаетесь в том, что доставили мне столько горя и огорчений.
Прощайте, целую вас.
Ваш.
ЭРНЕСТУ ШЕВАЛЬЕ
Круассе, воскресенье 6 мая [1849]
У меня есть для тебя новости, дорогой Эрнест (не пугайся, дело идет не о моей свадьбе, а о чем-то получше). В октябре или в конце сентября я удираю в Египет. Я совершу путешествие по всему Востоку, буду в отъезде пятнадцать-восемнадцать месяцев. Мы поднимемся по Нилу до Фив, а оттуда направимся в Палестину, засим последуют Сирия, Багдад, Бассора, Персия до самого Каспийского моря, Кавказ, Грузия, побережье Малой Азии, Константинополь и Греция, если хватит времени и денег. Quid dicis? {Что скажешь? (лат.)} Я отсюда вижу, как ты широко раскрываешь глаза и спрашиваешь себя, каким это образом удастся мне уехать. Меня заставили решиться следующие доводы, старина.
Мне нужно подышать воздухом в самом широком значении этого слова. Мать убедилась, что это необходимо, и согласилась на путешествие, — вот и все. Я с тоской думаю о том, как она будет волноваться и беспокоиться обо мне, но считаю, что из двух зол — это меньшее. Я еще не уехал, многое еще может случиться до отъезда, но сам я решил твердо. Я долго колебался, — год, целый год боролся я против пожиравшей меня страсти к вольному простору, так что даже исхудал. Сейчас у нас начинаются сборы, мы с Дю Каном подыскиваем слугу. Итак, старина, приблизительно в октябре я, проезжая, махну тебе рукой, а когда увидимся, смогу рассказать много занятного.
В июне тебя посетит старый товарищ. Направляю к тебе синьора Фовеля, {Фовель — школьный товарищ Флобера и Шевалье.} который предпринимает прогулку по Корсике. Облегчи ему путешествие своими рекомендациями, ты меня обяжешь.
Что это тебе так не везет, бедняга? Никак ты не можешь выбраться со своего острова, а ведь, должно быть, он уже опротивел тебе, хоть он и колыбель великого человека. Не знаю, так ли глупы корсиканцы, как французы, но здесь это явление просто плачевно. Республиканцы, реакционеры, красные, синие, трехцветные, — все соперничают в глупости. Есть от чего блевать порядочным людям, как говорил Холостяк. Вероятно, правы патриоты: Франция опускается. Во всяком случае, это верно относительно ума. Политика убивает последние его остатки.
Когда я увижу тебя? Если ты приедешь в Андели в сентябре, то я еще буду там. Если будешь в Марселе, мы, может быть, встретимся. До тех пор пищи мне изредка. Прощай, дружище, целую тебя.
МАТЕРИ
Вторник вечером, 4 декабря [1849]
Какой нынче прекрасный день, милая мама; я получил от тебя четыре письма. Кипа, полученная зараз, наполнила меня радостью. Сегодня после полудня мы сделали восхитительную прогулку к гробницам халифов. Это обширная равнина в окрестностях Каира, вся в мечетях эпохи Крестовых походов. Сбоку — пустыня, у ваших ног — Каир с его памятниками, а дальше нильские луга с рекою, испещренною белыми парусами. На всех канжах по два скрещенных паруса, и судно делается подобием ласточки, летящей на двух огромных крыльях. Небо совсем синее, кружат ястреба, проходят верблюды, и с вышки полуразрушенных минаретов, камни которых источены старостью, точно это объеденные крысами тряпичные полотнища, видны люди и животные, карабкающиеся, подобно мухам; видно, что прозрачен воздух и все затоплено светом, который, словно жидкость, проникает сквозь поверхность всех предметов.
Теперь до меня дошли известия о тебе, и я заканчиваю письмо. Послезавтра мы отправляемся в небольшую экскурсию вокруг Каира.
Прощай, целую тебя мильон раз.
ЛУИ БУЙЛЕ
Каир, 15 января 1850
Нынче в полдень, старина, я получил твое милое, длинное и долгожданное письмо; оно взволновало меня до самого нутра. Как часто я думаю о тебе, плут ты мой неоценимый! Сколько раз на дню я вызываю твой образ и жалею, что тебя нет со мной! Если, по-твоему, меня тебе не хватает, то не хватает и тебя мне. Когда я иду по улицам, подняв нос кверху, смотрю на синее небо, на мушараби, {Мушараби — частая деревянная решетка на окнах в домах арабской архитектуры.} на усеянные птицами дома и минареты, то представляю себе, как ты вместе с Юаром сидишь у камелька в своей комнатушке на улице Бовуазин, а дождевые капли текут по стеклам. Должно быть, холод стоит сейчас в Руане обычный, подлый и одуряющий холод. Слякоть и тоска по солнцу. Пока мы вновь увидимся, много дней пройдет, другими словами, многое произойдет. Останемся ли мы все такими же? Не изменится ли что-то в единении наших душ? Я слишком горжусь нами обоими, чтобы поверить в это. Не меняй своего поганого и высокого образа жизни, и дождемся мы того, что загремят наши барабаны, шкуру которых мы давно уже подтягиваем все туже и туже. Повсюду ищу, что бы привезти тебе пошикарнее. До сих пор ничего не нашел, кроме разве двух-трех пальмовых ветвей, срезанных мною в Мемфисе, чтобы сделать тебе трости.
Я очень занят изучением благовоний и состава мазей. Позавчера я съел половинку лепешки и часа три после этого чувствовал изнеможение; казалось, язык горит.
Было утро, солнце всходило прямо передо мной; вся залитая туманом нильская долина казалась морем, белым, недвижимым, а пустыня за нею с ее песчаными горками — точно другой океан, каждая волна которого превращена в камень. Понемногу из-за аравийского хребта поднималось солнце, туман расходился крупными клочьями легкого газа, перерезанные каналами луга казались зелеными коврами с позументовыми арабесками, так что всего было три цвета: на первом плане у моих ног беспредельная зелень; позади — небо, бледно-красное, точно серебро со стершеюся позолотой, а сбоку еще поверхность, вся в пупырышках переливчатого рыжего тона; совсем вдали белые минареты Каира и плавающие по Нилу баркасы с двумя распростертыми парусами (точно крылья ласточки, когда видишь их в ракурсе); кое-где на равнине пучки пальм.
Да, с пирамидами нам повезло. Ночью ветер бился о нашу палатку, нанося глухие, сильные удары, точно о парус корабля. Однажды мы встали в два часа утра; звезды сияли. Погода была сухая и ясная; за второй пирамидой выл шакал. Наши арабы улеглись в ямах, которые они собственными руками выкапывают в песке, когда собираются спать; пылали два-три костра. Иные уселись в кружок и курили трубки, старик пел что-то монотонное с припевом (тягучее и вполголоса). Мы побывали внутри всех пирамид, на животе вползали в коридоры по помету летучих мышей, которые летали вокруг наших факелов; как только могли, старались мы удержаться на скользкой плоскости ступеней. Жара достигала 40-50 градусов. Легко задохнуться, но — скоро привыкаешь. То же упражнение мы проделали в колодцах Саккары, откуда извлекли несколько мумий ибиса, сохранившихся в горшках. Впрочем, подъем на пирамиды и осмотр их внутри (это, может быть, потруднее) совершенный пустяк, если говорить о трудностях. Вот в чем курьез этих милых пирамид: чем больше на них смотришь, тем кажутся они выше. На первый взгляд, когда не с чем их сравнивать, нисколько не бываешь поражен их размерами. В пятидесяти шагах каждая глыба как будто не крупнее камушка с мостовой. Вы приближаетесь, оказывается, каждый камушек имеет восемь футов в вышину и столько же в ширину. А когда подымаешься по пирамиде и достигаешь ее середины, все становится грандиозным. Наверху охватывает полное изумление. Во второй день, когда мы на закате возвращались с поездки верхом по пустыне за пирамидами и проезжали около второй из них, она показалась мне совершенно отвесной, и я пригнулся, точно она собиралась упасть и раздавить меня. Ее макушка совсем побелела от помета орлов и коршунов, парящих постоянно вокруг этих монументов; мне припомнились строки из «Святого Антония»: «У богов голова ибиса, а плечи их побелели от помета птиц». Максим все твердил: «Я видел бег Сфинкса из Ливии. Он мчался вскачь, как шакал». Кстати о цитатах: я никогда не сажусь в ванну, чтобы не прочесть стих, изящество которого тебе понятно столь же мало, как Триссотену:
Куда до ночи в воды погрузится Рим. {«Меленис».}
Благодаря ему еще приятнее становится ванна. Точно к жару печки он добавляет еще и свою температуру. Что же касается старика Сфинкса, находящегося у подножия пирамид и как будто их охраняющего, мы с утроенной быстротой примчались к нему, и поистине я испытал головокружение. Максим был бледнее этой бумаги. Дьявольски странное и мало понятное создание. Я не выдержал и отъехал, оставив их; Максим догнал меня в песках, и мы бешено поскакали, не спуская глаз с Сфинкса (Абу-эл-Ул: отец ужаса); он все рос, рос, подымался из земли, как встает собака. Ни один из известных мне рисунков не дает о нем никакого представления. Точно раком изъеден у него нос, уши оттопырены, как у негра; все еще видны глаза, очень выразительные и страшные, тело зарыто в песке, перед грудью большая яма, остатки предпринятых раскопок. Здесь-то мы и остановили своих запыхавшихся коней, идиотически продолжая смотреть на него. Потом ярость вновь нами овладела, и почти с той же быстротой мы опять помчались между малых пирамид, рассеянных у подножия больших.
Столь «по-э-тические» впечатления, слава богу, бывают не каждый день, иначе лопнул бы бедный человек. В Мемфисе ничего не сохранилось, только колосс лежит на животе в болоте; много пальм, а на них много горлиц. На обратном пути я увидел в пыли крупного скарабея, поймал его и пришпилил в свою коллекцию.
ЛУИ БУЙЛЕ
Константинополь, 14 ноября 1850
Если бы я мог написать тебе о всех своих размышлениях по поводу моего путешествия, то есть если бы, берясь за перо, я вновь обретал все, что приходит мне в голову и что заставляет про себя восклицать: «Вот об этом я ему напишу», то, может быть, ты получал бы письма поистине занимательные. Но, черта с два, все это исчезает, едва раскрою свой бювар. Делать нечего, возьмем все, что попадает на вилку, как придется.
Прежде всего про Константинополь, куда я приехал вчера утром, сегодня ничего тебе не расскажу, разве лишь, что меня поразила мысль Фурье: со временем он будет столицей мира. Это, в самом деле, грандиозно с точки зрения человечества. Чувство собственного ничтожества, какое ты испытал, приехав в Париж, здесь пронизывает насквозь, когда рядом с вами оказывается столько чужих людей, от перса и индуса до американца и англичанина, столько различных индивидуальностей, невероятное множество которых подавляет вашу индивидуальность. И потом, как это огромно! На улицах можно заблудиться, не видишь ни начала им, ни конца. Целые леса кладбищ среди города. Сколько домов и мечетей видишь с Галатской башни (а рядом и между ними Босфор и Золотой Рог кишат судами). Дома также можно сравнить с кораблями; получается неподвижный флот, а минареты становятся мачтами высокобортных судов (фраза немножко запутанная, ну, ничего).
Завтра я получу лист синей бумаги, на котором золотыми буквами будет написано твое имя Лу Буйлет (так произносят турки), — это подарок, предназначенный для украшения твоей комнаты. Когда в одиночестве ты посмотришь на него, он напомнит, что я, путешествуя, не забывал тебя. Покинув «плутов» (писцов), с которыми мы спорили о бумаге, орнаментации и цене означенной надписи, мы отправились кормить голубей Баязетовой мечети. Они сотнями живут во дворе мечети. Кидать им зерно считается актом благочестия. Когда приходишь, они слетают на плиты двора со всех сторон мечети, с карнизов, крыш, с капителей колонн. В гавани есть свои ручные птицы. Среди судов и лодок кормораны летают или отдыхают на волнах. По крышам домов гнезда аистов, зимой пустые. На кладбищах спокойно пасутся козы и ослы, а ночью турчанки ходят сюда на свидание с солдатами.
Как прекрасно на Востоке кладбище. Оно лишено того чрезвычайно раздражающего оттенка, который, по-моему, свойствен у нас подобным учреждениям; ни стены, ни рва, ни изолированности, ни какой бы то ни было ограды. Вдруг наталкиваешься на него среди полей и среди города, где угодно, как можно встретиться и с самой смертью, рядом с жизнью, без особого внимания. Через кладбище ходят, как через базар. Все могилы одинаковы, отличаются одна от другой только древностью. Но, ветшая, они погружаются в землю и исчезают, подобно воспоминанию о мертвых. Посаженные здесь кипарисы достигают гигантских размеров. Это сообщает пейзажу зеленый оттенок, исполненный спокойствия. По поводу константинопольских видов поистине можно сказать: вот так вид! ах, что за картина!
Как твоя муза? Я рассчитывал застать здесь твое письмо со вложением стихов. А планы о Китае? Что читаешь? Очень хотелось бы тебя увидать.
О себе же скажу — буквально не знаю, что со мной делается. Иногда чувствую себя разбитым (выражение недостаточно сильное), иной раз «лимбический» стиль (состояние неявственности, невесомой текучести) возникает и течет во мне с жаром головокружительным. Потом снова упадок. Размышляю очень мало, мечтания случайны. Наблюдения мои имеют преимущественно моральный характер. Никогда не представлял я себе этой стороны путешествия. Психологическое, человеческое, смешное попадается в изобилии. Встречаешь штучки блистательные, картины жизни, переливающие всеми красками, чарующие на взгляд, совмещающие в себе лоскутья и вышивки, все в грязных пятнах, дырах и позументах. А по существу — все та же давняя подлость, неколебимая, нерушимая. Вот основа. Ах, до чего бросается она в глаза!
Время от времени, в городах я развертываю газету. Мне кажется, путь наш определился. Мы танцуем уже не на вулкане, а на изрядно подгнившей доске в сортире. Мысль о том, что следует изучить этот вопрос, меня очень занимает. Вернувшись, я напущусь на социалистов и в драматической форме создам подобие фарса, очень грубого и, разумеется, беспристрастного. Кончиком языка я уже ощущаю слова и кончиками пальцев — колорит. Есть много сюжетов, более ясных с точки зрения плана, но они не так спешат явиться на свет, как этот.
Что касается сюжетов, их у меня сейчас три, а может быть, все они сводятся к одному, что крайне досадно: 1) «Ночь Дон-Жуана», задуманная мной в родосском лазарете; 2) повесть «Анубис», про женщину, мечтавшую о любви бога. Это было бы качеством повыше, зато жестокие трудности; 3) мой фламандский роман о мистически настроенной девушке, которая умирает девственницей возле отца и матери в провинциальном городке, а рядом — огород, засаженный капустой и подстриженными фруктовыми деревьями, да речка не больше нашего Робека. Издевается надо мной идейное родство всех этих трех замыслов. В первом — ненасытимая любовь в форме любви земной и любви мистической. Во втором — та же история, только здесь героиня отдается, и земная любовь не столь возвышенна, поскольку она гораздо отчетливее. В третьем эти две формы соединяются в одном лице, одна приводит к другой, но героиня подыхает от религиозной экзальтации, познав экзальтацию чувственную. Увы! Если так искусно производишь вскрытие еще не родившихся младенцев, то, пожалуй, никогда их не родишь. Меня ужасает мое брезгливое отношение к метафизике. Мне следовало бы, думаю, от него освободиться. Я чувствую потребность ограничивать себя. Ради спокойной жизни мне хочется составить мнение о самом себе, окончательное мнение, которое поможет мне правильно распределять свои силы. Мне нужно, прежде чем приступать к работе, узнать, каково качество моего участка и где его границы. Относительно своего литературного положения, при взгляде на него изнутри, я испытываю то же, что и все люди нашего возраста испытывают, хоть в малой степени, относительно жизни социальной: «чувствую потребность в самоопределении».
В Смирне из-за дождливой погоды, мешавшей нам куда-нибудь отправиться, я взял в библиотеке «Артура» Эжена Сю. От него тошнит, нет этому названия. Стоит прочесть, чтобы пожалеть и о деньгах, и об успехе, и о публике. Чахоточная литература. Она харкает и плюет, но на свои гнойники налепила душистый пластырь и так усиленно причесывалась, что волосы все вылезли. Искусству нужны свои Христы для исцеления этого прокаженного.
С античностью все покончено, со средневековьем покончено также. Остается современность. Но самая основа колеблется, где же найти основу фундаменту? Однако только такой ценой можно добыть себе жизненность, а следовательно, и длительное существование. Подобные вопросы меня настолько тревожат, что я начинаю избегать разговоров о них. Иногда я раздражаюсь, как выпущенный на свободу каторжник, когда при нем говорят об исправительных мерах, — особенно на Максима, человека крутого и не очень способного ободрять, а я крайне нуждаюсь в ободрении. С другой стороны, не настолько отрекся я от честолюбия, чтобы рассчитывать только на поощрительные призы.
Только что перечел всю «Илиаду». Недели через две сделаем небольшую поездку в Троаду. К январю будем в Греции. Досадно, что я такой невежда. Ах! если бы хоть греческий язык я знал, а времени столько потеряно!
Спокойствие покинуло меня!
Кто, путешествуя, сохранит к себе то же уважение, какое было у него, когда в своем кабинете он ежедневно смотрелся в зеркало, тот поистине великий человек или поистине — здоровый дурак. Не знаю почему, но я становлюсь очень смиренным.
Проезжая мимо Абидоса, много думал о Байроне. {Намек на «Абидосскую невесту» Байрона.} Вот где его Восток, Восток турецкий, Восток изогнутой сабли, албанского костюма и решетчатого окна, глядящего на голубые волны. Я же предпочитаю выжженный Восток бедуина и пустыни, алые дали Африки, крокодила, верблюда, жирафа.
Жалею, что не побывал в Персии (деньги! деньги!). Я мечтаю о поездке в Азию, о путешествии сушею в Китай, о невозможных вещах, об Индии, Калифорнии, постоянно волнующей меня с человеческой точки зрения. Иной раз меня охватывает прямо до слез нежность, когда я думаю о своем кабинете в Круассе и наших воскресеньях. Ах! Как я стану жалеть о своем путешествии, как буду мысленно его восстанавливать и повторять вечный монолог: «Глупец, недостаточно насладился ты им!»
Нужно будет вновь приняться за Агенора. {Персонаж из незаконченной юношеской трагедии Флобера «Открытие вакцины».} Конечно, это прекрасно. Недавно верхом на коне я вслух повторил несколько стихов и громко расхохотался. Работа подходящая для того, чтобы развлечь меня по возвращении и разогнать скуку свидания с своим отечеством. Подумываю также о «Лексиконе». {О «Лексиконе прописных истин».} Неплохой материал может дать медицина, естественная история и т. д. Вот, например, нечто весьма остроумное из области зоологии. Лангуста. Что такое лангуста? — Лангуста — это самка омара.
Почему смерть Бальзака так сильно меня огорчила? Всегда печально, если умирает человек, вызывавший восхищение. Была надежда познакомиться с ним впоследствии и заслужить его любовь. Да, то был человек сильный и дьявольски постигнувший свою эпоху. Женщин он изучил превосходно, а умер, едва женившись, притом, когда наступал конец обществу, которое он так знал. Вместе с Луи-Филиппом ушло нечто такое, чему нет возврата. Другие песенки нужны теперь.
Почему возникает у меня меланхолическая жажда вернуться в Египет, подняться вверх по Нилу и снова увидать Рушиукханем?.. Не все ли равно, я провел там вечер, каких в жизни бывает немного. К тому же пережил я его по-настоящему. Жаль, что тебя не было, старинушка!
Кажется, ничего интересного не рассказываю тебе. Иду спать а завтра поговорю с тобой немножко о своем путешествии, это будет для тебя занимательнее, чем вечное мое я, От которого я сам изрядно устал.
ЛУИ БУЙЛЕ
Патрас, 10 февраля 1851
Спасибо, старина, за греческие стихи. Давно уже я не получал от твоей милости ничего столь великолепного. «Vesper» {«Вечер». Из сборника «Гирлянды и астрагалы».} привел нас в восторг. Я считаю эти стихи безукоризненными, если не считать, пожалуй, «ночного пастуха».
С улыбкою надежды за холмами,
О, Vesper, ты...
— очень удачное сочетание, особенно вторая строфа.
Идиллия {«Neera» — ibid.} тоже хороша, хотя качество ее ниже с точки зрения сущности. Мне нравятся следующие стихи:
И в мастерских у скульпторов прославлен...
Грудь влажная от пены волн морских...
Здесь Феб — враг брачных уз и девственный поныне...
В безмолвии полей ступни ее нагие
Касались вереска вечернею порой...
кажется мне подлинно греческим. Словом, два прекрасных стихотворения, особенно первое. Твой «Vesper», пожалуй одна из самых глубоких поэтических вещей, созданных тобою. Вот любимая моя поэзия — спокойная и грубая, как сама природа, без единой значительной мысли; но каждый стих открывает горизонты, на целый день навевающие мечты, вроде:
Огромные быки пасутся на лужайках.
Да, старина, не знаю даже, как и выразить свое удовлетворение.
Вместо скучнейших рассуждений по поводу великолепных виньеток на страницах твоей книги, ты бы лучше написал мне о себе. Как ты живешь? Что делаешь? Само собою разумеется, с материальной точки зрения. Quid de Venere? {Как насчет Венеры? (лат.)} Давно уже ты не рассказывал мне о своих любовных похождениях! А вот у меня лезут волосы; когда мы увидимся, я буду в ермолке; я облысею, как конторщик, как состарившийся нотариус — самое глупое, что может быть в смысле преждевременной дряхлости. Мне грустно. Максим смеется надо мной, пожалуй он прав. Это женское чувство недостойно мужчины и республиканца, знаю. Но я ощущаю в данном случае первый симптом старческого бессилия, оно унижает меня, я чувствую. Толстею, отращиваю брюшко и скоро буду вызывать тошноту. Быть может, недалеко время, когда я начну сожалеть о своей молодости и об утраченном времени, подобно бабушке Беранже. Где ты, обильная шевелюра моих восемнадцати лет, ниспадавшая на плечи, полные надежд и честолюбия!
Да, я старею; мне кажется, я уже не способен создать ничего хорошего. Все относящееся к стилю пугает меня. Что я напишу после возвращения? Об этом спрашиваю я себя беспрестанно. В эти дни, путешествуя верхом, много думал о «Ночи Дон-Жуана». Мне кажется, что это очень обыденно, очень избито; все та же вечная история монахини. Чтобы удержать сюжет все время на высоте, необходим чрезмерно выразительный стиль, ни разу не ослабевающий.
Прибавь ко всему сказанному, что идет дождь, что мы находимся в грязном трактирчике и должны еще несколько дней ждать парохода, что путешествие мое окончено и я грущу. Хотелось бы вновь возвратиться в Египет. Не перестаю думать об Индии. Как бессмысленно глуп человек, а я в особенности.
Даже после Востока Греция прекрасна. Я глубоко наслаждался Парфеноном. Он стоит готики, что бы ни говорили, а главное — его труднее понять.
В общем нас сопровождала плохая погода от Афин и вплоть до сегодня. Мы переезжали реки вброд: часто вода доходила до седла, и лошади под нами плыли. Вечером мы ложились в конюшнях, вокруг костра из сырых веток, вперемешку лошади и люди. Днем нам попадались только стада баранов и коз; у пастухов в руках большие палки, изогнутые, как епископский посох; черномордые собаки кидались на нас с лаем, норовили укусить лошадей в подколенок и немного времени спустя убегали. Греция — более дикая, чем пустыня, вся она в нищете, грязи и заброшенности. Трижды проехал я через Елевсин. На берегу Коринфского залива меланхолично думал об античных существах, омывавших в его голубых волнах свои тела и волосы. Фалерская гавань — в форме цирка. Сюда приплывали остроносые галеры, нагруженные изумительными вещами, вазами и куртизанками. Природа все дала тогдашним людям — язык, пейзаж, анатомическое строение и солнечность, вплоть до формы гор, точно высеченной резцом и более архитектурной, чем где бы то ни было.
Я видел пещеру Трофония, куда спустился некогда воспетый мной любезный мне Аполлоний Тианский. {См. «Искушение св. Антония», ред. 1849 года.}
Гениальная была выдумка — выбрать Дельфы местопребыванием Пифии. Вот местность, подходящая для религиозных ужасов, узкая долина между двух почти отвесных гор; дно покрыто черными оливковыми деревьями, красные и зеленые горы, повсюду пропасти, в глубине море, а на горизонте снежные вершины.
Мы заблудились в Киферонских горах и едва не остались гам ночевать.
Созерцая Парнас, мы думали, в какое отчаянное возбуждение повергся бы от него романтический поэт 1832 года и как драл бы себе глотку по этому поводу.
Дорога из Мегары в Коринф несравненна; тропинка высечена в самой горе, она так узка, что лошадь едва проходит по круче над морем; тропинка вьется, подымается, спускается, лезет вверх и крутится по бокам скалы, покрытой елями и мастиковыми деревьями. Снизу бьет вам в нос запах моря; оно под вами, колышет водоросли и чуть-чуть шумит; по нему разбросаны крупные бляхи свинцового цвета, точно продолговатые куски зеленого мрамора, а по ту сторону залива уходят в бесконечность тысячью изгибов изрезанные вольные линии продолговатых гор. Проезжая мимо Скирроновых скал, где скрывался Скиррон, разбойник, убитый Тезеем, я вспомнил стих нежного Расина:
Разбоя грязь, от коей я очистил землю.
Как обработали античность все эти господа! Ни с чем не считаясь, сделали они ее какой-то холодной и нестерпимо голой! Однако достаточно посмотреть на сохранившиеся в Парфеноне остатки того, что именуется образцом Красоты. Пусть меня повесят, если где-нибудь в мире найдется нечто более мощное и «натуральное»! На дощечках Фидия вены у лошадей обозначены до самого копыта и выступают, как бечевки, а в чужеземных орнаментах, в живописи, в металлических ожерельях, драгоценных камнях и пр. у них настоящая расточительность. Можно и попроще, но непременно богато.
Парфенон — кирпичного цвета. Кое-где асфальтовые и чернильные оттенки. При всякой погоде солнечный свет льется почти непрестанно, и все сверкает. На разбитый карниз садятся птицы, соколы, вороны. Между колонн дует ветер, козы щиплют траву среди расколотых кусков белого мрамора, которые катятся под ногой. Кое-где в дырах кучи человеческих костей, остатки войны. Мелкие турецкие развалины среди великих греческих руин, а вдали повсюду море!
Среди скульптурных остатков, найденных на Акрополе, я особо отметил маленький барельеф, изображающий женщину, которая завязывает обувь, и обломок торса. От него ничего не сохранилось, кроме двух грудей и части тела от шеи до пупка. Одна грудь прикрыта, другая обнажена. Что за груди! Боже мой! Что за грудь! Круглая, как яблоко, налитая, пышная, совершенно обособленная, рука так и ощущает ее вес. В ней и плодовитое материнство и такие любовные сладости, что стоит из-за нее умереть. От дождя и солнца белый мрамор стал бледно-желтым. Рыжеватый тон делает ее похожей на живую плоть. Что за спокойствие и благородство! Так и кажется, что она вот-вот приподнимется, что легкие под ней наполнятся и вздохнут. Как прилегает к ней тонкая ткань с мелкими складками, как прижался бы к ней, заливаясь слезами! Пасть бы перед ней на колени, скрестив руки! Еще немного, и я начал бы молиться.
В Афинах мы нанесли визит Канарису. Это толстый коренастый человек с кривым носом, редкими седыми волосами. Я обещал прислать посвященные ему стихи Гюго. Даже имени его он не слыхал! О, суетность славы!
Перечитал Эсхила. Опять вернулось первое мое впечатление, что лучше всего «Агамемнон».
В качестве греческих сувениров мы везем с собой два куска мрамора с афинского Акрополя — из храма Аполлона Эпикуревса. В деревушке на берегу Алфея я купил у крестьянки вышитый платок.
Еврот окаймлен рододендронами и тополями. Спартанский крестьянин совсем особенный; чтобы описать его, понадобилось бы страницы четыре, отложу это до другого раза. Элида вся в дубах. По дороге сюда мы пересекли ее за вчерашний день, причем сделали, если считать по прямой линии на карте, 22 мили (15 часов рысью).
Наши головы растрепаны, закопчены и ободраны, но возвышаются шикарно. В Сирии я был шоколадным, здесь стал кирпичным. Брови у меня почти рыжие, как у старого матроса. Стараюсь себя не рассматривать.
Прощай, старина.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Суббота, вечер
Дорогой друг!
В будущий четверг еду в Лондон. Ваши письма я отвезу, а по возвращении сообщу вам, что сделал для вас. По правде говоря, не знаю, зачем я пойду к Мадзини; но если у вас есть к нему поручение, я исполню его с удовольствием.
Вчера вечером начал писать свой роман. {«Госпожа Бовари».} Я предвижу теперь стилистические трудности, которые приводят меня в ужас. Не так-то легко дается простота. Я боюсь впасть в стиль Поль де Кока или оказаться шатобрианизированным Бальзаком.
По приезде у меня болело горло. Моя тщеславная натура предполагает, что не усталость тому виной, и, мне кажется, она права. А вы? Как дела?
В настоящий момент я очень занят одним случайным делом, о котором расскажу вам позднее.
Прощайте, дорогая Луиза, целую вашу белую шею.
Долгий поцелуй.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Среда, час [14 января 1852]
Я печален, как мертвец, и зол невероятно. Проклятая Бовари мучит и изводит меня. В прошлое воскресенье Буйле сделал мне несколько замечаний по поводу плана и одного из характеров, но я ничего не могу поделать; и хотя в его указаниях есть доля правды, я тем не менее чувствую, что обратное тоже правильно. Ах, я очень утомился и упал духом! Ты называешь меня маэстро! Какой жалкий маэстро! Да, все это, очевидно, было недостаточно глубоко продумано, ибо такое различие между мыслью и стилем — софизм. Все зависит от замысла. Тем хуже! Буду продолжать, и как можно скорее, чтобы получилось нечто цельное. Бывают моменты, когда от всего этого хочется околеть. Ах! Придется мне узнать все ужасы Искусства.
Все же я стряхну с себя отягчающий меня покров тоски и отвечу тебе. Послание мое будет кратким. Пользуюсь случаем отправить письмо в Руан, дабы ты получила его завтра утром, когда проснешься.
Я получил «Призраки». {Поэма Луизы Коле из книги «О чем грезят женщины».} Первая часть хороша, последняя слабее. Я хотел бы нечто более основательное. Если тебе не к спеху, я отошлю их в другой раз со своими замечаниями... {Далее в письме следуют детальные замечания Флобера стилистического характера, по-русски не переводимые без специального комментария к произведениям Луизы Коле.}
Прощай, дорогая душа моя. Я очень удручен; голова моя весит триста фунтов. Вот уже несколько дней, как я оставил Софокла и Шекспира. Как хороши рассказы друга! Они меня очень насмешили. Еще раз прощай, тысячу поцелуев.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Пятница вечером [16 января 1852]
Возможно, что письмо, написанное мной мисс Гарриет после декабрьских событий, {Речь идет о государственном перевороте Наполеона Бонапарта в декабре 1851 года.} не дошло, так как я не получил ответа. Надо ли попросить у нее вернуть Альбом, если она не сумела выгодно отделаться от него, хотя бы и по частям?
На будущей неделе я должен поехать в Руан, чтобы отправить по железной дороге «Святого Антония» и пресс-папье, которым издавна пользовался. Что же касается перстня, то я не отдаю его тебе так долго по той причине, что он служит мне вместо печати. Я заказал скарабея, который заменит его. Итак, я скоро пошлю тебе перстень.
Меня удивляет, дорогая, что ты расточаешь мне такие восторженные похвалы по поводу некоторых страниц «Воспитания»; по-моему, они хороши, но не настолько лучше других, как тебе кажется. Во всяком случае, я не согласен с тобой, что надо изъять из книги все, относящееся к Жюлю, и создать из этого нечто целое; не следует забывать, как была задумана книга. Образ Жюля ярок только благодаря контрасту с образом Анри; взятый в отдельности, каждый из них окажется слабым. Сначала мною был задуман один Анри, Жюль понадобился, чтобы рельефнее оттенить его образ. Наиболее поразившие тебя страницы (об искусстве и пр.) не так уж трудно было сделать; не стану их переделывать, хотя думаю, что мог бы написать лучше: они увлекательны, но недостаточно синтетичны. Я сделал с тех пор большие успехи в эстетике и, во всяком случае, укрепился на позиции, которую занял очень рано. Я знаю, как надо писать. Боже мой, какой вышел бы из меня писатель, если бы я писал тем стилем, о каком мечтаю!
Одна из глав моего романа очень, по-моему, хороша — ты о ней ничего не говоришь. В ней описывается путешествие Жюля и Анри в Америку. Шаг за шагом проследил я здесь их пресыщенность собою. По поводу «Путешествия в Италию» ты высказала то же соображение, что и я, — признаюсь, дорого обошлось мне удовлетворение тщеславия, так льстившее моему самолюбию; я угадал — вот и все.
Далеко не такой мечтатель, как думают многие, я умею смотреть и вижу все, чуть ли не поры, как видят близорукие, которым приходится каждую вещь подносить к самому носу. Во мне, с литературной точки зрения, два различных человека: один влюблен в горластое, лиризм, широкий орлиный полет, звучность фразы и вершины идей; другой рыщет в поисках правдивого, доискивается его насколько может, любит отмечать мельчайший факт с такой же силой, как и значительный, и хотел бы заставить вас почувствовать почти материально то, что он воспроизводит. Он-то и любит смех, животное начало в человеке. В «Воспитании чувств» я, сам того не ведая, пытался слить воедино обе эти душевные склонности (легче было бы написать две книги и дать в одной человечность, а в другой лиризм). Я сплоховал, и сколько бы ни вносил поправок (может быть, я это и сделаю), вещь останется никуда негодной — слишком многого в ней не хватает; а в нехватке именно и заключается слабость того или иного произведения. Лишним качеством дела не испортишь, но если одно качество поглощает другое, оно перестает быть качеством. Короче говоря, «Воспитание» следовало бы написать сызнова, или, по меньшей мере, выправить в целом: две-три главы переделать и, что кажется мне наиболее трудным, добавить недостающую главу, чтобы объяснить неизбежную причину двойственности основной мысли; иначе говоря, объяснить, почему именно тот, а не иной факт в отношении данного действующего лица привел к тому или иному результату. Причина показана, следствие также, но связующего звена между причиной и следствием нет. В этом — слабость книги и несоответствие ее с заглавием.
Я говорил тебе, что «Воспитание» — опыт. «Святой Антоний» — тоже опыт. Выбрав сюжет, дававший полный простор лиризму, воображению, необузданности, я чувствовал себя в своей сфере, и. работа шла сама собой.
Никогда не вернуть мне тех безумств стиля, которым я предавался целых полтора года. С каким жаром подбирал я жемчужины для своего ожерелья! Одно лишь забыл я — нить. Вторая попытка оказалась еще хуже первой; очередь за третьей — пора, наконец, добиться успеха или же выброситься из окна.
Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы сделать, — это книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе, — книгу, которая почти не имела бы сюжета или, по меньшей мере, в которой сюжет, если возможно, был бы почти невидим. Самые прекрасные — те произведения, в которых меньше всего материального; чем более приближается выражение к мысли, чем более прилегает к ней слово, тем произведение прекраснее.
Это и есть как будто путь Искусства в будущем. Я представляю себе, как оно становится эфирнее по мере того, как растет, — египетский пилон ведет к готической стрелке, индийская поэма в двадцать тысяч строф — к байроновским наброскам. Форма, становясь более искусной, утончается; она отходит от литургийности, правил, строгих размеров, бросает эпос ради романа, стих ради прозы; она не признает ортодоксальности, она свободна, как всякая воля, которая ее производит. Такое освобождение от материальности мы видим всюду, по этому пути идут все правительства, начиная с восточных деспотий и кончая будущими социализмами.
Вот почему нет ни возвышенных, ни низких сюжетов, и можно, почти как аксиому, установить, с точки зрения чистого Искусства, что сюжета совсем нет, так как стиль сам по себе является абсолютной манерой видеть вещи. Чтобы развить мою мысль до конца, понадобилось бы написать целую книгу. Я напишу об этом под старость, когда нечего будет строчить на бумаге, а пока я с жаром работаю над своим романом. Вернется ли та хорошая пора, когда я писал «Святого Антония»? Только бы результат оказался иным, боже милостивый! Подвигаюсь я медленно: за четыре дня написал пять страниц, но до сих пор все это забавно, и я снова обрел ясность духа. Погода ужасная, река бушует точно океан, на улице ни души. Жарко топится камин.
Мать Буйле и весь Кани рассердились на него за то, что он написал безнравственную книгу. Она вызвала скандал. Его считают умным, но пропащим человеком, он — пария. Если бы у меня возникли какие-нибудь сомнения относительно ценности произведения и автора, то теперь они исчезли бы. Ему недоставало этого благословения. Лучшего и быть не может: быть отвергнутым своей семьей и родиной! (Я говорю совершенно серьезно!) Бывают оскорбления, отмщающие за все триумфы, свист, который слаще для честолюбия, чем рукоплескания. Итак, он, по всем правилам истории, попал в великие люди для будущей своей биографии.
Ты напомнила мне, что я обещал написать тебе полное нежности письмо. Я напишу правду, или, если тебе больше нравится, произведу сентиментальную ликвидацию, но не по случаю банкротства (ах, вот это недурно), а в возвышенном смысле слова, в чудесном, навевающем мечты, раскрывающем сердца, жаждущие этой недоступной манны небесной. Нет, нет, это не любовь. Я столько раз в молодости исследовал эту область, что у меня до конца дней моих останется шум в голове.
Я испытываю в отношении тебя смесь дружбы, очарования, уважения, сердечной нежности и чувственного влечения — целый комплекс чувств, которому я не знаю названия, но кажущийся мне солидным. В душе своей я робко благословляю тебя. Ты занимаешь в ней уголок, тебе одной принадлежащее мягкое местечко. Если я буду любить других, ты все равно останешься там (мне так кажется); ты будешь супругой, той, кому отдается предпочтение, к которой возвращаются; и потом, разве не во имя софизма стали бы отрицать обратное? Покопайся в себе хорошенько: исчезло ли хотя бы одно чувство из тех, какие ты испытывала? Нет, все остается, не правда ли? Все. Мумии, какие хранишь в сердце, никогда не рассыпаются в прах и, когда наклоняешь голову и заглядываешь в отдушину, то видишь их внизу, они смотрят открытыми неподвижными глазами.
Чувственность влечет в один прекрасный день к другим; желание ищет новых ощущений. Что из того? Если бы я любил тебя раньше так, как ты хотела, я не любил бы тебя так, как люблю сейчас. Любовь, источающаяся из сердца капля за каплей, образует в нем, в конце концов, сталактиты. Это лучше, чем сильные потоки, которые уносят ее. Вот в чем истина, и я придерживаюсь ее.
Да, я люблю тебя, моя бедненькая Луиза, я хочу, чтобы жизнь твоя была приятной во всех отношениях, чтобы жизненный путь твой был посыпан песочком и окаймлен цветами и радостью. Я люблю твое красивое, доброе и открытое лицо, пожатие руки, люблю касаться твоей кожи своими губами. Если я суров к тебе, помни, это отзвук огорчений, острой нервности и смертельной слабости, которые мучат и переполняют меня. Я всегда ощущаю в себе как бы привкус средневековой печали родного края. Это пахнет туманом, чумой, привезенной с востока, и падает набок со своей резьбой, витражами, оловянными коньками, подобно старым деревянным руанским домам. Вот в такой конуре вы и живете, моя красавица; в ней много клопов, почешитесь.
Еще поцелуй в розовые губки.
Твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Kpyacce] Среда, час ночи [3 марта 1852]
Оставь-ка все свои поправки. Вещь рискованная, пусть так и останется! Благодарю, благодарю, моя бедняжка, дорогая моя жена, за все нежное, что ты шлешь мне. Я доволен собой, когда вижу тебя счастливой и являюсь виновником твоего счастья; как я тебя расцелую на будущей неделе!
Перечел для своего романа несколько детских книжек и чуть с ума не сошел от всего, что прошло за день перед моими глазами, начиная со старинных кипсеков и кончая рассказами о кораблекрушениях и флибустьерах! Нашел и старые картинки, которые раскрашивал, когда мне было семь-восемь лет. С тех пор я их ни разу не видал — синие скалы, зеленые деревья. Некоторые картинки (между прочим — канакская зима среди льдов) вызвали тот же ужас, что охватывал меня в детстве; мне захотелось чем-нибудь развлечься, я почти боюсь ложиться спать. Есть там рассказ про Ледовитый океан и голландских матросов, на хижину которых напали медведи (из-за этой картинки я когда-то не мог уснуть), и сказка про китайских пиратов, грабящих храм с золотыми идолами. Путешествия и воспоминания детства переплелись в моем воображении, краски смешались, и все это носится передо мною, извиваясь спиралью в причудливом сиянии.
Прочел сегодня два тома Буйли; {«Молодые женщины», 1852 г.} бедное человечество! Сколько глупости переварил его мозг со времени существования этого человека!
Вот уже два дня стараюсь я постичь, что такое девичьи грезы; {«Госпожа Бовари», гл. VI.} приходится для этого направить свой корабль в молочные океаны литературы о замках и трубадурах в бархатных беретах с белыми перьями; напомни мне, чтобы я поговорил об этом с тобою; быть может, ты точно сообщишь недостающие мне подробности. Прощай, до скорого свидания. Если в понедельник к 10 утра я не буду у тебя, значит приеду во вторник. Тысячи поцелуев.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Суббота, вечер [24 апреля 1852]
Я чрезвычайно доволен! Какое приятное пробуждение, дорогая Луиза! Теперь, когда работа окончена, исполню твое желание и поболтаю с тобой как можно дольше, благо сейчас еще рано. Но прежде всего начну с крепкого поцелуя в сердце от радости за твою премию, дорогая бедняжка. Как я счастлив, что у тебя случилось приятное событие! Физиономия Философа, удалившегося в тот момент, когда читали твое имя, в высшей степени комична.
Я потому не ответил раньше на твое жалобное и унылое письмо, что переживал настоящую рабочую горячку. Третьего дня лег спать в пять часов утра, вчера — в три. С прошлого понедельника, отложив остальные дела, я всю неделю просидел исключительно над своей «Бовари», — стало досадно, что работа не двигается. Дошел уже до бала и в понедельник начну о нем писать; теперь, надеюсь, дело наладится. С тех пор как мы с тобой в последний раз виделись, я написал ровно двадцать пять страниц (двадцать пять страниц в шесть недель). Нелегко они дались мне; завтра прочту их Буйле. Самому же мне трудно сейчас в них разобраться — слишком много я над ними трудился, изменял их, вертел в руках, переписывал. Мне все же кажется, что они сделаны неплохо.
Ты пишешь о своем унынии; посмотрела бы ты на меня! Не понимаю, как у меня порой не отваливаются от усталости руки и не делается размягчение мозга. Жизнь веду я суровую, лишенную всякой внешней радости, и единственной поддержкой мне служит постоянное мое неистовство, бушевание, которое никогда не прекращается, но временами стенает от бессилия. Я люблю свою работу яростной и извращенной любовью, как аскет власяницу, раздирающую ему тело. По временам, когда я чувствую себя опустошенным, когда выражение не дается мне, когда, исписав длинный ряд страниц, убеждаюсь, что не создал ни единой фразы, я бросаюсь на диван и лежу отупелый, увязая в душевной тоске. Я ненавижу себя и обвиняю в безумном честолюбии, которое заставляет меня гнаться за химерой. А через четверть часа все изменилось, сердце бьется от радости. В прошлую среду мне пришлось встать и пойти за носовым платком — у меня по лицу текли слезы. Я сам умилился над тем, что писал; я испытал сладостное волнение и от своей идеи и от фразы, передавшей эту идею, и от удовлетворения, что нашел самую фразу. Такие именно чувства заключались в том волнении, где нервы, в конечном счете, занимали больше места, чем все остальное. Так, по крайней мере, мне кажется.
Среди такого рода эмоций встречаются и самые возвышенные; в них элемент чувственный играет наименьшую роль, а моральной красотой они превосходят добродетель, — настолько эти эмоции независимы от личности, настолько они вне всякой связи с людскими отношениями. Порою (в знаменательные для меня солнечные дни) моему взору открывалось в озарении восторженного энтузиазма, вызывавшего трепет во всем теле, от пяток до корней волос, то поднимающееся над жизнью состояние души, при котором слова — ничто и самое счастье — ненужно. Как знать? Если бы все, что нас окружает, вместо того чтобы вечно строить нам козни, заставляя задыхаться в болоте, создавало вокруг нас здоровую атмосферу, быть может, тогда нашлось бы средство отыскать применительно к эстетике нечто подобное тому, что изобрел стоицизм в отношении нравственности! Греческое искусство было не искусством, оно — самый организм целого народа, целой расы, всей страны. Очертания гор были иными — они служили мрамором для скульпторов и пр.
Прошло время Красоты. Если бы оно и вернулось, то в настоящий момент было бы бесполезно человечеству. Чем дальше, тем Искусство становится более научным, а наука — более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине. Мысль человеческая не может предвидеть, каким духовным солнцем засияют будущие творения.
Пока что мы находимся в тесном проходе и бродим ощупью в потемках. Нам нужен рычаг. У нас, литераторов и писак, нет точки опоры, почва ускользает у нас из-под ног. Кому нужна вся эта болтовня? Чьи требования она удовлетворяет? Между нами и толпой нет никакой связи: тем хуже для толпы и особенно для нас самих. Но так как всякая вещь имеет свое основание, а фантазия одного человека не менее законна, чем требование миллиона людей, и вправе занимать такое же место в жизни, надо, невзирая ни на что, независимо от человечества, которое нас отвергает, жить для собственного призвания, восходить на свою башню из слоновой кости и оставаться там наедине со своими мечтами, подобно баядерке среди благовоний.
Порой меня одолевает страшная тоска, я ощущаю огромную пустоту, сомнения, точно в насмешку, появляются в минуту наивнейших удовольствий, но я ни на что не променяю их, ибо, по совести, считаю, что исполняю свой долг, повинуюсь высшей воле, делаю добро, иду по правильному пути.
Побеседуем-ка о «Грациэлле». Произведение это посредственное, хотя оно лучше всего, что написал Ламартин в прозе. Встречаются красивые детали: старый рыбак лежит на спине, и ласточки, в своем полете, задевают крыльями его виски; Грациэлла привязывает к кровати талисман, нанизывает кораллы; два-три недурных сравнения в описании природы, вроде того, что молния сверкала от времени до времени, точно подмигивающий глаз, — вот, пожалуй, и все. Но прежде всего скажите ясно: целует он ее или не целует? Это манекены, а не живые существа. Хороши любовные истории, где самое главное окружено такой тайной, что ничего в толк не возьмешь. Вопрос о половых отношениях систематически затушевывается, о нем говорится вскользь, как о пище, питье, естественных нуждах и т. п. Меня раздражает такая предвзятость. Молодчик живет все время с женщиной, которую любит и которая любит его, и у них никогда не возникает никаких желаний! Ни единое нечистое облачко не затемняет этого голубого озера! О лицемерие! Насколько красивее было бы рассказать правдивую историю! Но правда требует более волосатых самцов, чем г-н де Ламартин. На самом деле, гораздо легче изобразить ангела, чем женщину: за крыльями не видно горба. Другое: он с отчаяния посетил Помпею, Везувий и т. д. — кстати, очень умный способ получить знания. И тут — ни слова, изобличающего волнение, тогда как вначале мы видели восхваление Святого Петра в Риме: ведь этим холодным, высокопарным произведением искусства необходимо любоваться. Так принято, это прописная истина.
Ничто в этой книге не захватывает вас. Автор мог бы заставить вас плакать вместе с отвергнутым кузеном Чекко, — однако этого нет, и, наконец, почему не развить некоторые примеры, хотя бы преувеличенное восхваление простоты (бедного класса) в ущерб великолепию имущих классов, скуку больших городов и пр. Да ведь суть в том, что в Неаполе вовсе не скучно, там имеются очаровательные бабенки и притом недорогие. Г-н Ламартин первый пользовался ими; и те, что с улицы Толедо, не менее поэтичны, чем на Маргеллино. Так нет же, нужна условность, фальшь. Нужно, чтобы ваши книги могли читать дамы. О ложь, ложь! Сколь ты глупа!
Можно бы найти способ создать из этой истории прекрасную книгу, — надо только показать то, что произошло в действительности. Некий молодой человек случайно, между прочими развлечениями, сошелся в Неаполе с дочерью рыбака, а затем бросил ее; но она не умерла, а утешилась, что гораздо более ординарно и жутко. (Для меня конец «Кандида» — яркое доказательство величайшей гениальности. Когти льва видны на этом спокойном заключении, глупом, как сама жизнь.) Это потребовало бы известной независимости, которой Ламартин не обладает; нужен более широкий взгляд на жизнь, то понимание правдивого, которое является единственным средством добиться наибольшей эмоциональности. Еще одно последнее замечание по поводу эмоциональности: перед заключительной частью Ламартин считает долгом заявить, что написал эти стихи одним духом, рыдая. Недурной поэтический прием! Да, повторяю, тут все же есть, из чего можно было бы создать хорошую книгу.
Я вполне согласен с мнением Философа относительно стихов Готье; они очень слабы, а невежество литераторов — чудовищно. Для них «Меленис» — ученое сочинение, а между тем все, что там есть, должно быть известно любому бакалавру! Но разве они читают? Разве у них хватает времени? Какое им до всего этого дело! Маракают себе вкривь и вкось и теряют голову от похвал, которые им расточают одни только приятели; ум у них заплывает жиром, а они называют это здоровьем!
Милейший Готье был прирожденным художником, но журнализм, следование общему течению, нищета (нет, не будем клеветать на это млеко, которое питает сильных), скорей, беспутство ума — вот что часто ставило его на одну доску с собратьями. Ах, я был бы очень рад, если бы грозное перо такого человека, как Философ — а он очень строг (в отношении стиля), — в один прекрасный день задало бы хорошую порку всем этим милым господам!
Вернемся к «Грациэлле». Есть там один абзац, чуть не в целую страницу, сплошь состоящий из неопределенных наклонений: «встать» утром и т. д. Человек, усваивающий подобные обороты, лишен слуха, — это не писатель. У него никогда не встретишь старинной, выпуклой, гибкой, выкованной фразы. И все же я постигаю некий стиль, стиль, который был бы прекрасным, который кто-нибудь однажды создаст, через десять лет или через десять веков, который был бы ритмичен, как стих, точен, как научный язык, полнозвучен и насыщен, как виолончель, блестящ, как фейерверк. Стиль, который внедрялся бы в идею, как удар стилета, чтобы наша мысль, наконец, скользила по гладкой поверхности, точно лодка, подгоняемая попутным ветром. Проза — продукт вчерашнего дня, — вот что нужно себе твердить, стих же, по преимуществу, форма древних литератур. Все возможные комбинации просодии были уже использованы, с прозой же дело обстоит не так.
Я наслаждаюсь историями г-жи Р***, фигура капитана {Д'Арпентиньи — капитан в отставке; автор книги по хиромантии.} великолепна. Что за прекрасный человек этот капитан! Отрывок диалога, присланный тобой, произвел на меня такое же впечатление, как некоторые диалоги Мольера; откровенно и вместе с тем лирично. Бедная бабенка! Какое огорчение, когда она спохватилась, что ее милый друг — дурак и только! Как хотелось бы мне присутствовать в комнате во время визита и видеть все эти взаимные церемонии! Ты это чувствуешь; тебе бы следовало обратить свое литературное внимание на такого рода человеческие образы. Ты обладаешь, с одной стороны, тонкостью, проницательностью и сметливостью ума в отношении комического, но мало культивируешь его в этом направлении; тогда как, с другой стороны, у тебя натура сангвиническая, горластая, страстная и, временами, несдержанная — ее надо стянуть в корсет и закалить изнутри.
Ты говоришь, что я поделился с тобой любопытными соображениями по поводу женщин, что женщина всегда остается женщиной. Это верно; их столько учат лжи, столько рассказывают им всякого вранья! Никто не находит возможным сказать им правду, и если имеешь несчастье быть с ними искренним, то такая странность приводит их в величайшее раздражение! Но что я особенно ставлю им в укор — это их страсть поэтизировать. Мужчина, полюбив прачку, может знать, что она глупа, и это нисколько не помешает ему наслаждаться. Но если женщина полюбит хама, то он обязательно окажется непризнанным гением, избранной душой и пр., так что благодаря прирожденной склонности лукавить женщина не видит правды в тех случаях, когда встречается с нею, не видит красоты там, где ее можно найти. В этой приниженности (что, с точки зрения любви самой по себе, является превосходством) кроется причина всех разочарований, на которые так жалуются женщины! Их общая болезнь — требовать от яблони апельсинов.
Отсюда вывод: они неискренни сами с собой, они не сознаются в собственных чувствах, за душу принимают свой пол и воображают, что луна создана для того, чтобы освещать их будуары.
Им недостает цинизма, этой иронии порока, а если они им обладают, то это не что иное, как аффектация.
Куртизанка — миф. Никогда женщина не была изобретательна в области разврата.
Их сердце подобно фортепиано, на котором мужчина, как эгоистичный художник, разыгрывает мелодии, — это придает инструменту блеск, клавиши начинают звучать. Когда дело касается любви, у женщин нет потаенных мест, они не хранят ничего для самих себя, как мужчины; ибо при всем великодушии нашего чувства мы всегда прячем in petto {В груди (итал.).} маленький клад исключительно для личного потребления.
Довольно моральных рассуждений. Поговорим немного о себе. И прежде всего о твоем здоровьи. Что же у тебя в конце концов?
Дай бог, чтобы предсказанье Прадье относительно моей плеши оправдалось (они отрастут!). Но мне кажется, что у нее не было преимущества образоваться благодаря такой веселой причине; не то, чтобы я хотел прослыть непобедимым, как сказал бы Корнель. У меня были Тразименские озера. Но никто, кроме меня, не может этого сказать, настолько прочно восстановлена Республика. Особенно за последние три недели мои бедные волосы падают, как политические убеждения. Не знаю, удерживались ли они благодаря воде Табурель (sic!). Можешь прислать мне еще два флакона на пробу.
Если хочешь, положи в пакет «Бретань» или оставь у себя, мне все равно.
Ты просишь нежных слов. Я не говорю их, но я о них думаю. Всякий раз, как мне приходит в голову мысль о тебе, она сопровождается нежностью.
Поездки в Париж, куда ничто кроме тебя не привлекает меня, — точно оазисы в моей жизни, куда я прихожу пить и стряхивать на твои колени прах от своей работы. В моем воспоминании эти поездки сверкают вдали, залитые радостным светом. Если я не возобновляю их так часто, то лишь из благоразумия и оттого, что они доставляют мне слишком много беспокойства. Вооружись, однако, терпением; позднее я буду с тобою дольше.
Через год или полтора я сниму в Париже квартиру, буду чаще наезжать и проводить там подряд по несколько месяцев в году. А теперь я поеду туда, как только окончу первую часть, когда, не знаю, ее раньше чем через месяц; пробуду неделю. Мы будем счастливы, увидишь. И как мне не любить тебя, бедненькая, дорогая жена моя? Ты ведь так меня любишь! Такой доброй, слепой любовью! Ты говоришь мне столько лестного! Однако вовсе не для того, чтобы льстить мне. Если в тебе говорит правдивость, если впоследствии другие признают все, что ты во мне находишь, я с гордостью буду вспоминать твои предсказания. Если, наоборот, я останусь в неизвестности, ты будешь ярким лучом, проникшим в мою темницу, радостным гимном в моем одиночестве.
Вдали от тебя, я слежу за твоей жизнью, да; я угадываю ее, вижу, часто слышу отдающийся в ушах шум твоих шагов по паркету твоей комнаты.
Сейчас я смотрю отсюда на твою голову, склоненную над круглым столиком, за которым ты пишешь, и на горящую лампу. Анриетта разговаривает с тобой через перегородку. Я ощущаю под пальцами твою тонкую кожу и стан твой, склонившийся на мою левую руку.
Не много испытал я в жизни сладострастья (хотя я очень желал его). Ты дала мне несколько таких минут. Не много было и любви (счастливой в особенности), и мое чувство к тебе более спокойно; зато оно глубоко, так что ты — лучшая любовь, какую я испытал в жизни. Она удерживается во мне при помощи большого балансира.
В молодости меня истрепали страсти. Так на постоялом дворе толкаешься среди экипажей и носильщиков. Вот почему в моем сердце сохранилась какая-то растерянность.
В этом отношении я чувствую себя стариком. Сколько я потратил энергии на эти огорчения, не может никто измерить. Я часто спрашиваю себя, каким бы я стал человеком, если бы жил больше внешней, нежели внутренней жизнью; что случилось бы со мной, если бы я обладал тем, чем хотел обладать когда-то.
Только в провинции и в литературной среде, где я жил, возможна замкнутость. Парижская молодежь не знает этого.
О, мои школьные дортуары, там я испытал более обширную меланхолию, нежели ту, что нашел в пустыне!
Прощай, вот и полночь минула. Тысячу поцелуев. Вот так письмо, а? Сколько же я измазал бумаги!
Целую тебя всюду. Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Круассе, час ночи с субботы на воскресенье
[15—16 мая 1852]
Ночь на воскресенье застигла меня среди страницы, которая отняла у меня весь день и еще далеко не окончена. Бросаю ее, чтобы написать тебе письмо. К тому же я, быть может, просидел бы над ней до завтрашнего вечера; а так как я часто по несколько часов ищу какое-нибудь слово, а найти мне надо несколько слов, то возможно, что тебе пришлось бы провести всю будущую неделю в ожидании, когда я окончу. Но вот уже несколько дней, как дело идет неплохо, если не считать сегодняшнего дня, доставившего мне много трудностей. Если бы ты знала, сколько я вычеркиваю и какая каша в моих рукописях! Сто двадцать страниц сделано; а написал я по меньшей мере пятьсот. Знаешь, чем я занимался третьего дня после обеда? Я смотрел на поля сквозь цветные стекла, — это мне нужно для одной из страниц моей «Бовари», думаю, она будет не из плохих.
Тебе очень хочется меня видеть, дорогая Луиза, и мне также. У меня потребность тебя целовать, держать в своих объятиях. Приблизительно в конце будущей недели надеюсь точно сообщить тебе, когда мы увидимся.
На этой неделе мой покой будет нарушен приездом кузин (незнакомых), довольно свободных в обращении, как говорят, по крайней мере об одной из них. Они родственницы из Шампани, их отец — директор какого-то учреждения в Дьеппе. Моя мать гостила у них позавчера и вчера, а я те дни оставался один с учительницей. Но будь спокойна, моя добродетель осталась нерушимой и даже в мыслях не имела нарушить свой долг. В конце месяца у племянницы, дочки моего брата, первое причастие. Я приглашен на два обеда и завтрак. Наемся доотвалу, это меня развлечет. Что и делать на таких торжествах, как не наедаться? Вот ты и в курсе моей внешней жизни.
Что касается внутренней — ничего нового. Прочел на этой неделе «Родогюну» и «Теодора». {Трагедии П. Корнеля, которые комментировал Вольтер.} Какая гнусная штука комментарии Вольтера! До чего глупо! А между тем он был умным человеком. Но ум приносит мало пользы искусству; он только мешает энтузиазму и отрицает гениальность, — вот и все.
Что за жалкое занятие — критика, если даже человек такого закала дает нам подобные примеры! Но ведь роль педагога так приятна, так приятно ругать, учить людей их ремеслу! Мания принижения — моральная язва современности — удивительно благоприятствует такой склонности в писательской среде: посредственность вполне удовлетворяется повседневной пищей, под видимостью серьезности скрывающей пустоту. Спорить гораздо легче, чем понимать, а болтать об искусстве, об идее красоты, идеале и пр. куда проще, чем написать хотя бы пустяковый сонет или самую коротенькую фразу. Мне очень часто хотелось взять да сразу написать обо всем этом книгу; я сделаю это на старости лет, когда чернильница моя иссякнет. Какую смелую и оригинальную вещь можно написать, озаглавив ее: «Об истолковании античного мира». Это было бы делом целой жизни. На что нужна критика? Не лучше ли музыка: будем ритмично кружиться, балансировать периодами, спустимся в самые глубины сердца. Мания принижения, о которой я говорю, — черта подлинно французская. Франция — страна равенства и антисвободы, ибо на нашей прекрасной родине свободу ненавидят; ведь, по мнению социалистов, идеалом государства является некое огромное чудовище, поглощающее всякую индивидуальную деятельность, всякую личность и мысль, — оно руководит всем, делает все, что нужно. В глубине этих узких душонок таится чисто жреческая тирания: «необходимо все урегулировать, все переделать и перестроить на новых началах» и пр. Нет такой глупости, нет такого порока, которые не были бы причастны к этим мечтаниям. Я нахожу, что современный человек фанатичен, как никогда, но фанатизм его ограничивается собственной личностью; он воспевает только себя и, возносясь мыслью выше солнца, пожирая пространства и взывая к вечности, как сказал бы Монтень, превыше всего ставит ту самую никчемность существования, от которой беспрестанно стремится избавиться. Вот почему Франция с 1830 года бредит нелепым реализмом; непогрешимость всеобщего избирательного права обратится скоро в догмат, и он заменит собою другой — непогрешимость папы. Сила кулака, право большинства, страх перед толпой приходят на смену авторитету имени, божественному праву, верховенству разума. В древности человеческая совесть не протестовала, закон был прост и справедлив, его предписывали боги. Раб сам презирал себя точно так же, как презирал его и господин.
В средние века совесть человеческая безропотно покорялась, над нею тяготело проклятие Адама (в которое я, в сущности, верю). Она в течение пятнадцати веков разыгрывала Страсти, изображала вечного Христа, при каждом новом поколении возвращавшегося на свой крест. Но вот теперь, истощенная усталостью, она, кажется, способна уснуть в состоянии чувственного отупения, подобно девке, полудремлющей после маскарада в фиакре, до того пьяной, что подушки фиакра кажутся ей мягкими, и успокаивающейся при виде жандармов с саблями, готовых защитить ее от улюлюкания уличных мальчишек.
Будет у нас республика или монархия — мы все равно не скоро выберемся отсюда. Это результат длительной работы, в которой принимали участие все, начиная с де Местра и кончая дядюшкой Анфантеном, а республиканцы — больше других. Что представляет собою Равенство, если не отрицание всякой свободы, всего выдающегося и самой природы? Равенство — это рабство. Вот потому-то я и люблю Искусство. Ибо, по крайней мере, тут, в этом мире фикций, — все свобода. Здесь находишь полное удовлетворение, делаешь все, что хочешь, оказываешься одновременно сам себе царь и раб, бываешь активным и пассивным, жертвой и священником. Пределов нет; человечество — паяц с бубенцами, которые звенят на кончике фразы, точно на ноге у фокусника, согбенная душа, что развернулась в лазури, простирающейся до граней истинного. Я часто мстил таким образом жизни; своим пером я наговорил себе кучу нежностей, я наделял себя женщинами, деньгами, путешествиями. Там, где нет формы, — нет и идеи. Искать одну — это значит искать другую. Они так же неотъемлемы друг от друга, как субстанция неотделима от краски; вот почему Искусство — воплощение истины. Если бы я изложил все это на двадцати уроках во «Французском коллеже», я прослыл бы недели на две великим человеком среди множества франтоватых юношей, солидных мужчин и изысканных женщин.
Доказательством того, что Искусство совершенно забыто, служит, по-моему, количество расплодившихся художников. Чем больше в церкви певчих, тем легче предположить, что прихожане не отличаются благочестием. Все дело в красивых нарамниках, а вовсе не в молитве господу-богу и не в том, чтобы возделывать свой сад, как говорит Кандид. Вместо того, чтобы тянуть за собой на буксире публику, тянешься за нею сам. В писателях гораздо больше чистокровного мещанства, нежели в любом лавочнике. В самом деле, разве не стараются они всяческими комбинациями надуть своих клиентов и при этом еще считают себя честными людьми (то есть художниками), что является верхом мещанства! Чтобы понравиться клиентуре, Беранже воспел свою легкомысленную любовь, Ламартин — сентиментальные мигрени собственной жены, и даже сам Гюго, в своих больших пьесах, отпускал по адресу этой клиентуры целые тирады насчет человечества, прогресса, развития идеи и прочей ерунды, в которую сам не верит. Другие, ограничивая свое честолюбие, писали, вроде Эжена Сю, великосветские романы для Жокей Клуба или грязные романы для Сент-Антуанского предместья, как, например, «Тайны Парижа». Молодой Дюма за четверть часа на веки вечные приобретает дружбу всех лореток «Дамой с камелиями».
Я уверен, что ни один драматург не осмелится представить на сцене бульварного театра рабочего вором. Нет, — там рабочий должен быть честным, а хозяин всегда мошенник, так же как во «Французском театре» — девушка всегда чиста, потому что мамаши водят туда своих дочек. Я верю в справедливость следующей аксиомы: люди любят ложь, днем лгут, а ночью грезят. Таков человек. Превосходный рассказ старого Вильмена и описание тетки Гюго.
Буйле не поедет в Париж так рано (как я полагаю). Новый университетский регламент лишил его сразу полутора тысяч франков.
Только что пробило три часа. Наступает утро, камин погас, мне холодно, сейчас лягу.
Сколько раз в своей жизни я видел в окне зеленоватый свет занимающегося утра! Некогда в Руане, в моей маленькой комнатке при городской больнице, сквозь ветви больших акаций; в Париже, на Западной улице, у Люксембургского парка; во время путешествия в дилижансах или на кораблях и т. д.
Прощай, мой дорогой друг, моя дорогая возлюбленная.
Твой.
МАКСИМУ ДЮ КАНУ
Круассе [26 июня] 1852
Дорогой друг,
Мне кажется, что ты находишь у меня какой-то тик или порок, который чернит меня, по-твоему. Но ты не беспокойся, меня это нисколько не трогает. Я давно уже пришел к определенному решению по этому поводу.
Скажу лишь, что всякие слова вроде: торопиться, подходящий момент, пора занять место, добиться положения, вне закона — для меня пустые звуки. Все равно что говорить с алгонкином. Не понимаю.
Добиться, чего же? Положения, занимаемого гг. Мюрже, Фейе, Монселе и пр., Арсеном Уссей, Таксилем Делорд, Ипполитом Люка и семьюдесятью двумя другими? Спасибо.
Сделаться знаменитым — далеко не самое главное для меня. Лишь тщеславие посредственных людей может этим удовлетвориться. А впрочем, разве знаешь, как быть в таких случаях? Даже самая неоспоримая известность не дает удовлетворения; все равно, когда умираешь, не уверен, создал ли себе имя или нет, если только ты не дурак. Таким образом слава придает нам в собственных глазах не больше цены, чем безвестность.
Я добиваюсь лучшего, я хочу нравиться самому себе. Успех представляется мне результатом, а не целью. Ну вот я и шествую к этой цели, шествую давно, не спотыкаясь и не останавливаясь на краю дороги, чтобы поухаживать за дамами или вздремнуть на травке. Если уж говорить о призраках, то я предпочитаю такой, который повыше ростом.
Пусть лучше погибнут Соединенные Штаты, чем хотя бы один принцип! Я предпочитаю издыхать, как собака, нежели на одну секунду ускорить фразу, которая еще не созрела.
В голове у меня имеется некий способ писать и приятность языка, к которым я стремлюсь. Если бы мне показалось, что я сорвал абрикос, я не отказался бы продать его и ничего не имел бы против того, чтобы кто-нибудь захлопал в ладоши, найдя его вкусным. Я совершенно не желаю надувать публику. Вот и все.
Если это не вовремя и если у всех пропала на это охота, — тем хуже. Будь уверен, я желаю себе, чтобы у меня было меньше работы, чтобы она была полегче и приносила бы больше пользы. Но я не нахожу способа.
В коммерческом мире бывают иногда благоприятные стечения обстоятельств, удачные покупки тех или иных товаров, случайный каприз клиентов, повышающий цену на каучук или ситец. Если люди, мечтающие стать фабрикантами этих изделий, торопятся оборудовать соответствующие фабрики, — это понятно. Но если ваше художественное произведение хорошо, если оно правдиво, — оно получит отклик и добьется признания, может быть, через шесть месяцев, а может быть, и через шесть лет или после вашей смерти. Не все ли равно?
Вот где дыхание жизни, говоришь ты, указывая на Париж. По-моему, твое дыхание жизни частенько отдает запахом гнилых зубов. Парнас, куда ты приглашаешь меня, выделяет, на мой взгляд, больше миазмов, чем упоений. Лавры, что срывают там, надо сознаться, слегка покрыты дермом.
И мне очень жаль, что такой человек, как ты, заходит в этом отношении еще дальше маркизы д'Эскарбанья, которая думала, что «вне Парижа для благородных людей нет спасения». Такое суждение кажется мне в самой сути своей провинциальным, то есть ограниченным. Люди имеются повсюду, сударь мой, а вот обмана в Париже больше, чем где бы то ни было, — с этим я согласен.
Одна вещь, несомненно, приобретается в Париже — это нахальство, а оно чего-нибудь да стоит. Тот, кто, получив воспитание в Париже, стал все же настоящим человеком, должно быть, родился полубогом. Он рос в тисках, с тяжестью на голове. И нужно быть совершенно лишенным природной оригинальности, чтобы одиночество, сосредоточенность, продолжительная работа не создали в конце концов нечто напоминающее это. Так горько сетовать на мою нейтрализирующую жизнь — все равно, что упрекать сапожника за то, что он шьет башмаки, кузнеца за то, что он кует железо, художника за то, что он живет в своей мастерской.
Работая ежедневно от часу дня до часу ночи, с перерывом от шести до восьми часов, я совершенно не представляю себе, на что мог бы употребить остаток времени. Действительно, если бы я жил в провинции или в деревне, предаваясь игре в домино или занимаясь разведением дынь, я заслужил бы упрек. Но в моем одичании виноваты Лукиан, Шекспир и писание романа.
Я говорил тебе, что перееду в Париж, когда книга моя будет готова и когда я издам ее, если буду ею доволен. Я не изменил своего решения. Вот все, что я могу сказать, больше ничего.
Послушайся меня, мой друг, предоставь все естественному течению. Возникают литературные ссоры или нет — мне наплевать. Пусть процветает Ожье — мне дважды наплевать, пусть, наконец, Вакери и Понсар займут своими широкими плечами мое место — мне трижды наплевать; я не стану требовать, чтобы они вернули мне его обратно.
После всего вышеизложенного целую тебя.
МАКСИМУ ДЮ КАНУ
[Круассе, начало июля 1852]
Дорогой мой,
Меня огорчает твоя обидчивость. Я был очень далек от желания написать тебе оскорбительное письмо и, напротив, старался, чтобы оно отнюдь не было обидным. Я, насколько возможно, оставался в пределах сюжета, как говорят риторики.
Только зачем ты вечно повторяешь заезженные истины и предписываешь режим человеку, имеющему претензию считать себя совершенно здоровым? Я нахожу твою скорбь обо мне просто комичной, вот и все. Разве я осуждаю тебя за то, что ты живешь в Париже, печатаешь свои произведения и т. д.? А когда ты хотел как-то поселиться в деревне по соседству со мной, я разве одобрил твой план? Разве я советовал тебе когда-нибудь вести такой же образ жизни, какой веду я водил тебя, такого изобретательного в жизни, на помочах говоря: «Милый друг, не надо есть того-то, одеваться надо так-то, идти надо сюда и пр.»? Всякому свое. Не все растения требуют одинакового ухода. К тому же как бы мы ни старались, ты в Париже, я — здесь, если мы не родились под счастливой звездой и если нет у нас призвания, — все равно ничего не выйдет; а есть оно у нас, значит об остальном и заботиться нечего.
Не беспокойся, все, что ты можешь мне сказать, будь то хорошее или плохое, порицание или похвала, я сам уже говорил себе. Таким образом, все, что ты добавишь, будет лишь повторением множества монологов, которые я знаю наизусть.
Впрочем, еще одно слово. Я отрицаю то обновление в литературе, которое ты возвещаешь; до сих пор я не встретил ни одного нового человека, ни одной оригинальной книги, ни одной незатасканной мысли (как и в прошлом, все тащатся в хвосте у мастеров). Все пережевывают избитые гуманитарные и эстетические идеи. Я не отрицаю у современной молодежи стремления создать школу, только я не доверяю ей. Счастье их, если я ошибаюсь; воспользуюсь открытием.
Что касается моего поста писателя, то охотно уступаю его тебе и бросаю будку, захватив подмышку ружье. Я не вижу особого почета в подобном звании и в подобной миссии. Я попросту буржуа, живу уединенно в деревне, занимаюсь литературой и не требую от людей ни признания, ни почестей, ни даже уважения. Они прекрасно могут обойтись без меня. Я же прошу взамен, чтобы они не отравляли мне существования. Вот почему я держусь в стороне.
Что же до того, чтобы им помочь, я никогда не откажу в какой бы то ни было услуге. Я готов даже броситься в воду, если надо спасти хороший стих или хорошую фразу, независимо от автора. Но я не думаю, чтобы человечество нуждалось во мне, как и я в нем не нуждаюсь.
Измени еще и эту идею, а именно: если я один, это еще не значит, что я собой удовлетворен. Вот когда я буду собой доволен, я выйду из своего дома, где меня не очень-то баловали ободрениями. Если бы ты мог заглянуть в глубину моего мозга, ты понял бы, что написал чудовищную вещь.
Если твоя совесть предписала тебе дать мне эти советы, ты поступил хорошо, и я благодарен тебе за намерение. Но мне кажется, что ты простираешь свою совесть на других, и этот славный Луи, так же как и милейший Тео, {Луи — Луи Корменен; Тео — Теофиль Готье.} которых ты приобщаешь к своему желанию смастерить паричок, чтобы скрыть мою лысину, решительно плюют на мои привычки или, по меньшей мере, нисколько не думают о них. В «лысине бедняги Флобера» они убеждены; сомневаюсь, однако, чтобы это их удручало. Постарайся поступить, как они, прими меры в отношении моей преждевременной лысины и неисправимой закоснелости. Она тверда, как кора, ты обломаешь об нее ногти. Прибереги их для более легкой работы.
Мы идем по различному пути, плывем в разных челнах. Пусть бог приведет каждого из нас, куда мы пожелаем! Я ищу открытое море, а не гавань. Если я потерплю крушение, можешь меня не оплакивать.
Твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе, 6 июля 1852] Вторник
Перечитал один на досуге твое последнее длинное письмо, рассказ о прогулке при лунном свете. Первое нравится мне больше во всех отношениях — как в смысле формы, так и по существу. Не правда ли, в тебе произошло что-то, смутившее тебя? Несмотря на твое пренебрежение к этому порыву, он все же взбудоражил на некоторое время твою душу. Было бы ошибкой с твоей стороны, дорогая Луиза, подумать, что я обращаюсь к тебе с упреком. Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны. Только я нахожу, что тебе не следовало еще раз ходить с ним гулять. Ты делаешь это по наивности, допустим; но я на его месте рассердился бы на тебя. Он вправе считать тебя кокеткой.
Люди тривиальные полагают, что прогулки с мужчиной при лунном свете совершают вовсе не для того, чтобы любоваться луной, а сеньор де Мюссе чертовски тривиален, и его тщеславие самого мещанского происхождения. Я не согласен с тобой, что он больше всего чувствует произведения искусства; лучше всего он чувствует собственные страсти. Мюссе скорее поэт, чем художник, а в настоящее время в нем преобладает человек, и притом человек жалкий.
Мюссе никогда не отделял поэзию от ощущений, которые она дополняет. Музыка, по его мнению, создана для серенад, живопись для портретов, а поэзия для сердечной услады. Так, каждый, кто вздумает поместить в штаны солнце, прожжет штаны и намочит солнце. Вот это и случилось с Мюссе. Нервы, магнетизм — вот в чем поэзия. Нет, у нее более ясная основа. Если бы достаточно было для того, чтобы стать поэтом, чувствительных нервов, я превзошел бы Шекспира и Гомера, а они кажутся мне людьми мало нервными.
Такое смешение понятий кощунственно; я смело берусь это утверждать, ибо обладаю способностью слышать через запертые двери то, что говорится шепотом в тридцати шагах от меня; ибо сквозь кожу у меня бьется каждая жилка, и иногда в течение одной секунды мозг мой пронизывают тысячи мыслей, образов и всякого рода комбинаций, рассыпаясь в нем настоящим фейерверком. Но все это лишь красивые темы для разговоров, и они волнуют. Поэзия вовсе не немощность духа, каковая свойственна подобной нервозности; чрезмерная чувствительность — слабость. Сейчас я это объясню.
Будь у меня более здоровый мозг, я не заболел бы оттого, что мне пришлось изучать право и скучать; я извлек бы из своих занятий пользу, а не вред. Боль, отхлынув от головы, разлилась по всему телу и заставила его судорожно сжаться. В этом-то и было извращение.
Часто встречаются дети, у которых музыка вызывает болезненные ощущения; они обладают большим предрасположением к ней, раз прослушав, запоминают мелодию, воспламеняются, играя на фортепиано; сердце у них бьется, они бледнеют, худеют и, наконец, заболевают. Их измученные нервы извиваются, как у собак, от страдания при звуках музыки. Это не Моцарты в будущем. Призвание у них сместилось; идея слилась с плотью и стала бесплодной, а плоть зачахла. В результате ни гениальности, ни здоровья. То же и в искусстве — страсть не создает стихов, и чем больше личного в нашем творчестве, тем мы слабее. Моя погрешность заключалась именно в том, что я в свои произведения всегда помещал себя.
В святом Антонии, например, я отобразил себя. Искушение относилось ко мне, а не к читателю. Чем меньше чувствуешь вещь, тем более становишься способным выразить ее такой, какова она в действительности (как она бывает всегда, сама по себе, без всякого налета случайности), но нужно обладать искусством уметь ее почувствовать; дар этот заключается в способности видеть, иметь перед собою модель, которая вам позирует. Вот почему я ненавижу говорную поэзию, поэзию на разговорном языке. Есть вещи, для которых не существует слов, достаточно взгляда; излияния души, лиризм, описания — все должно быть выражено в стиле, иначе получается проституция искусства и самого чувства. Это — своего рода стыдливость, всегда мешавшая мне ухаживать за женщинами. Когда на язык напрашивались поэтические фразы, я боялся, как бы кто-нибудь не подумал: «Вот так шарлатан!», и страх действительно оказаться шарлатаном каждый раз останавливал меня. Я вспоминаю при этом г-жу Клоке: желая мне доказать, как она любит своего мужа и как беспокоилась о нем во время его болезни, продолжавшейся дней пять или шесть, она подняла прядь волос и показала два-три седых волоса на виске, говоря: «Я провела три бессонных ночи, целых три ночи ухаживала за ним». Действительно верх преданности! Из того же теста сделаны все те, кто говорит об отлетевшей любви и могиле матери или отца, о блаженных воспоминаниях; те, кто целует медальоны, рыдает, глядя на луну, неистовствует от нежности при виде детей, млеет в театре, а на берегу моря принимает задумчивые позы. Комедианты, комедианты! Шуты! Трижды шуты, которым собственное сердце служит трамплином для разных достижений.
И я пережил беспокойную пору, пору сентиментальности, и до сего дня, как каторжник, ношу ее позорное клеймо. Теперь же своею спаленной рукой я имею право писать, каков был огонь, сжегший ее. Ты познакомилась со мной, когда эта пора миновала и я стал зрелым человеком. Но когда-то я верил в реальность поэзии в жизни, в пластическую красоту страстей и пр., я равно преклонялся перед всякой суетой и, оглушенный, различал отдельные вскрики.
Я мог бы любить тебя более приятным для тебя образом, увлечься твоим внешним блеском и на этом остановиться. Ты долго стремилась именно к такому чувству. Ну, нет, я проник в самую сущность. Я любовался не тем, что ты показывала, что могли видеть все, что поражало публику. Я пошел дальше и открыл сокровища. Человек, увлеченный тобой и подчинившийся тебе, не наслаждался бы, подобно мне, твоим любящим сердцем до самых мелких его извилин. Чувство мое к тебе не летний плод с гладкой кожей, падающий с ветки при малейшем дуновении и расплющивающий на траве свой румяный сок. Мой плод крепко держится за ствол, у него кожа тверда, как кокосовый орех, или покрыта колючками, как берберийские фиги. Они ранят пальцы, зато содержат в себе молоко. Какая прекрасная погода, Луиза, как сверкает солнце! У меня закрыты все ставни; я пишу тебе в тени. Вот две, три чудных ночи. Как сияет луна!- Я чувствую себя хорошо физически и морально и надеюсь, что моя «Бовари» снова понемногу пойдет. Жара действует на меня, как водка, она сушит и возбуждает меня.
Ожидаю Буйле. Крепкий поцелуй, вечером запечатаю письмо.
Твой Г.
Отсылаю тебе также твою статью из-за вырезанных цитат.
Вторник вечером
Буйле удивлен, что не получил от тебя ни письма, ни «Родины». В чем дело?
Вот статья. Она пойдет в таком виде. Постарайся все же ее провести, так же как и статью о Прадье, если она еще не напечатана.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Понедельник, час ночи [27 июля 1852]
У меня осталось еще на добрых две недели работы, чтобы просмотреть всю первую часть. {«Госпожа Бовари».} Обнаруживаю в ней чудовищные небрежности. Но я обещал тебе приехать на будущей неделе и выполню свое обещание. Приеду не в понедельник, а в среду, пробуду неделю. Числа 15-го мы должны поехать в Трувиль (там может жить мать). Если я не вернусь специально к твоему конкурсу, чего не могу тебе обещать, то навещу тебя ненадолго в первые дни сентября, пока еще не войду как следует в работу и когда сценарий второй части будет совсем хорошо отделан. Вот уже целая неделя, как я исправляю его, и нервы у меня от этого сильно раздражены. Я спешу, а следовало бы работать медленно. Отыскивать в каждой фразе слова, которые надо заменить другими, убирать ассонансы и пр.! — длинная, бесплодная и в сущности весьма унизительная работа. Вот тут-то и начинаются милые внутренние испытаньица. Вчера я прочел Буйле последние двадцать страниц, он остался ими доволен, однако в будущее воскресенье я прочту ему все целиком. Тебе я ничего не привезу; меня удерживает кокетство, и я не покажу тебе ни строчки, пока все не будет совершенно закончено, как бы мне ни хотелось сделать обратное. Но так благоразумнее; ты еще лучше будешь судить о книге и получишь еще больше удовольствия, если она хороша. Еще один долгий год!
Воду Табурель, статью и порошок я получил. К чему порошок? Я уже много лет употребляю одентин Лепельтье, очень хорошая штука. Ладно, буду пользоваться порошком в честь тебя.
Стихи в «Стране» вышли из печати. {Поэма о Прадье.} (Спасибо за нас обоих, дорогая моя милочка.) Одна из руанских газет на следующий же день перепечатала их. Вчера я смотрел в Руане подъем аэростата Пуатвена {Аэронавт, который во время своих подъемов исполнял опасные акробатические трюки.} — это очень красиво. Я был поистине в восторге.
Из двух твоих стихотворений по-настоящему хороша только середина «Площади Руаяль»; {Стих. сб. «То, что в сердце женщин».} конец очень слаб. Почему ты не даешь больше воли своему таланту живописца? Запомни, у тебя скорее склонность к живописному и драматическому, чем к сентиментальному; не думай, что перо обладает такими же инстинктами, как сердце. Подобно всем южным натурам, тебе больше даются сильные и образные стихи, нежели сентиментальные. Иди же смело по этому пути; в «Площади Руаяль» встречаются места очаровательные по своей свежести и пластичности восприятия, тобою созданные и во всяком случае новые. Через год с лишком, когда у меня будет в Париже квартира, тебе плохо придется, смотри, я возьму тебя энергично в руки, ты того заслуживаешь.
Да, странная это вещь — с одной стороны, перо, а с другой — индивидуальность. Кто любит больше моего античный мир, кто мечтает о нем, как я, кто, наконец, сделал все, что только возможно, дабы узнать его? А на самом деле, я (в своих книгах) менее, чем кто-либо, «античен». С виду можно подумать, что я должен быть занят эпическим, драмой, зверской стороной вещей, а между тем я больше всего люблю сюжеты аналитические, анатомические, если можно так выразиться. В сущности, я — человек туманов, и только благодаря терпению и труду освободился от бледного слоя жира, обволакивавшего мои мышцы. Я из честолюбия поставил себе целью написать такие книги, для создания которых в моем распоряжении меньше всего средств. В этом смысле «Бовари» — невероятный фокус, осознать который могу лишь я один; сюжет, персонажи, действие — все выходит за пределы моего «я». Вот почему это будет большим шагом вперед. Создавая эту книгу, я подобен человеку, который играет на рояле, имея на каждом суставе по свинцовому ядру. Но когда я буду хорошо знать, как ставить пальцы, то если мне попадется под руку вещь по вкусу, я смогу играть ее засучив рукава, и возможно, это окажется хорошо. Впрочем, я думаю, что в этом отношении ничем не выделяюсь. Создаешь не для себя, а для других. Искусство незачем смешивать с художником. Тем хуже, если он не любит красное, зеленое, желтое; все цвета хороши, все дело в умении рисовать. Читаешь ты «Золотого осла»? Постарайся же прочитать его до моего приезда, чтобы побеседовать о нем немного. Я привезу тебе Сирано. Вот фантазер-то парень, настоящий фантазер! Явление необычное. Прочел книгу {«Эмали и камеи».} Готье: жалкая вещь! Тут и там красивая строфа, но цельного нет ничего. Вымучено, надумано, пущены в ход все ухищрения.
Неестественная эрекция, как у людей с разбитой поясницей. Ах устарели все эти великие люди, стариками стали, слюнявят собственное белье. Впрочем, они все для этого сделали. Такое чувство, будто писал ее человек, которому приложили шпанскую муху к голове. Будь покойна, молодой человек получит головомойку не от меня (чтобы не истолковали как пристрастие), а от Буйле, взявшего это на себя.
Послезавтра поеду для тебя в Руан, а неделю спустя мы наконец увидимся! С каким удовольствием я крепко обниму тебя, как буду целовать! Прощай, дорогая, любимая Луиза, тысячу раз целую твои глаза и пониже шеи.
Привезу тебе все твои книги и газеты. В субботу или в воскресенье напишу тебе точно, в какой день приеду.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Суббота, 5 час. [4 сентября 1852]
Наши денежные дела, по-видимому, не очень-то блестящи. Это — симпатия (симпатизировать — значит вместе страдать). Я отнюдь не собираюсь сравнивать мои неприятности с твоими, но скажу, что и у меня их имеется достаточно... Мне до того досаждают окружающие, что я сегодня днем совсем не работал. Так, мать моя плачет, раздражается из-за всего и т. д. (Ну и милое изобретение — семья!) Мама приходит ко мне в кабинет, чтобы поделиться своими домашними дрязгами. Я не могу выставить ее за дверь, но мне очень хочется сделать это. Я отвел себе в жизни очень небольшой уголок, и, как только в него вторгаются, я свирепею.
Так, я все переносил от Дю Кана. Но когда он попытался вмешаться в мою жизнь, я показал когти. Теперь моя мать утверждает, будто прислуга дерзит ей (чего на самом деле нет). Я должен все улаживать, заставлять прислугу идти извиняться, когда она не виновата. Все это временами становится мне поперек горла. Кроме того, покой мой нарушает кузина, которая должна приехать сюда на два месяца (хотя я устрою так, чтобы меня не беспокоили).
Почему нельзя жить в башне из слоновой кости! И подумать только, что вся суть в злополучных деньгах, благородном металле, — этом хозяине мира! Будь у меня больше денег, я бы многое облегчил себе. Но мои сбережения из года в год уменьшаются, и будущее в этом отношении сулит мне мало радости. У меня всегда будут средства к жизни, но не для такой жизни, какую я себе рисую. Если бы милейший мой отец иначе поместил свое состояние, я был бы хоть и не богачом, но человеком вполне обеспеченным. Ну, а перемена образа жизни, пожалуй, привела бы к полному разорению. Как бы то ни было, присланные тобою 200 франков совершенно мне не нужны. Хочешь получить их обратно? Первой моей мыслью сегодня было тотчас же отослать их тебе, но ведь с тобою надо быть осторожным. Я побоялся, как бы ты не приняла это за молчаливый ответ на твое сегодняшнее письмо и не подумала, что я усмотрел в этом нечто вроде косвенной просьбы. Вот причина. Но ты, пожалуйста, не стесняйся и безо всякого стыда возьми их у меня опять, если они могут доставить тебе удовольствие.
У меня нет никаких долгов, и я сейчас ни в чем не нуждаюсь. Что касается остальных 300 франков, ты вернешь их мне, когда надо будет печатать объявления о «Святом Антонии». Условились...
Ты не ответила мне по поводу своей статьи. Если хочешь, пошли Буйле «Тайный музей». Это его позабавит. Он, впрочем, несколько успокоился относительно тетки Роже {Г-жа Роже де Женетт, упоминаемая в письмах под именами «Барыня из Сен-Мор», «Эдма», «Сильфида».} и, кажется, думает серьезно приняться за свою драму. Он все еще намеревается покинуть Руан этой зимой. Ему осточертели уроки (он ожесточается, да и есть от чего) и не хочет больше преподавать; но как же он будет там существовать? Нашла ли ты правильными мои замечания по поводу «Привидений»? Немедленно пойди и прочти в какой-нибудь библиотеке «Парижское обозрение»; там имеются две обширных страницы Журдана и две цитаты: одна о «Живых картинах» и другая «О тщеславии». В целом они хвалебны, но некоторые советы необыкновенно похожи на те, что я давал тебе в моем последнем письме. Поэтому, когда я прочел номер, проснувшись на следующее утро, у меня создалось странное впечатление.
Дю Кан не подписал номера. Не потому ли, что в нем хвалили тебя? В хронике самого низменного тона оскорбляют Философа {Кузена.} безо всякой причины, по ничтожному поводу. Продолжение романа Гозлана {«Персидская лилия».} прямо гнусное. Какой жалкий сборник! Что до хроники, под которой эти господа подписываются теперь анонимом Сирано, — до чего претенциозно, это просто позор. Если с людьми разговаривают таким образом, следует по крайней мере носить свою визитную карточку на шляпе.
Я дважды писал в Англию относительно твоего Альбома и не получил ответа, что меня весьма удивляет. У меня есть в Лондоне знакомый молодой человек, который, кажется, должен скоро возвратиться. Хочешь, я велю написать ему, чтобы он зашел за ним?
С тех пор как мы расстались, я написал восемь страниц второй части: топографическое описание одной деревни. Собираюсь теперь приступить к длинной сцене в гостинице, которая очень меня тревожит. Как бы мне хотелось перескочить через пять или шесть месяцев! Я освобожусь тогда от самого худшего, то есть от наименее содержательных мест, передача которых требует наибольшего напряжения мысли.
Твое утреннее письмо тоже огорчает меня, дорогая. Я так люблю тебя! Почему тебя оскорбила фраза, которая, напротив, является выражением прочнейшей любви, какую только может питать один человек к другому? О женщина! Будь меньше женщиной. Будь ею только в постели. Разве твое тело не воспламеняет меня, когда я с тобой? Разве ты никогда не видела, как я любуюсь тобой, широко раскрыв глаза, и с каким наслаждением прикасаюсь к тебе руками? Твой образ волнует меня даже в воспоминании; и если я не вижу тебя часто во сне, то потому лишь, что желания не снятся. Вдохни за эту неделю побольше лесного воздуха и смотри на листья ради них самих; чтобы понять природу, надо быть спокойным, как она.
Не будем ни на что жаловаться; сетовать на то, что нас печалит или раздражает, это все равно, что сетовать на самый строй бытия. Наш брат создан для того, чтобы описывать его, и ни для чего другого. Будем религиозны. Каждая неприятность, крупная или мелкая, способствует тому, что я все более и более замыкаюсь в вечную свою душевную тревогу. Я цепляюсь за нее обеими руками и закрываю глаза; стоит лишь призвать Благодать, — и она явится. Бог жалеет чистых сердцем, а солнце всегда сияет для мужественных сердец, парящих над высотами.
Я склоняюсь к известному эстетическому мистицизму (если можно сочетать оба эти слова) и хотел бы, чтобы он усилился. Когда не видишь кругом поощрения, когда все во внешнем мире отталкивает, обессиливает, развращает и притупляет, то честному и утонченному человеку приходится искать где-то в себе самом более чистый уголок. Если общество будет продолжать идти по этому пути, мы, кажется, скоро увидим мистиков, всегда появляющихся в эпоху безвременья. Лишенная возможности излиться, душа замкнется в себе самой; в недалеком будущем вновь настанет пора всеобщего томления, вернется вера в конец мира и ожидание Мессии. На что только будет опираться этот неведомый энтузиазм при отсутствии теологической базы? Одни обратят свои искания к плоти, другие найдут себе опору в старых верованиях, третьи — в Искусстве; и человечество, как евреи в пустыне, станет поклоняться всякого рода идолам. Наше поколение пришло слишком рано, через двадцать пять лет в руках умелого писателя точка пересечения окажется великолепной. Тогда проза (более юная форма) особенно зазвучит внушительной гуманитарной симфонией; тогда смогут появиться такие книги, как «Сатирикон» и «Золотой осел», но бьющую через край чувственность заменит в них бьющая через край психика.
Вот этого и не хотят видеть социалисты всего мира. Вечно проповедуя материализм, они отрицают страдание и хулят три четверти современной поэзии, кровь христову, которая в нас струится. Ничто ее не изгонит, не иссушит. Дело не в том, чтобы ее осушить, а в том, чтобы она лилась ручьем.
Если бы утратилось сознание человеческого несовершенства и ничтожности существования (что явилось бы следствием их гипотезы), мы оказались бы глупее птиц, которые, по крайней мере, сидят на деревьях. Душа пока еще спит, опьяненная словами, но ее ждет бурное пробуждение; проснувшись, она предастся радости освобождения, ибо ничто не будет стеснять ее — ни правительство, ни религия, ни какие бы то ни было формулы... Республиканцы всех оттенков кажутся мне самыми свирепыми педагогами в мире, — они мечтают об организации, законах, об обществе, похожем на монастырь.
Я, напротив, думаю, что правила исчезают, преграды рушатся, земля нивелируется. Это великое смятение предвещает, быть может, свободу. По крайней мере, Искусство, которое всегда идет впереди, совершило этот путь. Какая поэтика могла бы в настоящий момент удержаться? Даже пластическое искусство становится почти невозможным благодаря тому, что язык наш ограничен и точен, а идеи расплывчаты, спутаны, неуловимы. Нам остается одно — изловчиться и натянуть покрепче струны гитары, на которой столько раз бренчали, а главное — стать виртуозами, ибо наивность в наше время — химера. К тому же живописное почти исчезает; поэзия, правда, не умрет, но я не вижу, какой она станет в будущем. Как знать? Быть может, красота окажется бесполезной для человечества, а Искусство чем-то средним между алгеброй и музыкой?
Раз мне не дано увидеть будущее, я хотел бы заглянуть в прошлое. Отчего я не жил хотя бы при Людовике XIV — в парике, туго натянутых чулках и в обществе Декарта? Отчего я не жил во времена Ронсара или во времена Нерона? С каким удовольствием побеседовал бы я с греческими ораторами, с каким удовольствием попутешествовал бы в колеснице по римским дорогам, останавливаясь вечерами на ночлег в гостиницах вместе с бродячими священнослужителями Кибелы! А главное, отчего я не жил во времена Перикла! Я бы ужинал с Аспазией увенчанной фиалками, поющей стихи среди белых мраморных стен! Ах, все прошло, этот сон никогда не вернется! А ведь я, наверное, жил там повсюду в одно из своих прежних существований. Я уверен, что во времена римского владычества я был директором какой-нибудь бродячей труппы комедиантов, одним из тех чудаков, что отправлялись в Сицилию и покупали там женщин, чтобы сделать их комедиантками, и были одновременно учителями, сводниками и актерами. Очень хороши эти негодяи в комедиях Плавта; когда их читаю, в моей памяти всплывают какие-то воспоминания. А ты испытывала когда-нибудь трепет истории?
Прощай, целую тебя всю, весь твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Понедельник, 12 час. Ночи
[13 сентября 1852]
Я отсутствовал два дня, в пятницу и субботу, и не скажу, чтобы развлекался. Нужно было во что бы то ни стало съездить в Андели к старому товарищу, с которым я не виделся несколько лет и кого я из года в год обещал навестить. Мальчишками мы были в тесной дружбе с этим славным малым; сейчас он товарищ прокурора, {Речь идет об Эрнесте Шевалье.} женат, чиновник, сторонник порядка и т. д. Ах, боже мой! Что за существа эти буржуа! Но как они счастливы, как безмятежны! Как мало думают о самосовершенствовании, как мало беспокоит их все то, что беспокоит нас!
Ты напрасно упрекаешь меня, говоря, что я лучше использовал бы это время, навестив тебя. Уверяю тебя, я получил бы совершенно другое удовольствие.
Как печальны с некоторых пор твои письма, дорогая Луиза! Я тоже настроен далеко не весело, и вне меня и во мне самом все достаточно мрачно. «Бовари» ползет черепашьим шагом, я прихожу по временам в полное уныние. Боюсь, как бы это не продлилось на протяжении шестидесяти страниц, то есть месяца три-четыре. Да, книга — машина сложная, и соорудить ее нелегко. То, что я пишу теперь, необходимо облечь в глубоко литературную форму, иначе получится Поль де Кок. Но каким образом хорошо написать тривиальный диалог? А все-таки это необходимо, необходимо. Впрочем, покончив со сценой в гостинице, надо взяться за платоническую любовь, тему в достаточной мере избитую; отнять тривиальность равносильно тому, чтобы отнять у вещи ее цельность. В этакой книжице малейшее отклонение может увести автора далеко от цели и даже совершенно испортить дело. Тут самая простая фраза имеет огромное значение для остального; этим объясняется трата времени, обдумывание, недовольство и медлительность.
Учительница {Мисс Изабелла, учительница племянницы Флобера.} едет завтра в Лондон; я дал ей письмо к мисс Колье: она привезет тебе твой Альбом.
Нынче утром я передал Буйле записку этой злополучной тетки Роже. Я вижу, тут нет умысла. Она хочет, несчастная! С какой наивностью женщины бросаются в волчью пасть! Как бесцельно позорят себя! Она скоро приедет в Руан, и дело будет сделано, увидишь. Когда я наблюдаю за ними в начале таких историй, меня всегда берет жалость. Первый поцелуй является преддверием к потокам слез...
О каких произведениях идет речь? Стихотворная форма повествования — вещь очень трудная. Драма намечена? — тем лучше, я помню время, когда ты уже сделала бы два акта; обдумай, обдумай прежде, чем писать. Все зависит от концепции. Эта аксиома великого Гёте — самый простой и самый изумительный вывод, наставление, касающееся всякого рода произведений искусства.
До сих пор тебе недоставало только терпения, но, по-моему, терпение нисколько не доказывает гениальности; иногда оно лишь является ее признаком и заменяет ее. Этот старый сухарь Буало будет жить дольше, чем кто бы то ни было, потому что он сумел сделать то, что сделал. Старайся, в то время как пишешь, отбросить все, что не является чистым Искусством, имей всегда в виду одну лишь модель. Ты знаешь достаточно и многого можешь достигнуть; тебе нужна только вера, вера в себя. Вот что я тебе скажу. Я хочу (и добьюсь своего), чтобы ты воодушевлялась цезурой, периодом, наконец самой формой по существу, вне зависимости от сюжета, как когда-то ты вдохновлялась чувством, сердцем, страстями. Искусство — изображение, и наше дело — изображать; душа художника должна быть безбрежна, как море, и чиста, как оно, чтобы до самого дна отражались в ней звезды небесные.
Я точно лет десять тебя не видел; в минуты слабости мне хотелось бы прижать тебя к себе, а дальше что? Нет, нет! Я знаю, что после праздника будни кажутся слишком печальными; ведь и грусть не что иное, как безотчетное воспоминание. Через год мы увидим, что стали зрелыми и стойкими, как гранит. Не жалуйся на одиночество, ты льстишь этим обществу (признавать, что не можешь без него обойтись, значит ставить себя ниже его). «Если ты стремишься понравиться, — говорит Эпиктет, — ты близок к падению». А я добавлю — раз ты нуждаешься в людях, следовательно, ты на них похожа. Не надо! Меня же одиночество тяготит, только если меня беспокоят или не идет работа.
Но я обладаю скрытыми пружинами, при помощи которых вновь поднимаюсь и соответственно выше. Вместе с молодостью я оставил подлинные страдания; они вошли в мои нервы, вот и все.
Прощай, дорогой, любимый друг. Я обнимаю тебя долго, нежно, крепко. Не мешает тебе навестить Журдана. Он произвел на меня впечатление славного человека. К тому же, не следует пренебрегать знакомством с ним.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Воскресенье вечером, 11 час.
[19 сентября 1852]
Разреши мне, дорогая Луиза, не делать тебе комплиментов по поводу твоего психологического чутья. Ты с детской доверчивостью веришь всему, что тебе наговорила тетка Роже. Эта бабенка рисуется. Ее просьба написать Буйле равносильна, по-моему, жесту, каким поднимают юбки. Догадывается ли она об этом? Выяснить трудно. Я не верю ни в нарушение физического здоровья вследствие злоупотреблений ее мужа, ни в ночи, проведенные с ее «умом и сердцем»; и в этом особенно мало искренности и чувства, как мне показалось; ей нравится иное. Рассудочная страсть к Гюго, которая тянется десять лет, тоже гигантская выдумка, по-моему. Великий человек, наверно, догадался бы о ней и со свойственной ему распущенностью воспользовался бы, если только эта страсть также не напускная. Заметь — она всегда ограничивается полупризнаниями и не сознается ни в чем, имеющем отношение к Эно. В основе все это глубоко ничтожно! Возможно, что она лжет неумышленно — не всегда осознаешь себя, особенно, когда говоришь; слово отягощает мысль, преувеличивает ее, даже мешает ей. К тому же женщины столь наивны, даже в своей рисовке, так легко принимают свою роль всерьез, так естественно сливаются с созданным себе типом! А с другой стороны, принято думать, что нужно быть целомудренным, идеальным, что следует любить только душу, что плоть стыдлива, что одно лишь сердце добропорядочно. Сердце! Сердце! Ох! Вот роковое слово, и как далеко оно может завести вас!
Желание навестить тебя в день раздачи премий, карета, которую ожидают в подворотне под дождем, и т. д. — это, пожалуй, правда, так же как скучная необходимость нести тяготы замужества. Но она не говорит, что под его тяжестью мечтала о другом человеке и в своем отвращении, именно вследствие этого, возможно, находила удовольствие. Предсказание: они будут целоваться... а она все еще станет утверждать, что между ними ничего нет, что она любит нашего друга только сердцем и рассудком. Славный половой орган является основой людских нежностей: это не нежность, а субстрат ее, как сказали бы философы. Никогда ни одна женщина не любила евнуха, и если матери любят детей нежнее, чем отцы, то лишь потому, что дети вышли из их чрева, и пуповина их любви остается неотрезанной в их сердце.
Да, все дело в этом, как бы мы ни были смиренны. Мне также хотелось бы быть ангелом: меня тяготит мое тело, необходимость есть, спать и иметь желания. Я мечтал о монастырской жизни, об аскетизме браминов и т. д. Отвращение к рубищу привело к созданию религии, идеального мира искусств. Опий, табак, крепкие ликеры способствуют склонности к самозабвению, и я унаследовал от отца какую-то благоговейную жалость к пьяницам. У меня, как и у них, упорство в склонностях и разочарование при пробуждении.
Как надоела мне «Бовари»! Но понемногу я все же начинаю в ней разбираться. В жизни ничего мне не давалось с таким трудом, как теперешняя моя работа, как обыденный диалог; а сцена в гостинице потребует месяца три. Бывают минуты, когда я готов плакать от бессилия. Но я скорее издохну, чем обойду ее. Мне нужно одновременно ввести в действие пять или шесть персонажей (говорящих от своего лица) и несколько других (о которых говорят), описать место действия и всю местность вообще, дать характеристику внешности людей и предметов и показать в этой обстановке господина и даму, которые начинают увлекаться друг другом (благодаря сходству вкусов). Будь у меня еще достаточно места! Но действие должно развертываться со стремительной быстротой и при этом отнюдь не сухо; развивая его, я не стану сгущать красок, а сохраню некоторые детали для дальнейшего, где они произведут более сильное впечатление. Я набросаю всю сцену широкими штрихами, стремительно и последовательно; путем повторной работы я, быть может, добьюсь сжатости. Сама по себе фраза для меня чрезвычайно трудна, мне надо стилистически передать разговор людей предельно пошлых, а вежливость разговорного языка в значительной степени лишает ее выразительности!
Ты все еще говоришь, дорогая Луиза, о славе, о будущем, о хвалебных отзывах. Я уже бросил эти старые мечтания, слишком долго держали они меня в своей власти. Во мне говорит не ложная скромность, нет, я просто ни во что не верю. Я полон сомнений, но это не беда. Я готов работать, как негр, всю свою жизнь, без надежды на награду; я люблю бередить свои раны, — вот и все. У меня столько книг в голове, что всей жизни не хватит на то, чтобы написать их, в особенности при моем темпе работы. В работе у меня недостатка не будет (это главное), лишь бы провидение не лишило меня вдохновения! В прошлом веке несколько писателей, возмущенных вымогательством актеров, решили им противодействовать и настойчиво убеждали Пирона взять на себя в этом деле почин. «Ведь вы, в конце концов, не богач, милейший Пирон», — сказал ему Вольтер. «Возможно, — ответил Пирон, — но мне на это наплевать — как будто я богач». Прекрасное изречение, ему надо следовать во многих случаях жизни, если не имеешь намерения пустить себе пулю в лоб. А разве возможность успеха, если даже допустить такую мысль, дает уверенность в чем бы то ни было? Все равно умираешь, не зная цены ни себе, ни своим произведениям, если только ты не идиот. Вергилий, умирая, хотел даже, чтобы сожгли «Энеиду». Быть может, для его славы это было бы неплохо.
Пока сравниваешь себя с окружающими, кажется, что ты выше всех, но стоит лишь обратить взор на мастеров, на совершенство, на мечту, как начинаешь презирать себя. Недавно я прочел прекрасную вещь — жизнеописание повара Карема; не знаю, по какой ассоциации мне пришла в голову мысль об этом знаменитом изобретателе соусов, и я отыскал его фамилию во «Всеобщей биографии». Прекрасная жизнь для художника-энтузиаста, не один поэт позавидовал бы ему. Вот некоторые из его изречений: «Уголь для нас губителен, но это пустяки! Меньше проживешь, больше прославишься», — сказал он, когда его уговаривали поменьше работать и поберечь свое здоровье. А в одном из своих сочинений, где он признается, что любит полакомиться, он говорит: «но я так сильно чувствовал свое призвание, что не переставал есть». Это «не переставал есть» — бесподобная фраза в устах человека, посвятившего себя кулинарному искусству.
Когда увидишь Нефцера, не говори с ним больше о статье. Мы, напротив, дорого бы дали сейчас за то, чтобы она не появлялась в печати (и, пожалуй, наше желание будет исполнено). Гораздо лучше, если бы мы могли в чем-нибудь упрекнуть этих милых господ, так называемых наших приятелей, и в случае надобности бросить им в лицо обвинение; итак, ни слова больше об этом.
Мне кажется, что руанские газеты будут говорить о тебе: по крайней мере, это обещано. Но разве можно рассчитывать на подобных марионеток!
Когда я думаю о печати, о писателях, о Париже, меня начинает тошнить; может случиться, что я никогда не доставлю работы печатному станку; зачем же лезть вон из кожи? Да и не в этом цель. Как бы то ни было, если я когда-нибудь ступлю ногой в эту грязь, я, как в Каире в дождливые дни, надену высокие, до самого живота, сапоги из русской кожи.
Когда я предаюсь мечтам, моя мысль всегда останавливается на тебе, я отдыхаю на ней, как усталый путник на траве луга, окаймляющего его путь! При пробуждении я думаю о тебе, и твой образ в течение дня появляется от времени до времени среди подыскиваемых мною выражений. О, моя дорогая, печальная любовь, не покидай меня! Я так одинок! Если я много любил, то был мало любим (по крайней мере женщинами). И ты единственная мне в этом призналась. Прочие, быть может, вскрикивали в минуту сладострастия или любили меня по доброте душевной в течение четверти часа или одной ночи! Одной ночи! Как долго, я даже не вспоминаю о них. Так вот я заявляю, что они были не правы: я стоил большего, чем многие другие. Я огорчен за них, что они не воспользовались! Фразерская, пылкая любовь, перламутр щек, о котором ты говоришь, и кипучий поток нежностей, как сказал бы Корнель, — все это я пережил. Но я сошел бы с ума, если бы кто-либо подобрал этот жалкий клад без ярлыка. Как мне посчастливилось, ведь я был бы сейчас тупоумным. Солнце, ветер, дождь унесли частицу пережитого, многое покоится под землей, остальное все принадлежит тебе. Да! Все для тебя, целиком твое.
Буйле пришлет тебе вскоре два отрывка, которые надо переложить на музыку (если это возможно, в чем он сомневается). Он ушел спать. Я сам отнесу завтра на почту это письмо. Мне нужно ехать в Руан на похороны; какая скука! Не похороны наводят на меня грусть, а вид всех этих буржуа, которые там будут. Созерцание большинства мне подобных становится для меня все более и более омерзительным, говоря языком нервного человека. Прощай, тысячу нежностей, тысячу ласк. Увидимся в Манте, как ты желаешь.
Целую тебя всю.
Твой Гюстав.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Вторник вечером
[26 октября 1852]
Я ждал нынче утром от тебя письмецо с известием о том, что твоя лихорадка прошла. Как твое здоровье? Не поддаваясь тотчас же, подобно тебе, преувеличенному беспокойству, я все же хотел бы знать, не больна ли ты?
Мы увидимся не в начале будущей недели, но лишь в конце или в начале следующей. Я с таким трудом приступаю к делу после каждого перерыва, что хочу подготовить себе какую-нибудь работу и не терять по возвращении слишком много времени на то, чтобы вновь собраться с мыслями, которые сейчас свежи. Пишу теперь набросками: вот хорошее средство не потерять совершенно нити в столь сложном, но простом на взгляд аппарате.
В воскресенье прочитал Буйле двадцать семь страниц (почти законченных) — результат добрых двух месяцев работы. Он не выразил неудовольствия, а это очень много значит, ибо я опасался, что они будут отвратительны. Я сам уже перестал что-либо в них понимать, к тому же тема слишком неблагодарная для стилистических эффектов! Пожалуй, можно считать, что я счастливо вышел из затруднения, сделав ее хотя бы сносной.
Сейчас я перехожу к более интересной части. Мне еще необходимо написать от сорока до пятидесяти страниц до полного разгара адюльтера. Тогда уж все натешатся вволю, и моя бабенка насладится!
Я просил вернуть мне мои заметки о Греции, а также превосходное описание, одолженное мною Шерюэлю (преподавателю Нормальной школы). Я захвачу их с собой, они пригодятся тебе для «Акрополя». На эту тему можно написать прекрасные стихи.
Ну и погода! Какой дождь! А ветер! Под моими окнами яростно носятся желтые листья! Но странно, по ночам гораздо спокойнее. Между мной и окружающей меня природой существует некое соответствие. Вместе с ночью на нас нисходит безмятежность. Как только гаснет день, мне кажется, что я пробуждаюсь. Я далеко не человек природы, который встает на заре, ложится спать с курами, пьет ключевую воду и т. д. Мне нужна искусственная жизнь и необычайная во всех отношениях обстановка. Дело тут не в развращенности ума, в этом сказывается вся моя человеческая натура; остается узнать, не является ли так называемая искусственность второй натурой. Ненормальность не менее законна, чем нормальное.
Только что кончил шекспировского «Перикла», — ужасно трудно и необычайно смело. Там встречаются сценки в публичном доме, где все эти дамы и господа объясняются на языке далеко не академическом; вещь приятно насыщена неприличными шутками. Но что это был за человек! Как мелки в сравнении с ним все без исключения поэты и как они легковесны! Он обладал и воображением и наблюдательностью, а что за размах! Что за размах! Вот подходящий случай сказать: «мы рождены посредственностями, и возвышенные умы подавляют нас». Мне кажется, я бы умер от страха, если бы увидел Шекспира воочию.
После нашего свидания примусь за Софокла, я хочу знать его наизусть. Библиотека писателя должна состоять из пяти-шести книг, и из этого источника ему надлежит черпать ежедневно. Что касается других книг, то их достаточно знать, и все. Суть только в том, что читать можно по-разному, и это требует столько же ума, сколько умения!
Ну! Наконец-то через несколько дней мы увидимся: я, кажется, расцелую тебя от всей души, и нам будет очень хорошо, дорогая и милая моя Луиза!
Если такая погода будет продолжаться, нам не придется выходить из комнаты. Тем лучше. У нас найдется о чем поговорить (и чем заняться?).
Прощай, целую тысячу раз твои прекрасные глаза.
Твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Понедельник вечером
[22 ноября 1852]
Прежде всего, пока я об этом думаю (так как я уже в течение трех дней боюсь позабыть), небольшое грамматическое разъяснение слова «схватить». Есть два глагола: ухватить — означает взять внезапно, сразу схватить в кулак или схватиться за что-либо, — это означает овладеть, сделаться хозяином чего-либо. В приводимом тобой примере «лисица схватила его» означает, что лисица овладела в свою пользу; так что здесь вместе с местоимением получается идея захвата и быстроты (таким образом при участии местоимения глагол всегда предполагает замысел последующей непосредственной пользы). Но схватить употребляется также самостоятельно и означает брать. Пример: «Схватите эту иглу: я не могу ее схватить, она выскальзывает у меня из рук». Я не помню твоего двустишия, дорогая Муза; но там, кажется, есть оборот вроде следующего: «схватился за соломинку...»; это, как видишь, и нескладно и неподходяще.
С нетерпением ожидаю «Крестьянку», но ты не торопись. Работай сколько нужно. Получится хорошо. Все парикмахеры согласны с тем, что чем больше расчесывать волосы, тем лучше они блестят. То же можно сказать о стиле: поправки придают ему блеск. Вчера я перечитал ради тебя «Склонность к мечтанию». Так вот: я не согласен с тобой. Тут широкий размах, но это несколько вяло и, возможно, само содержание ускользает от стихов. Всего не скажешь: если мысль безгранична, то Искусство ограничено, особенно когда дело касается метафизики; у пера нет достаточного размаха, ибо всегда трудно передать пластически то, что не очень отчетливо укладывается в уме.
Собираюсь прочесть «Дядю Тома» по-английски. Признаюсь, у меня против этой книги предубеждение. Одно лишь литературное достоинство не может создать подобного успеха. Если обладаешь известным даром развивать действие, с легкостью объясняться на разговорном языке и при этом искусно использовать страсти и волнующие вопросы данного момента, — то успех обеспечен. Знаешь, что больше всего покупается ежегодно? «Фоблаз» и «Супружеская любовь» — два глупейших произведения. Если бы вновь родился Тацит, его покупали бы меньше, чем Тьера. Публика почитает бюсты, но не очень-то обожает их; она преклоняется перед ними, потому что так принято, — вот и все; буржуа (то есть в данное время все человечество, включая сюда и народ) относится к классикам, как к религии: знает, что они существуют, был бы недоволен, если бы их не существовало, понимает, что они приносят какую-то весьма отдаленную пользу, но сам ни в какой мере не пользуется ими, и поэтому ему очень досадно; так-то.
Выписал из библиотеки «Пармский монастырь», прочту его очень внимательно; я читал «Красное и Черное»; вещь, по-моему, плохо написана и мало понятна в отношении характеров и замысла. Я прекрасно знаю, что люди со вкусом не разделяют моего мнения. Удивительная каста эти люди со вкусом, — у них имеются свои божки, которых никто не знает. Такую моду ввел милейший Сент-Бёв. Они млеют от восторга перед светскими остряками, перед талантами, все достоинство которых заключается в том, что последние невразумительны.
Прочитав «Красное и Черное» Бейля, я совершенно не понимаю, почему Бальзак восторгается подобным писателем. Что же касается чтения, то мы с Буйле зачитываемся по воскресеньям Рабле и «Дон Кихотом». Эти книги буквально подавляют! По мере того как всматриваешься в них, они вырастают подобно пирамидам и в конце концов начинают пугать. Самое изумительное в «Дон Кихоте» — отсутствие искусственности и та непрерывная смесь иллюзии с реальностью, которая делает книгу такой смешной и такой поэтичной. Какими карликами кажутся в сравнении с Сервантесом другие! Господи, каким чувствуешь себя маленьким! Каким маленьким!
Работаю я неплохо, то есть довольно охотно, но очень трудно как следует выразить то, чего сам не перечувствовал; нужна длительная подготовка, приходится чертовски ломать голову, чтобы не перейти границы и в то же время приблизиться к ней вплотную. Изобразить сцепление чувств адски трудно, а между тем в этом вся сущность романа, ибо я настаиваю на том, что идеи не менее занимательны, чем факты, — надо только, чтобы они вытекали одна из другой, как струи каскада, увлекая читателя в водоворот метафор и трепетных фраз. Когда мы с тобой увидимся, я уже далеко шагну вперед — любовь достигнет апогея, сюжет развернется окончательно, и участь книги будет решена; но сейчас мне, кажется, предстоит пройти через опасное ущелье. В минуты перерыва в работе твое прекрасное, доброе лицо сулит мне впереди отдых; в этом отношении наша любовь своего рода закладка, которую я вкладываю заранее между страниц, мечтая как можно скорее добраться до нее.
Почему эта книга тревожит меня больше других? Не потому ли, что я отклоняюсь от своего естественного пути в сторону искусственности и хитрости? Во всяком случае, это жестокая гимнастика и длительная! Когда-нибудь, если я найду собственный сюжет, в который вложу всю свою душу, ты увидишь, увидишь!
Кончил сегодня «Персов»; {Трагедия Эсхила.} сейчас же перечту и сделаю заметки. Ты, вероятно, читаешь теперь «Золотого осла». Жду твоих впечатлений.
Знаешь ли (между нами говоря), нашего друга Буйле как будто немного смущает тетка Роже? Кажется, он поддается нежным чувствам, и тут пахнет драмой. Увлечение — вещь хорошая, но в меру: это связано с потерей времени. Каким образом синьор Уссей (его зовут Уссе, но это «й» — великолепно) является его другом, разве?.. О!
Занимайся исключительно собой. Предоставим Империи идти своим путем, закроем дверь, взберемся как можно выше на нашу башню из слоновой кости, на последнюю ступеньку, ближе к небу. Там иногда холодно, но это не беда! Зато видишь сияние звезд и не слышишь болванов.
Прощай, уже два часа утра. Как бы мне хотелось, чтобы уже прошел этот год!
Еще раз прощай, тысячу нежностей. Обвиваю твою шею ожерельем из поцелуев. Твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Четверг, час дня
[9 декабря 1852]
Посылаю по железной дороге, одновременно с отправкой настоящего письма по почте, пакет с двумя твоими рукописями «Крестьянки», «Ричарда III», {Драма Виктора Сежура.} которого не успел прочитать, и один том античных гравюр: он несколько увеличит вес пакета и в то же время, может быть, окажется тебе полезным. Не беспокойся, план, посланный тебе в понедельник Буйле, был накануне составлен нами обоими; и поправки, которые ты увидишь на полях рукописи, являются нашими общими поправками; под словом «поправки» я скорее имею в виду замечания, ибо мы ничего не исправляли. В конечном итоге мы просидели над этой работой добрых три часа вечером в воскресенье, и я уверен, что не упустил ничего важного. Что касается твоих сомнений относительно конца, не знаю, что, собственно, тебя смущает? Нет необходимости уточнять эпоху. Опиши в общих чертах жизнь Жана в армии и продолжительность его пребывания там. Впрочем, идея об инвалидах никуда не годится. Если плавучая тюрьма смущает тебя из-за неточности даты, ты можешь представить его арестантом в Сибири, много лет спустя возвращающимся пешком через Европу; но не вздумай в таком случае описывать его путешествие и особенно не останавливайся на зимних пейзажах! (Это испортило бы твое сравнение судов Ледовитого океана, описанного выше.) Не торопись с поправками и выжидай, пока тебе придут в голову лучшие.
Прочитал «Посмертную книгу»; {«Посмертная книга» Максима Дю Кана печаталась в то время в «Парижском обозрении».} что за жалкое произведение, не правда ли? Не знаю, что ты говорила о нем с Буйле, но мне кажется, что наш друг идет ко дну. Это далеко не то, что «Тагаор». {Индийская сказка Максима Дю Кана, напечатана была в «Парижском обозрении».} Чувствуется полное истощение, последние потуги, он находится при последнем издыхании. Особенно насмешило меня то, что он, ставящий мне в укор, будто я во всех своих трудах выставляю себя, сам беспрестанно говорит о себе. Он находит удовольствие даже в изображении собственной внешности. Книга эта отвратительна благодаря своему личному характеру и всякого рода претензиям. Если он когда-нибудь спросит мое мнение о ней, я выскажу ему все, что думаю, и отзыв мой будет не из приятных, будь уверена. Ввиду того, что он, не стесняясь, высказывал свое мнение, когда я его совершенно не спрашивал, мы будем только квиты. Там есть коротенькая фраза, касающаяся меня и написанная специально для меня: «Одиночество, прижимающее к своим роковым грудям эгоизм и тщеславие». Меня это здорово рассмешило, уверяю тебя. Эгоизм — допустим, но тщеславие — никогда. Гордость — дикий зверь, живущий в пещерах и пустынях. Тщеславие, наоборот, как попугай, перепрыгивает с ветки на ветку и болтает среди бела дня. Быть может, я заблуждаюсь в данном случае (это было бы тщеславием), но мне кажется, что «Посмертная книга» смутно напоминает «Ноябрь» {Юношеская повесть Флобера.} и нечто туманное от меня довлеет над всем. Взять хотя бы желание попасть в Китай в конце: «Растянувшись в лодке из кедрового дерева, с узенькими веслами, похожими на перья, под парусом, сделанным из плетеных бамбуков, под звуки там-тама и тамбуринов я отправлюсь в далекий край, именуемый Китаем» и т. д.
Отпечаток мой останется не на одном только Дю Кане. Вина его в том, что он его сохранил. Мне кажется, его попытка от меня отделаться была очень естественной. Он теперь идет своей дорогой; но в отношении литературы он еще долго будет помнить меня.
Я оказался пагубой и для несчастного Амара.
Я общителен и несдержан (вернее, таковым был), и, несмотря на присущий мне дар подражания, морщины от гримас не искажают моего лица. Буйле — единственный человек в мире, воздавший за это должное Альфреду Ле Пуатвену и мне. Он уловил противоположность наших натур и увидел пропасть, разделявшую их. Если бы Альфред жил дольше, пропасть продолжала бы увеличиваться, с одной стороны, благодаря ясности его ума, с другой — из-за моих странностей. Наше дальнейшее сближение не вызвало бы опасений. Что до Буйле, то, видно, мы оба чего-нибудь да стоим, раз за все семь лет, в течение которых мы сообщаем друг другу наши планы и писания, каждый из нас сохранил свою индивидуальность.
Итак, синьор Ожье — полицейский чиновник! Очаровательное место для поэта! А какое благородное и умное занятие — просматривать книги, предназначенные для торговли в разнос. Но разве у этих молодчиков есть что-нибудь в голове? В них больше мещанства, чем в любом лавочнике. Значит, вся литература находится в зависимости от доброй воли этого господина! Зато у него тепленькое местечко, он занимает положение, обедает у министра и пр. К тому же, надо сказать правду, в мире существует вечный заговор против двух объектов: поэзии и свободы; люди со вкусом берутся истребить первую, а сторонники порядка преследуют вторую.
Ничто так не нравится некоторым французам, наделенным умом рассудительным и мало окрыленным, чахоточным умом во фланелевой фуфайке, как то чисто внешнее соблюдение правил, которое так возмущает людей, обладающих творческой фантазией. На буржуа успокоительно действует вид жандарма, а остряки наслаждаются при виде критика. Рыбак рыбака видит издалека. Каким же могучим средством причинять нам неприятности вооружен этот сугубый притеснитель, если атрибутами ему служат одновременно сабля жандарма и ножницы критика. Ожье, вероятно, думает, что делает нечто очень хорошее, со вкусом, и оказывает этим услуги. По-моему, цензура во всех ее видах — гнусность, хуже человекоубийства; покушение на мысль — это преступное попрание человеческой души. Смерть Сократа и сейчас еще лежит на совести человечества. Быть может, проклятие, тяготеющее над евреями, такого же порядка: они распяли человека-слово, они хотели убить бога. В этом отношении меня всегда возмущали республиканцы. Какой только добродетельной декламацией не старались одурманить нас целых восемнадцать лет царствования Луи-Филиппа! Кто только не набрасывался с язвительным сарказмом на романтическую школу, которая, в конечном счете, требовала лишь свободного обмена, как выразились бы теперь! Самое комичное — это громкие фразы: «но что сделается с обществом», и сравнения: «разве можно позволить детям играть огнестрельным оружием?» Нашей милой публике кажется, что общество держится на двух-трех прогнивших колышках, и если их выдернуть, то все рухнет; на него смотрят (согласно старым понятиям), как на искусственное создание человека, как на произведение, выполненное по определенному плану. Этим и объясняются обвинения, проклятия и предосторожности. Чья бы то ни было индивидуальная воля оказывает на существование или уничтожение цивилизации так же мало влияния, как на рост деревьев или на состав воздуха.
О великий человек, ты оставишь после себя немного навоза, немного крови, но мысль человеческая и без тебя будет продолжать борьбу. Она развеет воспоминания о тебе вместе с другими сухими листьями; твой уголок культуры порастет травой, твой народ сметут другие народы, твою религию поглотит иная философия, и так будет всегда, всегда, весною, летом, осенью, зимой, и цветы не перестанут цвести, а соки — питать их.
Вот почему я считаю «Дядю Тома» книгой ограниченной; она написана с точки зрения моральной и религиозной, а ее следовало писать с точки зрения человечности. Дабы растрогаться участью раба, которого истязают, мне совершенно не нужно, чтобы он был порядочным человеком, добрым отцом и хорошим мужем, чтобы он распевал псалмы, читал евангелие и прощал своим палачам, что придает всему возвышенность, исключительность и делает вещь специфической и фальшивой. Оттенки чувства — а их в книге много — могли бы быть лучше использованы, если бы автор задался более широкой целью. Когда в Америке не будет больше рабов, этот роман окажется таким же правдоподобным, как все те старинные истории, в которых магометане неизменно изображались чудовищами. Не надо ненависти! Не надо ненависти! Впрочем, это и создало успех книги, она актуальна; одна лишь правда, вечное, чистая Красота не могут в такой степени увлечь массы. Желание показать чернокожих с высоконравственной стороны доходит до абсурда, пример — личность Жоржа, который перевязывает раны своему убийце, вместо того чтобы растоптать его и пр., мечтает о негрской цивилизации, об африканском государстве и т. д. Смерть юной Сен-Клер уподобляется смерти ангела, — к чему это? Я бы больше оплакивал ее, если бы она была обыкновенным ребенком. Образ матери преувеличен, несмотря на кажущиеся полутона, которые использовал автор; в момент смерти дочери ей не следует больше думать о своей мигрени. Но надо же было потешить публику, как сказал бы Руссо.
Впрочем, в книге встречаются красивые места — характер Галлея, сцена между сенатором и его женой, мистрис Офелией, внутренний вид жилища Легрю, тирада мисс Кюсси, — все это сделано хорошо. Поскольку Том — мистик, я хотел бы больше лиризма (возможно, что в нем было бы тогда, может быть, меньше правды); обращения матерей к их детям до бесконечности повторяются, так же как дневник г-на Сен-Клер, который появляется ежеминутно.
Меня все время раздражали авторские рассуждения; разве нужны какие-то рассуждения по поводу рабства? Покажите его — вот и все. В этом отношении. «Последний день осужденного» {Рассказ Виктора Гюго (1829).} всегда производил на меня сильное впечатление — ни одного рассуждения о смертной казни (предисловие, правда, бьет по книге, если можно так выразиться о книге); посмотри, разве в «Венецианском купце» выступают против лихоимства? Но драматическая форма тем и хороша, что она уничтожает автора. Не избежал этого недостатка и Бальзак — он остается легитимистом, католиком и аристократом.
Автор должен незримо присутствовать в своем произведении всюду, как бог во вселенной. Искусство — вторая природа, поэтому творец этой природы должен применять аналогичные приемы: в каждом атоме, в каждом образе надо чувствовать бесконечное и скрытое бесстрастие, и действие на зрителя должно быть ошеломляющим. Как же это сделано?— задает он вопрос, чувствуя себя подавленным неизвестно чем. Греческое искусство придерживалось именно такого принципа и, стремясь возможно скорее к нему приблизиться, выбирало персонажей, которые жили в исключительных социальных условиях — королей, богов, полубогов; автор не занимал вашего внимания своей особой, целью было — божественное...
Прощай. Уже поздно. Досадно, так как я настроен поболтать. Целую тебя тысячу раз. Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Круассе, четверг, час ночи [17 декабря 1852]
С субботы я пишу очень усердно, многоречиво и лирично. Быть может, получится отчаянная стряпня, тем хуже; в данный момент это меня забавляет, хотя бы и пришлось потом все вычеркнуть, как уже не раз случалось. Собираюсь описывать посещение кормилицы, к которой идут по одной тропинке, а возвращаются по другой; как видишь, вступаю в соперничество с автором «Посмертной книги», но думаю, что это сопоставление меня не затмит. Здесь немножко больше пахнет деревней, навозом, постелью, чем на страницах нашего друга. Всем парижанам природа представляется элегической и чистенькой; они не видят коровьего помета и крапивы, они любят природу, как любят ее заключенные, — глупой, детской любовью. Это сызмальства приобретается под деревьями Тюильрийского сада. Тут я вспоминаю кузину моего отца, которая, приехав к нам однажды погостить в Девиль (единственный раз, когда я ее видел), приходила от всего в восторг, вдыхала в себя воздух, всем любовалась. «Ах, кузен, доставьте мне удовольствие, положите в мой носовой платок немного навоза, я обожаю его запах!»— обратилась она ко мне. Но нам, тем, кто видит деревню постоянно, она давно надоела, мы уже раз навсегда узнали ее прелесть и тоску!
История с Роже де Бовуаром, о которой ты говоришь, — шарф, свешивающийся с коляски, и пр., — очень хороша. О, сюжетов сколько угодно!
Замечаешь ты, что я становлюсь моралистом? Не признак ли это старости? Но во мне явно рождается склонность к высокой комедии; иногда меня так и подмывает облаять род людской, и когда-нибудь я это сделаю, лет через десять, в длинном романе с широко задуманным планом; а пока я возвращаюсь к старой своей идее, к «Лексикону прописных истин» (ты знаешь, что это такое?). Особенно увлекает меня предисловие; а задумано оно так (предполагается целая книга), что никакой закон не сможет ко мне придраться, несмотря на то, что я решительно на все нападаю. Это произведение должно быть историческим прославлением всего общепринятого; я покажу, что большинство всегда право, а меньшинство ошибается. Великих людей я выставлю на посмешище глупцам, мучеников предам палачам и все это сделаю стилистически преувеличенно, осложненно. Так, в отношении литературы я установлю, — это нетрудно, — что посредственные произведения, как самые доступные, являются наиболее законными, а потому все оригинальное должно быть с позором изгнано, ибо оно опасно, нелепо и пр. Такая апология человеческой низости во всех ее проявлениях, от начала до конца ироническая и вопящая, пересыпанная цитатами, доказательствами (от противного) и страшными примерами (это сделать легко), имеет целью покончить со всякими эксцентричностями. Таким образом, я как бы воспринимаю современную демократическую идею о всеобщем равенстве и присоединяюсь к мнению Фурье, что великие люди бесполезны; с этой именно целью, сказал я, и написана книга. В ней, в алфавитном порядке, найдут все, о чем надо говорить в обществе, чтобы прослыть человеком благопристойным и любезным, причем затронуты будут самые разнообразные темы.
Там прочтут, например:
Художники — все бескорыстны.
Лангуста — самка омара.
Франция — нуждается в железной руке, которая бы ею управляла.
Боссюэ — орел из Мо.
Фенелон — камбрейский лебедь.
Негритянки — более пылки, чем белые женщины.
Эрекция (воздвижение) — говорится применительно к памятникам, и т. д.
Я думаю, что в общем будет очень здорово. Во всей книге не должно быть ни одного слова, выражающего мою собственную мысль, и надо, чтобы каждый, прочитавший ее, остерегался говорить из страха обязательно сказать какую-нибудь фразу, которая имеется там. Впрочем, некоторые понятия, например мужчина, женщина, друг, политика, нравы, магистратура, могли бы привести к великолепным выводам; можно было бы даже в нескольких строчках обрисовать известный тип и указать не только на то, что надо говорить, а и на то, чем надо казаться.
На днях прочел волшебные сказки Перро; очаровательно, очаровательно! Как тебе нравится такая фраза: «Комната была настолько мала, что не могла вместить шлейфа прекрасного платья». Не правда ли, это производит сильное впечатление, а? Или такая: «Короли съехались из всех стран; одни прибыли в портшезах, другие в кабриолетах, а самые дальние явились верхом на слонах, тиграх, орлах». И подумать только, что, пока существуют французы, Буало будет считаться более великим поэтом, чем этот человек.
Во Франции надо маскировать поэзию, ее здесь ненавидят, и из всех ее писателей, быть может, один лишь Ронсар походил на поэтов, какие были в древности и какие существуют в других странах.
Пожалуй, все, что относится к пластической форме, неоднократно уже описывалось и повторялось, — это выпало на долю прежних поэтов, нам же остался внешний облик человека, более сложный, но еще менее поддающийся условиям формы; вот почему мне кажется, что роман только еще нарождается, он ждет своего Гомера. Что за человек был бы Бальзак, если бы он умел писать! Это единственное, чего ему недоставало. Но художник, в сущности, не сделал бы того, что сделал он; не было бы такой полноты.
Ах, не Христос, не Вашингтон, не Сократ и не Вольтер нужны современному обществу, ему нужен Аристофан, хотя публика побила бы его камнями. Впрочем, зачем беспокоиться, вечно рассуждать, болтать? Будем писать, писать, не разводя теорий, не заботясь о составе красок, о размерах холста, о долговечности наших творений.
Сейчас отчаянный ветер, деревья и река ревут, а я как раз вечером описывал летнюю сценку с мошками, залитыми солнцем травами и пр. Чем больше контраста между обстановкой, в какой я нахожусь, и той, которую я описываю, тем лучше я ее вижу. Этот сильный ветер чарует меня весь вечер, он одновременно укачивает и оглушает. У меня до такой степени натянуты нервы, что, когда моя мать вошла в десять часов ко мне в кабинет проститься, я дико вскрикнул от ужаса, она даже сама испугалась. После этого у меня долго билось сердце, понадобилось не менее четверти часа, чтобы прийти в себя. Вот до какой степени меня поглощает работа. От неожиданности я почувствовал такую острую боль, точно сердце мое пронзили мечом. Что за жалкая машина наш организм! Ведь все случилось только потому, что милый человек отделывал фразу!
Эдма и Буйле все еще продолжают переписываться. Письма блещут рисовкой, поэзией. Его это занимает как бытовая картинка: но, в сущности, он был бы очень не прочь славно попировать с ней, как говорит маэстро Рабле. Но об этом ни слова. Нам кажется, что она не доверяет тебе, хотя ни словом не обмолвилась на этот счет. Их первое свидание будет очень забавным.
Поработай как следует над «Крестьянкой», посиди, покопайся в самой себе еще неделю, не спеши, просмотри все повнимательней, научись, дорогая моя дикарка, относиться к себе критически. Прощай, очень поздно, тысячу поцелуев, поправляйся. Твой, дорогая моя любовь.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Круассе, понедельник, 5 часов [27 декабря 1852]
Я сейчас в каком-то ужасе, и если пишу тебе, то лишь для того, быть может, чтобы не остаться наедине с самим собою, как зажигаешь ночью лампу, когда становится страшно.
Не знаю, поймешь ли ты меня, но это очень странно. Ты не читала книгу Бальзака, которая называется «Луи Ламбер»? Пять минут тому назад я ее кончил; она меня как громом поразила: это история человека, который сходит с ума от мыслей о неосязаемом. История эта вцепилась в меня тысячью щупальцев.
Ламбер — почти копия моего бедного Альфреда. Я нашел там чуть ли не дословное повторение наших разговоров (в свое время); беседы двух школьных товарищей — наши беседы или аналогичные им. Там есть рассуждения классного наставника и история с рукописью, украденной товарищами, которая случилась со мной, и т. п. Помнишь, я говорил тебе о (предполагаемом) метафизическом романе, в котором человек доходит до галлюцинаций оттого, что слишком много думал; он видит в конце концов призрак друга, который является, чтобы сделать вывод (идеальный, абсолютный) из предпосылок (светских, осязательных). Так вот здесь проводится эта идея, и весь роман «Луи Ламбер» служит предисловием к ней; в конце книги герой под влиянием какой-то мистической мании хочет оскопить себя.
Когда мне было девятнадцать лет, среди неприятностей парижской жизни у меня явилось такого же рода желание (я покажу тебе лавочку на улице Вивьен, перед которой я остановился однажды вечером, охваченный этой мыслью с непреодолимой силой) в то время, как я целых два года не встречался с женщинами. (В прошлом году, когда я высказал вам мысль о пострижении в монахи, во мне говорила та же старая закваска.) Бывают моменты, когда ощущаешь потребность испытать страдание, ненавидеть свою плоть, кидать в нее грязью, — настолько кажется она самому себе отвратительной.
Если бы не любовь к форме, я был бы, вероятно, великим мистиком; добавь к этому мои нервные припадки, которые являются лишь невольным отклонением от идей и образов, — вся моя психика тогда опрокидывается, и сознание исчезает вместе с ощущением жизни. Я несомненно знаю, что такое смерть. Я часто явно чувствовал, как покидает меня душа, точно кровь, вытекающая из раны. Из-за этой дьявольской книги мне всю ночь снился Альфред. В девять часов я проснулся и снова заснул. Тогда мне приснился замок Рош-Гюйон; он как будто находился позади Круассе, и я очень удивился, что впервые заметил это. Меня разбудили и подали твое письмо. Уж не письмо ли, путешествуя по дорогам в сумке почтальона, внушило мне издали мысль о Рош-Гюйоне? Оно несло с собой твой образ. Не «Луи Ламбер» ли призвал этой ночью Альфреда? (Месяцев восемь тому назад я видел во сне львов, и в тот самый момент, когда они мне снились, мимо моих окон шел пароход, на котором находился зверинец.) О, как сильно подчас ощущает человек близость безумия, я в особенности! Ты знаешь, какое влияние я оказываю на сумасшедших и как они меня любят? Уверяю тебя, что мне стало сейчас страшно, но когда я сел за стол, чтобы писать тебе, на меня успокоительно подействовал вид белой бумаги. Впрочем, с месяц как я нахожусь в каком-то странном состоянии восторженности или, вернее, вибрации; всякая идея вызывает во мне то удивительное ощущение, какое испытываешь в кончиках ногтей, когда проходишь мимо арфы.
Проклятая книга! Мне больно от нее, так я ее чувствую!
Еще сходство: мать показала мне (она открыла это вчера) в «Деревенском лекаре» Бальзака такую же сцену, как в моей «Бовари»: посещение кормилицы (я никогда не читал этой книги, так же как и «Луи Ламбера»). Те же детали, те же эффекты, тот же замысел; можно было бы подумать, что я у него списал, не будь моя страница, скажу не хвалясь, бесконечно лучше написана. Если бы все это знал Дю Кан, он сказал бы, что я сравниваю себя с Бальзаком, как и с Гёте. Когда-то мне было досадно, если находили, что я похож на того или другого и т. д.; теперь же хуже, это относится к моей душе, — я нахожу ее повсюду, все мне ее возвращает. Почему именно?
«Луи Ламбер», как и «Бовари», начинается с поступления в коллеж, есть даже одинаковые выражения, а уж поведанное там про школьные огорчения коллежа превосходит то, что описано в «Посмертной книге»!
Буйле не приходил вчера. Он лежал в постели с чиреем и прислал мне по этому поводу прелестные латинские стихи: я ответил на них письмом, написанным языком XVI века, чем весьма доволен.
Мне безразлично, пусть Гюго пересылает мне твои письма, если они будут отправлены из Лондона; но если из Джерсея, то будет, пожалуй, слишком ясно. Еще раз советую тебе не посылать рукописных заметок. Я сохраню твое письмо, чтобы показать его в воскресенье Буйле, если ты позволишь. Читаешь ты, наконец, «Золотого осла»? В конце недели отвечу тебе по поводу вариантов «Крестьянки»; смелей, дорогая Муза!
Я думаю, что «Бовари» пойдет, но меня стесняют метафоры, которые решительно преобладают во мне. Сравнения пожирают меня, точно вши; я только и делаю, что давлю; их, фразы так и кишат ими.
Прощай, целую тебя нежно, нежно.
Тысячу поцелуев. Твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Круассе, суббота, 3 часа [15 января 1853]
Первые дни недели я провел отвратительно, но, начиная с четверга, чувствую себя лучше. Мне осталось написать страниц шесть или восемь до конца эпизода; а затем я тебя навещу; думаю, это будет недели через две.
Буйле приедет, кажется, вместе со мной. Если он тебе редко пишет, то потому, что ему нечего сказать или у него нет времени. Ведь знаешь, бедняга восемь часов в день занят уроками.
На прошлой неделе я пять дней просидел над одной страницей и все забросил — греческий, английский, не мог заниматься ничем другим. Очень волнует меня, что в книге моей мало занимательного. Недостает действия, а я придерживаюсь того мнения, что идеи и являются действием. Правда, ими труднее заинтересовать, я знаю; но тут уж виноват стиль. На протяжении пятидесяти страниц нет ни одного события; развертывается непрерывная, картина мещанского существования и бездейственной любви, тем труднее поддающейся описанию, что это любовь робкая и в то же время глубокая; но, увы, она лишена внутреннего горения, ибо герой мой наделен весьма умеренным темпераментом. Уже в первой части моего романа имеется ряд аналогий: муж любит свою жену почти такой же любовью, что и любовник, оба они — посредственности, оба принадлежат к одной и той же среде, и тем не менее они должны отличаться друг от друга. Это картина, где краски наложены одна на другую, без резкой грани в оттенках (что труднее). Если я этого добьюсь, то получится, пожалуй, очень здорово. Но боюсь, что все эти тонкости наскучат читателю, который предпочитает видеть действие. Ничего не поделаешь, надо писать так, как задумано. Если бы я во имя системы ввел действие, я бы все испортил; каждый должен петь своим голосом, а мой голос никогда не будет ни драматическим, ни привлекательным. Впрочем, я убежден, что все зависит от стиля, или, вернее, от точки зрения.
Новость! Молодой Дю Кан — офицер Почетного легиона! Как, должно быть, он рад! Когда он сравнивает себя со мною и взирает на путь, пройденный им с тех пор, как он меня оставил, ему несомненно должно казаться, что он далеко опередил меня (внешне). Увидишь, в один прекрасный день он подцепит какое-нибудь место и бросит милейшую литературу. Все смешивается в его голове — женщины, ордена, искусство, сапоги, — все кружится на одном уровне, лишь бы это его продвигало — вот что важнее всего. Замечательная эпоха (любопытный символизм!) — как сказал бы папаша Мишле, — когда награждают орденами фотографов и изгоняют поэтов (ты представляешь себе, какое количество хороших картин надо написать, чтобы добиться офицерского ордена?). Из всех литераторов, получивших ордена, только один имеет звание командора — господин Скриб! Какая чудовищная ирония! И как изобилуют почести там, где не хватает чести!
Прощай, моя дорогая, свирепая старушка.
Весь твой Гюстав.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Воскресенье, 4 часа [27 марта 1853]
Пасха
Никаких известий по поводу «Акрополя»! А я ожидал их сегодня утром! Впрочем, положение вещей, поскольку мне известно, таково: в прошлый четверг я разыскал в Руане на таможне служащего там молодого Бодри (брата одного моего товарища, который живет в Версале). Он видел своего кузена Пилора, доктора, пользующего префекта, и передал ему поручение. Вышеупомянутый доктор охотно согласился исполнить его, но ответил, что, вероятно, префект ничего не сделает, ибо таков его обычай. Он никогда никого не рекомендует, чтобы ему не ответили тем же. Что это — увертка или действительно так? Я подбодрил усердие моего юноши, и он обещал, что Пилор, невзирая ни на что, нарочно отправится к префекту и попросит у него рекомендацию. Я должен был получить тот или иной ответ сегодня утром. Быть может, он получится завтра. Если ответ придет, я распечатаю свое письмо и сообщу тебе. В следующем письме ты получишь ответ великого человека (он действительно очарователен), раз ты настаиваешь. Но путешествия подобных бумаг совершенно излишни, такие вещи не должны надолго оставаться в твоих руках. Подумай немного об этом. Я полагаю также, что осторожнее получать его письма непосредственно из Лондона. Еще пять-шесть посланий — и одни марки наведут на след; письма распечатают и сцапают. Из Лондона же, наоборот, это слишком неопределенно, к счастью. Итак, я думаю, что ему следовало бы отправить письма туда. Ввиду того, что ты можешь посылать их в Лондон, то окажется двойной конверт. Самое письмо, идущее от него и адресованное мне, будет вложено в другой конверт и адресовано г-же Фармер, {Приятельница г-жи Флобер, которая жила в Лондоне; речь идет о переписке с В. Гюго, который находился в эмиграции.} которая распечатает его и переложит в новый конверт с моим адресом. Равным образом и ты будешь присылать мне твои письма; я их перешлю по адресу г-жи Фармер, а та, вынув их из конверта, в Лондоне опустит в ящик. Мне кажется, что при таком способе вам нечего будет опасаться. Понимаешь ли, мне это совершенно безразлично. Но для тебя может быть важно. Я предпочитаю прибегнуть к содействию г-жи Фармер, чем к кому бы то ни было другому. Откуда мы знаем, не станут ли болтать друзья учительницы? Я было подумал и о мисс Колье, но они знакомы с Ньюкерке. В разговоре может вырваться лишнее слово. Эти же славные люди, напротив, ни с кем не встречаются и всецело поглощены своей торговлей. Я в них уверен, насколько вообще можно быть в ком-нибудь уверенным. Вот передача книг мне кажется более сложной. Все посылки, отправленные почтой, вскрываются таможней, значит, надо ждать случая, чтобы передать их контрабандой, через верное лицо. Послать же их открыто, прямым путем, с написанным на посылке адресом, — значит простодушно обратить па себя внимание полиции. Вот, дорогая дикарка, мои политические соображения. Объясни ему хорошенько, каким путем должно идти письмо; нет ничего проще. Когда будет известно решение об «Акрополе»? Впрочем, ты, пожалуй, на правильном пути, и тебе удастся получить рекомендации через г-на Бешара и т. п. С нетерпением жду результатов.
Твои впечатления от моих «Путевых заметок», дорогая Муза, наводят меня на странные размышления по поводу мужского и женского сердца; очевидно, это не одно и то же, что бы ни говорили.
Мы, если не чутки, то откровенны, и тем не менее неправы, потому что откровенность наша жестока. Не опиши я своих впечатлений, касающихся женщин, ты не сочла бы себя оскорбленной! Женщины таят все про себя; у них ни за что не вытянешь полного признания; самое большое, если они дадут возможность угадать, а когда они что-нибудь рассказывают, то преподносят это под таким соусом, что до жаркого и не доберешься. Зато две-три несчастных измены с нашей стороны, в которых и сердце-то не при чем, и вот их душа уже страдает. Странно! Странно!..
Ломаю себе голову, чтобы понять все это, а между тем я уже достаточно пораздумал над такого рода вещами за свою жизнь. Наконец (тут я обращаюсь к твоему разуму, дорогая, милая женушка), к чему эта монополия чувств? Ты ревнуешь к песку, по которому ступали мои ноги, хотя ни одна крупинка его не проникла в мою кожу, между тем как у меня на сердце широкая зарубка, сделанная тобою. Тебе хочется, чтобы перо мое чаще выводило твое имя. Но заметь, я не записал ни одной мысли. Я формулировал лишь совершенно кратко самое необходимое, то есть ощущение, а не мечту или мысль. Так вот успокойся, я часто думал о тебе, часто, очень часто. Если перед отъездом я не пришел проститься с тобой, то лишь потому, что сердце мое было переполнено! У меня осталась после тебя большая горечь; ты меня сильно раздражала; я предпочел не видеть тебя больше, хотя мне не раз этого очень хотелось. Плоть призывала меня, а нервы удерживали; нежность, исходившая из всего этого, не нуждалась в излияниях, ибо она питалась воспоминаниями. Я дал себе слово воздержаться от общения с тобой оттого, что мною овладели слишком бурные, несовместимые между собой чувства в отношении тебя. Борьба была слишком яростной. Я бежал с поля битвы, вернее, запер все на ключ, чтобы больше не слышать ни о чем, и лишь изредка поглядывал на твой дорогой образ, на твое красивое, ласковое лицо, через приоткрытое окошечко моего сердца. К тому же я всегда ненавидел все торжественное. Таким было бы наше прощание. Я суеверен на этот счет. Если бы мне пришлось идти на дуэль, я перед уходом ни за что не стал бы писать завещания; всякие серьезные поступки такого рода приносят несчастье. Кроме того, от них пахнет театральностью. Мне было бы страшно и неприятно. Итак, покинув мать, я тотчас же преобразился в путешественника. Все осталось позади. Я уехал. Затем в Париже за четыре-пять дней я измотался, как матрос. А когда Франция скрылась из моих глаз за Гиерскими островами, я был меньше растроган и задумчив, чем палуба уносившего меня парохода. Вот психология моего отъезда. Я не оправдываю ее, я ее объясняю.
Что касается Рушиук-Ханем, ах! успокойся и измени свое представление о Востоке. Будь уверена, она ничего не испытала в области моральной, за это я могу поручиться, и весьма сомневаюсь насчет стороны физической. Она сочла нас очень хорошими каваджа (господами), ведь мы оставили немало пиастров — вот и все. Вещь Буйле прекрасна, но это только поэзия; восточная женщина — машина и больше ничего, она ничем не отличает одного мужчину от другого. Курить, ходить в баню, подводить глаза и пить кофе — вот и весь круг ее деятельности.
Физическое же наслаждение должно быть очень слабым, так как им в раннем возрасте удаляют пресловутый орган, являющийся местопребыванием такового. И особенно поэтичной с известной точки зрения восточная женщина становится именно потому, что она всецело сливается с природой.
Я видел танцовщиц, чье тело раскачивалось то равномерно, то бурно, но бесстрастно, как пальма. Глаза, полные глубины, переливающие красками, точно море, выражают одно лишь спокойствие, спокойствие и пустоту, точно пустыня. И мужчины таковы же. Какие восхитительные головы! Кажется, будто они полны величайших в мире мыслей. А дотронься — и ничего не найдешь, как в кружке из-под пива или в пустом склепе. Откуда же берется, чем объясняется величие их форм? Быть может, отсутствием всякой страсти. То красота быка, пережевывающего жвачку, красота бегущей борзой, парящего орла; их переполняет сознание неумолимости рока. Убеждение в ничтожности человека придает их действиям, позам и взглядам характер величия и покорности судьбе. Свободная одежда поддается всякому движению и всегда находится в соответствии с функциями данного индивидуума, цветом соответствует небу и т. д. А потом солнце, солнце! И всепожирающая, необъятная тоска. Вот что я постараюсь выдвинуть на первый план, когда начну писать восточные стихи (ибо я тоже буду писать стихи, поскольку они в моде и все их пишут). До сих пор Восток представлялся чем-то сверкающим, резким, завывающим, страстным. В нем видели только баядерок и кривые сабли. Фанатизм, сладострастие и т. д., словом, дальше Байрона не пошли. Я иначе чувствую Восток. Мне нравится в нем неосознанное величие, гармония несвязных явлений. Я помню банщика, у которого на левой руке был серебряный браслет, а на правой — нарывной пластырь. Вот настоящий и, следовательно, поэтический Восток — нищие в лохмотьях и позументах, кишащие паразитами. Оставьте паразитов, они сверкают на солнце, точно золотой узор. Ты говоришь, что Рушиук-Ханем теряет в твоих глазах из-за клопов, а меня они восхищали. Их отвратительный запах смешивался с ароматом ее кожи, по которой струился сандал.
Пусть во всем будет капля горечи, пусть во время наших триумфов раздается вечное шиканье и самый энтузиазм будет проникнут отчаянием. Я вспоминаю Яффу, где сразу по прибытии мне ударил в нос трупный запах и запах лимонных деревьев; на кладбище виднелись полуистлевшие скелеты, а над нашими головами, на зеленых деревьях, качались золотые плоды. Разве ты не чувствуешь, что это и есть совершенная поэзия, великий синтез? Это сразу удовлетворяет все потребности воображения и мысли, все охватывает; но люди со вкусом, любители приукрасить, подчистить, любители иллюзий, люди, которые составляют руководства по анатомии специально для дам, занимаются всем доступной наукой, кокетливыми чувствами и приятным искусством, переделывают, подчищают, возвышают — и воображают себя, несчастные, классиками!
Ах, как бы я хотел быть ученым! Какую прекрасную книгу написал бы я, озаглавив ее «Об истолковании античного мира». Ибо я уверен, что следую традиции, дополняя ее пониманием современности. Но, повторяю, поэтам древности незнаком пресловутый благородный жанр, для них не существует ничего такого, о чем нельзя сказать. У Аристофана на сцене отправляют естественные потребности. В софокловском «Аяксе» кровь зарезанных животных струится у ног плачущего Аякса; а как подумаешь, что Расина считали смелым за то, что он ввел на сцену псов! Правда, он облагородил их, добавив лютые!..
Итак, постараемся смотреть на вещи просто и не будем пытаться стать умнее господа-бога. Когда-то считали, что только сахарный тростник дает сахар, а теперь его добывают почти отовсюду. То же самое и с поэзией; будем извлекать ее откуда бы то ни было, ибо она во всем и везде. Нет атома материи, который не содержал бы поэзии; приучим себя рассматривать мир, как произведение искусства, в котором надо отразить все мировые явления.
Возвращаюсь к Рушиук. Мы-то о ней думаем, а вот она о нас совершенно не думает. Мы разводим на ее счет эстетику, между тем как она и не вспоминает о пресловутом интересном путешественнике, на долю которого, как и многих других, выпала честь разделить с нею ложе. Ах, путешествие учит скромности; убеждаешься, как мало места занимаешь ты во вселенной.
Еще одно маленькое замечание по поводу женщин (восточных женщин), прежде чем перейти к другой теме. Женщина — создание мужчины. Бог сотворил самку, мужчина создал женщину; она — результат цивилизации, искусственный продукт. В странах с низкой интеллектуальной культурой женщины не существует, ибо в смысле общечеловеческом она — произведение искусства; не потому ли все главнейшие великие идеи символически изображаются в женском роде? Что за женщина была греческая куртизанка! Но каково же было и греческое искусство! Разделять наслаждение какого-нибудь Платона или Фидия, вполне удовлетворяя их, могло только существо возвышенное.
Но ты, ты не женщина, и если я больше и глубже других любил тебя (постарайся понять это слово глубже), то потому, что ты, казалось мне, менее женщина, чем другие. Виною всех наших разногласий было именно женское начало. Подумай над этим, увидишь, ошибаюсь ли я. Мне хочется, сохранив каждому из нас его тело, иметь с тобой одну душу. От тебя, как от женщины, мне нужно только твое тело. Пусть все остальное будет от меня, вернее, пусть оно будет мною, мне подобно, моей сущностью. Понимаешь, это, по-моему, не любовь, а нечто высшее, потому что в этом желании души заключается самая потребность жить, стать шире и возвышеннее. Во всяком чувстве есть известная широта, вот почему свобода — благороднейший из порывов.
Перечитываем Ронсара и все больше и больше восхищаемся им. Через несколько дней мы подготовим его для печати; это идея Буйле, и она очень мне улыбается. В полном собрании стихотворений Ронсара найдется сто, тысяча, сотня тысяч стихов, которые надо сделать общим достоянием; к тому же у меня потребность читать и перечитывать Ронсара в хорошем издании. Я напишу к нему предисловие. Это предисловие вместе с предисловием к «Меленис» и китайской сказке, объединенными в один том, а также предисловие к моему «Лексикону прописных истин» дадут мне возможность выболтать почти все критические мысли, которые лежат на моей совести. Это принесет мне пользу и помешает хвататься за всякий повод, чтобы начать полемику. В предисловии к Ронсару я расскажу историю поэтического чувства во Франции, изложив, что подразумевают у нас под этим понятием, в какой мере мы нуждаемся в поэзии, как в разменной монете.
У французов нет никакого воображения: если хочешь, чтобы поэтическое произведение было воспринято, надо очень ловко его замаскировать. Потом, в предисловии к книге Буйле, я снова вернусь к этой мысли, вернее, буду продолжать развивать ее и докажу, насколько эпическая поэма является возможной, если автор освободится от всякого преднамеренного замысла создать ее. В заключение я выскажу несколько соображений относительно литературы будущего.
«Бовари» подвигается туго; за целую неделю — две страницы!!! Есть за что набить самому себе морду, если можно так выразиться. Ах, я добьюсь, добьюсь, но дело это трудное! Какой выйдет книга, не знаю, но ручаюсь, что напишу ее, если только не набрел на совершенно ложный путь, а это возможно.
Много мучений доставляют мне некоторые главы из-за сюжета, как всегда. Иногда попадаются такие тонкости, что мне самому трудно в них разобраться. Но эти-то идеи именно и надо отделать наиболее четко; а потом — передать пошлость точно и в то же время просто, — ведь это ужас!
Обдумай хорошенько план своей драмы, все дело в замысле; если план будет хорош, я ручаюсь за остальное, потому что так отравлю тебе существование, что стихи волей-неволей будут хороши, да еще к тому же все.
Прочел сегодня несколько отрывков из комедии Ожье. {«Филиберт».} Что за антипоэт! К чему выражать подобные идеи стихами? Какое фальшивое искусство! Какое отсутствие истинной формы в этой чисто внешней форме! Ах, все дело в том, что эти молодчики придерживаются старого сравнения: форма — это плащ. Нет, форма — плоть мысли, как мысль — душа жизни; чем шире мускулы груди, тем легче дышится.
Будь любезна, пришли нам к будущей субботе том Леконта, {Леконт де Лиль, «Античные поэмы», 1852 г.} мы прочтем его в воскресенье. К этому человеку я питаю симпатию. Существуют все-таки еще честные люди! Люди с убеждениями! А все дело именно в этом, в убеждениях. Если бы современная литература была хоть немного нравственной, она стала бы более ценной; исчезли бы плагиаты, подражание, невежество, чрезмерные претензии; критика была бы полезной, а искусство наивным, ибо оно стало бы потребностью, а не спекуляцией.
Ты кажешься мне грустной, усталой, полной уныния, бедняжка моя. О! Жизнь — тяжкое бремя для тех, у кого есть крылья; и чем крылья шире, тем тягостнее развернуть их во весь размах. Чижики в клетке радостно прыгают, а у орлов мрачный вид, потому что они ломают крылья о решетку. А ведь мы все в известной мере подобны орлам или чижикам, попугаям или ястребам.
Душа измеряется совокупностью ее страданий, как измеряют глубину рек по их течению. Все это лишь слова; сравнение — не доказательство, знаю. Но чем же успокоить себя, если не словами? А ты ободрись, подумай, какие ты сделала удивительные успехи, как изменилась форма твоего стиха, который зачастую становится полнозвучным и величественным. Ты в нынешнем году написала очень хорошую и цельную вещь — «Крестьянку» и другую необыкновенной красоты вещь — «Акрополь». Обдумай свою драму. Я предчувствую, что она будет удачна. Ее поставят, и ей будут аплодировать, увидишь. Иди своим путем, не оглядываясь назад и не заглядывая вперед. Дроби камни, как рабочий, со склоненной головой, с бьющимся сердцем, и все время, без конца! Если остановишься, то невероятная усталость, головокружение и упадок духа сведут тебя в могилу. В будущем году мы оба будем располагать досугом и проведем его в приятных беседах и бесконечных ласках.
Чем труднее мне писать, тем больше растет во мне смелость (это и предохраняет меня от педантизма, в который я несомненно впал бы); у меня столько планов произведений, что хватит до конца моей жизни, и если бывают горькие минуты, когда я готов чуть ли не кричать от ярости, чувствуя свое бессилие и слабость, зато есть и другие, когда я с трудом могу сдержать радость; меня переполняет тогда нечто глубокое, сверхсладострастное, оно бьет стремительным фонтаном, точно извергаясь из души. Я в упоении, я опьянен собственной мыслью, как будто внутри меня открылась отдушина и оттуда пахнуло теплым ароматом. Я никогда далеко не пойду, я знаю, чего мне недостает, а задачу, которую я поставил перед собою, выполнит другой; я направлю по этому пути кого-нибудь более одаренного, с врожденными задатками. Желание придать прозе ритм стиха (оставляя прозу прозой) и описать обыденную жизнь, как пишут историю или эпопею (не извращая сюжета), — быть может, абсурд, а может быть, — великое и очень оригинальное задание! Вот вопрос, который я иногда задаю себе. Я прекрасно чувствую свои недостатки. (Ах, будь мне пятнадцать лет!) Пустяки, мое упорство все-таки чего-нибудь да стоит, а затем, как знать? Быть может, я найду когда-нибудь хороший мотив, песнь вполне по своему голосу — ни ниже, ни выше; наконец, у меня останется сознание, что я прожил жизнь благородно, а подчас бывали и восхитительные минуты.
У Лабрюйера есть изречение, я всегда придерживаюсь его: «Хороший писатель должен писать здраво». Этого я именно и добиваюсь — писать здраво, и тут уже очень много честолюбия. При всем том, как ни грустно, великие люди легко добиваются эффекта помимо всякого искусства; что может быть построено хуже многих произведений Рабле, Сервантеса, Мольера или Гюго! Но что за внезапный размах! Какая мощь в одном только слове! Нашему брату приходится нагромождать целую кучу маленьких камешков, чтобы построить пирамиду, составляющую сотую часть их пирамиды, сооруженной из цельной глыбы. Но подражать приемам этих людей, значит — потерять самого себя; они потому и велики, что у них нет никаких приемов. У Гюго их много, и это умаляет его значение, он однообразен, он уходит ввысь, а не вширь.
Как я разболтался сегодня! Надо, однако, остановиться; притом же боюсь надоесть тебе досмерти, я, кажется, все время повторяю одно и то же (я тоже однообразен); но о чем же и говорить, как не о дорогих сердцу тревогах?
Ты пишешь о летучих мышах в Египте, сквозь серые крылья которых просвечивает небесная лазурь. Будем же делать так, как делал я: сквозь ужасы существования созерцать глубокую синеву поэзии, которая неизменно остается на месте, в то время как все меняется, все проходит.
Ты начинаешь убеждаться в том, что англичанка несколько пуста. Да, кажется, в ней больше светского тщеславия, нежели чего-либо другого. К тому же мне не нравятся поэтические люди, а нравятся люди-поэты. И потом еврейский язык, греческий, эти стихи на двух языках, слишком много всего. Общая ошибка нашего века: многословие. Мелкие ручейки, вышедшие из берегов, мнят себя океанами. Для этого им недостает лишь одного — размеров. Останемся же речками и будем приводить в движение мельницы. Нет, тот, о ком ты говоришь, не Вильмен из Египта. Мой — из Страсбурга; он очень бледен и худощав. Кодрика — консул в Манилле. Что писали о нем в «Прессе»? Этот малый глубоко запечатлелся в моей памяти благодаря своей нервозности. Полагаю, что у него чрезмерно развита страстность. Ввиду того, что у меня такие чувства умеренны (несмотря на мой громадный затылок), это всегда сильно действует на меня. Как знать? Быть может, они у меня вообще отсутствуют. Я когда-то так отбрыкивался от своих страстей, что они присмирели. Я боялся их. Поэтому был жесток в отношении их. Казалось, нужно сказать тебе еще тысячу разных вещей: думаю, и ничего не приходит в голову. Ах, да, ты просишь вернуть тебе «Призраки»; они, вероятно, на столе или в ящике, рядом с тем, куда я прячу твои письма, но на поиски уйдет немало времени. Если их у тебя нет, я уверен, что найду их, так как никогда ничего не сжигаю.
Прощай. Тысячу горячих поцелуев.
Твой, всецело твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
Круассе, среда, полночь [6 апреля 1853]
Вот уже три дня, как я валяюсь по всем диванам в самых разнообразных позах, придумывая, что писать! Бывают жестокие минуты, когда нить обрывается и кажется, будто вся катушка размоталась. Нынче вечером начал все же понемногу разбираться, но времени ушло немало! Как медленно я подвигаюсь! Поймут ли когда-нибудь, сколько сложных комбинаций потребовала от меня эта простая книга? Какой же механизм заключает в себе простота, и как много нужно уловок, чтобы быть правдивым! Знаешь ли, дорогая Муза, сколько я написал страниц после нового года? Тридцать девять. А с тех пор как расстался с тобой — двадцать две. Мне бы очень хотелось закончить, наконец, до переезда дьявольское место, над которым я работаю с самого сентября месяца. Это будет конец первой половины второй части; осталось страниц около пятнадцати. Ах, как ты мне нужна; мне не терпится скорей подойти к развязке, ведь она в конечном счете может привести к развязке и в моей личной жизни. Я хотел бы чаще видеть тебя, быть с тобой; частенько я трачу время на мечты о парижской квартире, о том, как буду читать тебе там «Бовари», о вечерах, какие мы проведем вместе. В этом и кроется причина, почему я продолжаю работать, не теряя ни минуты, и с терпеливым рвением спешу окончить. Моя медлительность происходит оттого, что в книге нет ничего моего, личного; никогда еще собственное «я» не было мне до такой степени бесполезно. Быть может, впоследствии я сумею писать более сильные вещи (надеюсь)' но мне трудно себе представить, чтобы я мог сочинить нечто более искусное: все здесь от головы; если даже в результате получится неудача, то во всяком случае это хорошее упражнение. То, что для меня естественно — необычайное, фантастическое, метафизическое завывание, — то неестественно для других. «Святой Антоний» не потребовал от меня и четвертой доли того умственного напряжения, какого стоит мне «Бовари»; он был настоящим резервуаром, писать его доставляло мне одно лишь удовольствие, и те полтора года, что я провел над этими пятьюстами страницами, были в моей жизни самым сладостным моментом. Суди сама, я ежеминутно должен влезать в шкуру несимпатичных мне людей. Вот уже полгода, как я описываю платоническую любовь, а сейчас я, как истый католик, прихожу в экстаз от колокольного звона, и у меня является желание пойти исповедаться!
Ты спрашиваешь, где я буду жить? Понятия не имею. Я на этот счет очень требователен. Все зависит от случая, от помещения. Но ниже улицы Риволи и выше бульвара я жить не буду. Я придаю большое значение солнцу, красоте улицы и ширине лестницы. Постараюсь поселиться поближе к тебе и Буйле; он окончательно уезжает в сентябре и будет писать свою драму в Париже, так что я не могу дать тебе определенного ответа по этому поводу. Мне хорошо известны лишь те улицы и районы, которые мне не подходят, вот и все. Вчера я получил «Посмертную книгу» с надписью «В память дружбы». Я тотчас же ответил Дю Кану коротко, чтобы поблагодарить, и сказал, что воздерживаюсь от суждения о ней, ибо боюсь, как бы он не понял превратно мою мысль, так как я не могу в нескольких строках дать ему ясно понять мое мнение; личный разговор был бы удобнее. Таким образом, я ответил ему любезностью на любезность, не компрометируя себя и не прибегая ко лжи. Если он захочет услышать мое мнение и попросит об этом, я выскажу ему прямо и откровенно, даю тебе слово, но он-то не пойдет на риск.
Читала ты последний номер «Обозрения»? Там есть его заметка, которая стоит пятидесяти франков, как сказал бы Рабле. «Парижское обозрение» уподобляется солнцу. Это просто безумие! А внизу «Посмертной книги» на титульном листе написано: «автор оставляет за собою право перевода этого труда на все языки». Имеется также гнусная статья Ипполита Кастиля о Гизо! Не зная, чем уязвить Гизо, Кастиль упрекает его за то, что тот ходит пешком по улицам Лондона. Он называет его пачкуном. Это настолько же глупо, как и подло. Хорошенькое занятие! А стихи г-на Надо! Ах! какая умственная и моральная мерзость!
Прочел Леконта; нравится мне этот молодчик да и только, большой силы поэт, — поэт чистой воды. Чтобы развить его предисловие, потребовалась бы сотня страниц, но замысел его ошибочен. Не возвращаться надо к античному, а пользоваться его приемами. Что все мы, со времен Софокла, татуированные дикари — возможно; но в искусстве, кроме прямых линий и гладкой поверхности, найдется и нечто другое. Пластичность стиля не так всеобъемлюща, как идея во всей ее полноте я прекрасно это знаю. Но кто же виноват? Язык. У нас обилие предметов и недостаток в формах. Вот почему на долю добросовестных людей выпадает столько мучений. Тем не менее надо все принимать и все издавать, а главное, искать точку опоры в настоящем. Поэтому-то я и считаю «Ископаемых» Буйле очень сильным произведением. Он идет по пути поэзии будущего. Литература будет все более и более приближаться к науке, главное — она станет наглядной, что отнюдь не значит — дидактической. Надо писать картины, показывать природу такой, какова она в действительности, но картины исчерпывающие, в них надо показать и лицо и изнанку.
В предисловии к книге Леконта — отборная брань по адресу современных писателей, а в тексте имеются два великолепных стихотворения (если не обращать внимания на недочеты): «Dies irae» и «Полдень». Леконт знает, что такое хороший стих, но его хороший стих рассеян, ткань редка, композиция недостаточно сжата; больше воспарений в область разума, чем последовательности и глубины. Он скорее идеалист, чем философ, скорее поэт, чем художник; но он настоящий поэт и притом благородный. Недостаток его в том, что он не очень основательно изучил французский язык, он не знает, как огромно его орудие, сколько в нем возможностей. Он мало читал классиков на родном языке, ему не хватает стремительности и четкости, уменья показать, нет выпуклости, самые краски какого-то серого оттенка. Но сколько величия! Сколько величия! А главное — вдохновения! Очень хорош его ведийский гимн «Сурия». Сколько Леконту лет?
Говорят, Ламартин при смерти: вот уж нисколько о нем не жалею (у него нет ни одного произведения, которое можно сравнить с «Полднем» Леконта). Нет, я не питаю ни малейшей симпатии к этому писателю без ритма, к этому государственному деятелю без инициативы. Вот кому обязаны мы наводящей зеленую тоску чахоточной лирикой, вот кого можем мы благодарить за Империю: у него тяготение к посредственности, он это любит.
Буйле послал ему «Меленис», и приблизительно в то же время один из его (Буйле) учеников направил ему том отвратительных стихов, тупых, полных просодических ошибок, но восхваляющих вышеупомянутого великого человека; тот написал этому мальчишке великолепное письмо, а Буйле ни слова. Видишь, что он сделал для твоего номера! И человек, который сравнивает Фенелона с Гомером и не любит стихов Лафонтена, считается литератором! Ламартин не оставит после себя и полутома разрозненных стихотворений: у него вялый ум, он страдает бессилием, он всегда мочился лишь светлой водичкой.
Несмотря на удовольствие, какое доставила мне книжка Леконта, я колебался, писать ли ему. Так приятно встретить человека, любящего Искусство ради самого Искусства. Но я подумал: к чему? Всегда ведь оказываешься жертвой своих добрых порывов; к тому же я не вполне разделяю теоретические взгляды Леконта, хотя они и выражают в преувеличенном виде мои собственные идеи. То же и с папашей Гюго; я не решился писать ему о пустяках только по необходимости. Он представляется мне в отдалении таким прекрасным. В конце своего письма он приписал свой адрес; не означает ли это — «пишите мне, я буду рад»? В благодарность я ударился бы лишь в напыщенный стиль. Доставь мне удовольствие: когда будешь ему писать, передай, что я весь к его услугам и т. д., пусть он свои письма посылает в Лондон. Я не уверен, что оно пришло из Д. Я потерял конверт, но, кажется, да.
Прощай, моя хорошая, дорогая, любимая Муза. Тысячу нежностей, ласк и любви. Целую все твое тело, покойной ночи.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Среда, половина первого ночи
[13—14 апреля 1853]
Как я рад, что твоя «Крестьянка», наконец, вышла в свет! Увидишь, какой будет успех; я всегда говорил, что у нее для этого все данные: это вещь. Вперед, Муза, с высоко поднятой головой! Смотри, как хорошо, что ты вычеркнула всю излишнюю лирику. Так, например, напыщенная тирада против войны: «Для солдата в вас слишком много жизни», помешала бы Перротену умилиться и возмутила бы его воинский дух, а между тем никогда не следует входить в противоречие с человеческой сущностью, надо, напротив, по возможности выявлять ее. Не будем ничего бранить, будем все воспевать, будем излагать, а не спорить.
Ну а выражение «окрашивал свинцом», которое Вильмен находит оригинальным, я нахожу слишком оригинальным, настолько оригинальным, что это вообще не по-французски, что бы он ни говорил. Будь он художник, а не критик, он, пожалуй, не нашел бы, что солнце, падая на белое, дает свинцовую окраску, то есть нечто более тусклое, нежели само белое без солнца. Свинцовая окраска может, по-моему, быть применена к водам Нила, к воде густо-синего цвета, темной, оттенок которой проясняется от чрезмерного света. Тут на поверхности может появиться как бы свинцовая глазурь, это правильно. Короче говоря, там свинцовый оттенок неуместен. Я это говорил и остаюсь при своем мнении, хоть режьте меня.
Оставь же свои стихи, как они есть! «Все бабье...» и пр. Нет беды в том, что это похоже на Беранже. Они по тону подходят к отрывку, в котором помещены, а это главное: деталь должна соответствовать целому. Твоя поправка «голова его пылала» нехороша, ибо пылала у него вовсе не голова. Впрочем, стих:
Гро-Пьера волновало все бабье, —
гораздо лучше рифмован, великолепен, оставь его. Странно, почему иногда на твой здравый рассудок находит вдруг какое-то ослепление! Так что
И опьянение в нем возбудило жажду... —
слишком заурядно, хотя ты утверждаешь, что это дает образ. Неужели ты не замечаешь, какая пошлая фраза, какое общее место: «жажда, которую возбуждает опьянение». Жажда, которую возбуждает, — избитая метафора, и в сущности даже не метафора! Опьянение возбуждает жажду? Нет, нет, тысячу раз нет! Святая Муза, ну и чудачка же ты! Оставь же свой стих совершенно простым, без претензий, полным скрытой сладострастной остроты! «Желал бы он там постоянно быть». Мне кажется только, что «желал он постоянно там бывать» было бы красивее. Впрочем, это совсем неважно.
Нет, тебе нечего так меня благодарить. При умении пользоваться своими данными, ты могла бы писать чудесные вещи. Ты — девственная натура, и твои высокие деревья загромождены кустарниками. Например, в той же «Крестьянке» нет ни одного мотива, подсказанного мною. Как же случилось, что я раскрыл в ней так много новых эффектных мест? Да просто оттого, что я расчистил все, мешавшее видеть их. Я-то их видел: они имелись налицо. Сила произведения достигается, грубо выражаясь, напористостью, то есть неослабевающей, проявляемой от начала до конца энергией.
Это именно и хотел сказать Вильмен, говоря, что твои стихи принадлежат не женскому перу. Ах! послушай, доверься мне, и я клянусь, что в твоей драме не найдется ни единого слабого полустишия, и наш стиль повергнет в изумление всех этих мужчин, которые еще не доросли до подобных вещей. Даже предположив, что обладаешь от природы хотя бы только посредственным дарованием (имея к тому же в виду способность суждения), нельзя допустить, что в конечном счете не достигнешь хороших результатов с помощью работы, времени, страсти, всяческих жертв. Полноте! это слишком глупо! Литература (как мы ее понимаем) была бы в таком случае занятием для глупцов. Это все равно, что ласкать чурбан или высиживать булыжники. Ибо, когда работают по-нашему, или по крайней мере по-моему, то не имеют никакой поддержки, да, никакой, то есть никакой надежды на заработок, никакой надежды на славу, даже на бессмертие (хотя следовало бы верить в него, чтобы его достичь, я знаю). Но проблески надежды слишком омрачают впоследствии, и я воздерживаюсь от них. Нет, меня поддерживает лишь убеждение, что я прав; а коль скоро я прав, значит, я делаю доброе дело, выполняю долг, поступаю справедливо. Разве я выбирал? Разве моя в том вина? Кто меня толкал на это? Разве я не был жестоко наказан за свою борьбу с этим увлечением? Значит, надо писать, как чувствуешь, быть уверенным, что чувствуешь правильно, и наплевать на все остальное на земле.
Полно, Муза, питай надежды. Ты еще не завершила своего пути. Знаешь, я люблю называть тебя Музой, именем, в котором для меня сливаются две идеи. Это как у Гюго (в письме): «Солнце мне улыбается, и я улыбаюсь солнцу». Поэзия заставляет меня думать о тебе, а ты сама — о поэзии.
Я провел добрых полдня в мечтах о тебе и твоей «Крестьянке». Уверенность, что при моем участии вещь почти хорошая стала прекрасной, порадовала меня. Я много думал о том, что ты создашь. Прислушайся хорошенько к моим словам и подумай над ними: в тебе два дарования — драматическое искусство не театрального характера, а чувство переживания, что стоит выше, и инстинктивное понимание колорита, яркости (оно не всякому дано). Оба эти качества были и сейчас находятся в плену двух недостатков; одним из них тебя наградили, а другой присущ твоему полу. Первый — философичность, изречения, политическая, социальная, демократическая и прочая бутада, вся эта оскалина, исходящая от Вольтера и от которой сам папаша Гюго не может отрешиться. Вторая слабая сторона — неопределенность, женская мания нежности. Нельзя при достигнутом тобою совершенстве, чтобы белье пахло молоком. Срежь же монтаньярскую бородавку и спрячь, стяни груди, чтобы видны были мускулы, а не железы. Все твои произведения по сие время, наподобие Мелюзины, полуженщины и полузмея, были прекрасны лишь до определенного места, а остальное плелось вялыми извилинами. Как хорошо, моя милая Муза, говорить друг другу все, что думаешь, не правда ли? О, как хорошо иметь тебя, ибо ты единственная женщина, которой мужчина может писать подобные вещи.
Наконец-то я начинаю разбираться в проклятом диалоге со священником; но, говоря откровенно, бывают минуты, когда меня почти физически тошнит от всей этой пошлости. Я хочу показать следующую ситуацию: моя бабенка охвачена религиозным пылом, она отправляется в церковь и встречает у входа священника. Между ними происходит диалог (на неопределенную тему), во время которого священник обнаруживает столько глупости, пошлости, недомыслия и грязи, что она уходит с отвращением, утратив всякую веру. Мой священник очень порядочный, даже превосходный человек, но он озабочен исключительно физической стороной жизни — страданиями бедняков, недостатком хлеба или дров и неспособен угадать моральную слабость, смутный мистический порыв; он весьма целомудрен и исполняет все свои обязанности. Это должно занять не более шести-семи страниц, никаких рассуждений, никакого анализа (только непосредственный диалог); а так как, по-моему, очень здорово получается, если заменить в диалоге всякие «он сказал, он ответил» черточками, то ты можешь судить, как трудно мне избежать повторений. Теперь ты понимаешь, сколько мучений доставили мне последние полмесяца. Надеюсь все же к концу будущей недели отделаться от него окончательно, а затем останется страниц десять (два значительных эпизода), и я закончу первую половину второй части. Адюльтер созрел — мои герои могут предаться ему, и я сам также, надеюсь. Почему ты посылаешь мне записки г-жи Дидье? В них нет ничего интересного.
Актриса Лагранж из «Итальянского театра», о которой она говорит, — внучка некоего г-на Бордье из Руана, пациента моего отца. Лет шесть-семь тому назад моя мать слышала ее пение в одном из руанских салонов. Затем она пошла на сцену, но не имела успеха; впрочем, она в то время была в интересном положении. Кто же эта дама из Руана, с кем ты встретилась у Шеронов несколько недель тому назад?
С каким нетерпением я ожидаю результатов конкурса! Полагаю, что статьи Ипполита Кастиля оплачиваются заинтересованными лицами. За этим, очевидно, скрывается какая-нибудь гнусная коммерческая сделка. Недурная литература!
В последнем номере «Атенеума» помещена статья Дюфаи, ругающая «Эмали и камеи». Эти идиоты в своем порицании плохого доходят до такой нелепости, что в конце концов заставят одобрить и то, что находишь плохим. Но эта статья, вероятно, является косвенным ответом на заметку нашего приятеля. Ах! до чего все это интересно, поучительно, высоконравственно! В сущности, какая глупая выдумка печать! Прощай, дорогая, любимая Муза.
С тысячью поцелуев твой
Г.
Одобряю идею Пеллетана печатать сначала без имени автора. Но заголовок «Поэма женщины» несколько претенциозен для столь энергичной вещи. Он отдает фурьеристской школой и т. д. Постарайся по возможности обойтись без этого. У меня имеется портрет, о котором ты говоришь.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Вторник, час ночи
[26—27 апреля 1853]
Поздно, я очень устал. У меня в горле пересохло оттого, что во время работы я, по сумасбродной своей привычке, весь вечер орал. Нельзя сказать, что я делаю мало движений. Иногда я до того беснуюсь, что мне кажется, когда я ложусь спать, будто я прошел две-три мили пешком. Что за странный механизм — человек!.. Хоть мне и нечего тебе сказать, я все-таки хочу использовать эти четыре страницы для тебя, милая Муза, мой добрый и прекрасный друг. Ах, нет! Кое-что у меня найдется, а именно: ввиду того, что «Бовари» двигается черепашьим шагом, я не желаю откладывать наше свидание в Манте до окончания эпизода, над которым сейчас работаю. Мы увидимся через две недели, не позже. Я хочу только написать самое большее три страницы, закончить те пять, что пишу с прошлой недели, и придумать пять или шесть фраз, которые не даются мне вот уже целый месяц; а ждать, пока я окончу первую половину второй части, слишком долго, при самом усидчивом труде у меня хватит работы до конца мая месяца! Итак, в конце будущей недели я сообщу тебе точно день нашего свидания.
Старайся не хворать, и привези мне то, что сделано тобою, с планом твоей драмы, равно как и поэму «Акрополь», в том виде, как она была послана в Академию. Я недавно потратил почти целый час на поиски письма Ганья (напрасный труд), зато нашел «Призраки». Я уверен, что оно у меня имеется (письмо Ганьи), но мои ящики до того забиты письмами, а папки ненужным бумажным хламом, что сам черт не разберет, если нужно найти что-либо помещенное не в должном порядке. Если хочешь, я еще раз поищу, и уверен, что найду. Я никогда не выбрасываю ни единой бумажки: это у меня мания. В будущем году, когда Буйле здесь не будет, я пожертвую свои воскресенья генеральной уборке; она будет одновременно и печальной и забавной, весьма утомительной и довольно глупой. Кстати о письмах. Я получил письмо от Дю Кана (по поводу одной вещи, затерявшейся в пути, про которую я его спрашивал), весьма любезное, сердечное и в дружеском тоне. Он сообщает мне, что стихи Буйле должны появиться в ближайшем номере; чтобы лучше выделить их, они будут одни и т. д. (?) Не придавая никакого значения его чувствам, будь они благожелательны или наоборот, я не собираюсь ломать себе голову в догадках о причинах такой мгновенной перемены.
А ты как? Поправилась? Как твое здоровье? Я надеюсь завтра — послезавтра получить «Крестьянку». Какое процентное вознаграждение требует твой поверенный по делу Барба? {Издатель.} Уверена ли ты, что выиграешь и это не окажется напрасным расходом?
Бедняга Беранже! Мне думается, «Крестьянка» немного его ошарашит; вот образец народной поэзии, какой этот буржуа никогда не создавал. Грязные у него лапы! А в литературе чистые руки — большое достоинство; у некоторых людей (как, например, у Мюссе) это почти единственное достоинство, или, по меньшей мере, половина их заслуг. Впрочем, о поэтах судят по их поклонникам, а во Франции все, что только есть самого пошлого в отношении поэтического чутья, в течение тридцати лет млеет перед Беранже. Немало раздражения вызывали во мне и он и Ламартин из-за своих поклонников. Помню, давно, еще в 1840 году, в Аяччо, у префекта, я осмелился утверждать в присутствии чуть ли не пятнадцати человек, что Беранже ординарный и третьестепенный поэт. Я уверен, что все общество сочло меня дурно воспитанным школьником. Ах! Бедняки! бедняки! Какой кругозор!.. Для моего милого Альфреда это было настоящим кошмаром. Впрочем, новое поколение не замедлило жестоко покинуть этих людей, которые хотели быть полезными и творили во имя идеи. Новому поколению уже нет никакого дела ни до Шатобриана с его обновленным христианством, ни до Беранже с его вольнодумной философией, ни даже до Ламартина с его религиозным гуманитаризмом. Истина не в современности. Кто хватается за современность, тот гибнет.
Мне кажется даже, что в данный момент мыслитель (а что такое художник, если не трижды мыслитель) не должен иметь ни религии, ни родины, ни каких бы то ни было социальных убеждений. Сомнение настолько ясно теперь для всех, что формулировать его было бы почти глупо. Буйле говорил мне на днях, что у него просто потребность публично отречься от христианства и от принадлежности к французской нации и сделать об этом письменное мотивированное заявление, а потом убраться вон из Европы с тем, чтобы по возможности никогда о ней не слышать. Да, хорошо бы отвести душу, изрыгнуть все то огромное презрение, что подступает к самому горлу. Где она, та честная идея, которая в настоящее время может, я уже не говорю, вдохновить, но хотя бы вызвать к себе интерес? Взять хотя бы тебя, сколько ты потратила на всю эту ерунду времени и энергии! Сколько бесполезной любви! Я знавал тебя демократкой чистой воды, поклонницей Ж. Санд и Ламартина. В то время ты не писала «Крестьянки»! Будем сами собой и только собой. «В чем твой долг? — В исполнении повседневных обязанностей». Эта мысль принадлежит Гёте. Будем исполнять свой долг, который заключается в том, чтобы стараться хорошо писать. А найдется ли такое общество святых, где всякий исполнял хотя бы только свой долг?
Читаю теперь, лежа в постели, Монтеня. Я не знаю более спокойной, более умиротворяющей книги. Сколько в ней здравого, сколько благочестия! Если у тебя есть его сочинения, прочти сейчас же главу о Демокрите и Гераклите и подумай над последним абзацем. Надо сделаться стоиком, раз живешь в такое печальное время, как наше.
Не знаю, почему мне снилось прошлую ночь, будто я в Фивах, в Египте с Бабине, и что мы оба удирали как два кролика, спасаясь от трех огромных львов, которых Бабине воспитывал из любопытства. В тот самый момент, как он говорил мне: «Во всем Париже не найдешь кроме меня ни одного человека с подобными идеями!», три громадных зверя принялись преследовать нас. У меня и сейчас еще перед глазами полы сюртука папаши Бабине, развевающиеся от ветра при нашем бегстве, и цвет песка, по которому мы неслись как на коньках.
Я придумал для Омэ тираду по поводу воспитания детей (как раз пишу ее); она, мне кажется, может рассмешить. Я считаю ее очень забавной, но меня, пожалуй, выругают за нее, потому что для буржуа она чрезвычайно благоразумна.
Прощай, милая моя Муза, до скорого свидания; нам предстоят два-три хороших денька, я очень в них нуждаюсь. Не знаю, сколько миллионов я бы потребовал, если бы пришлось снова начать этот проклятый роман!
Написать пятьсот таких страниц — слишком много для одного человека, а как подумаешь, что сидишь на 240-й и действие только еще начинает развертываться! Еще раз прощай. Целую тысячу раз твои губы.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Вторник, час ночи [14—15 июня 1853]
Сегодня с утра я почувствовал себя стилистически хорошо настроенным; схватил после урока географии с племянницей свою «Бовари» и набросал в течение дня три страницы, которые только что переписал. Действие развертывается бурно и насыщенно; вероятно, я найду тысячу повторений тех же слов, которые придется убрать; в настоящий же момент я их не замечаю. Какое было бы чудо писать хоть по две страницы в день, ведь я за неделю едва пишу три! Так именно и шла моя работа в пору «Святого Антония», но теперь это вино меня больше уже не удовлетворяет. Я хочу, чтобы оно было густым и в то же время текучим; ничего, надеюсь за эту неделю настолько подвинуться, чтобы недельки через две прочесть Буйле все начало (сто двадцать страниц). Раз дело пойдет, я воспряну духом, и будет преодолено если не самое трудное, то, по меньшей мере, наиболее скучное. Какая, однако, медлительность!
Я еще не успел и того, что надеялся сделать до нашего последнего свидания в Манте.
Какие нелепые и жестокие неприятности тебе пришлось пережить за последнюю неделю, дорогая моя бедняжка. Когда подобное дермо попадает нам под ноги, лучшее, что можно сделать, — это тотчас же стереть его и предать забвению. Но если ты сколько-нибудь настаиваешь на том, чтобы синьор Лакруа или великий Сент-Бёв получили кое-что по физиономии, или по другому месту, ты только скажи. Я с готовностью выполню это поручение в ближайшее пребывание мое в Париже, времяпрепровождения ради — между двух деловых поездок. Но почему ты с первого же слова не выставила этого Лакруа за дверь? С какой стати спорить, возражать, горячиться? Все это легко можно сказать хладнокровно, не так ли? В том-то и дело, что наша горячность всегда причиняет нам всякие неприятности. Великое слово сказал Ларошфуко: «Порядочный человек тот, кто ничему не удивляется». Да, необходимо обуздать свое сердце, держать его на веревочке, как злого бульдога, а потом, в благоприятный момент, внезапно выпустить его из рук в области стиля. Беги, старина, беги, лай погромче, хватай за брюхо. Терпение — вот в чем превосходство над нами этих чудаков. Так и в данном случае: Лакруа своей упорной трусостью надоест Делилю, тому в конце концов все это наскучит, и он отступится, а «Раздраженный юноша» (в этом слове целиком сказывается Сент-Бёв) в конечном результате не получит ни шпагой в брюхо, ни ногой в зад, и снова начнет втихомолку свои козни, как сказал бы Омэ.
Тебя удивляет, что ты подвергаешься такой клевете, нападкам, равнодушию, злой воле. Чем лучше ты напишешь, тем больше получишь неприятностей. Вот отплата за хорошее и прекрасное. О качествах человека можно судить по количеству его врагов, и о значимости произведения по количеству плохих отзывов о нем. Критики — вроде блох, которые всегда прыгают на чистое белье и обожают кружева. Порицание Сент-Бёвом «Крестьянки» подтверждает мою уверенность в высоких ее качествах больше, нежели похвалы великого Гюго. Хвалят всех, а порицают не всякого. Писались ли когда-либо пародии на посредственные произведения?
Кстати о Гюго; я думаю, что несвоевременно ему писать. У тебя ушел целый месяц на ответ. Не прошло и двух недель с отправки нашего письма. Следовало бы повременить еще столько же. Как бы только его не перехватили! Хотя все предосторожности приняты. Моя мать сама написала адрес.
Что означает фраза по поводу Делиля в твоем письме, полученном нынче утром: «Кажется, я ошиблась в моем вчерашнем впечатлении». Обращение шартрских обывателей к Прео неплохо. Говорил ли я тебе, что сказал один трувильский священник, с которым я однажды вместе обедал? Когда я отказывался от шампанского (я уже наелся и напился доотвалу, но мой поп все еще наливался), он обернулся ко мне и, глядя на меня глазами (какими глазами!) полными зависти, восхищения и, вместе с тем, презрения, произнес, пожимая плечами: «Полноте! Вы, парижская молодежь, глотающая залпом шампанское во время своих изысканных ужинов, приезжаете затем в провинцию и жеманитесь». А за словами «изысканные ужины» и «глотаете шампанское залпом» скрывалась задняя мысль: «с актрисами»! Каков кругозор! И сказать, что я возбуждал доброго малого. По этому поводу я позволю себе привести небольшую цитату:
«— Полноте, — сказал аптекарь, пожимая плечами, — пирушки у ресторатора! Маскарады! Шампанское! Все пойдет отлично, будьте уверены.
— Я не думаю, чтоб он повел беспорядочный образ жизни, — возразил Бовари.
— Я тоже! — с живостью ответил г-н Омэ, — хотя ему и придется брать пример с других, не то он рискует прослыть иезуитом. Вы и понятия не имеете, какую жизнь ведут эти балагуры в Латинском квартале, с актрисами! Впрочем, студенты на очень хорошем счету в Париже. Если только они обладают сколько-нибудь приятными манерами, их принимают в лучшем обществе, и некоторые дамы из Сен-Жерменского предместья даже влюбляются в них, а это впоследствии дает им иногда возможность вступать в очень выгодные браки».
Я кажется, собрал на двух страницах все нелепости, какие рассказывают в провинции о Париже: студенческая жизнь, актрисы, мошенники, пристающие к вам в общественных садах, и ресторанная кухня «всегда более вредная, нежели домашняя кухня».
Меня удивляет, почему Прео {Скульптор.} находит меня таким натянутым. Хотя, говорят, когда я надеваю фрак, то уже не похож больше на себя. Ясно, я чувствую себя как ряженый. Отпечаток ложится на лицо и манеры. Внешность так влияет на внутреннее содержание! Каска придает форму голове. У всех солдат бывает идиотская напряженность равнения! Буйле уверяет, что в обществе я похож на офицера, переодетого в штатское. Дурацкий вид! Не потому ли знаменитый Тюрган прозвал меня «майором»? Он тоже был того мнения, что я похож на военного. Менее приятных комплиментов мне не могли бы сделать. Если бы Прео был со мною знаком, он, напротив, нашел бы меня, вероятно, слишком небрежным, как тот добряк капитан. Но как хорош был, наверное, Ферра со своим «прекрасным южным пылом»! Я и сейчас представляю себе, как он хвастает; непостижимо!
Ты говоришь о гротеске; я был подавлен им на похоронах г-жи Пуше. Господь-бог положительно романтик; он постоянно смешивает оба жанра. «Можешь себе представить, в то время как я смотрел на беднягу Пуше, согнувшегося точно тростник под напором ветра, стоявший со мной рядом господин начал расспрашивать меня о моем путешествии: «А есть в Египте музеи? В каком состоянии публичные библиотеки?» (буквально) и очень огорчился, когда я разрушил его иллюзии. «Возможно ли? Несчастная страна! Как же цивилизация!» и т. д.
Погребение совершалось по протестантскому обряду, и священник говорил у могилы на французском языке. По этому поводу мой сосед заметил, что ему так больше нравится... «и кроме того, католицизм лишен таких перлов красноречия». О люди, о смертные! И подумать только, что при всей своей изобретательности вечно остаешься в дураках, действительность всегда подавляет. Я пошел на эти похороны в надежде изощрить свой ум в тонкостях, думал найти мельчайшие камешки, а вместо этого на голову мне обрушились целые глыбы! Гротеск оглушил меня, а патетическое извивалось передо мною в судорогах. Отсюда я делаю (вернее, извлекаю) следующий вывод: никогда не следует бояться преувеличений; все великие люди — Микельанджело, Рабле, Шекспир, Мольер — были склонны к ним. Когда нужно сделать в «Пурсоньяке» промывательное, оказывается, мало принести одну клистирную трубку, нет, надо весь театр наполнить клистирными трубками и аптекарями. Это и есть просто-напросто гениальность во всей своей подлинной огромности. Но чтобы преувеличение не бросалось в глаза, оно должно быть равномерно, пропорционально, гармонично. Если герои ваши в сто футов ростом, то вышина гор должна быть двадцать тысяч футов. Не в этом ли преувеличении кроется идеал?
Прощай, тысячу нежных поцелуев, работай хорошенько, встречайся только с друзьями, поднимись на башню из слоновой кости, а там хоть трава не расти. Еще поцелуй.
Твой.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Суббота, час ночи
[25—26 июня 1853]
Наконец-то я окончил первую половину (второй части). Я дошел до того места, после которого наметил наше свидание в Манте. Видишь, как я запоздал! Еще неделя уйдет у меня на просмотр и переписку, а потом я изрыгну все это перед синьором Буйле. Если дело пойдет, у меня будет одной большой заботой меньше, и я ручаюсь, что получится хорошая вещь, ибо основа выдержана прекрасно. Однако мне кажется, что в этой книге будет один большой дефект, а именно — недостаточно пропорциональное распределение материала. Я написал уже двести шестьдесят страниц, но содержанием их является только подготовка к действию, более или менее замаскированные обрисовки характеров (правда, они идут в порядке постепенности), пейзажей, местности. В заключительной части — описание смерти моей бабенки, похороны и печаль мужа — у меня будет по меньшей мере шестьдесят страниц. Таким образом, на основное действие останется сто двадцать — сто шестьдесят страниц, не больше. Разве это не крупный недостаток? Одно лишь утешает меня, и то очень слабо: книга эта носит скорей характер биографии, нежели распространенного действия. Драма занимает в ней мало места, и если общий тон книги как следует поглотит драматический элемент, то читатель, быть может, и не заметит недостатка гармонии в развитии той или иной фразы. И потом, мне кажется, что в жизни происходит то же самое. Радость длится минуту, а ждешь ее месяцами! Наши страсти, точно вулканы: гул слышен всегда, извержения же бывают лишь временами.
К несчастью, французская натура одержима такой манией забавляться! Ей нужно столько бросающихся в глаза вещей! Она находит так мало удовольствия в том, что для меня является настоящей поэзией, а именно в изложении, независимо от того, предлагается ли оно в виде живописной картины или в виде психологического анализа. Не с сегодняшнего дня тяготит меня, что я пишу на этом языке и думаю на нем! В сущности, я немец! Путем упорной работы я очистился от северных туманов. Мне хотелось бы сочинять такие книги, в которых достаточно было бы писать фразы (если можно так выразиться), подобно тому как для жизни достаточно дышать воздухом. Раздражают меня хитросплетения плана, комбинации действия, все эти скрытые расчеты, являющиеся тем не менее Искусством, ибо от них, и исключительно от них, зависят эффекты стиля. А тебе как работалось эту неделю, хорошая моя Муза, моя дорогая коллега (коллега происходит от colligere — связать вместе)? Мне любопытно было бы посмотреть второй рассказ. Могу тебе дать только два совета: 1) следи за метафорами, 2) никаких деталей помимо сюжета, прямая линия. Черт возьми, когда нам захочется, мы сумеем приукрасить наш стиль лучше всякого другого. Классикам надо показать, что мы большие классики, чем они, а романтиков довести до белого каления, предвосхитив их замыслы. По-моему, это возможно, ибо это одно и то же. Когда стих хорош, он теряет признаки школы. Хороший стих Буало — то же, что хороший стих Гюго. Совершенство носит повсюду один и тот же характер точности, правильности.
Если книга, которую я пишу с таким трудом, окажется удачной, мною будут установлены одним фактом ее осуществления две истины, являющиеся для меня аксиомами, а именно: прежде всего, что поэзия — вещь чисто субъективная, что в литературе нет хороших художественных сюжетов и что Ивето стоит Константинополя. А следовательно, можно писать о чем угодно с одинаковым успехом. Художник должен уметь все возвысить; он подобен насосу, кишка которого доходит до недр вещей, до самых глубоких русл. Он впитывает и гигантскими снопами выбрасывает к солнцу то, что было распластано под землей и чего не было видно.
Получу ли я от тебя весточку, проснувшись завтра? Твои письма за эту неделю были не очень обильны, дорогой друг. Полагаю, что тебе помешала работа.
Какой чудесный вид будет у дядюшки Бабине в качестве члена театрального комитета в «Одеоне»! Так и вижу его обличье, как сказал бы мой аптекарь, во время читки пьес.
Следовало бы, однако, и д'Арпентиньи быть в числе членов комитета. Вот бы любезничал с молоденькими актрисами! Этот славный Капитан отличается двумя любопытными особенностями: необыкновенно большими белыми галстуками и просторными сапогами.
Ты спрашиваешь, какое у меня впечатление от всех историй Эдмы и Эно. Что тебе сказать? Все это представляется мне глубоко пошлым и глупым. Но разве общество не является бесконечным сплетением всех этих мелочей, ухищрений, лицемерия и терзаний? Человечество размножается по земному шару, подобно куче грязных площиц на огромной кочке. Хорошенькое сравнение. Посвящаю его господам из Французской академии, для передачи гг. Гизо, Кузену, Монталанберу, Вильмену, Сент-Бёву и др.
Кстати об уважаемых людях, «официальных лицах», согласно твоему определению; в настоящее время здесь происходит забавный фарс. Судят человека, обвиняемого в убийстве жены, чей труп он затем зашил в мешок и утопил. У несчастной женщины было несколько любовников, и у нее нашли (она была чернорабочей) портрет и письма некоего синьора Делаборд-Дютиля, кавалера Почетного легиона, легитимиста, ставшего республиканцем, члена Генерального совета, фабричного совета и прочих советов, всех советов, бывшего на хорошем счету у духовенства, члена общества св. Венсана де Поля, общества Сен-Режи, общества детских яслей, члена всевозможных лживых обществ, занимающего выдающееся положение в высшем местном обществе, умной головы, видной фигуры, одного из тех людей, которые делают честь родине и о которых говорят: «Мы счастливы, что в нашей среде числится г-н такой-то». И вдруг узнают, что этот малый поддерживал связь (точное выражение!) с самой презренной девкой. Да, сударыня! Боже мой! Я гогочу, как подлец, когда вижу, что у всех этих милых людей есть свои бреши! Унижения, коим подвергаются все эти милые господа, ищущие повсюду почета (и какого почета!), являются, по-моему, справедливым возмездием за отсутствие у них гордости. Стремление постоянно блистать равносильно самоунижению. Взбираться до предела — значит опускаться. Повергайся снова в грязь, каналья! Ты окажешься на подобающем тебе уровне. Стремление к демократизму не в моем вкусе. Однако мне нравится все незаурядное и пусть даже гнусное, лишь бы оно было искренно. Но все лживое, все неестественное, все, что является одновременно осуждением страсти и притворным целомудрием, бесконечно возмущает меня. Я сейчас испытываю к подобным себе равнодушную ненависть, либо столь пассивную жалость, что одно другого стоит. За два года я сделал большие успехи. Политическое положение вещей подтвердило мои старые априорные теории о неоперенных двуногих, — так что я признаю их одновременно индюками и коршунами.
Прощай, дорогая голубка; чмокаю тысячу раз твои губы.
Весь твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Пятница, час ночи
[15 июля 1853]
В то же время, как я упрекал тебя за твое письмо, хорошая моя, дорогая Муза, ты сама порицала себя за то, что написала его. Ты и вообразить не можешь, как я был тронут, не самым фактом — я не сомневался, что, взвесив все хладнокровно, ты посмотришь на дело моими глазами, — а одновременностью впечатления. Мы думаем в унисон. Ты замечаешь? Если фактически мы далеко друг от друга, то души наши соприкасаются, душой я всегда с тобою; только в давнишней привязанности может быть такое взаимное понимание. В силу взаимного тяготения как будто проникаешь друг в друга. Ты заметила, что это отражается даже на внешности? Разве люди одной профессии не похожи друг на друга? Старые супруги в конце концов начинают походить один на другого. Нас с Буйле часто принимают за братьев; я уверен, что десять лет тому назад это было бы невозможно. Дух наш определяет самую форму; он своего рода внутренняя глина. Бывало с тобой, что, оторвавшись от работы в минуту вдохновения, когда ты вся переполнена идеей, и взглянув на себя в зеркало, ты вдруг поражалась собственной красотой? Вокруг головы как бы появлялся ореол, расширившиеся глаза метали молнии. Это вырывалась на волю твоя душа. Мысль более всего приближается к электричеству, которое до сих пор принимает такие же фантастические формы, как и она; искры, отделяющиеся от волос в холодные ночи, быть может, более чем простой символ и объясняют старую басню о нимбах, ореолах и превращениях. О чем же я говорил? О влиянии интеллектуальных привычек. Попробуем применить это к нашей работе! Какими художниками были бы мы, если бы читали и любили только прекрасное, смотрели только на прекрасное, если бы какой-нибудь ангел-хранитель, пекущийся о чистоте нашего пера, с самого начала устранял с нашего пути все дурные знакомства, если бы мы не встречались с дураками и не читали газет! Грекам это было дано, они обладали пластической формой, которой ничто уже не вернет; рядиться по-ихнему — для нас безумие. На севере нужны не хламиды, а меховые шубы. Античная форма не удовлетворяет нашим потребностям, и не на то дан нам голос, чтобы слагать эти простые песни. Постараемся быть такими же художниками, как они, но по-иному. Со времени Гомера человеческое самосознание расширилось. Пояс Венеры трещит на брюхе Санчо-Пансы. Вместо ревностного воспроизведения старинных красот надо изощриться и придумать новое. Делиль, мне кажется, думает иначе, он не чувствует современности, ему недостает сердца; я имею в виду не личную или общечеловеческую чувствительность, нет, а сердце почти с медицинской точки зрения. Чернила его бледны, его муза мало надышалась свежим воздухом. Стиль подобен породистой лошади, у которой вены наполнены кровью, и видно, как она пульсирует от самых ушей до копыт.
Жизнь! Жизнь! В этом — все. Вот почему я так люблю лиризм, наиболее естественную форму поэзии, свободной, обнаженной; вся сила произведения зиждется на этой тайне, и именно это основное свойство, motus animi continuus (вибрация, непрерывное движение духа — цицероновское определение красноречия), придает сжатость, блеск, выразительность, вдохновение, ритм и разнообразие. Написать критический очерк — вещь нехитрая! О достоинствах книги можно судить по силе тумака, который от нее получаешь, и по количеству времени, какое нужно, чтобы прийти в себя. Поэтому великие мастера доводят идею до последнего предела чрезмерности. В «Пурсоньяке» нужно сделать одному персонажу промывательное, а приносят не один клистир, нет — весь зал наполнен клистирными трубками! У микельанджеловских великанов — не мускулы, а канаты, в рубенсовских вакханалиях отправляют естественные потребности прямо на землю, а весь Шекспир и пр., и пр., наконец — последний отпрыск семьи, старик Гюго. Что за прекрасная вещь «Собор Парижской богоматери»! Я недавно перечел три главы, между прочим, осаду трюанов. Вот где сила-то! Я считаю, что наиболее характерной чертой гения является прежде всего сила. Поэтому я ненавижу в искусстве всякую замысловатость и остроумие, меня от них передергивает. Совсем не то — дурной вкус, который представляет собой ложно направленное хорошее качество, ибо для. так называемого дурного вкуса надо иметь поэзию в голове. Напротив, остроумие не совместимо с истинной поэзией. Кто может сравниться по остроумию с Вольтером? Однако вряд ли найдется более слабый поэт. А в прекрасной стране, именуемой Францией, публика признает только замаскированную поэзию. Она недовольна, когда ей преподносят поэзию в чистом виде. С французской публикой надо обращаться, как с лошадьми Аббас-паши, которых кормят для укрепления мясными катышками, обваленными в муке. В этом и состоит Искусство! Сумейте сделать внешнюю оболочку книги! Не бойтесь, преподносите это месиво львам с настоящей пастью, они набросятся на него, почуяв его запах на расстоянии двадцати шагов.
Я написал основательное письмо Великому Крокодилу. {Виктору Гюго.} Сознаюсь, нелегко оно далось мне, но, кажется, здорово написано даже, может быть, слишком. Так что я его знаю теперь наизусть. Если действительно помню, то расскажу тебе. Письма уходят завтра.
Эту неделю я был в ударе, написал восемь страниц, которые, по-моему, почти закончены. Нынче вечером набросал большую сцену сельскохозяйственной выставки. Эпизод будет поразительный и займет не менее тридцати страниц. На первом плане повествования об этом сельско-муниципальном празднестве, где появляются, говорят и действуют все второстепенные персонажи книги, среди деталей красной нитью должен проходить беспрерывный диалог господина, распаляющего даму. Кроме того, в середине у меня имеется торжественная речь советника префектуры, а в заключение, когда все окончено, — газетная статья аптекаря, написанная в стиле философском, поэтическом и прогрессивном, в которой он дает отчет о празднике; как видишь — дело нешуточное. В том, что это будет красочно и очень эффектно, я уверен, но избежать длиннот, черта с два! А между тем тут и нужны богатство языка и насыщенность. Только бы преодолеть это место, а там я быстро дойду до любовной сцены в лесу осенней порой (где лошади тут же щиплют листья); все будет тогда для меня ясно, и если я не миную Сциллы, то оставлю позади хоть Харибду.
По возвращении из Парижа я поеду в Трувиль. Моя мать хочет ехать туда, и я ее сопровождаю. В сущности, я доволен: побыть немного у моря для меня полезно. Вот уже два года, как я не был на воздухе и не видел деревни (если не считать нашей с тобой прогулки в Ветейль). С удовольствием растянусь на песке, как когда-то. Более семи лет уже я не был в той местности. У меня о ней глубокие воспоминания: сколько печали, сколько грез и сколько стаканов рома! Я не возьму с собой «Бовари», но буду думать о ней; обмозгую два длинных эпизода, о которых говорил тебе, но писать не буду. Я не потеряю времени. Буду ездить верхом вдоль берега моря; мне так часто хочется этого! У меня масса задушевных желаний такого рода, но я себя лишаю их; приходится отказывать себе во всем, когда хочешь что-нибудь сделать. Ах! какими пороками я отличался бы, не занимайся я творчеством! Трубка и перо — вот два хранителя моей нравственности, добродетели, превращающейся в дым посредством этих двух каналов. Ну, прощай! В середине будущей недели еще письмо, затем, под конец, записочка, а там!!!
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Трувиль] Воскресенье, 4 часа [14 августа 1853]
Идет дождь, паруса баркасов под моими окнами почернели, проходят крестьянки с зонтами, кричат моряки. Скучно! Мне кажется, десять лет прошло, как я с тобой расстался. Моя жизнь спокойна, точно уснувшее болото, на поверхности и в глубине которого малейшая встряска вызывает бесконечное количество кругов, и много нужно времени, чтобы вернулся его прежний безмятежный покой! Воспоминания обступают меня на каждом шагу и, словно камешки, медленно низвергаются в бездну горечи, что я ношу в себе. Как будто кто-то взбаламутил тину; всяческие печали, словно потревоженные во сне жабы, высунули из воды голову, — странная получилась музыка! Прислушиваюсь. Ах, как я стар, как я стар, дорогая моя Луиза!
Я вновь встречаю здесь людей, которых знавал десятки лет назад, они носят то же платье, и вид у них тот же; только женщины пополнели, а у мужчин появилась небольшая седина. Меня поражает неподвижность всех этих людей! С другой стороны — тут настроили домов, расширили набережную, проложили улицы и т. д. Только что возвратился домой под проливным дождем; серое небо, звонят к вечерне. Мы были в Довиле (ферма моей матери). Как раздражают меня крестьяне, я не создан быть помещиком! Я и трех минут не могу пробыть в обществе этих дикарей; они действуют на меня убийственно. Тупое уныние захлестывает меня, как прилив. Свинец, которым заливают горло дантевским лицемерам, ничто в сравнении с тяжестью, давящей тогда на мой череп. Приехал брат с женой и дочерью, чтобы провести с нами воскресный день! Они собирают ракушки, нарядившись в дождевые накидки. Им очень весело; мне тоже весело в часы обеда, потому что я съедаю огромное количество матлота. Я сплю часов двенадцать в сутки, довольно регулярно, а днем изрядно курю. Вся моя работа заключается в составлении программы по истории, которой я начну заниматься с племянницей, как только вернусь в Круассе. Что же касается «Бовари», то о ней нечего и думать, я могу писать только у себя дома; свобода ума зависит у меня от тысячи побочных обстоятельств, весьма ничтожных, но чрезвычайно важных. Я очень рад, что у тебя сейчас подходящее настроение для работы над «Служанкой». Мне не терпится поскорей увидеть эту вещь.
Вчера я с добрый час смотрел на купающихся дам. Что за картина! Что за отвратительная картина! Раньше здесь купались все вместе, без различия пола; теперь же нагородили столбов, протянули канаты, приставили надзирателя в ливрее, — что за мрачная вещь, гротеск, прямо ужас! Итак, вчера, нацепив на нос лорнетку, я долго разглядывал купальщиц, стоя на солнцепеке. Должно быть, род людской окончательно поглупел, — настолько он утратил всякое представление об изящном. Какой жалкий вид имеют эти мешки, в которые женщины запихивают свое тело, эти клеенчатые чепцы! Что за лица! Что за походка! А ноги! Красные, худые, с мозолями и затвердениями, изуродованные обувью, длинные, как челноки, либо широкие, как вальки! И тут же под ногами с ревом и криком вертятся золотушные ребята; а подальше бабушки с вязаньем и папаши в золотых очках; они читают газеты и время от времени, оторвавшись от чтения, с одобрительным видом наслаждаются далью. От всего этого у меня весь вечер было желание удрать из Европы на Сандвичевы острова или в бразильские леса. Там, по крайней мере, пляжи не изгажены уродливыми ногами и столь смрадными личностями.
Третьего дня я нашел в Тукском лесу, в прелестном местечке возле источника, окурки сигар и объедки пирога — здесь был пикник! Я описал его в «Ноябре» одиннадцать лет тому назад! Тогда это был чистейший вымысел, третьего же дня я его пережил. Уверяю тебя, что во всякой выдумке скрыта правда, а поэзия — предмет столь же точный, как и геометрия. Индукция стоит дедукции; к тому же, достигнув известной ступени, можно безошибочно судить обо всем, что относится к душевной жизни. Наверное, моя бедная Бовари в это самое мгновенье страдает и плачет в двадцати французских селениях одновременно.
На днях видел одну вещь, которая невольно взволновала меня. Мы отправились к развалинам замка Лассей в одном льё отсюда (замок был выстроен в шесть недель для г-жи Дюбарри, которой вздумалось принимать в этой местности морские ванны); от него остались лишь лестница, широкая лестница в стиле Людовика XV, несколько окон без стекол да стена; а ветер так и гуляет! Замок находится на плато, откуда видно море, рядом — деревенская хибарка; мы вошли, чтобы напоить Лилин {Племянница Флобера — Каролина.} молоком, так как ей хотелось пить. В садике прекрасные шток-розы, поднимающиеся до самой крыши бобы, чан с грязной водой; где-то поблизости хрюкал поросенок (как в твоей «Жаннетон» {«Крестьянка».}), а дальше за оградой паслись и ржали жеребцы с развевающимися от морского ветра гривами. В избушке на стене висел портрет Императора {Наполеон I.} и другой — Баденге! Я собирался уже выкинуть какую-нибудь шутку, когда заметил в углу у печки полупарализованного исхудалого старика, с давно не бритой щетиной; на стене, над креслом, где он сидел, были прикреплены два золотых эполета! Несчастный старик был так хил, что с трудом мог поднести к носу щепотку табаку. Никто не обращал на него внимания, и, предоставленный самому себе, он, кряхтя и жуя губами, ел из полной мисочки бобы; солнце ослепительно играло на железных обручах ведер, отчего старик мигал глазами. Кошка лакала молоко из горшочка на полу. Вот и все. Вдали слышался смутный гул моря. Я подумал, что в этом беспрерывном старческом полусне (который предшествует другому сну и является как бы переходом от жизни к небытию) старику, вероятно, мерещились снега России или пески Египта. Какие видения носились перед его отупевшим взором? А одежда его! Заплатанная и такая чистая куртка! Прислуживавшая нам женщина (кажется, его дочь), баба лет пятидесяти, с толстыми, как тумбы на площади Людовика XV, ногами, в коротком платье и в чепце из бумажной материи, ходила взад и вперед, мелькая синими чулками и грубой юбкой. А среди всей этой обстановки великолепный Баденге, верхом на поднявшейся на дыбы буланой лошади, с треуголкой в руке, приветствовал отряд инвалидов, выстроившихся в ряд на своих деревяжках. В последний раз я был в замке Лассей с Альфредом. До сих пор помню наш разговор, помню, какие стихи мы читали с ним, какие строили планы...
Как насмехается над нами природа! И какой бесстрастный вид у деревьев, у трав, у речек! Колокол гаврского пакетбота звонит с таким остервенением, что мне приходится прервать письмо. Какой гвалт создает в мире индустрия! Вот шумная штука машина! Приходило ли тебе в голову, какое количество глупых профессий порождает индустрия и сколько нелепостей дает она в конечном счете? Вот бы заняться статистикой на этот счет, получились бы ужасающие результаты! Что можно ожидать от населения Манчестера, которое всю свою жизнь занимается выделыванием булавок? А выделка одной булавки требует пять или шесть разных специальностей. Благодаря разделению труда наряду с машинами появляется масса людей-машин. Какие обязанности несет показывающий место кондуктор на железной дороге? Или упаковщик в типографии и т. д., и т. д.! Да, человечество глупеет. Леконт прав, никогда не забуду его формулировки. Средневековые мечтатели были совсем иными людьми, не похожими на современных деятелей.
Человечество нас ненавидит, мы не служим ему и ненавидим его, но попутно оно оскорбляет нас. Будем же любить друг друга в Искусстве, как мистики любят друг друга в боге, и пусть все побледнеет перед этой любовью! Пусть все другие светочи жизни (они все смердят) исчезнут перед этим ярким солнцем. В эпохи, когда разрушена всякая связь между людьми, когда общество представляет собой сплошную, более или менее организованную шайку разбойников (правительственный термин), когда плотские и умственные интересы отрываются друг от друга и воют в сторонке, точно волки, — в такие эпохи надо замкнуться в эгоизме, как это делают все (только более красиво), и жить в своей берлоге. Я с каждым днем чувствую, как растет в моем сердце отрешенность от себе подобных, и радуюсь, потому что способность восприятия того, что мне мило, увеличивается именно в силу этой отрешенности. Я с жадностью набросился на милейшего Леконта. После первых же сказанных им слов я полюбил его, как брата. Все мы, любовники Красоты, — изгнанники. Какое же счастье встретить в этой стране изгнания соотечественника! От этой фразы немного отдает Ламартином, сударыня! Но ведь вы знаете, что то, что я лучше всего чувствую, я высказываю хуже всего (сколько что!). Так вот, скажи милому Леконту, что я его очень люблю, что тысячу раз о нем думал; с нетерпением ожидаю его большую кельтскую поэму. Сочувствие таких людей, как он, особенно ценно в дни уныния; если моя симпатия к нему вызывает в нем такое же приятное чувство — я рад. Я охотно написал бы ему, но мне абсолютно нечего сказать. Как только вернусь в Круассе, упорно засяду за «Бовари». Сердечно пожмите ему за меня руку.
Я еще не писал Буйле за неделю, что нахожусь здесь, и не получал от него известий. Я боюсь тебя обидеть, моя милая, дорогая Луиза (но наша система ничего не скрывать друг от друга так хороша), так вот! — не присылай мне твоей фотографической карточки. Я ненавижу фотографии настолько же, насколько люблю оригиналы. Я никогда не находил в них правдивости. Это фотография с твоего портрета? У меня есть этот портрет в моей спальне. Это прекрасно выполненная, прекрасно нарисованная, словом, прекрасная гравюра, — она вполне меня удовлетворяет. Механический же способ, в особенности примененный к тебе, доставил бы мне больше раздражения, нежели удовольствия. Тебе понятно? У меня настолько развито чувство изящного, что сам я никогда не согласился бы, чтобы меня фотографировали. Макс снял с меня фотографию, но я был в нубийском костюме, во весь рост и виден издали в саду.
Чтение, которым я занимаюсь по вечерам, подробное описание быта различных народов, населяющих землю (в одной из книг, купленных мною в Париже), вызывает во мне странные желания. Мне хочется видеть Лапландию, Индию, Австралию. Ах, как хороша земля! И умереть, не повидав даже и половины! Не покатавшись на северном олене, на слонах, не покачавшись в носилках! Я опишу все это в моей Восточной сказке. Там помещу я свои страсти подобно тому, как помещу свою ненависть в предисловии к «Лексикону».
Знаешь, я еще никогда не проводил столь продолжительного времени в Париже и никогда не был так доволен. Две недели назад, в эту самую пору я возвратился из Шавиля и приехал к тебе. Как это уже давно! Что-то словно стоит за нами, оно уносит вдаль исчезнувшие предметы быстро, как поток. Дважды нарушенное спокойствие причиной того, что мне так трудно собраться с мыслями. Движение остановилось. Вдали от своего стола я тупею. Чернила — моя родная стихия. Впрочем, как хороша эта темная жидкость! И как опасна! Как утопаешь в ней, как она притягивает!
Итак, прощай, дорогая, добрая Муза, смелей, работай хорошенько! Ты, кажется, настроена весьма предприимчиво. Тысячу приветов «Служанке», тысячу поцелуев хозяйке.
Всецело твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Трувиль] Пятница, 11 часов вечера
[26 августа 1853]
Это, вероятно, последнее мое письмо из Трувиля. Через неделю мы будем в Гавре, и в субботу — в Круассе. В середине следующей недели пошлю тебе весточку. В субботу вечером, в Круассе, если не будет Буйле, напишу тебе. Постарайся, чтобы я по возвращении в субботу имел от тебя письмо, или уж в воскресенье утром. Это скрасит мое возвращение. Вот разойдусь в работе, как только приеду! Отдых был для меня не бесполезен; он меня освежил. В течение двух лет я не передохнул; я в этом нуждался. А кроме того я немного укрепился, созерцая волны, траву и листву.
Мы, писатели, вечно склоненные над Искусством, сообщаемся с природой только в воображении; но иногда надо прямо посмотреть на луну или на солнце. Сок деревьев проникает в самое сердце, — стоит лишь устремить на них долгий, бессмысленный взгляд. Как мясо овец, пасущихся на лугу и щиплющих тимьян, приобретает вследствие этого более нежный вкус, так и ум наш от соприкосновения с природой должен проникнуться ее прелестью. Только с этой недели начал я успокаиваться и попросту наслаждаться всем, что вижу перед собой. Вначале я был ошеломлен, потом на меня нашла тоска, я скучал; а теперь, когда немного освоился, надо уезжать. Я много хожу, с наслаждением переутомляюсь. На днях промок до костей и даже не заметил этого, а ведь я не переношу дождя. Когда же придется уезжать отсюда, мне будет грустно, — вечно та же история! Да, я понемногу избавляюсь от самого себя, от своих воспоминаний. Камыш, хлещущий мои ботинки, когда я прохожу вечером по дюнам, забавляет меня гораздо больше всяких мечтаний (я так далек от «Бовари», как будто в жизни не написал ни единой строчки).
Я много здесь резюмировал, и вот окончательный вывод, к которому пришел в результате четырех праздных недель: прощай и навсегда все личное, интимное, относительное. Я бросил прежнюю мысль писать свои мемуары. Ничто, касающееся моей личности, не привлекает меня. Юношеские привязанности больше не кажутся мне прекрасными (как бы ни были они хороши в воспоминаниях и даже если представлять себе их расцвеченными бенгальским огнем стиля). Пусть все это умрет безвозвратно, к чему воскрешать прошлое? Человек — не больше, чем блоха. Все наши радости и печали должны сосредоточиться в нашем творчестве. Ведь в туче не разыщешь капель росы, которые шлет ей солнце! Испаряйтесь, земные дожди, слезы прошлых дней, образуя в небесах гигантские своды, пронизанные солнцем.
Меня снедает теперь тяготение к метаморфозам. Мне хотелось бы описать все, что я вижу, не так, как оно есть на самом деле, а в преображенном виде. Я не смог бы точно передать ни одного реального факта, как бы он ни был прекрасен. Мне нужно его еще больше расцветить.
То, что я лучше всего чувствую, представляется мне как бы перенесенным в другие страны и пережитым другими людьми. Так я изменяю дома, одежду, небо и т. д.
Ах! Как мне хочется поскорей избавиться от «Бовари», «Анубис» и трех моих предисловий (единственные три раза, слитые воедино, когда я берусь за критику)! Да, так вот, я спешу со всем этим покончить, чтобы очертя голову броситься в погоню за обширным и настоящим сюжетом. У меня руки чешутся от желания писать эпопеи, мне нужны громадные повествования, разрисованные сверху донизу полотна. Восточная сказка налетает на меня порывами, овевая смутным ароматом, от которого ширится душа.
Ничего не писать и мечтать о прекрасном (что я и делаю сейчас) — вещь чудесная; но как зато приходится дорого расплачиваться впоследствии за такого рода сладострастные желания! Что за самоуглубление! Надо быть благоразумным (а я неисправим!). «Бовари», являющаяся для меня прекрасным упражнением, может вызвать в дальнейшем пагубную реакцию, ибо она внушит мне (как это ни глупо и слабо) сильнейшее отвращение к сюжетам, взятым из обыденной среды. Вот почему так трудно писать эту книгу; мне стоит больших усилий представить себе своих персонажей и говорить от их лица; ведь они мне глубоко противны. Зато, когда пишешь нутром, дело идет быстро. Только вот в чем опасность: когда пишут о своем, фразы, может быть, непосредственно хороши (и лирические натуры легко добиваются эффекта, следуя своей естественной склонности), недостает только цельности, в изобилии встречаются повторения, общие места, заурядные выражения. Напротив, если произведение представляет собой вымысел, все тогда вытекает из концепции, и каждая запятая находится в зависимости от общего плана, внимание раздваивается, и надо, не теряя из виду горизонта, в то же время смотреть себе под ноги. Деталь — ужасная штука, особенно для тех, «то, как я, любит детали. Ожерелье состоит из жемчужин, но держатся они на нитке; в том-то и искусство, чтобы, нанизывая жемчуг, не потерять ни одной жемчужины и не выпустить из рук нитки. Восторгаются перепиской Вольтера, а ведь великий человек только на это и был способен! Иначе говоря, он умел излагать свое личное мнение и ничего больше. Вот почему так плохи, жалки его театральные пьесы и чистая поэзия. Он написал только один роман, как бы резюмирующий все его творчество, и лучшей главой «Кандида» является та, где описывается посещение г-на Пококюранта; но и здесь Вольтер высказывает только свое личное мнение по поводу целого ряда вещей. Эти четыре страницы — один из лучших образцов прозы; они передают в сжатой форме содержание шестидесяти томов — результат полувековой работы. Но я бы не посоветовал Вольтеру браться за описание хотя бы одной из картин Рафаэля, над которыми он так издевается. По-моему, высшее достижение в Искусстве (и наиболее трудное) отнюдь не в том, чтобы вызвать смех или слезы, похоть или ярость, а в том, чтобы воздействовать тем же способом, что и природа, то есть вызвать мечты. Поэтому лучшие художественные произведения так безмятежны с виду и непонятны. В отношении же приемов мастерства они недвижны, как скалы, неспокойны, точно океан, полны подобно лесам листвы, зелени и шорохов, печальны, как пустыня, лазурны, как небо. Гомер, Рабле, Микельанджело, Шекспир, Гёте кажутся мне беспощадными. Их творения бездонны, бесконечны, многообразны. Сквозь маленькие просветы виднеются бездны; внизу мрак, вызывающий головокружение, и в то же время над всем царит нечто необъяснимо нежное! Это блеск света, улыбка солнца и такой покой, такой покой! А сколько силы! У всего этого подгрудок точно у быка в стихах Леконта. Как жалок, например, Фигаро в сравнении с Санчо! Так и представляешь себе: вот он трусит верхом на осле, ест сырой лук и беседует со своим хозяином, пришпоривая ослика. Так и видишь испанские проезжие дороги, которые никто не описывал. А Фигаро где? Во «Французской комедии». Светская литература.
По-моему, ее следует ненавидеть. Я теперь ее терпеть не могу. Я люблю произведения, от которых пахнет потом, когда сквозь белье видны мускулы, произведения, которые ступают босиком, что труднее, чем носить сапоги, удобные для подагриков: в них прячут искривленные ногти и всякого рода уродства.
Ноги Капитана или Вильмена настолько же отличны от ног неаполитанских рыбаков, насколько различны литературы обеих наций. Одна совершенно бескровна. Мозоли заменяют ей кости. Сказываются возраст, изнурение, вырождение. Она прячется за определенной формой, вылощенной, общепринятой, заплатанной, и форма эта полна трюков и напыщенности. Она однообразна, неудобна и скучна. Она не дает возможности ни подняться ввысь, ни спуститься в глубины, ни преодолевать трудности (действительно, разве не оставляют ее у преддверия науки, где необходимо надеть башмаки?). Она годится лишь для ходьбы по тротуарам, по избитым дорожкам и по паркету салонов, где весьма кокетливо поскрипывает, раздражая нервных людей. Как бы ее ни покрывали лаком эти подагрики, она всегда останется лишь дубленой кожей. Зато другая! Другая — та, что от господа-бога, покрыта коричневой глазурью морской воды и у нее белые, как слоновая кость, ногти. Она тверда, благодаря хождению по скалам. Она прекрасна, ибо ступает по песку. От привычки мягко погружаться в него, очертание ноги действительно постепенно развилось сообразно своему типу; она существует согласно своей форме, растет в своей среде, наиболее благоприятной. Зато как она опирается о землю, как она раздвигает пальцы, как бежит, как она прекрасна!
Жаль, что я не профессор Французского коллежа! Я прочел бы лекцию, посвященную интереснейшему вопросу о сравнительном описании сапог в литературах. «Да, Сапог заключает в себе целый мир», — сказал бы я, и т. д. Какие красивые сопоставления напрашиваются по поводу Котурна и Сандалии!..
Сколько красоты в слове Сандалия! И какое глубокое впечатление оно производит, не правда ли? Сандалии с загнутым, остроконечным, наподобие полумесяца, носком, расшитые сверкающими блестками, отягченные роскошными украшениями, напоминают индийские поэмы. Родина их Ганг. Их надевают, когда идут в пагоды, в них ходят по полам из дерева алоэ, почерневшего от дыма курений. Пропитанные мускусом, они лениво волочатся в гаремах по коврам, покрытым нескромными узорами. Это напоминает о бесконечных песнопениях и о пресыщенной любви... Закругленная, точно нога верблюда, золотисто-желтая грубая сандалия феллаха, плотно облегающая лодыжку, обувь патриархов и пастухов, представляется обязательно запыленной. А разве не весь Китай в одном башмаке китаянки, отделанном узорчатым розовым шелком с вышитыми на носке кошечками?
В изящном сплетении повязок на ногах Аполлона Бельведерского — весь пластический дар греков. Какое сочетание украшений с наготой! Как гармонируют основа с формой! Как хорошо пригнана нога к обуви или обувь к ноге!
Разве нет явной связи между суровыми средневековыми поэмами (зачастую с одной рифмой) и стальными башмаками из цельного, куска, которые носили в. то время воины; между шпорами в шесть дюймов длины с громадным колесиком и запутанными, взъерошенными периодами?
На башмаки Гаргантюа «пошло 406 локтей синего бархата, который тщательно разрезали на параллельные полосы и скрепили, придав им одинаковую цилиндрическую форму». Я вижу в этом архитектуру Ренессанса. Сапоги Людовика XIII с раструбами, разукрашенные лентами и помпонами, точно ваза с цветами, напоминают мне салоны Рамбулье, Скюдери, Марини. Только сбоку висит длинная испанская шпага с римской рукоятью — Корнель.
Для литературы времен Людовика XIV характерны туго натянутые чулки коричневого цвета. Видны икры, у башмаков квадратный носок (Лабрюйер, Буало); в то время были также в употреблении высокие сапоги для верховой езды, здоровенная обувь грандиозного покроя (Боссюэ, Мольер). Затем появляется узкий носок — литература Регентства («Жиль Блаз»). Начинают экономить кожу, и форма (опять каламбур!) достигает такого антинатуралистического преувеличения, что это становится похоже на Китай (исключая фантазию, однако). Все вычурно, изогнуто, легкомысленно. Каблук такой высокий, что недостает положительности, нет опоры. А с другой стороны, подкладывают на икры, — заполняют дряблой философией (Рейналь, Мармонтель). Академическое изгоняет поэзию, царят пряжки и т. д. (понтификат монсеньора Лагарпа). Теперь же мы отдались на волю сапожников. Были у нас набедренники, мокассины и средневековые башмаки с узким, загнутым вверх носком. В тяжеловесных фразах бретонцев Питр-Шевалье и Эмиля Сувестра слышится надоедливый стук кельтских башмаков на деревянной подошве. Беранже использовал ботинок гризетки вплоть до шнурка, а Эжен Сю сверх меры демонстрирует грузный стоптанный башмак живодера; от одного пахнет прогорклым салом, от другого помоями; у одного фразы покрыты сальными пятнами, стиль другого испачкан дермом. Стали искать новое за границей, но это новое оказалось старым (мы работаем в старом).
Русские сапоги всех сортов потерпели такое же поражение, как литературы лапландская, валашская, норвежская (Ампер, Мармье и прочие редкости «Всемирного обозрения»). Сент-Бёв подбирает ненужный хлам, штопает это рванье, ничуть не смущаясь тем, что оно всем знакомо, и, подбавив ниток и клею, продолжает заниматься своими делишками (возрождение красных каблуков придворной знати, стиль г-жи Помпадур и Арсена Уссей и т. д.). Надо вылить все эти помои и вернуться к крепким сапогам или же ходить босиком; а самое главное, надо прекратить мои сапожные рассуждения. Черт возьми, откуда они взялись? Вероятно, виновата выпитая сегодня рюмка отвратительного рому. Спокойной ночи.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Понедельник, половина первого ночи
[12 сентября 1853]
От досады, уныния, усталости у меня голова идет кругом! Просидел четыре часа и не мог придумать ни единой фразы. За весь сегодняшний день не написал ни строчки, или, вернее, зачеркнул с сотню никуда негодных. Отвратительная работа! Какая тоска! О, Искусство, Искусство! Что же это за злобная химера, и во имя чего она гложет нам сердце? Просто безумие так мучиться! Ах, уж эта «Бовари», долго я ее буду помнить! У меня такое ощущение, будто мне под ногти вонзились лезвия перочинных ножей, я готов скрежетать зубами; ну, не глупо ли? Вот к чему приводит милое занятие литературой, это толчение воды в ступе. Для меня пошлые ситуации и тривиальный диалог — настоящий камень преткновения; хорошо написать о заурядном и сохранить при этом его облик, его форму и самые слова — дьявольски трудно, а я вижу в перспективе по меньшей мере тридцать страниц такой прелести. Дорого достается нам стиль! Пишу сызнова то, что написал третьего дня. Вчера Буйле не без основания забраковал два-три неудачных места. Надо совершенно переделать почти все фразы.
Ты не учла времени и пространства, дорогая, милая Муза. Поехав в Жизор, мы провели бы весь день в поезде и дилижансе. После поезда на дорогу от Гайона до Андели потребуется час и от Андели до Жизора, по меньшей мере, два часа, это составит: три плюс два часа в поезде, итого — пять часов. Столько же на обратный путь — десять. И все, чтобы видеться в течение двух часов! Нет! Нет! Через шесть недель в Манте мы будем одни и на более продолжительное время (к тому же я очень не люблю друзей на столь короткий срок), и не стоит встречаться лишь для того, чтобы испытать горечь разлуки.
Я знаю, чего мне стоят передвижения с места на место, моя немощь в настоящий момент — следствие Трувиля. За две недели до отъезда я уже волнуюсь. Необходимо во что бы то ни стало войти в работу, тогда дело наладится! Иначе — смерть.
Я унижен, черт возьми, унижен в собственных глазах строптивостью своего пера. Надо управлять им, как плохими упрямыми лошадьми, которым натягивают изо всех сил вожжи, чуть не душат — и тогда они смиряются.
В пятницу мы получили известие о смерти дядюшки Парена. Моя мать должна была поехать в Ножан, но у нее снова заболела грудь, она поставила себе сегодня пиявки; меня это всегда тревожит. Смерть Парена не была для меня неожиданностью, но горечь утраты я почувствую позднее, я себя знаю; всякое событие должно прочно угнездиться во мне. Смерть его только усилила чрезвычайное мое раздражение, которое не мешало бы умерить, так как оно иногда переходит границы, в чем виновата эта дрянная «Бовари». Ее буржуазный сюжет мне претит.
Вот и еще один ушел! Бедняга Парен, я так ясно вижу его в саване, как будто гроб, в котором он разлагается, стоит у меня на столе, перед моими глазами. Мысль о червях, гложущих его лицо, не выходит у меня из головы. Впрочем, я простился с ним навеки, покидая его в последний раз. Когда я ехал из Ножана к тебе, я все время сидел в вагоне один. День был солнечный. Я снова видел мелькавшие мимо деревни, которые мы когда-то проезжали в почтовой карете во время вакаций, всей семьей, с другими, тоже умершими. Те же виноградники, те же белые дома, пыльная дорога, окаймленная подстриженными вязами.
Прогулка в Понтуаз, о которой ты говоришь, мне знакома. Помнится, я видел там самую очаровательную в мире девочку. Она играла со своей няней. Мой отец внимательно освидетельствовал ее и предсказал, что она будет роскошной женщиной. Что сталось с нею?.. Как все это смешно!
Вот так история! Г-жа почтдиректорша называет тебя Лоиза! Недостает писать твое имя через «о», получится недурно!
Прочел третьего дня целый том дядюшки Мишле, только что вышедший шестой том его «Революции». У него встречаются великолепные мысли, великие слова, справедливые вещи; почти все новые. Но никакого плана, никакого искусства. Мало ясности, еще меньше спокойствия, а спокойствие характерно для красоты, так же как ясность духа характерна для невинности и добродетели. Покой — олицетворение бога.
Какая любопытная эпоха! Да, любопытная эпоха! Как смешное сливается с ужасным! Повторяю, вот где Шекспир будущего сумеет черпать целыми ведрами. Может ли быть что-либо великолепнее гражданина Ролана? Перед тем как покончить с собою, он написал следующую записку, найденную при нем: «Почтите тело добродетельного человека!»
Прощай, уже поздно. Камин погас, мне холодно. Прижимаюсь к тебе, чтобы согреться. Целую тебя тысячу раз.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Среда, час ночи [21—22 сентября 1853]
Нет! «Не в работе мое счастье, и я не парю на крыльях вдохновения». Напротив, работа — мое горе. Литература — нарывной пластырь, от которого я испытываю зуд и до крови расчесываю себя. Воля, которой я преисполнен, не мешает унынию и усталости одолевать меня. Ах! Тебе кажется, что я, как брамин, живу и вдыхаю, закрыв глаза, аромат своих грез. Почему мне это не дано! Еще больше, чем ты, хотел бы я покончить со своей книгой. Два года работаю я над ней. А ведь два года — это немало! И все время имеешь дело с теми же персонажами и барахтаешься в той же зловонной среде. Удручает меня не слово и не композиция, а самый предмет; в нем нет ничего возбуждающего. Когда я подхожу к какой-нибудь ситуации, меня заранее берет отвращение от пошлости ее; я только и делаю, что отмеряю порции дерма! К концу будущей недели надеюсь дойти до середины сельскохозяйственной выставки. Должно получиться либо отвратительно, либо очень хорошо; особенно нравится мне размах, но не так-то легко все это осилить. Третий раз уже Буйле заставляет меня переделывать один абзац (а он все не удается); дело заключается в том, чтобы описать эпизод с человеком, зажигающим фонарики. Это должно быть смешно, но пока ничего не выходит.
Как видишь, моя хорошая, дорогая Муза, мы не щадим друг друга, и если требуем от тебя исправлений столь сурово, то потому лишь, что так же требовательны к тебе, как и к себе самим.
Вчера Буйле должен был уехать в Кани; не знаю, увижусь ли с ним в воскресенье. Недели через две он поедет в Париж искать себе квартиру, затем вернется на неделю, а там — прощай. Это меня глубоко огорчает. Вот уже восемь лет, как я привык видеть его по воскресеньям; интимная наша связь порвется, не с кем будет слова сказать, еще одна разлука, еще одна оставленная позади, безвозвратная утрата.
Когда же я поступлю, как он? Когда я оторвусь от своей скалы? Но я слышу голос моих перьев, они говорят мне, как говорили перелетные птицы Рене: «Время переселения для тебя, человек, еще не пришло».
Ах, я часто думаю о тебе, чаще, чем хотел бы; это меня расслабляет, печалит, тормозит.
Раз уж я начал работу здесь и медленным темпом, надо таким же образом закончить. На водворение в Париже и на время, какое мне нужно, чтобы к нему привыкнуть, потребуются месяцы, а за четыре-пять месяцев можно успеть кое-что сделать.
Ты прислала мне очень хорошее описание постоялого двора с извозчиками, преследующими по коридорам девушек: ты, по-видимому, чувствуешь себя там неважно.
Когда ты вернешься на Севрскую улицу? А зубы? А боль в сердце? Дорогая, бедненькая моя, что же с тобой? Ты кажешься мне очень мрачной; эх! жизнь не веселая штука, черт возьми!
Настаивает ли Делиль на том, чтобы я учинил «Атенеуму» какую-нибудь сверхъестественную пакость? Я готов. Могу написать им, что умоляю не присылать мне больше их журнала. Пусть он стойко держится против Планша! Нужно быть Каннибалом!
В последней книжке «Обозрения» напечатана повесть Пиша, которая насмешила меня на пятьдесят с лишним франков, как сказал бы Рабле. Прочти-ка ее! Впрочем, плохие вещи такого сорта бывают очень полезны. Прочитав повесть, я вычеркнул из «Бовари» одно пошлое выражение, в котором раньше не отдавал себе отчета и только тут заметил.
Меня беспокоит Великий Крокодил. Уж не затерялся ли наш пакет? Мне кажется, что характеру этого человека свойственно было бы немедленно ответить на мое письмо. Хорошо бы тебе написать ему (я отослал бы твое письмо отдельно), что ты не понимаешь, чем объяснить такую задержку. Как ты на это смотришь?
Перечел всего Буало, в общем — здорово. Ах, славный курс литературы пройдем мы с тобой, когда будем вместе в Париже!
Меня тревожат восточные дела. Недурно будет, если вспыхнет война и поднимется весь фанатичный Восток. Как знать? Достаточно довести до крайности одного такого человека, как Абд-эль-Кадер, и он приведет в Константинополь всех бедуинов Азии. Ты представляешь себе, какая суматоха поднимется в России и как эта империя лопнет от удара пики, точно надутый шар. О, Европа! Какое рвотное я желаю тебе!
Я больше не в силах писать, очень устал, прощай; на днях примусь за письмо пораньше и буду долго с тобой беседовать.
Тысячу раз целую твои глаза, которые так часто полны слез.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Среда, половина первого ночи
Наконец-то послание от Великого Крокодила (я оставил у себя письмо к г-же д'О***, перешлю его тебе в следующий раз, а то получится слишком толстый пакет). Ты увидишь речь, второй экземпляр которой находится у меня; я нахожу, что она не очень-то яркая. Боюсь, как бы великий человек в конце концов не поглупел от ненависти. По-моему, он оказал тебе очень тонкое внимание, посылая из Жерсея газету. В своем письме ко мне он пишет, что требует переписки, и называет мои письма «самыми остроумными и самыми благородными в мире». У меня теперь желание написать ему все, что я думаю. Это его не оскорбит? Не могу же я допустить, чтобы он думал, что я республиканец, что я преклоняюсь перед народом и т. д. Необходимо соблюдать какое-то чувство меры между грубостью и откровенностью, а это очень, по-моему, трудно. Как ты полагаешь? По странной случайности мне принесли третьего дня направленный против него памфлет в стихах, глупый, клеветнический, слюнявый памфлет. Его написал один из здешних жителей, бывший директор театра, чудак, который женился ради денег на женщине, вышедшей из Маделонет, а теперь, овдовев, остался без всяких средств к существованию. Ему, наверное, заплатили за памфлет, но успеха он иметь не будет, потому что неудобочитаем.
Этот шут когда-то спасовал на дуэли перед одним из моих друзей, братом Эрнеста Деламарра (который подарил мне маленькую золоченую статуэтку, что ты видела на улице Гельдер). Он заставил его на месте письменно отречься от своих слов. А этот мошенник в своем памфлете обвиняет Гюго в трусости, в том, что он толкнул на убийство и пр. И грозит отомстить ему! Ах! Какие мерзости творятся на свете! Когда же будет им конец? Что-то тяготеет над нами всеми, сколько нас ни на есть. Когда же, наконец, грянет буря и освободит нас от этого бремени?
Милейший Леконт мечтает об Индии — увидеть Индию и умереть. Да, прекрасная мечта, но только мечта, ибо так уж плохо устроен человек: ему непременно захочется вернуться, он будет подыхать от тоски, грустить о родине, о домах и даже о том, к чему он совершенно равнодушен. Надо замкнуться в себе и продолжать работать, уткнувшись, как крот, в свое творчество. Если в ближайшие годы ничто не изменится, то просвещенные умы сольются в такой тесный товарищеский союз, какого не создавало ни одно подпольное общество; вдали от толпы народится новый мистицизм. Возвышенные идеи растут, подобно соснам, в тени и на краю пропастей.
Из всего этого можно, мне кажется, извлечь только одну истину: нет никакой необходимости ни в толпе, ни в преобладающем большинстве, ни в одобрении, ни в освящении. 89-й год сокрушил королевскую власть и дворянство, 48-й — буржуазию, а 51-й — народ. Остался один лишь подлый, тупой сброд. Все мы стоим на одном уровне общей посредственности. Ум воспринял социальное равенство, книги пишутся для всех, Искусство, наука существуют для общего пользования, как железные дороги и общественные теплушки. Человечество яростно стремится к моральному падению, и я злюсь на него за то, что составляю часть его.
Сегодня я хорошо поработал. Через неделю будет готова половина сельскохозяйственной выставки, сущность которой я начинаю понимать. У меня тут перемешались животные и люди, одни мычат, другие болтают, а над всем этим — влюбленные; думаю, будет хорошо. А когда же займутся отделкой «Служанки»?
Знаешь, наш бедный дядюшка Парен перед смертью только и думал, что обо мне, о Буйле, словом, о литературе! Ему казалось, что читают его (Буйле) стихи. Как я буду скорбеть об этом превосходном сердце, так слепо и нежно любившем меня, если когда-нибудь меня постигнет удача! Какое удовольствие доставило бы мне видеть его физиономию на представлении драмы Буйле или твоей! Какой смысл, какая цель во всем этом смешном и ужасном?
Вот и зима наступает, листья желтеют, много их уже опало. У меня топится камин, я работаю при свете лампы и спущенных занавесях, как в декабре. Почему первые осенние дни нравятся мне больше, чем первые дни весны? Ведь я уже отошел от бледной поэзии опавших листьев и туманов при луне! Но этот золотистый цвет чарует меня. От всего исходит какой-то опьяняющий аромат тоски. Я думаю о больших феодальных охотах, о жизни в замках; слышится треск дров в огромных каминах и крик оленей на берегу озер.
Когда ты вернешься в Париж? Прощай, хорошая, дорогая Луиза, целую тысячу раз.
Твой.
Остерегайся, как бы не потерять или не забыть где-нибудь речь. Это могло бы доставить тебе неприятности там, где ты находишься. Куда послать тебе письмо к г-же д'Онэ — сюда, или дождаться, когда ты будешь в Париже?
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Среда, полночь [12 октября 1853]
У меня голова горит, как, помнится, бывало после долгих дней верховой езды; это потому, что я сегодня здорово поработал пером. Пишу с половины первого дня, не сходя с места (только от времени до времени отрываюсь на пять минут, чтобы выкурить трубку, да час урвал на обед). Моя сельскохозяйственная выставка так надоела мне, что я оставил, пока не кончу ее, свои занятия греческим и латынью. Начиная с нынешнего дня я только ею и занимаюсь, слишком уж долго это длится! Есть от чего лопнуть; к тому же, мне хочется повидаться с тобой.
Буйле утверждает, что это будет самая лучшая сцена во всей книге. А я уверен лишь в одном — она свежо и хорошо задумана. Если можно передать в книге симфонию, то здесь это, несомненно, будет. Все должно слиться в общем гуле, надо одновременно слышать мычание быков, вздохи любви, слова начальства; все освещено солнцем, огромные чепцы шевелятся от порывов ветра. Самые трудные места в «Святом Антонии» — пустяк в сравнении с этим. Драматизм достигается здесь одним лишь переплетением диалога и противопоставлениями. Сейчас я в самом разгаре. Менее чем в неделю я распутаю узел, от которого зависит все. Мне кажется, что мозг мой слишком мал, чтобы охватить одним взглядом такую сложную ситуацию. Пишу по десяти страниц сразу, перескакивая с одной фразы на другую.
Надобно, однако, на днях написать Крокодилу. Он потерял адрес г-жи Фармер и может посылать письма только непосредственно из Джерсея, а этого надо по возможности избегать.
Я почти уверен, что Готье не видел тебя в тот раз, когда не поклонился тебе на улице. Он очень близорук, вроде меня, а со мной такие случаи — обычная вещь. Подобная дерзость была бы лишена всякого основания и совершенно не в его характере; он — добродушный толстяк, чрезвычайно миролюбивый и весьма распутный. Сомневаюсь также, чтобы на нем сказались злобные чувства друга, судя по тому, как он первый заговорил со мною о нем. Посвящение, вопреки твоему мнению, ничего не доказывает; поза и еще раз поза. Бедняга готов зацепиться за что угодно и к чему угодно присоединить свое имя. Какой шаг назад его «Нил»! Ничто не могло бы лучше утвердить мои литературные теории, если бы в этом была необходимость. Чем больше времени прошло с тех пор, как Дю Кан перестал следовать моим советам, тем быстрее катится он под гору — так от «Тагахора» до «Нила» заметно ужасное падение, а если считать «Посмертную книгу» промежуточной стадией, то теперь он докатился до самого дна, и талант его оказался на одном уровне с талантом молодого Дельсера — ничуть не выше. Предложение Жакотте необычайно меня возмутило, и ты была совершенно права. Тебе идти на поклон к этакому мальчишке! Нет, нет, ни в коем случае!
Странное ты существо, дорогая Луиза! Снова присылаешь мне диатрибы, как сказал бы мой аптекарь! Ты просишь у меня одну вещь, я соглашаюсь, обещаю тебе, а ты опять ворчишь! Так вот, раз ты ничего от меня не скрываешь (что я одобряю), то и я не скрою от тебя, что эта идея — нечто вроде тика у тебя. Ты хочешь установить между чувствами совершенно разнородного характера связь, в какой я не вижу смысла и еще менее — необходимости. Совершенно не понимаю, к чему обязывают мою мать любезности, оказанные тобою мне в Париже. Жил ведь я три года у Шлезингера, где ее ноги не бывало. Также и Буйле вот уже восемь лет, как бывает здесь каждое воскресенье, ночует, завтракает, обедает, а мы ни разу не видели его матери, которая чуть ли не ежемесячно приезжает в Руан. И уверяю тебя, что моя мать нисколько не обижается. Короче говоря, я поступлю согласно твоему желанию. Обещаю тебе, даю слово, что представлю ей твои доводы и попрошу ее встретиться с тобой. Что касается остального — я ничего не могу сделать, несмотря на самые лучшие пожелания. Быть может, вы очень сойдетесь, а возможно, что ужасно не понравитесь друг другу. Старушка мало общительна и перестала встречаться не только со знакомыми, но даже с друзьями. Я знаю только одну ее приятельницу, но и та живет в другом городе.
Кончил недавно читать «Письма» Буало; в интимной жизни он менее узок, чем в качестве Аполлона. Я нашел у него множество признаний, исправляющих его суждения. О «Телемаке» он отзывается довольно сурово, и т. д., он сознается, что Малерб не поэт. Ты заметила, какую малую ценность представляет собой переписка людей того времени? В общем, все они были очень заурядны. Французский лиризм — совсем новое течение. Мне кажется, что иезуитское воспитание порядочно повредило литературе. Они отняли у Искусства природу. С конца XVI века и до Гюго все книги, как бы хороши они ни были, отдают немного пылью коллежей. Я собираюсь перечитать всю французскую литературу и заблаговременно подготовить мою «Историю поэтического чувства во Франции». Критику надо писать тем же способом, что и естественную историю, без моральной идеи. Дело не в том, чтобы громить ту или иную форму, а в том, чтобы как следует изложить ее сущность, как она связана с другой формой и в чем ее жизненность (эстетика ждет своего Жоффруа Сент-Илера, этого великого человека, доказавшего законность существования чудовищ). Когда в течение некоторого времени будут изучать человеческую душу с тем же беспристрастием, с каким изучают материю в науках физических, тогда можно будет сказать, что сделан огромный шаг вперед; для человечества это единственный способ немного возвыситься. Оно открыто взглянет на себя, увидит себя, как в зеркале, в своих творениях, станет, как бог, судить о себе сверху. Ну да, я считаю это вполне достижимым; быть может, здесь нужно только найти метод, как в математике. Он прежде всего будет применим к Искусству и Религии — двум великим проявлениям идеи. Вот с чего надо начать, мне кажется: предположим, что дано первоначальное понятие о боге (самое слабое, какое только возможно), первое поэтическое чувство в зародыше (в самом незначительном), надлежит найти проявление его — его легко найти у ребенка, дикаря и т. д. Вот первый пункт. Здесь можно уже установить взаимоотношения. Затем надо продолжать, учитывая все относительные условия — климат, язык и т. д. Так постепенно можно добраться до Искусства будущего и до гипотезы Прекрасного, получить ясное представление о его реальности, короче говоря, о том идеальном типе, к которому мы должны стремиться. Но я и не думаю брать на себя этот труд, у меня другие цели.
Прощай. Целую твои глаза.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Час ночи, понедельник [17—18 октября 1853]
Сегодня утром попрощался с Буйле. Для меня он уже уехал. Он вернется в субботу; я увижу его, быть может, еще раз, два. Но это конец, прекратились воскресные встречи. Я останусь теперь один, один, один. Меня удручает тоска, оскорбляет сознание бессилия. Основное в сельскохозяйственной выставке я должен переделать, то есть весь любовный диалог, в котором дошел лишь до середины. У меня не хватает мыслей. Напрасно ломаю я себе голову, роюсь в сердце и в чувствах, — ничего не выходит. Сегодня весь день слонялся по кабинету, не будучи в состоянии не только написать хоть одну строчку, но даже найти какую-нибудь мысль или движение! Пустота, абсолютная пустота.
Эта книга в настоящий момент до такой степени мучит меня (я употребил бы более сильное выражение, если бы оно подвернулось), что иногда я физически страдаю. Вот уже три недели, как я ощущаю боль, от которой почти теряю сознание. Иной раз у меня делается удушье, и вот-вот вырвет тут же за столом. Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, — только гордость мешает. У меня является определенное искушение бросить все к черту и прежде всего Бовари. Вот проклятая идея — взяться за подобный сюжет! Ах, узнаю я все ужасы Искусства!
Даю себе еще две недели, чтобы покончить с этим. Если в течение этого времени не будет ничего хорошего, я брошу роман на неопределенное время, до тех пор, пока не почувствую потребности писать. Охотно навестил бы тебя сейчас; но я до такой степени раздражен, раздражителен и ворчлив, что мое посещение было бы скучным подарком. Черт возьми, как я зол!
Я хотел бы тем не менее написать Крокодилу письмо, но, откровенно говоря, у меня не хватает ни энергии, ни настроения.
Тебя ожидает приятный четверг. Завидую вам. Какое пиршество — «Служанка» и «Ископаемые»!
Мне не терпится увидеть Буйле и услышать от него про знаменитую «Служанку». Мне кажется, когда я думаю о ней, что преодолеть такого рода сюжет в стихах — великая вещь. Я знаю, что значит стилистически отделать обыденный сюжет. Сцена, которую я вновь начинаю писать, холодна, как лед. У меня получится Поль де Кок. Искусственность всегда ведет к пошлости. Желая избежать обыденного, впадаешь в напыщенность, а с другой стороны, простота так близка к пошлости!
Перечел третьего дня «Гана Исландца». Очень забавно! Но чувствуется большая одухотворенность, и, как эскиз (в духе «Парижской богоматери»), вещь любопытная.
Прощай. Не знаю, что тебе сказать, разве только, что целую тебя. Постарайся навеять на меня вдохновение. В этом товаре я сильно нуждаюсь в данный момент.
Вспомните обо мне в четверг. Моя мысль будет с вами весь вечер. Какой дождь!
Погода мрачная — как у меня на сердце.
Еще раз прощай, тысячу нежных поцелуев.
Твой, твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Пятница, 2 часа ночи
[23 декабря 1853]
Надо любить, чтобы писать тебе сегодня, ибо я выдохся, — у меня точно железная каска на черепе. С двух часов дня (за исключением двадцати пяти минут на обед) я пишу «Бовари». Описываю прогулку верхом, сейчас я в самом разгаре, дошел до середины; пот льет градом, сжимается горло. Я провел один из тех редких дней в моей жизни, когда с начала до конца живешь иллюзией. Давеча, в 6 часов, в тот момент, когда я писал слова «нервный припадок», я был так возбужден, так горланил и так глубоко чувствовал то, что переживает моя бабенка, что даже испугался, как бы со мной самим не случился нервный припадок; чтобы успокоиться, я встал из-за стола и открыл окно. У меня кружилась голова. Теперь же сильно болят колени, спина и голова; я похож сейчас на человека, который чересчур... (извини за выражение), то есть я испытываю нечто вроде усталости, полной опьянения. Но, раз я пишу о любви, то считаю справедливым послать тебе перед сном ласку, поцелуй и те мысли, что у меня остались. Хорошо ли получится? Не знаю (я немного тороплюсь, чтобы показать Буйле к его приезду нечто целое). Одно лишь верно, что за последнюю неделю работа моя подвигается очень быстро. Хоть бы это продлилось! Моя медлительность утомила меня, но я боюсь пробуждения, разочарований, необходимости вновь переписывать целые страницы! Все равно, плохо ли, хорошо ли, так чудесно — писать, не быть самим собой, а вращаться среди всех тех образов, которые создаешь. Сегодня, например, я был одновременно мужчиной и женщиной, любовником и любовницей и катался верхом в лесу осенним днем среди пожелтевших листьев; я был и лошадьми, и листьями, и ветром, и словами, которые произносили влюбленные, и румяным солнцем, от которого жмурились их полные любви глаза. Что это — гордость или благоговение, или же глупое проявление преувеличенной удовлетворенности? Или, быть может, смутно выраженное благородное религиозное чувство? Но когда я думаю о своих приятных переживаниях, у меня является желание произнести благодарственную молитву господу-богу; не знаю только, услышит ли он меня. Да будет он благословен за то, что не создал меня купцом, водевилистом, остряком и пр.! Воспоем Аполлона, как в давние времена, вдохнем полной грудью холодный воздух Парнаса, ударим по струнам гитар и кимвалам и закружимся, как дервиши, среди вечного шума Форм и Идей:
Тщеславью моему не льстит их фимиам...
Это, должно быть, стих Вольтера, не знаю, откуда он, — но вот что надо себе сказать! С нетерпением жду «Служанку». О да, милая Муза, ты права: «будь я богатой, все эти люди целовали бы мои башмаки». Даже не башмаки, а следы твоих ног, тень! Это в порядке вещей. Чтобы заниматься литературой, будучи женщиной, надо раньше перейти воды Стикса.
Что до предложений Дю Кана относительно г-жи Биар, то у мужчин существует нечто вроде молчаливого братского договора, обязывающего их быть сводниками в отношении друг друга. Лично я никогда не манкировал своими обязанностями. Здесь сказывается хорошее воспитание, джентльменство. Но будь я директором какого-нибудь «Обозрения», во мне было бы мало джентльменства. Впрочем, статьи тетки Б*** не хуже других. Одно другого стоит, как то, что ниже, так и то, что выше известного уровня. Но если бы ты послала им какую-нибудь вещь, я уверен, что они приняли бы ее, если только они преднамеренно не решили совершенно тебя устранить, а это возможно. Тогда следовало бы снова завязать отношения с Дю Каном, но мне кажется, что он не из тех, с кем можно встречаться. Употребленное мною выражение дает право на любое предположение. Несчастный малый — один из тех, о ком я не хочу думать. В сущности, я и теперь еще его люблю; но он меня так раздражал, так отталкивал, отрицал, делал такие отвратительные гадости, что он для меня «как бы умер», — так сказал герцог Альфонс г-же Лукреции. Я не знаю никаких похотливых подробностей, касающихся Сильфиды, которая, по-видимому, была глубоко тронута (а быть может, и потрясена?).
Последнее время Буйле пишет мне лишь коротенькие письма. Я всегда считал вышеупомянутую особу плутоватой бабенкой, и вижу, что не ошибся. Но она, как видно, ведет дело очень ловко и непринужденно. Тем лучше! Женщина она прожженная, знает свет; она сумеет открыть Буйле новые горизонты... правда, жалкие горизонты! Но в конце концов, не мешает ознакомиться со всеми помещениями социального сердца и души, от погреба до чердака, не забывая даже отхожих мест; их-то особенно не надо забывать! Там вырабатываются чудесные химические составы, происходят обильные разложения. Кто знает, каким сокам, добытым из экскрементов, обязаны мы запаху роз и вкусу дынь? Сосчитал ли кто-нибудь, сколько низостей надо созерцать, чтобы воздвигнуть величие души? Сколько надо проглотить отвратительных миазмов, сколько пережить горя, вынести мук, чтобы написать хорошую страницу? Нашему брату приходится быть золотарями и садовниками. Из человеческой гнили мы извлекаем наслаждение для самого же человечества, мы выращиваем корзиночки цветов на разложенных перед нами невзгодах. Факт перерабатывается в форму и возносится кверху, как чистый фимиам Духа возносится к Вечному, Непреложному, Абсолютному, Идеальному.
Я действительно видел на улице дядюшку Роже, в рединготе и с собакой. Бедняга!.. Как он ни о чем не догадывается! Думала ли ты когда-нибудь о множестве женщин, имеющих любовников, о множестве мужчин, имеющих любовниц, обо всех этих браках, скрывающихся под другими браками? Сколько здесь лжи! Сколько ухищрений, и измен, и слез, и горя! Отсюда-то исходит смешное и трагическое. Так что и то, и другое — лишь одна и та же маска, скрывающая одно и то же ничтожество, а внутри виден смех Фантазии, точно ряд белых зубов под черной вуалеткой.
Прощай, дорогая, хорошая Муза; пока я тебе писал, у меня перестал болеть лоб; подставляю тебе его для поцелуя и ложусь спать.
Еще раз прощай и тысячу ласк.
Твой Г.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Среда, 11 час. вечера [28 декабря 1853]
Знаешь, чем я занимался, не вставая с места, с двух часов пополудни? Разбирал и классифицировал всю свою переписку за пятнадцать лет. У меня набралось три полных огромных ящика и четыре папки писем! Я перечитывал лишь те, чей почерк мне незнаком. Сколько умерших! И сколько позабытых! Я открыл здесь много печального, но много и очень смешного. У меня режет глаза от перелистывания и спина устала от долгого сидения согнувшись. Зато какая обуза снята с плеч! Теперь я могу проделать чистку методическую. Я сжег много писем г-жи Дидье и Сильфиды, адресованных тебе. А письма Ганья я не нашел. Где оно? Правда, я его не искал. Твои, дорогая моя любовь, наполняют целую коробку. Они лежат отдельно, вместе со всякими твоими вещицами. Я снова увидел зеленую ветку со шляпы, которую ты носила, когда мы первый раз ездили в Мант, туфли, что были на тебе в первый вечер, и мой носовой платок... Мне очень хотелось бы поцеловать тебя нынче вечером. Я прижимаю свои губы к твоим и обнимаю тебя от глубины души, и всюду. В конце будущего месяца мы увидимся снова! Вот и новый год наступает. На второй день нового года, если меня еще не будет в Париже, я окажусь хоть обладателем квартиры, так как вижу, что надо позаботиться о ней заранее, из-за Выставки. Впрочем, «Бовари» подвигается. Сцена... написана, но я бросил ее, так как начинаю делать глупости. Надо уметь вовремя прекратить исправления, тем более, когда не знаешь пропорций того или иного места, на котором слишком долго останавливался. Я с некоторым страхом ожидаю Буйле, чтобы прочесть ему то, чего он не знает. Последнее письмо его было очень грустное. Случилось то, что я предвидел, Париж его омрачил. Но я постараюсь поднять его дух, как сказал бы мой аптекарь. В эту минуту он, должно быть, приехал в Руан и предается с Леони бурным и многократным..., если только Сильфида не выжала из него все соки.
Вернее верного все, что ты пишешь в последнем письме о женщинах, бывающих у тебя в доме. Будь уверена, что все они тебе завидуют и Сильфида в глубине души ненавидит тебя. Это в порядке вещей. Она сделает все, что от нее зависит, дабы поссорить тебя с Буйле. Женщины желают обладать безраздельно, и кто не принадлежит им всецело, тот против них. У тебя есть все, чтобы заставить их пол ненавидеть тебя: красота, ум, искренность и т. д. Зачем же ты всегда берешь их под свою защиту? Надо быть на стороне сильных.
Не беспокойся, милый друг: мое здоровье лучше, чем когда бы то ни было. Ни одно из моих внутренних ощущений не причиняет мне боли. Только элементы чисто внешние уязвляют, волнуют, подтачивают меня. Я мог бы работать десять лет подряд в самом суровом одиночестве, не испытывая головной боли; зато скрип двери, вид какого-нибудь буржуа, нелепое предположение и т. д. вызывают у меня сердцебиение, возмущают. Я подобен альпийским озерам, чьи воды приводит в волнение легкий ветерок из долин, тот, что веет внизу на уровне земли, между тем как бурный ветер с вершин, проносясь над ними, даже не рябит их поверхность, а, наоборот, лишь рассеивает туман. И потом, разве может причинить боль то, что нравится? Когда терпеливо и наивно следуешь призванию, оно становится почти физическим отправлением, всесторонне охватывает индивидуум, создавая своеобразное существование. Натуре, склонной к преувеличениям, чужда опасность впасть в излишества.
Я был бесконечно доволен, получив известие о провале гг. Ожье и Сандо. {Пьеса «Пьер де Туш» не имела успеха во «Французском театре» и была недружелюбно встречена критикой.} Если этих двух каналий надлежащим образом пришлепнули, тем лучше, очаровательно! Я всегда радуюсь, когда богатые люди попадают впросак!
Эх, вы, просвещенные люди, насмехающиеся над Искусством из любви к монетам, зарабатывайте себе на нем денежки! Как я подумаю, что многие нынешние писатели играют на Бирже! Ну разве не тошнит от этого! Хотя Сена в это время года и холодна, я бы согласился принять сейчас ванну, ради удовольствия видеть, как подыхают от голода где-нибудь под забором все эти негодяи. Ничто в действительной жизни так не возмущает меня, как смешение жанров. Какими прекрасными лавочниками были бы все эти поэты лет сто тому назад, когда невозможно было заработать деньги пером! Когда это не было ремеслом (от гнева, который душит меня, я не могу писать — буквально). А физиономия Баденге, возмущенного пьесой, или, верней, приемом, оказанным пьесе! Невероятно! Великолепно! Добрейший Баденге, который жаждет шедевров, да еще в пяти актах, чтобы поднять дух у французов! Как будто мало было возродить порядок, религию, семью, собственность и т. д., не возрождая французов! Какая в том необходимость? Что за страсть к реставрации! Предоставьте же сгинуть тем, кому хочется умереть. Умоляю, хоть немного руин (это — одно из условий исторического и социального пейзажа)! Бедняжка Ожье, такой остроумный, кушающий такие вкусные обеды и утверждавший в разговоре со мною, что «он никогда не совал носа в эту книжицу» (он имел в виду Библию)!
Замечала ли ты, как все, что представляет власть, бездарно в отношении Искусства? Превосходные правительства (короли или республики) воображают, что достаточно приказа, и все будет им доставлено. Они назначают премии, поощрения, учреждают Академии и забывают лишь одну вещь, самый маленький пустяк, без которого ничто не может жить: атмосферу. Существует два вида литературы, одну я называю национальной (и она — лучшая), а затем — культурная, индивидуальная. Для осуществления первой необходимо, чтобы в массе был запас общих идей, солидарность (которой не существует), связь; а для полного расцвета второй нужна свобода. Но что сказать, о чем говорить сейчас? И дальше все будет ухудшаться, я желаю этого, надеюсь. Полное уничтожение я предпочитаю злу, лучше прах, чем гниение. А потом все возродится. Вновь взойдет заря! Нас уже не будет! Что из того?
Я глубоко потрясен тем, что ты пишешь о превосходнейшем и несчастном де Лиле! Я более, чем кто-либо, жалею людей, страдающих от материального недостатка, и перед лицом такой нужды кажусь себе подлецом, греясь у жарко натопленного камина, в шелковом халате и с набитым брюхом! Но я не богат. О, будь я богат, никто из окружающих меня не страдал бы. Я люблю, чтобы все, что окружает меня вдали или вблизи, короче говоря, чтобы все, что касается меня, было красиво и хорошо. Почему у меня нет ста тысяч франков ренты! В каком замке жили бы все мы! У меня имеется ровно столько, чтобы жить прилично, как говорят люди (а такого почета не трудно добиться). Словом, и это уже много! И я благодарю небо, или, вернее, возраст, за то, что у меня нет больше той потребности в роскоши, какая была когда-то. Но мне хотелось бы помочь тем, кого я люблю. Что и говорить, милая Муза, я более, чем кто-либо, желал для своей возлюбленной денег. Почему их нет у меня и для де Лиля и для Буйле, чтобы он смог напечатать свою книгу и т. д. Чем я могу помочь де Лилю? Купить экземпляры его издания? Невозможно, он узнает, что это мы. Если ты найдешь кого-нибудь верного и умеющего непоколебимо держать тайну, сообщи мне!
Я ничего не сказал тебе о его «Тигре». {«Джунгли» («Варварские поэмы»).} Позабыл прошлый раз. Итак, я предпочитаю «Быка», {«Fultus Hyacinto» («Античные поэмы»).} и во многом. Вот мои доводы: я считаю вещь неровной и как бы разбитой на две части. Вся вторая часть, начиная со слов «Облитый пламенем, он...» — превосходна. Но в предшествующем многое мне не нравится. Во-первых, поза животного, спящего брюхом кверху, кажется мне неестественной: никогда четвероногое животное не засыпает брюхом кверху.
Шершавый розовый из пасти свис язык
Шершавый и свис несколько преувеличенно. В стихе
И всякий ропот смолк вокруг покоя, —
тон не соответствует предшествующему и последующему. Оба слова — ропот и покой почти метафизичны, лишены воображения и кажутся мне вялыми и слабыми. Я понимаю, что, вставив их таким образом в очень точное описание, он хотел придумать для перехода очень спокойную и простую строфу. Но в таком случае слово смолк утрирует, так как оно само по себе является метафорой. Далее, мы слишком теряем тигра из виду за пантерой, пифоном, кантаридой (или же их недостаточно; второстепенное, будучи чересчур коротким, путается немного с главным, загромождает его). Мускулистый относительно пифона, по-моему, неудачно; разве у змей выделяются мускулы? Полосатый король — искусственное соединение несоответствующих одно другому понятий: король (метафора) полосатый (техническое слово). Если главная идея король, нужно взять эпитет, производный от идеи короля. Если, наоборот, упор на слове полосатый, значит, надо взять существительное, имеющее какое-нибудь отношение к полосатому, и дать тигру название чего-то, что естественно имеет полосы. А ведь король не полосат. Если не считать указанного, вещь, кажется мне, очень хороша.
Но черной пеленой нисходит с неба тень, —
очень широко, очень спокойно.
Проходит ветерок по зарослям бамбука, —
восхитительно. Не нравятся мне здесь, в таком сильном месте, ночные газели, вместо того чтобы сказать, что они приходят ночной порой. Это латинское выражение ничего не значит, оно слишком поэтично наряду с таким правдивым стихом, как:
И дрожью голода его трепещет брюхо.
Ну, а последние четыре стиха просто превосходны. Прошу тебя не сообщать ему моих впечатлений. Милый мальчик достаточно несчастен сейчас и без моей критики.
А ты? Я жду «Служанку»; отошлю тебе ее обратно ощипанной. Знаешь, новогодний подарок ты получишь от меня в феврале, словом, в ближайший мой приезд! Шлю тебе тысячу поцелуев.
Прощай, дорогая Луиза.
Твой Г.
P. S. Эно, должно быть, великолепен с тех пор, как возвратился с Востока. У нас будет еще одно путешествие на Восток! Впечатления от Иерусалима! Ах, бог мой, описание трубок и тюрбанов. Нас еще раз осведомят о том, что такое баня и т. д.
Прими мой комплимент за сонет. Но кто же тот бесстыдник или та бесстыдница, кто сочинил последний стих? Никогда не бывает слитком длинных; могут быть лишь слишком толстые.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Понедельник, час ночи [январь 1854]
Надеюсь недели через две повидаться с тобой, моя хорошая, дорогая Луиза! Но сказать тебе точно день моего приезда не могу. Мне надо написать три небольшие сценки, то есть приблизительно пять или шесть страниц.
Впрочем, мне необходимо знать две вещи, прежде чем уведомить тебя окончательно: 1) в какой день соберется семейный совет Амаров и 2) выходит ли замуж моя кузина (ножанская). Ввиду того, что я собирался в феврале месяце в Ножан, а если свадьба состоится, то мне обязательно надо будет туда поехать, у меня нет ни малейшего желания отправляться туда дважды. Следовательно, путешествие мое не состоится, что доставит мне большое удовольствие. Итак, я жду и узнаю обо всем через несколько дней.
Кстати, о путешествии, я уже два раза забывал тебе сообщить, что добрейшая учительница Аделина глубоко ошибается, полагая, будто видела меня на площади Карусели. Очевидно, я заполонил ее воображение. Это мне льстит, но она нагло солгала. Если бы я задумал такую шалость, ты была бы о ней уведомлена и мною самим. Неужели ты сомневаешься?
Я ожидал вчера либо из твоего письма, либо от Буйле узнать подробности относительно актрисы, влюбившейся без ума в нашего друга. Но ничего нет! Я брежу этим, меня это возбуждает. Господин непременный секретарь, оказывается, был чрезвычайно мил в среду у тебя, упивался белыми плечами и втягивал носом приятный запах подмышек. Воображаю картину! А бедняжка Шерон, дева с чистой душой и с большим носом, вероятно, мечтала о своем бесчувственном поэте, который любит где-то на стороне!
Сколько есть таких несчастных, у которых на лбу написано то, что бывает выгравировано прописью на дверях: «Звоните».
Что касается Делиля, то я отлично понимаю его отвращение к дальнейшему знакомству с горбуном, коль скоро тот надавал ему много прекрасных обещаний и не сдержал ни одного. Неудачник он, бедняга Делиль! Надо многое прощать оскорбленному самолюбию, а этот малый, мне кажется, настрадался достаточно! Вот почему он и нравится мне; но он лишится моего расположения, если действительно завистлив, как тебе кажется (и ты, возможно, права; Леконт прошел через активную демократию, а это грязный путь!).
Ты немного возмутилась, когда несколько месяцев тому назад я сказал тебе, что этому молодому человеку (ибо он именно молодой человек) нужна хорошая баба, веселая, забавная девка, женщина с изюминкой.
Возвращаюсь к своей мысли. В его жизнь проник бы луч солнца. Как его таланту, так и его характеру недостает современного, краски в движении. Возводя в идеал благородную страсть, он не замечает, как сушит себя практически, как стерилизуется в смысле литературном. Идеал тогда лишь плодотворен, когда в него входит все. Это труд любви, а не устранения. Вот уже два века, как Франция идет по пути отрицания; из книг все больше и больше изгоняют природу, искренность, причуды, личность к даже эрудицию, считая ее грубой, аморальной, странной и педантичной, а в нравах преследуют и чуть ли не уничтожают, считая их постыдными, веселость, приветливость, свободное обращение, вольный образ жизни — все, что можно назвать плодотворным. Стали пыжиться от благопристойности! Чтобы скрыть золотуху, стараются выше подвязать галстуки. Якобинский и мармонтелианский идеалы могут подать друг другу руки. Наша очаровательная эпоха еще завалена этой махровой пылью. Робеспьер и де Лагарп руководят нами из своих могил. Но мне кажется, есть нечто такое, что стоит выше всего этого, а именно: ироническое восприятие жизни и пластическое, полное претворение ее в Искусстве. А до жизни нам нет никакого дела, и все наши стремления должны быть направлены к одному — не страдать.
Отвратительно провел два дня — субботу и вчерашний день. Не мог написать ни единой строчки; трудно себе представить, как я ругался, сколько перепортил бумаги, как топал от злости ногами. Мне нужно было очень тонко передать психонервический момент, а я все время путался в метафорах, вместо того чтобы уточнить факты. Сущность моей книги — в стиле, а стиль-то и представляет вечную опасность; я увлекаюсь фразой и теряю из виду идею. Если бы даже весь мир освистал меня, я не испытывал бы такого стыда, какой временами испытываю. Кто не переживал минут бессилия, когда кажется, будто мозг истлевает, как куча прогнившего тряпья? А потом снова порывы ветра, парус надувается. Нынче вечером я в один час написал целых полстраницы. Я, быть может, окончил бы ее, если бы не услышал боя часов и не вспомнил о тебе.
Что касается твоего журнала, то я отнюдь не запретил Буйле сотрудничать в нем. Мне только кажется, что, поскольку он неизвестен, а, как начинающий, должен беречь свою репутацию и показывать себя с выгодной стороны, было бы неправильно печатать теперь стихи в маленьком журнале; это не принесет ему ни чести, ни прибыли, и я не знаю, так ли уж ты нуждаешься в его услугах, раз вы имеете право брать направо и налево все, что вам понравится. Что до меня, то ты понимаешь, я ни здесь, ни в другом месте писать не буду; к чему? Какой мне от этого прок? Если нужно (когда я буду в Париже) посылать тебе статьи, я от всего сердца окажу тебе эту услугу; но ставить свое имя, нет. Вот уже двадцать лет, как я сохраняю свою девственность. Публика либо получит ее в целости и сразу или не получит совсем; а до тех пор я ее берегу.
Я твердо решил не писать ни в одном журнале, будь то даже «Ревю де Дё Монд», если бы мне предложили в нем сотрудничать. Я не хочу ни в чем принимать участия, не хочу быть членом какой бы то ни было академии, корпорации или союза. Я ненавижу стадо, правило и общий уровень. Бедуином готов быть, сколько хотите, но гражданином никогда! Я даже постараюсь, как бы дорого это ни обошлось мне, поместить на первой странице моих сочинений, что перепечатка разрешена, дабы видно было, что я не принадлежу к Обществу писателей, ибо я заранее отвергаю это звание и предпочту, чтобы привратник называл меня купцом, либо торговцем церковными облачениями. Ах, не затем прожил я четверть века в своей клетке, еще больше нежели тигры в зоологическом саду стремясь к свободе, чтобы впрячься затем в омнибус и плестись спокойным шажком по мощеному шоссе! Нет, нет, либо я издохну в своей берлоге, как паршивый медведь, либо пусть потрудятся прийти взглянуть на медведя. Можно сделать в твоем журнале одну совершенно новую и очаровательную штуку, о которой ты не подумала; а между тем она могла бы стать чуть ли не литературным открытием — это отдел мод. Я объясню тебе свою мысль в следующем письме. Мне почти не остается места, чтобы сказать, что твой Гюстав тебя целует.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Пятница, полночь [7 апреля 1354]
Только что переписал начисто все, что сделал с нового года, вернее, с середины февраля, так как, возвратившись из Парижа, я все сжег; это составляет тринадцать страниц, не больше и не меньше; тринадцать страниц за семь недель. Короче говоря, они сделаны и, как мне кажется, настолько хорошо, насколько возможно для меня. Мне осталось убрать два-три повторения, разбить два слишком сходных периода. Вот, наконец, и нечто законченное; трудное место, надо было незаметно для читателя увести его от психологии к действию. Теперь я приступлю к части драматической, полной движения; еще два или три больших эпизода, и подойду к окончанию. В июле или августе надеюсь начать заключительную часть. Сколько я выстрадал, боже, сколько выстрадал! Как я устал, сколько раз падал духом! Вчера я весь вечер занимался жесточайшей хирургией; я изучаю теорию кривых ступней, за три часа проглотил, делая заметки, целый том этой интереснейшей литературы. Там встречались прелестные выражения: «материнская грудь — святилище, непроницаемое и таинственное, где...» и т. д. Превосходное занятие! Почему я уже не молод! Как бы я работал! Чтобы быть писателем, надо все знать; все мы, писаки, чудовищно невежественны, а между тем сколько идей и сравнений дало бы нам знание? Обычно нам недостает глубины! Источники целых литератур, как Гомер, Рабле, были энциклопедиями своего времени; эти молодцы все знали, а мы ничего не знаем. В поэтике Ронсара имеется любопытное наставление: он предлагает поэту изучить искусства и ремесла — кузнечное, ювелирное, слесарное и т. д., чтобы черпать оттуда метафоры; действительно, это обогащает и разнообразит язык. В книге фразы должны трепетать, точно листья в лесу, и нужно, чтобы они были различны в своем сходстве.
Но поговорим о тебе, а кстати и о медицине: я решительно не понимаю, что у тебя за боли. Что с тобой в конечном счете? Кто тебя лечит и лечишься ли ты? Если у одного из созданий, которых я видел у тебя — Валерия или Алибера, то мне жаль тебя. Эти господа произвели на маня впечатление круглых дурней. Хоть ты и неверующая в медицине, подтверждаю тебе, что она может принести много вреда. Вас могут превосходно убить, если не излечат. Я тебе всегда советовал обратиться к какой-нибудь знаменитости по поводу твоего сердцебиения. Ты упорно продолжаешь ничего не делать и страдать. Это очень красиво с точки зрения равнодушия к себе, но менее красиво с точки зрения благоразумия.
Получил письмо, в котором ты пишешь, что Виньи читал, и довольно скверно, твои стихи в Академии. Итак, успокойся, оно не затерялось. Милейший Виньи производит на меня впечатление прекрасного человека. К. тому же он один из честнейших писателей нашего времени — большая похвала! Я благодарен ему за тот восторг, с каким когда-то читал «Чаттертона». В «Стелло» и «Сен-Марс» тоже есть красивые страницы. Словом, у него приятное и тонкое дарование; притом время то было хорошее: у него была Вера! Он переводил Шекспира, ругал буржуа, писал исторические произведения. Пусть смеются над этими людьми, они еще долго будут господствовать над всеми, кто придет за ними. И все в конце концов становятся академиками, о ирония! Презрение этих господ к Поэзии навело меня сегодня на мысль, что тут многое надо объяснить, и я берусь объяснить это. Назрела необходимость в двух книжках морального направления — одной, касающейся литературы, а другой — по поводу общительности.
У меня руки чешутся взяться за это дело. (К сожалению, не ранее чем через три года.) Ручаюсь тебе, если что-нибудь может вызвать скандал, то именно такая вещь. Честные люди вздохнут свободно; я хочу подарить людскому сознанию немного воздуху, которого ему не хватает. Я чувствую, что сейчас как раз подходящий момент. Меня одолевает масса критических мыслей. Мне необходимо от них освободиться и сделать это в наиболее художественной форме, а затем спокойно и надолго засесть за два или три больших произведения, которые я давно вынашиваю в своем чреве.
Нет, я не преувеличивал в своем отрицательном отношении к Делилю, ибо в конечном счете ничего плохого о нем не сказал; но я говорил и продолжаю утверждать, что его поведение за фортепиано возмутило меня. Я вижу в нем молчаливого позера. Уверяю тебя, этот молодой человек отнюдь не занимается искусством исключительно для себя. Он хотел бы, чтобы все его стихи были переложены на музыку, чтобы их пели и горланили и ворковали в салонах (потом он скажет в свое оправдание, что стихи Гомера пелись и т. д.). Это бесит меня, я не прощаю ему такой проституции. Тебе моя свирепость показалась лишь странной причудой. Уверяю тебя, что он оскорбил меня за поэзию, за музыку и за себя самого, ибо я любил его, и хотя ты объявляешь, что у меня никогда в жизни не было ни одного сердечного порыва, я, напротив, простофиля, который не умеет восторгаться по частям. Если я нахожу красивой кисть руки, то преклоняюсь перед всей рукой. Если человек написал хороший сонет, он становится уже моим другом, а затем во мне происходит внутренняя борьба, и я не верю себе, хотя бы и открыл истину. Возможно, что Делиль превосходный парень, не знаю; но он сделал нечто (само по себе незначительное, согласен), что показалось мне в художественном отношении тем же, чем является в физическом отношении пот от ног. Оно смердит, а трели гаммы и октавы, выделяющиеся на фоне его голоса, подобны петлям грязного носка, откуда благодушно истекает струя тошнотворного тщеславия. И среди всего этого бедная поэзия! Но ведь присутствовали дамы! Не следовало разве быть любезным? Дух общества, ко всем чертям!!!
Ты пишешь прекрасные вещи насчет Сильфиды и ее деятельной натуры. Суетливость некоторых людей вызывает головокружение, не правда ли? Вот в чем проходит жизнь, в целом ряде бестолковых действий, заставляющих соседа пожимать плечами.
Ничто не серьезно в сей юдоли за исключением смеха!
Представляешь себе, сколько треволнений причинит Буйле бедненькой Леони? Она ждет его как манну небесную. Лишь бы только она не сказала ему — как Изимодокия Евдору: «Ах, римские женщины слишком тебя любили».
Прощай, моя милая, дорогая Муза; поправляйся! Целую тебя.
Твой монстр.
Перечитываю историю Греции, чтобы подготовиться к урокам с племянницей. Вчера геродотовская битва при Фермопилах привела маня в восторг, точно двенадцатилетнего мальчика, — а это доказывает мою душевную чистоту, что бы ни говорили обо мне.
ЛУИЗЕ КОЛЕ
[Круассе] Суббота, час ночи [22 апреля 1854]
Целый час обдумывал твою статью в «Новом издательстве», вернее — по поводу «Нового издательства». Я полагаю, что из нее в том виде, как она есть, можно сделать кое-что. Я тебе устрою это в ближайшие дни, пока здесь Буйле. Он отвезет ее тебе, или же я сам привезу ее на днях. Самое главное и самое трудное — иметь какой-нибудь план и чтобы эти глупые строчки не ограничивались сухой номенклатурой. Мне все не везет. Мой дорогой братец два раза обманул меня на этой неделе, не явившись на свидание, а если он и завтра не приедет, я буду снова вынужден отправиться в Руан. Ну, ничего, дело все же двигается. У меня на этих днях было большое затруднение с одной религиозной речью. Я сознаю, что написанное мной на редкость безбожно. Что значит различие эпох! Если бы я жил сто лет тому назад, какую бы я подпустил декламацию! А между тем я написал чистейшее и почти ученое изложение того, что должно было быть. Наш век прежде всего исторический, поэтому надо просто рассказывать, но рассказывать с душой. Обо мне никогда не скажут того, что сказали о тебе в замечательном проспекте «Нового издательства»: «Все ее труды стремятся к одной возвышенной цели» (стремление к лучшему будущему). Нет, надо петь только ради того, чтобы петь. Почему волнуется океан? В чем цель природы? — Так вот я считаю, что у человечества та же самая цель; все происходит, потому что происходит, и ничего вы, милейшие мои, не поделаете! Мы постоянно ходим все по тому же кругу и всегда вокруг одного и того же. Разве во времена Перикла люди были свободнее и умнее, чем при Наполеоне III?
В чем ты усмотрела, что я теряю «восприимчивость к некоторым чувствам, которых не испытываю»? Прежде всего позволю себе заметить, что я их испытываю. У меня человеческое сердце, и если я не хочу иметь собственного ребенка, то только потому, что тогда, я чувствую это, оно станет слишком отцовским. Я люблю свою маленькую племянницу, как родную дочь, и достаточно (активно) занимаюсь ею, чтобы доказать, что это не пустые фразы. Но я скорей позволю содрать с себя живого кожу, чем стану эксплуатировать это в стиле! Я не хочу рассматривать Искусство, как сточную канаву для страстей, как ночной горшок, который немного чище простой болтовни или признаний. Нет! Нет! Поэзия не должна быть накипью сердца. Это и не серьезно и нехорошо. Твой ребенок заслуживает большего, нежели быть воспетым в стихах под покрывалом или именоваться ангелом и т. д. Все это литература более или менее хорошо написанного романа, только грешит она одним — слабой основой. Когда написана такая вещь, как «Крестьянка», и несколько стихотворений из твоего сборника «То, что в сердце женщины», нельзя себе позволить подобных фантазий, даже в шутку.
Благодаря сентиментальной личности большая часть современной литературы будет считаться впоследствии ребяческой и глупенькой. Сколько чувства, сколько чувства, сколько нежностей, сколько слез! Никогда не бывало таких честных людей. Нужно, прежде всего, чтобы в фразах была кровь, а не лимфа, а под кровью я подразумеваю сердце. Оно должно биться, трепетать, трогать. Надо сделать так, чтобы деревья любили, а гранит содрогался. Можно вложить огромную любовь в историю какой-нибудь былинки. Басня про двух голубей всегда трогала меня больше, чем весь Ламартин, и только своим сюжетом. Но если бы Лафонтен потратил весь свой любовный дар на изложение собственных чувств, его, пожалуй, не хватило бы на описание дружбы двух птиц. Не будем разменивать на мелкую монету золото, которым мы владеем.
Твой упрек кажется тем более странным, что я как раз пишу книгу, посвященную исключительно изображению чувств, в непонимании которых ты меня обвиняешь, а твою пьесу в стихах я прочел через три дня после того, как окончил маленькую картинку, где изобразил мать, ласкающую свое дитя. Все это я говорю вовсе не в защиту своей критики, которой придаю весьма мало значения. Но я не могу отказаться от идеи, внушившей мне такие критические взгляды.
Кажется, Конкурс намечается удачный, у меня хорошее предчувствие.
Я не имел известий от Буйле с самого его отъезда. Жду его во вторник или в среду. Не можешь ли прислать мне вещь Леконта «Псы при лунном свете»? {«Холодный ветер в ночи» («Варварские поэмы»).} Я бы очень охотно познакомился с нею.
Поскольку ты хочешь опубликовать сейчас «Служанку», я ничего не скажу (о публикации); подожду. Как вы все там, в Париже, стремитесь стать известными, как спешите, приглашаете жильцов, когда еще не готова крыша для жилья! Где люди, которые следуют рецепту Горация держать свое произведение девять лет под спудом, прежде чем решиться показать его? Ни в чем нет ничего внушительного в наше время.
Прощай, целую тебя нерешительно.
Твой.
ЛУИ БУЙЛЕ
Круассе, воскресенье, 3 часа
[30 сентября 1855]
Побеседуем немного, старый бедняга. Дождь льет как из ведра, воздух тяжелый, мокрые, пожелтевшие деревья пахнут мертвецом. Вот уже два дня как я непрестанно о тебе думаю, и твое горе не выходит у меня из головы. {Отказ художественного совета «Французской комедии» принять к постановке «Мадам де Монтарси».}
Позволю себе прежде всего сказать (вопреки твоему мнению), что если бы когда-нибудь я в тебе и усомнился, то ныне не сомневаюсь; препятствия, встречаемые тобою, подтверждают мое мнение о тебе. Будь ты посредственным человеком — все двери раскрылись бы перед тобой. Представь вместо пятиактной, насыщенной действием и написанной крепким стилем драмы комедию «Биржевой маклер Помпадур», и ты увидишь, какие льготы, какие улыбки, какие доброжелательства встретят произведение и автора его. Разве ты не знаешь, как ненавидят в прекрасной Франции все оригинальное? Мы живем в мире, где одеваются в готовое платье. Тем хуже, если ты слишком высок ростом, существует общая мерка, и ты останешься голым. Открой книгу по истории, и пусть меня четвертуют живьем, если твоя история не похожа на истории всех гениальных людей. Талант признают только тогда, когда он помимо вас достигнет успеха, и нужны тысячи снарядов, чтобы завоевать Фортуну. Я взываю к твоей гордости, припомни все, что ты сделал, все, о чем мечтаешь, что можешь сделать, и воспрянь духом, черт возьми, смотри на себя с большим уважением! И не унижай свою совесть сомнениями в уме, который не подлежит сомнению.
Ты можешь возразить, что уже два года живешь в Париже, сделал все, что мог, и не добился ничего хорошего. Во-первых, неправда — ты еще ничего не сделал для своего материального преуспеяния, и разреши мне сказать обратное; «Меленис» имеет успех, о ней говорят, пишут отзывы; ты не печатаешь «Меленис» отдельным изданием, не ходишь к людям, которые пишут о тебе благоприятные отзывы. Тебе дают пропуск во «Французскую комедию», а ты туда ни ногой, и за два года не удосужился — я уже не говорю подружиться с кем-нибудь из того мира — но даже познакомиться. Ты отказался бывать у целого ряда людей — Жанена, Дюма, Гуттингера и др., в доме которых мог бы завязать дружеские отношения, а что касается тех, у кого ты бываешь, то лучше было бы, пожалуй, с ними не водить знакомства. Пример — Готье. Неужели ты думаешь, что он не чувствует по тебе, как мало ты его любишь, и не питает к тебе неприязни за то, что ты не взял билета на концерт Эрнесты (таково мое предположение, но я не сомневаюсь). Из-за ста су ты сделал ему свинство на 25 франков. Нередко я позволял себе делать тебе по поводу всего этого указания. Но не могу же я вечно быть педагогом и надоедать тебе с утра до вечера своими советами, ты меня возненавидишь и будешь прав. Педантизм в мелочах невыносим. Но ты не видишь всей важности, какую приобретают мелочи, когда живешь среди мелких людей. В Париже колесницей Аполлона является фиакр. Слава достигается там при помощи разъездов.
Ну и хватит на сей счет. Момент для наставлений неподходящий.
Засим, что касается средств к жизни, то я уверяю тебя, г-жа С*** отлично может попросить у императора лично место, какое тебе захочется. Подыщи себе что-нибудь подходящее за эти три недели. Вытребуй под шумок послужной список твоего отца. Посмотрим. Можно выхлопотать пенсию; но зато тебе пришлось бы расплачиваться продуктами своего ремесла, то есть кантатами, эпиталамами и т. д. Нет, нет.
Во всяком случае, никогда не возвращайся в провинцию.
Вот что я хотел тебе сказать. Обдумай. Постарайся отвлечься от самого себя, стань перед очи некоего г-на Буйле и сознайся, что я прав. Словом, бедный мой старик, если я тебя чем-нибудь обидел, то прости меня, я сделал это с добрым намерением — обычное извинение всех глупцов.
Напрашивается сравнение, а именно меня с Дю Каном. Четыре года тому назад он упрекал меня почти в том же, в чем я упрекаю тебя (его нравоучение было более длинно и, увы, тон был другой). Но точка зрения иная. Он принимал меня тогда за то, чем я не хотел быть. Я никоим образом не собирался жить практической жизнью, а он трубил мне в уши, что я сбиваюсь с пути, на который я и не думал вступать.
Завидую тебе, что ты сожалеешь о чем-то в прошлом. Что касается меня, то мне это чувство незнакомо (вероятно, потому что я никогда не был ни счастливым, ни несчастным). И прежде всего мне было бы стыдно. Ведь это равносильно признанию, что в жизни есть нечто хорошее, — слишком много чести для нее.
Ты бросишь «Французскую комедию», решено.
Однако, если бы ты раньше побывал у Ренье, он, пожалуй, мог бы повлиять на Ложье, как ты думаешь? В жизни не видел человека, который бы так берег свои подметки. Твоя непонятная застенчивость — злейший твой враг, милый мой. Будь уверен.
Если ты бросишь «Французскую комедию», то отнеси свою драму в «Одеон», это предпочтительнее всего; только осведомись сначала, от кого зависит принятие, и перед натиском приготовь соответствующим образом свое лицо.
Рейе серьезно обращался к тебе по поводу комической оперы? Напиши ее. То, что ты никогда их не писал, — предлог больше работать. Засим, когда ты напишешь штук пять или шесть и ни одна из них не будет поставлена, у меня начнут появляться сомнения, но отнюдь не в твоих литературных достоинствах, а в моих материальных надеждах. Мне нужно, чтобы ты сочинил этой зимой романтическую трагедию в трех актах, с очень простым действием, с двумя-тремя театральными эффектами, написанную здоровенными стихами, какие тебе так легко даются.
Я не думаю, что друзья наши достаточно могущественны, чтобы на деле чинить препятствия. Мы приписываем им больше значения, чем оно у них есть в действительности. Но мы их идейные враги, усвой это хорошенько. «Обозрение» отказалось принять твое «Сердце справа», потому что не усмотрело в нем моральной идеи. Если ты проследишь внимательно за их движением, то увидишь, что они плывут к старому, чисто националистическому социализму 1833 года. Ненависть к Искусству для Искусства, напыщенные речи против Формы. Дю Кан на днях разразился против Г. Гейне и в особенности против Шлегелей, этих отцов романтизма, называя их реакционерами (sic!). Я не извиняю, я объясняю. Он оплакивал передо мною «Ископаемых». Если бы конец был утешительным, ты прослыл бы великим человеком. Но так как он полон горького скептицизма, ты оказался лишь фантазером. А нам фантазии не нужны. Долой мечтателей! К делу! Будем фабриковать социальное возрождение! Писатель обязан заботиться о людских душах и т. п. Но во всем этом — ловкий расчет. Если нельзя вести общество за собою, то остается плестись за ним на буксире, подобно лошадям, идущим за транспортом, когда надо спуститься с горы; движение машины увлекает вас за собой, — вот средство идти вперед. К вашим услугам страсти нынешнего дня и симпатия завистников. Вот где секрет больших и малых успехов. Арсен Уссей пользуется манией рококо, сменившей манию средневековья, так же как г-жа Бичер-Стоу злоупотребляет манией равенства. Наш друг Максим использует железные дороги, промышленную горячку и т. п.
А мы, мы ничем не пользуемся. Мы одиноки. Одиноки, как бедуин в пустыне. Мы должны закрыть лицо, завернуться покрепче в плащ и, склонив голову, идти против ветра — всегда и непрерывно, до последней капли крови, до последнего биения сердца. И мы умрем с утешительным сознанием, что проложили путь и плавали в Великом.
Меня душит злоба на глупость современной эпохи. К горлу подступает к..., как при ущемлении грыжи. Но я хочу сохранить его, дать ему застыть, затвердеть, я сделаю из него массу и вымажу девятнадцатый век, наподобие того, как золотят коровьим навозом индийские пагоды, и, кто знает, быть может, это продержится? Нужен лишь один солнечный луч, минутное вдохновение, какой-нибудь успех!
Ну же, Филипп, проснись. Во имя «Одиссеи», во имя Шекспира и Рабле — призываю тебя к порядку, то есть к сознанию своего достоинства. Ну же, старый бедняга, мой молодящийся старичок, единственный поверенный моих тайн, мой единственный друг, единственный слушатель моих излияний, возьми себя в руки, полюби нас посильнее. Постарайся относиться к людям и к жизни с той же maestria (парижский стиль), с какой относишься к идеям и к фразам.
«Бовари» идет pianissimo. Не мешало бы тебе сказать, какого рода «чудище» я должен поместить в Гильомском лесу? Нужно ли, чтобы у него был лишай на лице, красные глаза, горб, отсутствовал бы нос? Должен ли он быть идиотом или кривоногим? Я совсем стал в тупик. Черт подери папашу Гюго с его калеками, похожими на слизняков во время дождя! Экая досада!
Прощай, пиши мне каждый день, если тебе грустно. Я буду тебе отвечать. Погорюй вволю и покончь с этим как можно скорей. Выйди из этого состояния. Сядь на своего конька и хорошенько пришпорь его. «Великие предприятия редко удаются с первого раза» (произведения Наполеона III).
Целую тебя во имя всей нашей дружбы и литературы; твой, твой.
ЛУИ БУЙЛЕ
Круассе, 1 июня [1856]
Наконец я отправил вчера Дю Кану рукопись «Бовари», сокращенную страниц на тридцать, не считая многих вычеркнутых тут и там строк. Я уничтожил три длинных тирады Омэ, один пейзаж целиком, беседу буржуа на балу, статью Омэ и пр., и пр., и пр. Видишь, старина, какой я герой. Выиграла ли от этого книга? Несомненно одно — в целом теперь больше действия.
Если ты будешь опять у Дю Кана, узнай его мнение, мне любопытно. Только бы эти молодцы не отвергли меня!
А как твоя драма? Доставь мне удовольствие, сообщи заглавие. Приедешь ли ты в Руан тотчас же по окончании? Я лично поеду в Париж не раньше начала августа, после того как меня напечатают, после выхода первого номера.
Ты спрашиваешь меня, что я делаю, так вот: подготовляю легенду {«Легенда о св. Юлиане Странноприимце».} и исправляю «Святого Антония». Из «Святого Антония» я выкинул все, что мне казалось неуместным; работа была не маленькая, ибо первая часть, содержавшая 160 страниц, составляет теперь (в переписанном виде) всего 74 страницы. Я надеюсь разделаться с первой частью через недельку. Больше дела будет со второй, я наконец нашел в ней связь, быть может, ничтожную, но все же связь, возможную завязку.
Святому Антонию я прибавлю два-три монолога, которые приведут к искушениям. В третьей части надо целиком переделать середину. В общем, придется написать страниц двадцать, тридцать. Я вычеркиваю чрезмерно лирические душевные движения, уничтожаю многие обороты, отвлекающие читателя от главной мысли. Короче говоря, я надеюсь сделать книгу удобочитаемой и не слишком скучной.
Мы поговорим о ней очень серьезно во время каникул, ибо она лежит у меня камнем на совести, и я успокоюсь немного, лишь только избавлюсь от этого наваждения.
Читаю книги о средневековом домашнем быте и о псовой охоте. Нахожу великолепные и новые для меня подробности. Пожалуй, создам занимательную картину. Что бы ты сказал о «пироге из ежей и паштете из белок»? Впрочем, не пугайся, я не собираюсь погрязнуть в заметках. Через месяц закончу чтение, работая попутно над «Святым Антонием». Был бы я молодцом, я возвратился бы в Париж в октябре месяце с оконченным «Святым Антонием» и написанным «Святым Юлианом Странноприимцем». Тогда я мог бы в 1857 году представить и современное, и средневековое, и античное. Я перечел «Пекопена» {«Легенда о Прекрасном Пекопене и Прекрасной Больдур» В. Гюго («Рейн»).} и ничуть не боюсь сходства.
Был вчера в Руане в библиотеке. Потом у Леони, которую застал среди столь потрясающего хаоса мебели, как будто казаки побывали в ее комнате. Она помогала переезжать какой-то соседке и предстала передо мной в полном беспорядке. Посреди разговора она вдруг сказала: «А Ольга?» — «Какая Ольга?» — «Вы знаете». — «Нет». Оспаривание, утверждение, наглость с моей стороны; ложь, от которой я мог бы себя избавить, если бы знал, что ты сам рассказал ей всю историю. Я упорно настаивал на своем, уверяя, что ты мне ничего не говорил, а она на это: «Ах, не говорите ему, ведь он всегда обвиняет меня, что я вам все передаю». Вот тебе анекдот, извлеки из него пользу.
Относительно Дюрей советую тебе устроить, чтобы она попала в «Одеон» и получила роль Ментенон, — она справится с ней гораздо лучше, нежели эта толстая гусыня X***. Необходимо поручить эту роль трагической актрисе. Я имею в виду женщину с трагическими данными и высокопарностью; другие попросту раскромсают твои несчастные стихи. Не беспокойся, хороши они будут в их устах! Для Ментенон необходима актриса корнелевской школы.
Твое решение обходиться без актрис, похотливо выражаясь, решение целомудренного человека. Но, берегись, как бы не впасть в противоположную крайность, и не доверяй своему сердцу. Вот насчет моей бедной персоны я уверен, она несомненно очень хорошо исполнила бы эту роль. Поступай, как захочешь, я даже умоляю тебя делать то, что хочешь ты, а не то, чего захотят другие. Ты сделал достаточно уступок «Одеону», чтобы тебе дозволено было продвинуть женщину, да к тому же на роль старухи! Не сдавайся, черт возьми! Настаивай на своем. Людей уважают лишь тогда, когда они сами себя высоко оценивают.
ЛОРЕНУ-ПИША
Круассе, четверг вечером, 1856 [2 октября]
Дорогой друг!
Только что получил «Бовари» и считаю своим долгом прежде всего поблагодарить вас (если я груб, то это не значит, что я неблагодарен); вы оказали мне услугу, приняв книгу такой, как она есть, и я этого не забуду.
Сознайтесь, что вы считали и считаете меня (быть может, более чем когда-либо) в высшей степени смешным. Я был бы рад признать когда-нибудь, что вы правы; обещаю вам принести в тот день глубочайшее извинение. Но поймите, дорогой друг, что я прежде всего пытался сделать литературный опыт; лишь бы это учение не оказалось слишком жестоким!
Неужели вы думаете, что меня не тошнит, так же как и вас, от этой гнусной действительности, воспроизведение которой вызывает у вас такое отвращение? Если бы вы меня больше знали, то поняли бы, что обыденная жизнь мне ненавистна. Лично я всегда старался как можно дальше от нее уйти. Но на этот раз, единственный раз, захотел углубиться в нее с эстетической точки зрения. Поэтому я отнесся к своей работе героически, я хочу сказать — кропотливо, все принимая, все высказывая, все рисуя, выражаясь честолюбиво.
Я плохо объясняюсь, хотя этого достаточно, чтобы вы поняли смысл моей борьбы с вашей критикой, как бы она ни была разумна. Вы хотели переделать мою книгу заново.
Ваши исправления противоречили внутренней поэтике.
Искусство не требует снисхождения или учтивости, ему нужна одна лишь вера, вера и свобода. А засим сердечно жму вам руки.
Привет из-под бесплодного дерева с вечнозелеными ветвями.
ЛУИ БУЙЛЕ
Круассе, 5 октября [1856]
Старина!
Дай мне немедленно совет. Я получил утром письмо от Фредерика Бодри, он просит меня в самых достойных выражениях заменить в «Бовари» «Руанскую газету» — «Руанским прогрессистом» или каким-нибудь другим подобным названием. Этот малый — болтун, он рассказал все папаше Сенару и господам из самой газеты.
Первым моим движением было послать его к черту; с другой стороны, вышеупомянутая газета напечатала вчера очень любезную рекламу о «Госпоже Бовари». Но это так красиво: «Руанская газета» в «Бовари»! Впрочем, в Париже это выглядит не так уж красиво, и «Прогрессист», быть может, произведет не меньшее впечатление? Меня снедает нерешительность. Не знаю, как быть. {Флобер остановился на «Руанском фонаре».} Мне кажется, что, уступая, я ужасного труса праздную. Подумай, это нарушает ритм моих бедных фраз! Дело очень серьезно.
При виде отпечатанного произведения своего я совсем отупел. Оно показалось мне самым заурядным. Я вижу в нем буквально одно лишь мрачное. В этом большой недочет, и необходим предварительный успех, чтобы заглушить голос моей совести, который твердит мне: «Сорвалось!»
Только одно меня утешает — мысль о твоем успехе и затем надежда (хотя у меня столько их было, этих самых надежд!), что для «Святого Антония» имеется уже план. Мне кажется, он гораздо основательнее, чем «Бовари».
Нет, черт возьми! Говорю не для того, чтобы услышать от тебя комплименты, но я недоволен «Бовари», она кажется мне мелкой и «написанной для размышлений в тиши кабинета». Ничего увлекательного и блистающего издали. У меня впечатление, что я «попал на удачную тему». Эта книга обнаруживает гораздо больше терпения, нежели гениальности, гораздо больше труда, чем таланта. Не говоря уже о том, что стиль вовсе не так уж отточен; много фраз придется, конечно, обновить; некоторые страницы кажутся мне безупречными, но в общем это дела не меняет.
Подумай об истории с «Руанской газетой». Стань на мое место. Не говори об этом ничего Дю Кану, пока мы не придем к какому-либо решению; он, видимо, сочтет правильным уступить. Стань на точку зрения абсолютного и Искусства.
Ты, наверное, будешь смеяться надо мною от жалости, но я совершенно обалдел.
Прощай, ответь мне немедленно.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Октябрь или ноябрь 1856]
Дорогая госпожа де Женетт!
Только что получил ваше прелестное письмо, которое много путешествовало, прежде чем дойти до меня. Наконец оно здесь и бесконечно меня радует. Вы знаете, какое значение я придаю вашему вкусу; я хочу этим сказать, дорогая, что
Вы гордой слабости души моей польстили.
Был ли я искренен? Так ли это? Мне очень хочется продолжительно побеседовать с вами (но когда и где?) о теории вопроса. Считают, что я влюблен в реальное, а между тем я ненавижу его; только из ненависти к реализму я взялся за этот роман. Но я не менее ненавижу ложный идеализм, за который мы осмеяны в настоящее время. Мне ненавистны Альманзоры, равно как и Жанны Кутодье! Тьфу на овернцев и парикмахеров!
Буду ли я шокировать еще кого-либо? Вероятно! Весьма легкомысленная дама уже заявила мне, что не позволит своей дочери читать мою книгу, из чего я заключил, что я крайне морален.
Самая жестокая шутка, которую могли надо мной сыграть, это — присудить мне Монтионовскую премию. Когда вы прочтете конец, то увидите, что я достоин ее.
Тем не менее прошу не судить обо мне по этой книге. «Бовари» была для меня делом предрешенным, темой. Все, что я люблю, в ней отсутствует. Через некоторое время я дам вам кое-что более возвышенное из более благородной среды. Прощайте или, пожалуй, до скорого свидания. Разрешите поцеловать ваши ручки, которые пишут мне столь милые, столь лестные вещи, и выразить вам уверение (без всякого общепринятого выражения вежливости) в моей искренней преданности.
ЛУИ БОНАНФАНУ
Париж, пятница вечером [12 декабря 1856]
Вы, несомненно, вправе считать меня повесой, коль скоро я не ответил еще на твое любезное письмо, дорогой кузен. Но я был страшно занят весь месяц. Должность начальника клаки решительно не для бездельников!
Словом, дело это закончено, и доблестно. Наш приятель Буйле считается теперь поэтом высокого полета среди литераторов, а также, отчасти, и в публике. Вся пресса наперебой воспевала ему хвалы. Его пьеса идет 30-й постановкой, и ее будет смотреть на будущей неделе император.
Что касается меня, дорогие друзья, то я тоже не имею основания жаловаться. «Бовари» расходится сверх моих ожиданий. Только женщины смотрят на меня как на «ужасного человека». Находят, что я слишком правдив. Вот сущность их негодования. Я же считаю себя весьма нравственным и нахожу, что заслужил Монтионовскую премию, ибо мораль, вытекающая из романа, ясна, и если «мать не может разрешить чтение его своей дочери», то я думаю, что мужьям не мешает порекомендовать его своим женам.
Впрочем, признаюсь, все это мне глубоко безразлично. Мораль Искусства — в самой его красоте, и я выше всего ценю стиль, а затем уже Правду.
Я, кажется, внес в описание буржуазных нравов и в изображение характера женщины, по натуре своей развращенной, возможную литературность и приличие, поскольку сюжет был уже, разумеется, дан.
Сейчас я не в состоянии был бы предпринять такую работу. Обыденная среда мне противна, и именно в силу отвращения к ней я взял такую архиобыденную и лишенную пластичности среду. Эта работа сослужила свою службу: я приобрел больше гибкости. Теперь к другим упражнениям.
Я не имею сказать вам ничего нового. Погода отвратительная. Шлепают по грязи макадамовой мостовой, и носы начинают синеть.
ЛОРЕНУ-ПИША
[Между 1 и 15 декабря 1856]
Дорогой друг!
Прежде всего благодарю вас за то, что вы объявили себя непричастным к этому делу; значит, я говорю не с поэтом Лорен-Пиша, а с «Обозрением», отвлеченной личностью, чьим посредником вы являетесь. Так вот что я хочу ответить «Парижскому обозрению»:
1) «Обозрение» держало у себя в течение трех месяцев «Госпожу Бовари» в рукописи, и прежде чем напечатать хотя бы первую строчку, оно должно было знать, как быть с вышеупомянутым произведением. Его можно было либо принять, либо отвергнуть. Его приняли. Тем хуже для журнала!
2) Поскольку дело было закончено и решено, я согласился изъять очень важный, по-моему, абзац, так как «Обозрение» утверждало, будто сохранение такового чревато последствиями для журнала. Я принес жертву; но не скрою от вас (сейчас я обращаюсь к своему другу Пиша), право, в тот день я горько раскаивался, что мне пришло в голову печататься.
Надо было высказывать свои мысли целиком, либо молчать.
3) Я считаю, что сделал уже очень много, а «Обозрение» находит, что я должен сделать еще больше. Так вот я ничего не сделаю, ни одной поправки, ни одного сокращения, ни на одну запятую меньше, ничего, ничего! Если же «Парижское обозрение» находит, что я его компрометирую, если журнал боится, есть очень простой выход — приостановить печатание «Бовари», вот и все. Мне это совершенно безразлично.
Теперь, когда я поговорил с «Обозрением», я позволяю себе, друг, следующее замечание.
Исключив абзац с извозчиком, вы не уничтожили того, что так вас шокирует, и, вычеркнув в шестом номере то, о чем вы меня просите, вы опять-таки ничего не удалите.
Вы придираетесь к мелочам, а нужно приняться за все в целом. Элемент грубости лежит в основе, а не на поверхности. Нельзя побелить негра, и нельзя изменить внутренний смысл книги. Можно ее обеднить — и только.
Само собою разумеется, если я поссорюсь с «Парижским обозрением», я не прекращу дружбы с его редакторами.
Я умею исполнять в литературе обязанности администрации.
Весь ваш.
БРАТУ АХИЛЛУ
[Париж] Суббота, 10 час. утра [3 января 1857]
Прежде всего благодарю за предложение, но тебе совершенно не стоит беспокоить себя. А затем извини меня за бессвязные письма; я до того ошеломлен, измучен, так устал, что, вероятно, часто говорю глупости. Вот уже три дня, как я не знаю отдыха; обедаю в девять часов вечера и регулярно трачу по двадцать франков на извозчиков.
Все, что тобой сделано, — хорошо. Важно было, да и теперь не менее важно, воздействовать на Париж через Руан. Справки о положении, какое занимали в Руане отец и ты, и то влияние, каким пользуешься ты по сю пору, — лучшее, что только может быть; они думали напасть на несчастного малого, но как только увидели, что я нуждаюсь в средствах, начали прозревать. В Министерстве внутренних дел должно стать известным, что мы в Руане представляем то, что называется фамилией, то есть, что у нас имеются глубокие корни в этой местности; и вот, нападая на меня, в особенности за безнравственность, они оскорбляют очень многих. Я ожидаю большого впечатления от письма префекта к министру внутренних дел.
Уверяю тебя, дело это политическое.
Они хотели меня утопить и подкупить, я тебе поверяю это на ушко. Но предложения «Монитёра» слишком близко совпадают с преследованием меня, чтобы за этим не скрывалось какого-нибудь намерения, плана.
Очень ловко взять да запретить политическую газету за оскорбление нравственности и религии; они воспользовались первым подвернувшимся предлогом и думали, что у человека, к которому они придрались, нет никаких связей; а между тем этих господ судейских до того осаждают дамы высшего света (sic!), которых мы к ним подослали, что они совершенно растерялись; пусть рекомендации Б*** придут в дополнение. Директор Академии художеств, разукрашенный орденами и в мундире, остановил меня вчера в Министерстве в присутствии двухсот человек и поздравил с «Бовари», совсем как на сельскохозяйственной выставке в сцене между Тювашем и Льевеном и т. д. и т. д. Будь уверен, дорогой брат, что на меня теперь смотрят как на персону. Если я выпутаюсь (что весьма вероятно), то моя книга действительно разойдется!
Вероятно, сегодня вечером разрешится вопрос, буду ли я предан суду, или нет. Все равно; ухаживай за префектом и не прекращай до тех пор, пока я тебе не скажу.
Подумай о г. Левавассёре (депутате), Франк-Карре, Барбе, Сибиеле.
Все это для Министерства внутренних дел (общественной безопасности, директором коего является Колле-Мегре). Для Министерства юстиции сделано вполне достаточно.
Прощай, все ли тебе понятно? Целую тебя, преданный тебе брат.
Постарайся поискуснее дать понять, что опасно меня задевать, нас задевать ввиду предстоящих выборов.
Г-ЖЕ МОРИС ШЛЕЗИНГЕР
Париж, 14 января 1857
Меня очень тронуло ваше милое письмо, сударыня! Вопросы ваши об авторе и о книге попали прямо по адресу, прошу в этом не сомневаться. Дело в следующем: «Парижское обозрение», где я печатал свой роман (с 1 октября по 15 декабря), как враждебный правительству орган, получило уже два предостережения. И вот сочли удачным сразу его упразднить за безнравственное и антирелигиозное направление и с этой целью выискали в моей книге наугад несколько непристойных и безбожных отрывков. Мне пришлось предстать перед судебным следователем, и судопроизводство началось. Но я поднял на ноги своих друзей, и они ради меня потоптались в грязи высших сфер столицы. Короче говоря, все уже налажено, как меня уверяют, хотя я не получил еще никакого официального ответа. Я не сомневаюсь в успехе, это было слишком нелепо. Итак, я сумею опубликовать свой роман отдельным изданием. Вы получите его приблизительно недель через шесть, и для вашего развлечения я отмечу вменяемые мне в вину отрывки. Один из них — описание соборования — представляет собою лишь страничку из «Парижского ритуала», изложенную на французском языке; но добрые люди, пекущиеся о религии, не очень-то сведущи в катехизисе.
Так или иначе, я был бы осужден, все-таки осужден, — на год тюрьмы, не считая штрафа в тысячу франков. Сверх того, каждая книжка вашего друга подверглась бы жестокому надзору и мелочной критике господ из полиции, а в случае рецидива я снова очутился бы на «сырой соломе тюремной камеры», приговоренный на пять лет: короче говоря, я не имел бы возможности напечатать ни одной строчки.
Итак, я имел случай узнать: 1) что весьма неприятно быть уличенным в политическом деле; 2) что социальное лицемерие — вещь опасная. Но в данном случае оно было столь глупо, что устыдилось самого себя, упустило из рук добычу и возвратилось в свое логово.
Сама по себе книга нравственна, высоконравственна, и будь она менее искренней, ей присудили бы Монтионовскую премию (честь, которой я не особенно добиваюсь); книга пользуется максимальным успехом, какой может иметь роман, помещенный в Обозрении.
Я получил от сотоварищей очень милые приветствия, искренние или фальшивые — не знаю. Меня даже уверяли, будто г-н де Ламартин громко расхваливает мой роман, что меня весьма удивляет, ибо все в нем должно его раздражать! «Пресса» и «Монитёр» обратились ко мне с весьма приличными предложениями. — Меня просили написать либретто для комической оперы (комической! комической!) и о моей «Бовари» говорили в разных больших газетах и газетках.
Вот, сударыня, без всякой скромности, баланс моей славы. Успокойтесь насчет критиков, они меня пощадят, так как знают, что я никогда не пойду по их стопам и не займу их места: они, напротив, будут очаровательны; ведь так приятно утереть нос старикам!
Итак, я вернусь к своей жалкой жизни, такой заурядной и спокойной, когда фразы являются приключениями и я не срываю никаких цветов, кроме метафор. Я буду писать, как раньше, только ради удовольствия писать, для самого себя, без всякой задней мысли о деньгах или о шумихе. Аполлон, верно, воздаст мне должное, и, возможно, я создам когда-нибудь прекрасную вещь! Ибо все подчиняется непрерывности настойчивого чувства, не так ли?
Всякая мечта в конце концов облекается в определенную форму; находится источник для всех жаждущих, любовь для всех сердец. А потом, ничто так не помогает прожить жизнь, как непрестанная озабоченность какой-нибудь одной мыслью, или идеал, как говорят гризетки... Увлечение так увлечение, возьмем наиболее благородные. Раз мы не можем убрать солнце, надо загородить все окна и зажечь люстры в своей комнате.
Я иногда захожу на улицу Ришельё справиться о вас. Но последний раз я не встретил там ни одного знакомого. Г-н де Лаваль уехал оттуда; а при имени Брандуса пред мои очи предстал совершенно незнакомый смертный. — Значит, вы никогда не приедете в Париж? Неужели изгнание ваше вечно? Видимо, к бедной Франции питают неприязнь! А как поживает Морис? Что он поделывает? Какой одинокой вы должны чувствовать себя с отъездом Марии! Если я понял радость, о которой вы мне писали, то понял также и печали, о которых вы умалчиваете. Когда день покажется вам слишком длинным или бессодержательным, то вспомните того, кто с любовью целует ваши руки.
Преданный вам.
БРАТУ АХИЛЛУ
[31 января 1857]
Дорогой Ахилл!
Ты, вероятно, получил сегодня утром телеграмму, отправленную тебе от моего имени одним моим знакомым, — меня будут судить через неделю, считая от завтрашнего дня; правосудие еще колеблется. С другой стороны, мне предлагают сотрудничество в «Монитёре» по 10 су за строчку, что составило бы за такой роман, как «Бовари», от 8 до 10 тысяч франков заработка.
Защитительная речь г-на Сенара была восхитительна. Она подавляющим образом подействовала на прокурора, которого карежило в его кресле, и он объявил, что отказывается от ответного слова. Мы побили его цитатами из Боссюэ и Массильона, непристойными выдержками из Монтескье и т. д. Зал был переполнен. Было великолепно, и я имел независимый вид. Один раз я позволил себе лично обличить во лжи товарища прокурора, чем тотчас же доказал его недобросовестность, так что он отказался от своих слов. Впрочем, ты прочтешь дословно все прения, так как я пригласил стенографа (по 60 франков за час), который все записал. Дядюшка Сенар говорил четыре часа подряд. То было триумфом как для него, так и для меня.
Начал он свою речь с воспоминаний об отце Флобера, затем перешел к тебе, а потом уже стал говорить обо мне; после чего сделал полный анализ романа, опроверг обвинение, касающееся инкриминируемых мест. Вот где он показал свою силу; товарищу прокурора, должно быть, здорово влетело в тот вечер! Но лучше всего оказалось с описанием соборования. Г-н товарищ прокурора был очень сконфужен, когда Сенар вытащил из-под своей парты Ритуал и прочитал его; это место моего романа является лишь смягченным воспроизведением того, что сказано в Ритуале; здорово мы их ошарашили такой литературой!
В своей защитительной речи дядюшка Сенар все время ставил на вид мой талант и называл мою книгу шедевром. Была прочитана почти треть ее. Он очень ловко сумел придать вес одобрению Ламартина! Вот одна из его фраз: «Вы обязаны не только оправдать его, но извиниться перед ним!»
Другое место: «Ах, вы хотите придраться к младшему сыну г-на Флобера!.. Никто, даже вы, г-н товарищ прокурора, не могли бы преподать ему уроки нравственности!» А высмеивая один из абзацев, он сказал: «Я не разумение ваше виню, а ваши предрассудки».
В общем, жаркий был денек, и ты бы развлекся, если бы там присутствовал.
Ничего не говори, молчи: если я проиграю, то после приговора подам апелляцию, а если и тут проиграю — подам на кассацию.
Прощай, дорогой брат, целую тебя.
МОРИСУ ШЛЕЗИНГЕРУ
[Февраль 1857]
Дорогой мой Морис!
Спасибо вам за письмо. Отвечу кратко, так как настолько измучен телом и душою, что не в силах ни ступить, ни держать в руках перо. Трудно было рассчитывать на успешный исход дела, но все же победа осталась за мною.
Я получил от всех своих собратьев очень лестные поздравления, спрос на мою книгу будет необычайный для начинающего автора. Но в конечном счете, я зол на процесс. Создается искусственный успех, а я не люблю ничего постороннего вокруг Искусства. Вся эта шумиха мне глубоко противна, я даже колеблюсь выпускать в свет мой роман отдельным изданием. Я охотно вернулся бы, и уже навсегда, к покинутому мною одиночеству и молчанию, не стал бы ничего печатать, чтобы не вызывать никаких толков обо мне. Ибо в наше время невозможно ни о чем говорить, до того свирепо общественное лицемерие.
Наиболее расположенные ко мне светские люди считают меня безнравственным! Нечестивцем! Впредь мне не следует говорить того-то, я должен остерегаться и прочее и прочее! Ах, как я зол, дорогой друг!
Оказывается, и портреты нежелательны! Дагерротип считается оскорблением! А история — сатирой! Вот до чего я дожил! И сколько бы я ни рылся в своем несчастном мозгу, я нахожу в нем лишь вещи, достойные порицания. То, что я собирался опубликовать после своего романа, а именно книгу, на которую я потратил несколько лет бесплодных исканий и труда, привело бы меня на каторгу! Так же обстоит дело и с остальными моими планами. Теперь вы понимаете, в каком я очутился смешном положении?
Четвертый день лежу на диване и обдумываю отнюдь не веселое свое положение, несмотря на то, что меня собираются увенчать, правда вплетая в мои лавры чертополох.
Отвечаю на все ваши вопросы: если книга не выйдет, я вышлю вам номера «Обозрения», где она напечатана. Это решится в ближайшие дни. Ламартин не писал в «Парижское обозрение», он превозносит литературные достоинства моего романа и называет его в то же время циничным. Он сравнивает меня с лордом Байроном и т. д.! Это очень красиво, но я предпочел бы поменьше гипербол и, вместе с тем, поменьше умалчиваний. Он вдруг обратился ко мне с поздравлениями, а потом в самую решительную минуту покинул меня. Словом, он вел себя со мною недостойно благовоспитанного человека и даже нарушил данное мне слово. Тем не менее, у нас сохранились хорошие отношения.
Г-ЖЕ ПРАДЬЕ
[Париж] Вторник вечером [февраль 1857]
Дорогая госпожа Прадье!
Не знаю, когда я буду иметь удовольствие вас навестить, настолько я устал, отупел и к тому же простужен; я так разбит физически и морально после своего процесса, что не в состоянии ни шевельнуть ногой, ни держать в руке пера.
Шумиха, создавшаяся вокруг моей первой книги, так чужда Искусству, вызывает у меня такое отвращение и так ошеломляет, что мне остается только пожалеть о том времени, когда я пребывал немым, как рыба.
К тому же меня беспокоит будущее: можно ли написать что-либо более безобидное, чем моя несчастная «Бовари», которую таскали за волосы, точно распутную женщину, перед всей исправительной полицией? Если бы они были искренни, то, напротив, признали бы, что я слишком суров к ней; не правда ли?
Как бы то ни было, невзирая на оправдание, я все-таки остаюсь на положении подозрительного автора. Невелика слава!
Я намеревался немедленно опубликовать другую книжку, которая отняла у меня несколько лет работы, книгу с участием отцов церкви, полную мифологии и античного. Я должен отказаться от этого удовольствия, так как оно неминуемо привело бы меня на скамью подсудимых. Два-три других моих плана отложены по тем же причинам.
Какая сила таится в социальном лицемерии! По нынешнему времени всякое изображение становится сатирой, а история является обвинением.
Вот почему я очень печален и сильно утомлен. Я провожу время в том, что сплю и сморкаюсь. Покойный Дю Канталь был ничто наряду со мной. Сравнение тем более справедливо, что я, подобно ему, только что побывал у уличных фокусников. Я также требовал свое детище, свою дочь. Правда, «ее не тронули». Но репутация ее все же пострадала.
Я скоро возвращусь в свой загородный дом, вдали от всего людского, как говорят в трагедиях, и там постараюсь натянуть новые струны на мою бедную гитару, которую забросали грязью прежде еще, чем сыграна была на ней первая мелодия!
А вы, сударыня, как вы выносите ныне это мерзкое существование? Черкните словечко, если у вас будет время. Гуляйте. Чудное солнце.
P. S. Посмотритесь в зеркало, что над китайцами ваших стенных часов, и пошлите себе от меня воздушный поцелуй.
Я повергаю его к вашим стопам вместе со всей своей особой.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Париж 18 марта [1857]
Сударыня!
Спешу вас поблагодарить, я получил все ваши послания. Спасибо за письмо, книги и особенно за портрет! Меня очень тронуло это нежное внимание. Я буду читать ваши три книжки медленно, внимательно, как они того заслуживают, в чем я уверен заранее.
Но в данный момент мне очень некогда, так как я занялся перед возвращением в деревню работой по археологии; работа эта является подготовительной к другому труду и охватывает одну из наименее известных эпох древности. Я собираюсь писать роман, где действие происходит за три столетия до рождения Христова, ибо испытываю потребность отойти от современного мира, в который слишком много погружалось мое перо; к тому же мне в равной мере надоело как описывать его, так и смотреть на него.
С такой симпатичной читательницей, как вы, сударыня, я считаю своим долгом быть откровенным. Итак, отвечу вам на ваши вопросы: в «Госпоже Бовари» нет ни слова правды — это чистейший вымысел, я не вложил туда ни своих чувств, ни личных переживаний. Напротив, иллюзия (если таковая имеется) создается именно неличным характером произведения. Один из моих принципов: не вкладывать в произведения своего «я». Художник в своем творении должен, подобно богу в природе, быть невидимым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть.
И потом, Искусство должно стоять выше личных привязанностей и болезненной щепетильности! Пора, с помощью неумолимого метода, придать ему точность наук физических. И все же главную трудность для меня составляют стиль, форма, та неподдающаяся определению Красота, которая является следствием самой концепции и заключает в себе великолепие Истины, как говорил Платон.
Я долго жил, подобно вам, сударыня. Я также провел несколько лет в деревне совершенно один, и единственным шумом, доносившимся ко мне зимой, был шелест ветра, пробегавшего по деревьям, да треск льда, когда Сена несла под моими окнами. Если я обладаю некоторым знанием жизни, то только в силу того, что мало жил в обычном смысле этого слова, ибо мало ел, но основательно пережевывал; я был в разных обществах и видел различные страны. Я путешествовал пешком и на верблюдах. Я знаю парижских биржевиков и дамасских евреев, итальянских сводников и негритянских жонглеров. Я странствовал по святым местам и в то же время блуждал в снегах Парнаса — это можно счесть за символизм.
Не сетуйте; я побродил по белу свету и основательно знаю Париж, о котором вы мечтаете; ничто не стоит чтения хорошей книги — «Гамлета» или «Фауста» — у камелька в день восторженного состояния души. Моя мечта — купить в Венеции, на Большом канале, маленький дворец.
Вот, сударыня, я и удовлетворил до некоторой степени ваше любопытство. Чтобы иметь полное представление обо мне, добавьте к моей биографии следующий портрет: мне тридцать пять лет, ростом я пяти футов и восьми дюймов, у меня плечи, как у крючника, и нервная раздражительность, как у мещаночки. Я холост и одинок.
Позвольте в заключение еще раз поблагодарить вас за присылку портрета. Он будет вставлен в рамку и повешен среди дорогих мне лиц. Удерживаюсь от комплимента, готового сорваться с кончика моего пера, и прошу вас верить в преданность вашего коллеги.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
[Париж] Понедельник [30 марта 1857]
Мадмуазель и дорогой коллега! Ваше письмо — такое честное, такое правдивое, такое насыщенное, словом, оно так тронуло меня, что я не могу удержаться от желания немедленно ответить вам. Прежде всего благодарю вас за то, что вы сказали, сколько вам лет. Это позволяет мне быть непринужденнее. Мы будем разговаривать друг с другом как двое мужчин. Доверие, которым вы меня почтили, очень для меня ценно, и я надеюсь оказаться достойным его; не смейтесь, однако, надо мною, не называйте меня больше ученым! Это меня-то, которого так смущает собственное невежество.
А затем не сравнивайте себя с Бовари. Вы нисколько на нее не похожи! Она не стоит вас ни умом, ни сердцем, ибо это до известной степени испорченная натура, женщина, чьи чувства и поэтичность фальшивы. Но сперва я мыслил сделать ее девственницей, которая живет в провинциальной среде, стареет от огорчений и доходит до крайнего мистицизма в мечтах о воображаемой страсти. От этого первоначального плана я сохранил окружение (довольно мрачные пейзажи и действующих лиц), короче говоря, колорит. Но чтобы сделать рассказ более правдоподобным и занимательным в лучшем смысле этого слова, я придумал более человечную героиню, женщину, какие встречаются чаще других. Впрочем, я предвидел такие трудности в осуществлении первоначального плана, что не отважился последовать ему.
Пишите мне все, что вам вздумается, побольше и почаще, даже если я и не сразу отвечу на ваше письмо, ибо начиная со вчерашнего дня мы с вами — старые друзья. Я понимаю вас теперь и люблю. То, что вы испытали, я пережил лично. Я тоже добровольно отрекся от любви, от счастья... Зачем? Не знаю. Быть может, из гордости или из страха! Я тоже сильно любил втихомолку, а на двадцать первом году жизни чуть не умер от нервной болезни, причиной которой был целый ряд волнений и огорчений, бессонница и гнев. Болезнь моя длилась десять лет. (Все, что имеется у святой Терезы, у Гофмана и у Эдгара По, я видел, перечувствовал, я понимаю людей, страдающих галлюцинациями.) Но я закалился и сразу приобрел опыт в вещах, которых едва касался в жизни. Правда, иногда я сталкивался с ними, но это бывало порывами, приступами, — я очень быстро вернулся (и возвращаюсь) к естественному своему созерцательному состоянию. От разврата меня охранила не добродетель, а ирония. Глупость порока более жалка и смешна, нежели мерзость человеческая отвратительна.
Я родился в больнице (Руанской, где отец мой был главным хирургом; он оставил покрытое славой имя в области своего искусства) и рос среди всевозможных людских страданий, отделенный от них лишь стеной. Ребенком я играл в анатомическом театре. Вот отчего, быть может, у меня мрачные и в то же время циничные повадки. Я нисколько не люблю жизнь и нисколько не боюсь смерти. Даже гипотеза о небытии не внушает мне никакого ужаса. Я готов спокойно броситься в большую черную яму.
А между тем меня больше всего привлекает религия. Я хочу сказать — все религии, без исключения. Каждый догмат в отдельности производит на меня отталкивающее действие, но чувство, породившее их, я считаю самым естественным и поэтическим для человечества. Я не люблю философов, которые видели в религии лишь фиглярство и глупость. Лично я вижу в ней необходимость и природное чувство; поэтому в равной степени уважаю негра, целующего свой фетиш, и католика, припадающего к распятию.
Продолжаю открывать свои тайны: я не питаю симпатий к какой-либо политической партии, вернее, все партии ненавистны мне; я считаю, что они в равной степени ограничены, фальшивы, незрелы, цепляются за эфемерное, неспособны охватить вещь в целом и подняться выше полезного. Я ненавижу какой бы то ни было деспотизм. Я отчаянный либерал. Вот почему социализм представляется мне педантичным чудовищем, которое убьет всякое искусство и всякую нравственность. Я присутствовал в качестве зрителя почти при всех смутах, происходивших в мое время.
Вот видите, я старше вас душою; и хоть вам на двадцать лет больше, чем мне, вы все же моложе меня.
Но от всего, что я перевидал, перечувствовал, прочел, у меня осталась неутолимая жажда правды. Гёте, умирая, воскликнул: «Света! Света!» О, да! Света! Даже если он спалит все внутри нас. Какое огромное наслаждение — узнать, приобщиться к Правде через посредство Прекрасного. Идеальное состояние, являющееся результатом этой радости, кажется мне своего рода святостью, которая, быть может, выше той, другой, потому что в ней меньше корыстолюбия.
Возвращаюсь к вам и к тому странному наваждению, по поводу которого вы просите у меня совета. Вот что я подумал: надо попытаться либо стать большим католиком, либо большим философом. Вы слишком много читаете и потому не можете искренно верить. Не возражайте! Вы хотели бы верить. Вот и все. Скудное питание, которое преподносят другим, не может вас насытить, ибо вы пили из слишком больших чаш и слишком приятные на вкус напитки. Священники не дали вам ответа. Охотно верю. Современная жизнь захлестывает их, наша душа для них — закрытая книга. Будьте же искренни сами с собою. Сделайте последнее усилие, усилие, которое вас спасет. Надо принять целиком либо одно, либо другое. Во имя Христа не кощунствуйте из страха впасть в неверие! Во имя философии не унижайтесь ради трудности, именуемой привычкой. Коль скоро корабль тонет, бросьте все в море.
Но разве в этом страдании, вернее тогда, когда оно начинается, вы не ощущаете своего рода наслаждения? Смутного и жуткого наслаждения! Вы никогда не грешили; и вот внутренний голос шепчет вам: «Если бы я согрешила...», и тогда приходит мечта о грехе, пусть мимолетная, как сверкнувшая молния, которая тут же гаснет. А там является галлюцинация, убеждение, уверенность, угрызение вместе с потребностью крикнуть: «Я согрешила!»
Вот потому-то, что вы жили вне обычных условий, в каких живет женщина, вы страдаете больше, чем всякая другая, и за всех их вообще. А поэтическое воображение тут как тут, и вот вы повергаетесь в бездны страдания. Ах, как я люблю вас за все это!
Окунитесь всем телом или, вернее, всей душою в литературу. Примитесь за большой труд и дайте себе слово выполнить его. Читайте углубленно мастеров, не забавы ради, а чтобы проникнуться ими, и вы почувствуете, как мало-помалу тучи, обволакивающие вас, рассеются. Вы больше полюбите себя, потому что ум ваш впитает в себя больше вещей. Ваш врач прав, надо путешествовать, увидеть побольше неба и побольше моря. Музыка — вещь превосходная, она вас умиротворит. Что касается Парижа, то можете попробовать, но я сомневаюсь, чтобы вы нашли в нем успокоение. Для честных натур — это самое раздражающее место в мире; надо обладать очень крепкой и здоровой конституцией, чтобы, живя здесь, не обратиться в кретина или мошенника.
Тысячу раз благодарю вас за любезное приглашение; но я теперь долго еще не сумею двинуться с места. Мне даже не придется этим летом съездить в Африку (в Тунис), которую мне следовало бы посетить для моей теперешней работы. Хочу отделаться как можно скорее от нескольких старых мыслей, и у меня нет минуты свободной. Добавьте к этому глупейший водоворот обыденной жизни.
Мою книгу вы получите на пасхальной неделе (я работаю сейчас над корректурами и не имею времени прочесть ваших книг). К концу следующего месяца я вернусь в деревню с вашим портретом. Не могу, к сожалению, познакомить вас таким же способом с моей физиономией, потому что меня никогда не рисовали и не писали моего портрета. Но примите, что гораздо ценнее, самое сердечное выражение моей симпатии.
К вашим услугам.
Только что перечитал ваше письмо и знаю его теперь наизусть. Надо ли говорить, что я до глубины души польщен уважением такого существа, как вы. Вы кажетесь мне лучшей и прекраснейшей в мире натурой, и я с умилением целую ваши руки.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Париж, апрель 1857
Дорогой мой Навукудуруссур!
Поблагодарите, пожалуйста, г-жу Фейдо за ее весьма любезное приглашение. Я принимаю его и нагряну к вам в пятницу часам к одиннадцати. Но не заставляйте меня слишком много есть! Пища для меня не имеет значения; когда я ем с раннего утра, это меня утоляет на весь остальной день.
Постарайтесь найти мне в «Археологическом обозрении» статью Мори об Эшмуне и другую — Деламарра об Аннуне! Плохо мне приходится с Карфагеном! Больше всего меня беспокоит основа, я хочу сказать — психологическая сторона. Я нуждаюсь в глубокой сосредоточенности и в «тишине кабинета» среди «сельского одиночества». Быть может, онанируя мой бедный рассудок, тут я добьюсь, что из него что-нибудь выступит.
Несомненно, ваши метафоры выругают.
Я только что проглотил «Политику» Аристотеля, затем Прокопа; затем латинскую поэму синьора Кориппа в шесть песней о нумидийской войне; поэма эта очень мне надоела! Но что поделаешь — необходимо!
Прощайте, дорогой, весь ваш.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[10 или 11 мая 1857]
Спасибо, старина, я раздобуду себе в Руане «Иллюстрацию» {Статья Эдмона Тексье.} и «Ревю де Дё Монд». {Статья Шарля де Мазада.} Получил нынче утром номер «Газеты Луарца», в которой имеется очень доброжелательная статья Корменена. Сознаться ли вам однако, что я не нашел еще ни одной, которая по-настоящему задела бы меня за живое, то есть похвалила бы за то, что я считаю достойным похвалы, или побранила бы слабые с моей точки зрения места. Впрочем, меня это мало трогает, «Бовари» сейчас далека от меня. Мой стол так завален книгами, что я в них теряюсь. Я быстро отсылаю их, не находя в них особо интересного. Тем не менее, я не откажусь от «Карфагена» и во что бы то ни стало напишу эту свирепую шутку. Хотелось бы начать через месяц или два. Но прежде я должен проделать индуктивным путем значительную работу по археологии. Собираюсь прочесть 400 страниц записок in-4° о пирамидальном кипарисе, так как во дворе храма Астарты были кипарисы; из этого вы можете вывести заключение об остальном. Вот и дождь пошел. Я один в пустыне и с некоторой грустью думаю о наших воскресных днях нынешней зимою.
ЛУИ ДЕ КОРМЕНЕН
[Круассе] 14 мая [1857]
Не знаю, вы ли, дорогой друг, или же Паньерр прислал мне внушительный номер «Луарца», в котором помещена статья о вашем покорном слуге. Она, несомненно, больше других удовлетворяет меня, и я наивно считаю ее прекрасной, так как она поет мне хвалу. Книга проанализирована, вернее, приласкана от начала до конца. Мне это доставило большое удовольствие, и я сердечно вас благодарю.
Отчего бы и вам не заняться тем же самым? Отчего вы ограничиваетесь изощрением своего ума лишь в пользу друзей? Когда мы получим от вас книжку?
Что касается меня, то книга, которую я готовлю, не только не написана, но даже еще не начата. Я полон сомнений и страхов. Чем дальше, тем более я робею в противоположность великим полководцам, и Тюренну в частности. Для многих чернильница содержит в себе лишь несколько капель черной жидкости. Но для иных она — океан, я же тону в нем. У меня от белой бумаги кружится голова, а груда очиненных перьев на моем столе представляется мне иногда кустом терновника с огромными шипами, и немало крови пролил я на эти кустики.
Прощайте, старина. Когда будете писать Паньерру, передайте ему от меня тысячу приветов. Передайте выражение моего почтения вашим родителям. Крепко жму вашу руку.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, 18 мая [1857]
Я очень долго не отвечал вам, дорогой мой коллега и милая читательница. Не судите о моем расположении по количеству писем; вините беспорядочность парижской жизни, публикацию моей книги и археологические изыскания, которыми я сейчас занят. Но вот я вернулся в деревню, у меня больше свободного времени, и мы можем провести вместе сегодняшний вечер, будем говорить сперва о себе, затем о ваших книгах, а там о тех политических и социальных идеях, по поводу которых расходимся во мнении.
Вы спрашиваете, как я вылечился от нервных галлюцинаций, которым был когда-то подвержен. Двумя способами: во-первых — изучая их научно, то есть стараясь отдать себе в них отчет, и во-вторых — усилием воли. Я часто ощущал близость безумия. В жалком мозгу моем вихрем носились мысли и образы, и мне казалось, что мое сознание, мое я тонет, точно корабль в бурю. Но я цеплялся за свой рассудок, который властвовал надо веем, несмотря на то, что был осажден и разбит. Иной раз я пытался искусственно вызвать в своем воображении эти ужасные страдания. Я играл с безумием и фантастикой, как Митридат — с ядами. Великая гордыня поддерживала меня, и я победил болезнь, схватившись с ней грудь с грудью. Существует чувство, или, вернее, привычка, которой не хватает, по-моему, вам, а именно — любовь к созерцанию. Воспринимайте жизнь, страсти и себя самое, как предмет для интеллектуального изучения. Вы восстаете против мировой несправедливости, против низости, тирании, всей мерзости и зловония человеческого существования. Но разве вы знаете их? Разве вы все изучили? Разве вы бог? Кто вам сказал, что ваше человеческое суждение непогрешимо? Что чувство вас не обманывает? Как можем мы, с нашими ограниченными чувствами, ограниченным понятием, как можем мы достичь абсолютного познания истины и добра? Постигнем ли мы когда-нибудь, что значит абсолютное?
Если хочешь жить, надо отказаться от ясного представления о чем бы то ни было. Таково человечество; дело не в том, чтобы его изменить, а в том, чтобы узнать его. Меньше думайте о себе. Оставьте надежду на разрешение вопроса. Это в лоне отца небесного; он один владеет тайной и никому не сообщает ее. Но есть в усердии познания идеальная радость, созданная для благородных душ. Приобщитесь мыслью к вашим братьям, жившим три тысячи лет назад; примите на себя все их страдания, все их мечты, вы почувствуете, как расширится ваш ум и сердце; глубокая, огромная симпатия точно покровом облечет все призраки, все создания. Постарайтесь же не жить в себе. Читайте побольше. Составьте план занятий — строгий и последовательный. Читайте историю, особенно древнюю. Заставьте себя заняться регулярной и утомительной работой. Жизнь так гнусна, что единственный способ вынести ее — это избегать ее. А избежать ее можно, живя в Искусстве, в непрестанных поисках Правды, переданной посредством Красоты. Читайте великих мастеров, стараясь вникнуть в их приемы, приблизиться к их душе, — и в результате этого изучения вы увидите ослепительный свет, который принесет вам радость. Вы будете точно Моисей, возвращающийся с горы Синайской. Лицо его окружено было сиянием, потому что он лицезрел господа-бога.
Зачем вы говорите об угрызениях совести, проступках, смутных опасениях и исповеди? Оставьте все это, бедная душа, из любви к себе! Коль скоро вы чувствуете, что совесть ваша совершенно чиста, вы можете предстать пред лицом предвечного и сказать: «Вот я». Чего бояться, когда ни в чем не повинен. И в чем могут быть повинны люди, одинаково неспособные как ко злу, так и к добру! Все ваши страдания происходят от избытка праздных мыслей. Ваша жадная мысль, не получая пищи извне, бросилась на самое себя и пожрала себя до основания. Ей надо дать поправиться, прибавить в весе, в особенности же запретить ей бродить без цели. Приведу вам пример: вы очень озабочены мировой несправедливостью, социализмом, политикой. Допустим. Ну, так вот! Прочтите прежде всего всех тех, у кого такие же стремления, как у вас. Поройтесь у утопистов и у равнодушных мечтателей. А затем, прежде чем позволить себе окончательное суждение, вам придется изучить довольно новую науку, о которой много говорят, но которую мало изучают; я имею в виду политическую экономию. К величайшему своему удивлению вы обнаружите, что с каждым днем меняете мнение, как меняют рубашку. Ничего, скептицизм ваш не окажется горьким, ибо вы будете словно смотреть на комедию человечества, и вам покажется, будто История прошла через мир для вас одной.
Люди легкомысленные, ограниченные, умы самонадеянные и восторженные хотят во всем видеть конечную цель, ищут смысл в жизни и жаждут измерить бесконечность. Они берут своей жалкой маленькой рукой горсть песку и говорят океану: «Я хочу счесть песчинки твоих берегов». А так как песчинки сыпятся у них меж пальцев и считать их слишком долго, они топают ногами и плачут. Знаете ли, что следует делать на берегу океана? Преклонять колена или гулять. Гуляйте.
Ни один великий гений, ни одна книга не делали выводов, потому что и самое человечество всегда идет вперед и не делает выводов. Ни Гомер, ни Шекспир, ни Гёте, ни даже Библия не делают никаких выводов. Вот почему модное словечко социальная проблема глубоко возмущает меня. Тот день, когда она будет разрешена, окажется последним днем нашей планеты. Жизнь — вечная проблема, так же как история и все остальное. К сложению непрестанно добавляют слагаемые. Как можно сосчитать спицы вертящегося колеса? Девятнадцатый век в своем чванстве освобождения воображает, что он открыл солнце. Говорят, например, что Реформация подготовила Французскую революцию. Так было бы в действительности, если бы этим все завершилось, но ведь Революция сама по себе есть подготовка к другому состоянию. И так далее, и так далее. Самые передовые наши идеи покажутся весьма отсталыми и смешными, когда на них оглянутся. Держу пари, что через пятьдесят лет слова: «Социальная проблема, морализация масс, прогресс и демократия» попадут в разряд «заезженных» и будут казаться такими же смешными, как слова: «Чувствительность, природа, предрассудки и нежные сердечные узы», такие модные в конце восемнадцатого столетия.
Вот потому-то, что я верю в непрерывную эволюцию человечества, постоянно меняющего формы, я так ненавижу рамки, в которые хотят насильно втиснуть раз навсегда установленную, определяющую его форму, все чаяния, возлагаемые на него. Демократия еще не последний его этап, так же как в свое время не оказались им рабство, феодализм, монархия.
Горизонт, воспринятый человеческим глазом, еще не берег, ибо по ту сторону его есть другой горизонт, и так без конца! Так же кажутся мне никчемной глупостью поиски лучшей религии или лучшего правительства. Для меня лучшее — то, что умирает, ибо оно уступает место новому.
Я немного недоволен вами за то, что в одном из предшествовавших писем вы писали, что желали бы «обязательного» обучения. Я лично ненавижу все, что обязательно, — всякий закон, всякое правительство, всякое правило. Кто же ты, о общество, если пытаешься принудить меня к чему бы то ни было? Какой бог сделал тебя моим господином? Заметьте, что вы вновь возвращаетесь к старым несправедливостям прошлого. Уже не деспот присуждает награды индивидууму, а толпа, общественное благоденствие, извечные государственные соображения, слово всех народов, принцип Робеспьера. Я предпочитаю пустыню и возвращаюсь к свободным бедуинам.
Как удлиняется бумага, когда беседуешь с вами, дорогая читательница. А между тем, прежде чем запечатать письмо, я должен поговорить о ваших двух книгах.
Поэтическое дарование и философская идея, когда она развивает великую вечную мораль, я хочу сказать, когда вы говорите не от собственного своего имени, — вот что поражает меня и что с моей точки зрения является главной чертой вашего таланта. Есть один человек, которым вам следовало бы питаться — он успокоит вас, это — Монтень. Изучите его в совершенстве, предписываю вам как врач. Так в «Сесиль» (18 стр.) мне нравится фраза: «Напрасно стремятся к заменам». На 45-й стр.: «Небо казалось мне лазурней, солнце ярче» — очаровательно. Одно из описаний солнечных эффектов на море в Дьеппе (стр. 103) восхитило меня; подобные эффекты удаются вам лучше, чем кому бы то ни было. Большое письмо Сесиль — прекрасная вещь. То же можно сказать о характере Юлии и о безудержной страсти, какую она внушает. Но я часто порицаю пошлость стиля, общие места вроде: «Именитые члены общества» (стр. 85), «судьба вновь бросила яблоко раздора» (стр. 87), «упиться его кровью» (стр. 91). Такие выражения употребляются в трагедиях и должны быть изъяты, потому что никто так не думает. Правда, это ошибки небольшие; но люди такого изысканного ума, как у вас, должны от них воздерживаться. Работайте! Работайте!
Вот прекрасный оборот (стр. 114): «С таким ужасом, как будто она не знала, о чем идет речь», или эта фраза, брошенная мимоходом (стр. 124): «Надо было прожить в провинциальном городе, чтобы знать» и т. д. Стр. 122—123 превосходны. «Забвение, эта высшая слабость человеческого сердца» (стр. 146) — изумительно! Длинное письмо Юлии из монастыря — маленький шедевр и бесспорно нравится мне больше всего написанного вами. Впрочем, весь роман «Сесиль» очень нравится мне. Не одобряю только обрамление. Друг, который слушает рассказ, — ни к чему. Вообще ваши диалоги хуже описаний, а особенно выражения чувств. Как видите, я обращаюсь с вами по-дружески, то есть строго. Я потому так педантичен, что знаю, какие вы можете писать прелестные, очаровательные вещи. Сбавьте наполовину мою критику и умножьте стократ похвалы. В первом же моем письме я сообщу вам свои соображения по поводу «Анжелики».
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Круассе, последние майские дни 1857]
Благоволите передать одержимому Крепе, чтобы он немедленно прислал мне разъяснения, касающиеся Карфагена. Жду их с любопытством и нетерпением.
Ваши письма кратки, старина. Но я вас особенно порицаю за Сиродена. Эх, вы, шляпа! Бурдюк!!!
А у меня желудок не варит от книг и от in-folio — отрыжка. С марта месяца я делал заметки из пятидесяти трех различных трудов; теперь изучаю военное искусство, упиваюсь крепостными валами и всадниками, углубленно занимаюсь метательными машинами и катапультами. Надеюсь найти что-нибудь новенькое в истории древних солдатиков. Что же касается пейзажа, он все еще смутен; я не чувствую пока религиозной стороны. Психология потихоньку созревает, но все же пустить в ход машину — вещь тяжелая. Я предпринял здорово трудную работу. Не знаю, когда ее окончу, ни даже, когда начну.
Хорошо ли, что я послал свою визитную карточку Дюма-отцу? Думается, да, так как, в конечном счете, его статья была доброжелательной, хоть он и прочел мою книгу поверхностно.
Я надлежаще осведомлен о том, что обо мне будет статья в «Юнивере», предлагаю ее вашему вниманию.
Получил статью Кювилье. Очень недоброжелательна. Вы замечаете, что меня нарочито смешивают с молодым Александром? {Дюма-сыном.} Моя «Бовари» оказывается теперь «Дамой с камелиями». Бум! Что касается Бальзака, то мне положительно уши о нем протрубили. Постараюсь навертеть им что-нибудь сверкающее и горластое, — тогда сравнивать будет потруднее. Ну и дураки они со своими наблюдениями нравов! Плевать мне на это!
Г-НУ КАЙЕТО
[Круассе, близ Руана, 4 июня 1857]
Милостивый государь!
Лестное письмо, написанное вами, вменяет мне в обязанность откровенно ответить на ваш вопрос.
Нет, милостивый государь, у меня не было никакой модели. Госпожа Бовари — чистейший вымысел. Все персонажи этой книги абсолютно выдуманы и даже Ионвиль л'Аббэи не существует в действительности, равно как Риейль, и т. д. Это, однако, не помешало, чтобы здесь, в Нормандии, нашли в моем романе множество намеков. Если бы они на самом деле были у меня, то в моих портретах оказалось бы мало сходства, так как я имел бы в виду те или иные личности, в то время как я, напротив, стремился воспроизвести типы.
Одно из самых приятных литературных явлений — это возбудить симпатии у незнакомцев.
Примите же, милостивый государь, выражение моей симпатии и привет.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
[Круассе, июнь 1857]
Удовольствие, какое доставляют мне ваши письма, мадмуазель, не может искупить печали, наполняющей их. Какая у вас прекрасная душа! И как горестна ваша жизнь. Мне кажется, я понимаю вас; оттого-то я вас и люблю. Я, как и вы, испытал жестокую меланхолию, какую навевает звон к Ангелусу в летние вечера. При всем своем внешнем спокойствии, я также бушевал и, стоит ли говорить, и сейчас иногда бушую. Но, убежденный в истине, что становишься больным, как только начинаешь думать о себе, я стараюсь одурманить себя Искусством, вроде того, как иные опьяняют себя водкой. При желании можно утратить представление о собственной индивидуальности. Поверьте мне, счастливым от этого не станешь, зато не будешь страдать.
Нет, вы заблуждаетесь! Я ни в коей мере, и даже в самых тайниках души, не смеюсь над вашим религиозным чувством. Любое благочестие привлекает меня, а благочестие католика — более других. Но мне непонятна сущность ваших сомнений. Относятся ли они к догматам или же к вам самой? Насколько я понимаю ваши слова, мне кажется, что вы считаете себя недостойной! В таком случае будьте покойны, ибо вы грешите от излишнего смирения, а это большая добродетель! Недостойной! Почему? Почему, бедная вы, скорбящая душа? Успокойтесь. Ваш бог — добрый, а вы достаточно настрадались, чтобы заслужить его любовь. Но коль скоро вы сомневаетесь в самой сути религии (а я это думаю вопреки вашим словам), зачем же вам огорчаться, что вы не выполняете долга, который уже не является долгом? Если искренне верующий католик (по той или иной причине) обратится в мусульманство, это будет преступлением как с точки зрения религии, так и с точки зрения философии; но если католик этот неверующий, то перемена религии имеет так же мало значения, как перемена платья. Все зависит от того, какую оценку мы даем тем или иным явлениям. Мы сами создаем мораль и добродетель. Людоед, поедающий себе подобного, столь же невинен, как дитя, которое сосет карамельку. Зачем же приходить в отчаяние оттого, что вы не можете исповедоваться и причащаться по той причине, что это вам невмоготу? С той минуты, как долг становится для вас невыполнимым, он перестает быть долгом. Но нет! Ваше восхищение Жаном Рейно {Мадмуазель де Шантпи особенно увлекалась книгой Рейно «Земля и небо».} доказывает, что вы вполне солидарны со взглядами современной критики, а между тем по воспитанию, привычкам и по натуре вы придерживаетесь старых верований. Повторяю, если вы хотите избавиться от этого, надо выбрать что-нибудь одно, решительно окунуться либо в одно, либо в другое. Либо святая Тереза, либо Вольтер. Середины не существует, что бы ни говорили.
Нынешнее человечество в точности подобно вам. В его жилах еще бьется кровь средневековья, но оно жаждет великих деяний грядущих веков, а деяния эти несут ему только бурю.
И все происходит оттого, что люди желают разрешить вопрос. О, гордыня людская! Разрешение вопроса! Цель, причина! Но ведь если бы мы знали причину, то стали бы богами, и по мере того, как мы подвигались бы вперед, она все дальше и дальше отступала бы от нас, потому что горизонт наш все больше и больше расширялся бы. Чем совершенней телескоп, тем многочисленнее видимые нами звезды. Мы обречены скитаться во мраке, в слезах.
Глядя на одну из звездочек Млечного Пути, я говорю себе, что земля не больше этих маленьких искорок. А что же такое я, одну минуту отягчающий своей особой эту искорку, что такое все мы? Это чувство собственной немощи и ничтожества успокаивает меня. Я кажусь себе песчинкой, затерянной в пространстве, а между тем — я частица той беспредельности, которая окружает меня. Мне всегда было непонятно, в чем же безнадежность, раз позади черной завесы, может быть, ничего и нет. Впрочем, все наши представления поглощаются бесконечностью, а поскольку она есть, постольку можно усомниться в необходимости цели для такого относительного понятия, как мы.
Представьте себе человека, который на весах в тысячу локтей захотел бы взвесить морской песок. Допустим, что он наполнил обе чашки, песок стал бы сыпаться через край, и работа этого человека пропала бы зря. Таков удел всякой философии. Сколько бы ни твердили философы: «А все-таки существует вес, существует некое число, попытаемся узнать», — берут весы побольше, цепь рвется, и так всегда, всегда! Будьте же в большей мере христианкой, обреките себя на неведение. Вы спрашиваете, какие читать книги. Читайте Монтеня, читайте медленно, не торопясь! Он вас успокоит. И не слушайте тех, кто говорит, что он эгоист. Вы полюбите его, вот увидите. Но не читайте, как читают дети — ради развлечения, или тщеславные — ради знания. Нет, читайте, чтобы жить. Создайте для своей души такую интеллектуальную атмосферу, которая будет насыщена мыслью величайших умов. Изучайте по-настоящему Шекспира и Гёте. Читайте переводы греческих и римских авторов, Гомера, Петрония, Плавта, Апулея и т. д. И если что-нибудь покажется вам непонятным, постарайтесь вникнуть, и тогда вы поймете. Это будет для вас удовлетворением. Надо работать. Понимаете вы меня? Мне не нравится, когда такая прекрасная натура, как ваша, погружается в печаль и праздность. Расширяйте ваш горизонт, и вам станет легче дышать. Будь вы двадцатилетним мужчиной, я посоветовал бы вам отправиться в кругосветное плавание. Ну что ж! Совершите кругосветное путешествие, не выходя из своей комнаты. Изучайте то, в чем вы не имеете сомнений: землю. Но сперва я рекомендую вам прочесть Монтеня. Прочтите его от начала до конца и когда окончите, начните снова. Советы, которые вам дают (очевидно, врачи), кажутся мне не очень умными. Надо, напротив, утомить вашу мысль. Не думайте, что она истощилась; она не надломлена, она лишь судорожно ищет выхода. Впрочем, эта публика ничего не понимает в жизни души. Я их знаю, поверьте.
Не пишу вам сегодня об «Анжелике», потому что у меня нет ни времени, ни места. Детальную критику сообщу в следующем своем письме.
Прощайте, будьте уверены в моей преданности. Я очень часто думаю о вас и очень хотел бы вас видеть. Будем надеяться, что это когда-нибудь случится.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Конец июня или начало июля 1857]
Нет, милостивый государь, я не совершаю в отношении вас никакой подлости ни словом, ни делом, и прежде чем называть человека слюнтяем, надо иметь доказательства. Я считаю подобное утверждение необоснованным и к тому же самого дурного тона, любезный друг. Я никогда и никому не позволю в своем присутствии порочить моих друзей; на эту привилегию я оставляю право за собою. Они принадлежат мне, и никто не смеет на них посягнуть. Впрочем, успокойся, приятель твой Обрие не сказал мне ничего плохого о твоей светлости. Я виделся с ним наедине около двадцати минут. Тотчас же после обеда он уехал, вот, — а ты наглец!
Плохое мнение обо мне сложилось у тебя с той поры, как я однажды не соглашался с тобою в одном споре. Дело в том, что, по-моему, вы оба мололи вздор, и было бы малодушием с моей стороны поддерживать чуждые мне теории.
Я отплачу тебе за все оскорбления в моей критике о твоем «Лете», {Одна из глав «Четырех сезонов» (1858).} сумасшедший ты человек! А пока можешь хвастаться некой главой XVII, здорово тобой написанной.
Если ты воображаешь, что можно заставить меня преклоняться перед заурядным и перед капустной грядкой, — ты ошибаешься, старина! Ошибаешься! Я только что покончил с Ионвилем. Теперь мне хочется новых песен. Будем писать трагедию и начнем неистово горланить. Это полезно для здоровья.
Прочел ли ты, как меня разнесли в «Юнивере»? Я навлекаю на себя ненависть поповской партии, это более чем верно. Тень Омэ мстит за себя.
Впрочем, я утверждаю, что все эти людишки (из «Юнивера», «Ревю де Дё Монд», «Дебатов» и др.) — болваны и не знают своего дела. Можно было сказать гораздо лучше и больше против моей книги. Как-нибудь наедине, у меня, при плотно закрытых дверях, я шепну тебе на ушко мое тайное мнение о «Бовари». Я лучше чем кто-либо знаю недостатки и настоящие ошибки своей книги. Так, например, в самом начале допущена чудовищная грамматическая ошибка, которой никто, конечно, не заметил. {В первом издании «Госпожи Бовари» в посвящении защитнику Сенару вкралась синтаксическая ошибка: «a la hauteur de votre eloquence ni de votre devouement». Позднее ni было заменено et.} Но все это совершенно неважно.
Я, вероятно, приступлю к «Карфагену» через месяц. Изучаю Библию Кагена, «Начала» Исидора, Зельдена и Брауниуса. Так-то! Скоро прочту все, что имеет малейшее отношение к моему сюжету, и, хотя ты обвиняешь меня в грубом невежестве в области ботаники, я могу тебе преподнести точнейшую тунисскую и средиземноморскую флору, старина. Но сначала надо ее изучить.
Впрочем, знай, что я когда-то получил награду за ботанику. Темой сочинения была история шампиньонов. Я положил на это достойное богов блюдо 25 страниц из Бомара, чем вызвал энтузиазм у моих преподавателей и получил «достойную награду за свой упорный труд».
Труднее всего мне придумать для моего романа психологический элемент, а именно — как чувствовать. Что до колорита, то никто мне не докажет его фальшивость.
Прилагаю при сем небольшую заметку для Тео. Если он может дать хороший отзыв о вышеупомянутом художнике, {Ж. Месиа, который давал уроки рисования Каролине Амар.} то доставит мне удовольствие. Я ему уже рекомендовал кое-кого, боюсь надоесть ему своими рекомендациями. Постарайся тем не менее, чтобы он или Сен-Виктор принесли эту жертву.
Что ты собираешься делать в Люшоне, великий сластолюбец? Восстановить в атмосфере чистоты свое здоровье, истощенное столичным развратом! Ты принесешь на лоно простого сельского люда пороки и злато цивилизации! Ты будешь соблазнять служанок! Блистать за табльдотами своим остроумием! Сыпать зажигательными изречениями, говорить высокопарные речи, срывать метафоры! Одни лишь метафоры и пейзажи? Экий ты материалист!
Прощай. Старайся хорошо вести себя и чтобы не пришлось твоей семье идти собирать разрозненные части твоего трупа, разорванного на куски в каком-нибудь лупанаре. Не оскорбляй никого; ныне существуют жандармы, будь осторожен! Ты растрачиваешь свой темперамент! Тебе это повторяют, но ты никому не хочешь верить. Разврат увлекает тебя! Прощай, старина, счастливого пути. Шлю тебе вслед поцелуй.
ШАРЛЮ БОДЛЕРУ
Круассе, 13 июля [1857]
Дорогой друг!
Сперва я проглотил вашу книгу {«Цветы зла».} от начала до конца, точно кухарка фельетон, а теперь, с неделю, как перечитываю стих за стихом, слово за словом, и скажу откровенно, мне она нравится и восхищает меня.
Вы нашли способ омолодить романтизм. Вы никого не напоминаете (а это первейшее качество).
Оригинальность стиля вытекает из концепции. Фраза до отказу насыщена идеей. Мне нравится ваша резкость и, вместе с тем, тонкости языка, благодаря которым она выделяется как дамаскировка на клинке сабли.
Вот стихи, наиболее поразившие меня: XVIII сонет — «Красота». Я считаю это произведение высокохудожественным; затем «Идеал», «Великанша» (это стихотворение я знал раньше), стихотворение XXV:
В струистый перламутр одежд облечена.
«Падаль», «Кошка», «Прекрасный корабль», «Даме-креолке», «Сплин» — произведение, глубоко взволновавшее меня своей правдивостью. Ах! Вы действительно понимаете скуку жизни! Можете не гордясь похвастаться этим! Прекращаю перечисления, а то покажется, что я списываю оглавление вашего тома. Надобно, однако, сказать, что я без ума от LXXV, стихотворения «Печаль Луны»:
Что, отходя ко сну, легко и безмятежно
Рассеянной рукой ласкает груди ей, —
и бесконечно восхищаюсь «Путешествием на Цитеру» и т. д.
Что касается критики, то я не берусь за нее, так как не уверен в том, буду ли думать так четверть часа спустя. Словом, боюсь сказать глупость, о которой сейчас же пожалею. Когда мы увидимся нынешней зимой в Париже, я только задам вам под видом скромного сомнения несколько вопросов.
Коротко говоря — больше всего в вашей книге мне нравится, что в ней на первом плане стоит Искусство. Затем меня привлекает ваша манера грустно и отвлеченно воспевать плоть, которую вы не любите. Вы тверды, как мрамор, и пронизываете, как туман в Англии.
Еще раз тысячу благодарностей за подарок, крепко жму вашу руку. Ваш.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[По-видимому, от 22 июля 1857]
Дорогой Дюплан!
Знаете, сколько я проглотил томов о Карфагене? Около сотни! А сейчас, за две недели перечел 18 томов Библии Кагена! Притом с примечаниями и сам делал заметки!
Мне осталось еще недели на две поработать над изысканиями; а затем, через недельку, когда основательно все продумаю, плыви моя гондола (вернее — трирема!). Примусь за дело; это отнюдь не значит, что я вдохновлен — нимало; но мне хочется посмотреть, что это будет, меня разбирает какое-то любопытство, я словно испытываю похоть без эрекции.
Три недели тому назад Буйле пробыл здесь несколько дней; мы только и делали с ним все время, что тряслись, как последние трусишки: он боится за свою драму, я — за свой роман; мы были грустны, как могилы, и глупы, как пробки.
Когда увидимся? Когда прикажете встречать вас на станции железной дороги?
Говорил ли Сен-Виктор о вашем друге Месиа? Я не имею никаких сведений из Парижа. Статья Бодлера о «Бовари», давно написанная и долженствовавшая появиться в «Художнике», все еще не напечатана; то же самое и со статьей Сен-Виктора в «Прессе». Однако на это мне в глубокой степени наплевать. Ах, Карфаген! Если бы иметь уверенность, что я держу тебя в своих руках!
Мне кажется невероятным окончить работу этой зимой, несмотря на то, что вещь должна быть написана широким и приподнятым стилем, а это, быть может, легче сделать, чем психологический роман, но... но... О счастливый Скюдери!
Прощайте, старина, вы самый милый человек на свете; вот почему, когда вы возвратитесь в Руан, я вам покажу портрет вашего друга Вольтера, он вас позабавит; портрет находится у дядюшки Кложенсона. Еще раз прощайте или лучше до свидания. Целую вас.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе [август 1857, около 5-го]
Старина!
Ты — очаровательнейший из смертных, и я был совершенно прав, полюбив тебя с первого взгляда. Вот что я должен прежде всего сказать тебе, а затем что я — простофиля, злая собака, неприятный и отталкивающий субъект и пр. и пр.
Да, литература надоела мне до последней степени! Но я не виноват, она обратилась у меня в органический сифилис; нет средств от нее избавиться. Я отупел от искусства и эстетики и не могу дня прожить, чтобы не бередить неизлечимую рану, которая меня гложет.
Я (если хочешь знать мое глубокое и сокровенное мнение) не написал еще ничего такого, что бы меня вполне удовлетворило. Я таю в себе и, как кажется, очень определенно, некий идеал (извиняюсь за выражение), идеал стиля, и вечно задыхаюсь в погоне за ним. Поэтому отчаяние — мое нормальное состояние. Необходима сильная встряска, чтобы вывести меня из него. И потом я, конечно, не весел. Балагурство, шутовство, непристойность — это я люблю; но, несмотря на это, я мрачен. Короче говоря, жизнь мне от души осточертела. Вот моя исповедь.
Уже шесть недель, как я малодушно отступаю перед «Карфагеном». Нагромождаю заметки за заметками, книги за книгами, так как чувствую, что не в ударе. Не вижу отчетливо своей цели. Для того чтобы из книги испарялась правда, надо быть по уши напичканным ее сюжетом. Тогда колорит явится сам собой, как неизбежное следствие и как цветение самой идеи.
В данный момент я с головой ушел в Плиния, которого перечитываю второй раз в моей жизни от начала до конца. Мне еще необходимо разыскать кое-что у Атенея и Ксенофонта; кроме того, пять-шесть сборников Академии надписей, и тогда, пожалуй, будет все! Затем я обдумаю свой план, который уже готов, и примусь за дело! Тут начнутся ужасы с фразой, мучения с ассонансами, пытки с периодами! Я буду потеть и вертеться (вроде Гуатимоцина) над своими метафорами.
Метафоры меня мало беспокоят, по правде говоря (их будет более чем достаточно), но вот психологическая сторона моей истории действительно не дает мне покоя.
Поговорим, однако, о твоем степенстве. Приезжай сюда, старина, когда захочешь. Я всегда будут тебе очень рад. Но предупреждаю тебя, что 1) весь сентябрь месяц у нас будут гостить родственники из Шампани, 2) я жду в этом месяце одного незнакомого тебе юнца; но он приедет и уедет отсюда до 22-го, перед тем как ты предполагаешь приехать обнять своего дядю. Вот. Засим, молодой человек, надеюсь, что ты дашь мне спать по утрам и не заставишь меня слишком много гулять, а?
Нахожу (между нами, конечно), что 1) журнал «Художник» слишком затягивает помещение статьи Бодлера о твоем друге и 2) что молодой Сен-Виктор совершенно маня забыл. Не перечитывает ли он слишком часто «Гамиани»?
Привези с собой Тео, если он может приехать и если только ты не предпочитаешь приехать один.
Все плохое, что я думаю о «Лете» (я в то же время думаю и много хорошего), заключается в следующем: мне кажется, там слишком выпячивается предвзятость, преднамеренность; чувствуется художник за холстом. Быть может, я говорю вздор? Но я объясню тебе просто, что я чувствую, прямо на бумаге. Все же успокойся. Дело (по-моему) легко исправимо, и книга ничуть не пострадает.
Когда увидишь Поля Мериса, спроси у него, послал ли он мою книгу папаше Гюго.
Обратил ли ты Александра Дюма-сына к культу чистого Искусства? Если это так, объявляю тебя великим оратором и особенно великим чародеем.
Прощай, милостивый государь. Целую тебя.
ШАРЛЮ БОДЛЕРУ
Пятница, 14 августа [1857]
Только что узнал, что вас преследуют за вашу книгу. Как говорят, дело уже немного устарело. Я ничего не знаю, так как живу здесь точно за сто тысяч льё от Парижа.
Почему? На кого вы посягали? На религию? Нравы? Предстали ли вы перед судом? Когда это будет и пр.?
Это новость: преследовать книгу стихотворений! До сего времени судебные органы оставляли поэзию в полном покое.
Я глубоко возмущен. Сообщите мне подробности вашего дела, если это вас не слишком затруднит, и примите тысячу сердечных рукопожатий. Ваш.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Круассе, конец сентября или начало октября 1857]
Добрался в первой главе до своей бабенки. Навожу лоск на ее туалет, и это меня забавляет. Снова обрел уверенность. Валяюсь точно свинья на драгоценных каменьях, которыми ее окружаю; мне кажется, что в каждой фразе моей книги встречаются слова «пурпур» и «алмаз». Настоящий позумент! Но я уберу все лишнее.
Я, наверное, уже окончу первую главу, когда мы увидимся (это будет не ранее декабря месяца), и, быть может, начну вторую, так как невозможно написать все в один прием. Это, главным образом, должно быть целостным. Мои приемы писания сейчас нехороши; но такое начало необходимо, чтобы все показать. Затем придется основательно очистить написанное от жира и шлака и внести тем самым больше простоты и возвышенности. Молодой Буйле начинает четвертое действие.
Посмеялись вы вдоволь над приказом ее величества Виктории о наложении поста? {По случаю восстания в Индии.} Вот величайшее шутовство, о каком я когда-либо слышал; это невероятно!
О, Рабле, где твоя могучая глотка?
ШАРЛЮ БОДЛЕРУ
Круассе, среда вечером [21 октября 1857]
Благодарю вас, дорогой друг. Ваша статья доставила мне величайшее удовольствие. Вы проникли в тайну произведения, точно у нас с вами одни и те же мысли. Вы основательно поняли и прочувствовали его.
Если вы считаете мою книгу поучительной, то не менее поучительно то, что вы о ней написали; мы побеседуем об этом через полтора месяца, когда увидимся.
А пока еще раз крепко жму вашу руку. Весь ваш.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Круассе, конец ноября, начало декабря 1857]
Великий муж!
Ты ожидаешь подробной критики твоих трех статей? Это было бы слишком длинно, милый. Достаточно, если я скажу, что они мне удивительно на руку. Устно я позволю себе только указать на несколько легких недостатков вроде «пикантных деталей» и т. д. Но ввиду того, что я единственный из смертных, кому не нравятся подобные вещи, это не имеет особого значения. Пожалуй, я извлек все, что было возможно извлечь, это самое существенное. К тому же у тебя есть принципы, ты молодец. Спасибо, сударь мой.
Не льсти себя надеждой, любезный племянник, услышать про похождения мадмуазель Саламбо, нет, котик, это может меня смутить; ты станешь наводить критику, а она тем более будет мне досаждать, что окажется справедливой.
Короче говоря, увидишь мое произведение позднее, когда готова будет большая часть! К тому же, зачем тебе читать то, что вероятнее всего будет зачеркнуто? Что за собачий сюжет. Последовательно перехожу от самой экстравагантной выспренности к самой академической пошлости. От этого попеременно несет то Петрюсом Борелем, то Жаком Делиллем. Честное слово, боюсь, как бы мое произведение не оказалось шаблонным и в то же время дьявольски старомодным! С другой стороны, поскольку надо сделать его неистовым, я впадаю в мелодраму. Черт его подери, на этом можно свернуть себе шею!
Трудно найти верный тон. Это достигается чрезмерной сжатостью идеи — безразлично, естественным ли путем или произвольно; нелегко, однако, постоянно представлять себе правду, то есть ряд живых и правдоподобных деталей, имея дело со средой, существовавшей за два тысячелетия. Впрочем, чтобы стать понятным, надо все время переводить, но какую же это создает пропасть между абсолютным и произведением!
К тому же у доброго французского читателя, который требует к себе «уважения», сложился свой установившийся взгляд на античный мир, и он рассердится на меня, если я ему преподнесу нечто не соответствующее его понятиям. Ибо снадобье мое и не римское, и не латинское, и не еврейское. Каким оно будет? Не знаю. Но клянусь тебе всеми оргиями храма Танит, что набросок будет «свирепый и необычайный», по выражению Монтеня. Ты совершенно правильно пишешь о нем.
Прощай, дорогой старинушка. Перечитай и как следует обдумай свою повесть. Отложи ее на время, а потом снова возьмись за нее, книгу нельзя родить, как ребенка, они строятся как пирамиды, по заранее выполненному рисунку; приходится на собственной спине таскать камни, нагромождать их один на другой, обливаясь потом, теряя время, а для чего! Все равно они остаются в пустыне, хоть и возвышаясь над нею необычайно. Шакалы испражняются у подножья, а буржуа поднимаются и т. д. — предоставляю тебе продолжать сравнение.
Тысяча нежных слов.
Прежде всего по приезде в Париж я хочу услышать твою историю. Высадившись из поезда, я наброшусь на твое жилище, не успев даже предаться ни одному из гнусных действий, какие непристойность предписывает назвать, а природа выполнить.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
[Круассе] Суббота, 12 декабря 1857
Мне не хочется уехать в Париж, не написав вам, дорогая мадмуазель. Не думайте, что переписка с вами для меня не ценна. Я чрезвычайно дорожу ею и не хотел бы прерывать ее.
Я неважно чувствовал себя после последнего письма. Я предпринял проклятый труд, в котором кроме вдохновения ничего не вижу; он меня удручает. Понимаете, чувствую, что нахожусь на ложном пути и что персонажи мои должны говорить иначе. Немало честолюбия в желании войти в душу людей, когда эти люди жили более двух тысяч лет назад, причем цивилизация тех времен не имеет ничего общего с нашей. Я до известной степени вижу истину, но не проникаюсь ею, она не волнует меня! Жизнь, движение — тут можно крикнуть «вот оно», даже не видя никогда модели, а я зеваю, жду, мечтаю в пустоте и злюсь. Были в моей жизни печальные минуты, минуты, когда ни малейший ветерок не раздувал моего паруса. Ум отдыхает в такие минуты! Но они слишком долго длятся. Ничего, надо терпеливо переносить свои невзгоды, вспоминать о лучших днях и надеяться на их возвращение.
Я думаю то же, что и вы, относительно Беранже! Кстати, за кого вы меня принимаете? Неужели вы думаете, что я встречаю людей только по платью, а не по уму? Мой «аристократический вкус» внушает мне любовь ко всему прекрасному, невзирая ни на что, уверяю вас. Одно латинское изречение гласит: «Зубами вытащить из мусора динарий». Этот риторический образ применяли к скупцам. Я такой же, как они, и ни перед чем не остановлюсь в поисках за золотом. И прежде всего я не верю вашим неблагоприятным отзывам по собственному адресу. А даже если это и так, я не стану вас меньше любить.
Не ставьте меня так высоко (в сфере бесстрастных духов). Напротив, я много любил в своей жизни, и мне никогда не изменяли, мне не приходится докучать провидению своими жалобами. Но вещи сами по себе изнашиваются. Люди меняются, а я не изменился! Вот в настоящее время со мной происходит то же, что и с вещами. С каждым днем я порчусь, и вера в себя, гордость мысли, чувство смутной и огромной силы, что вдыхаешь вместе с воздухом, все постепенно идет к упадку.
Нынче вечером мне исполняется 36 лет. Вспоминаю несколько годовщин своего дня рождения. Восемь лет тому назад я возвращался из Мемфиса в Каир, после ночевки у пирамид. Я и сейчас еще слышу рев шакалов и порывы ветра, сотрясавшие палатку.
Я мечтаю со временем снова поехать на Восток, остаться там и там умереть. К тому же в Бейруте есть дом, всегда готовый меня принять. Но я никогда не окончу письма, если примусь рассказывать о стране солнца. Это слишком длинно. Поговорим о другом.
Неоднократно вы упоминали о Жане Рейно; я согласен с вами, что его книга прекрасна. Только богослов у него очень угодлив. Нехороша, пожалуй, даже невозможна форма диалога. В целом я считаю, что слишком длинно. А его объяснения кары и воздаяния, как и все обычные объяснения, ничего не объясняют. Что же это за наказание, если человек не чувствует себя наказанным? Коль скоро мы не помним о прежних своих существованиях, к чему же карать за них? Какое нравоучение можно извлечь из наказания, если не видишь в нем смысла.
Читали вы «Этюды по истории религии» Ренана? Раздобудьте эту книжку, она вас заинтересует.
Почему вы не излагаете письменно своих мыслей? Пишите же! Хотя бы ради физического здоровья.
Вы говорите, что я обращаю слишком много внимания на форму. Увы! Это все равно, что тело и душа; для меня форма и идея — одно целое, и я не мыслю одно без другого. Чем прекраснее мысль, тем звучнее фраза, уверяю вас. Точность мысли создает (и есть сама) точность слова.
Если мне сейчас ничего не дается, если все, что я пишу, — бессодержательно и пошло, то потому, что я не живу чувствами своих героев, вот. Возвышенные слова (приводимые в истории) часто произносились смиренными духом. Это ни в коем случае не является аргументом против Искусства, напротив, ибо они обладали тем, что составляет сущность Искусства, а именно конкретной идеей, чувством сильным и достигшим наивысшего идеала. «Если у тебя есть вера, ты можешь сдвинуть горы» — также один из принципов Прекрасного. Более прозаично это можно передать так: «Если точно знаешь, что хочешь сказать, то скажешь хорошо». Поэтому труднее говорить о других, чем о себе!
Так вот! Я думаю, что до сих пор чрезвычайно мало говорили о других. Роман являлся лишь личным высказыванием автора, и это относится ко всей литературе вообще, за исключением разве двух-трех лиц. А между тем науки моральные неизбежно должны идти по иному пути и действовать так же беспристрастно, как науки физические. Современный поэт должен быть созвучен всему и всем, если он хочет понимать и описывать. Мы прежде всего страдаем от недостатка научных знаний и барахтаемся в варварстве, точно дикари: философия и религия в том виде, в каком они существуют, — цветные стекла, сквозь которые все кажется неясным, во-первых, потому что имеется предвзятость, во-вторых, потому что обычно задаются вопросом «для чего», не допытываясь о том, как и что делается, и, в-третьих, — человек склонен все относить к себе. «Солнце существует для того, чтобы освещать землю». Дальше этого не пошли.
У меня остается место лишь на то, чтобы очень сердечно пожать вам руки.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Париж, 23 января 1858
Мне сильно нездоровилось в течение трех недель; вот почему я так долго не отвечал вам, дорогая корреспондентка. До сих пор я отличался железным здоровьем и мне все было нипочем, а тут вдруг схватил сильнейший грипп, сопровождавшийся болями в желудке и прочим; слава богу, теперь все кончилось.
Первое время по приезде в Париж я был глупейшим образом занят театральными делами. Хотели переделать для театра «Бовари». Театр «Порт-Сен-Мартен» предлагал мне необычайно выгодные условия. За одно только заглавие я мог бы получить половину авторского права. Переделку поручили бы какому-нибудь сочинителю с именем, вроде Деннери, который на скорую руку состряпал бы пьесу. Но такое разменивание Искусства на мелкую монету кажется мне делом непристойным. Я решительно от всего отказался и вернулся в свою берлогу. Если я буду писать для театра, то только при условии, что двери его широко раскроются передо мною, не иначе. Впрочем, достаточно поговорили о моей «Бовари», мне это начинает надоедать. К тому же она представляется в двух театрах — «Ревю Варьете» и «Ревю Пале Руаяля»; хватит с меня и этих двух гнусностей! Я не только не стремлюсь воспользоваться своим успехом, как мне советуют, но делаю все возможное для того, чтобы он не повторился! Книга, которую я теперь пишу, так далека от современных нравов, что очень мало заинтересует публику, так как у героев не будет ни малейшего сходства с читателями. В моем романе не найдут никаких наблюдений, ничего, что обычно нравится. Это будет Искусство, чистое Искусство, и ничего более.
Я не знаю, существует ли что-либо более трудное по выполнению. Писателей, которым известны мои планы, пугает такая попытка. Я могу сделаться посмешищем на весь остаток моей жизни. Когда будет окончена книга? Не знаю. В течение пяти месяцев у меня было самое плачевное душевное состояние, и если так будет продолжаться, то я и через двадцать лет не окончу ее.
Мне совершенно необходимо поехать в Африку. Я и собираюсь в конце марта вновь посетить страну фиников. Как я счастлив! Снова буду жить, не сходя с лошади, и спать в палатке. Как я вздохну полной грудью, садясь в Марселе на пароход! Впрочем, мое путешествие будет коротким. Мне нужно поехать в Кефф (в тридцати льё от Туниса) и погулять в окрестностях Карфагена, по меньшей мере на двадцать льё в окружности, чтобы основательно изучить пейзажи, которые я собираюсь описывать. План у меня готов, я написал треть второй главы. Их будет пятнадцать. Как видите, я очень мало продвинулся вперед. При самых благоприятных обстоятельствах я не смогу окончить ранее двух лет.
Позвольте вам сказать, что одна фраза вашего письма немного насмешила меня нынче утром. Я — и вдруг «человек бульвара, моды, баловень общества!» Клянусь, что это не так. Если бы вы меня увидели, то сразу убедились бы в этом. Напротив, я, как говорится, медведь. Живу монахом; иногда (даже в Париже) по неделям не выхожу из дому. У меня хорошие отношения со многими людьми искусства, но бываю я лишь у некоторых. Вот уже четыре года, как ноги моей не было в «Опере». В прошлом году я имел пропуск в «Комическую оперу», но ни разу не был там. В эту зиму у меня есть возможность таким же образом посещать «Порт-Сен-Мартен», но я до сих пор еще не воспользовался своим правом. Что касается так называемого светского общества, то я вообще не бываю в нем. Я не умею ни танцевать, ни вальсировать, не играю ни в какие карточные игры, не умею даже поддерживать салонный разговор, ибо считаю глупым все, о чем там болтают! Откуда, черт возьми, вы получили такие неверные сведения?
Относительно истории Тридцатилетней войны я знаю лишь то, что имеется у Шиллера. Но я, вероятно, увижусь на этой неделе с моим другом Шеруелем, профессором истории в Сорбонне, и тогда выполню ваше поручение. В руководствах Pope напечатано «Руководство для библиофила». Возможно, что там вы найдете список книг. В «Истории французов» Сисмонди, в томах о Людовике XIII и Людовике XIV вы найдете в примечаниях библиографический указатель. Большой труд по истории Сисмонди — только итог всего, что было напечатано. Он не пользовался рукописными источниками.
Как я был растроган вашими словами о последней звезде, на которую вы смотрите ночью! Мне кажется, я понимаю вас и нежно люблю.
Целую ваши руки.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, воскресенье вечером [20 июня 1858]
Что ты поделываешь? Я прежде всего четыре дня спал от усталости, затем обвел чернилами свои путевые заметки, а тут ко мне пожаловал синьор Буйле.
Всю неделю, что он здесь, мы предаемся кипучей деятельности. Уведомляю тебя, что «Карфаген» надо целиком переделать или, вернее, написать сызнова. Я все уничтожил. Это было идиотство! Немыслимо! Фальшиво!
Думаю, что найду верный тон. Начинаю понимать своих персонажей и увлекаться ими. Это уже много. Не знаю, когда окончу свой колоссальный труд. Быть может, не ранее двух-трех лет. А до тех пор умоляю всех, имеющих ко мне какое-либо отношение, не говорить со мною о нем ни слова. Я даже склонен разослать извещения о своей смерти.
Решение мое свято. Для меня не существует ни публики, ни печатания, ни времени; итак, вперед!
Перечитал залпом «Фанни», которую знал наизусть. Впечатление мое не изменилось, мне показалось даже, что в целом она еще стремительнее. Это хорошо. Не беспокойся ни о чем и не думай больше о ней. Когда приедешь, я позволю себе сделать только два-три незначительных замечания по поводу некоторых деталей.
У нас в Руане предполагаются грандиозные и глупые торжества; в ожидании их буржуа совсем потеряли голову. Мне они заранее кажутся верхом идиотизма. После упомянутых торжеств среди недели пойдет «Монтарси», затем в начале месяца Буйле вернется в Мант; в это же время моя мать поедет на неделю в Трувиль, а после этого мы ждем вас, милостивый государь мой.
Решено? Окончательно? Почему ты не шлешь мне весточки о себе, трусишка? Что ты пишешь? Что делаешь? Уссей? и т. д.
Я ежедневно купаюсь, плаваю, как тритон. Никогда еще не чувствовал себя так превосходно. Настроение хорошее, есть надежды. Надо, когда здоров, запасаться мужеством на будущее время, ибо, увы, моменты упадка духа неизбежны. Пока что — паршиво! Целую тебя. Привет Тео.
На улице Ришер есть, кажется, фотография, где продаются виды Алжира. Если можешь, найди мне фотографию Медрагена (могила нумидийских царей) близ Алжира и привези, доставишь мне удовольствие.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, 11 июля [1858]
Я застал здесь по приезде ваше последнее письмо, дорогая корреспондентка. Вы просите у меня утешения; разве я не повторял вам много раз одно и то же? Займитесь свыше всякой меры какой-нибудь грудной и длительной работой. Всякая работа служит развлечением при известном упорстве: если человек вздумает выучить наизусть словарь, то под конец ему станет весело. А затем путешествуйте, бросьте все, подражайте птицам. Жить в доме — одно из зол цивилизации. Мне кажется, что мы рождены на то, чтобы спать лежа на спине и глядя на звезды. Через несколько лет человечество (благодаря новому развитию средств передвижения) возвратится к прежнему состоянию номадов. Люди будут переезжать с одного края света на другой, как раньше переходили из долины в горы: это внесет успокоение в умы, а легкие надышатся свежим воздухом.
Короче говоря, мой постоянный совет вам: желайте!
Пробовали вы это? Решитесь же на что-нибудь! Не будьте малодушны! Нет, вы ласкаете свое горе, как грудного младенца, который кусает вам грудь.
Я пережил это и чуть не умер. Я прекрасно умею врачевать печаль. Можете мне поверить. И сейчас еще у меня бывают дни уныния и безнадежности. Но я отряхиваюсь, как человек, вылезший из воды, греюсь под сенью Искусства. Делайте, как я, читайте, пишите, а главное — не думайте о своих невзгодах.
Я только потому все время говорю вам о воле, что убежден — этого вам и не хватает. Создайте себе собственный идеал и действуйте сообразно ему.
Я думал иногда о вас там, на африканском берегу, где развлекался всякого рода историческими мечтаниями, обдумывая книгу, которую собираюсь писать. Я надышался ветром, налюбовался небом, горами и реками. Мне это было необходимо, я задыхался те шесть лет, что прошли со времени моего возвращения с Востока.
Я основательно изучил окрестности Туниса и развалины Карфагена, объехал всю область с запада на восток и вернулся в Алжир через границу у Кефф, проехал восточную часть провинции Константины до Филиппвилля, где снова сел на пароход. Я все время путешествовал один, верхом, чувствовал себя здоровым и веселым. А теперь приходится переделывать все, что написано; я положительно во всем ошибся.
Итак, этот замысел отнял у меня больше года. Я работал почти без передышки и все еще не сдвинулся дальше начала. Вещь эта трудно выполнимая, ручаюсь вам, по крайней мере для меня! Правда, у меня не малые претензии, я устал от уродливых вещей и шумной среды. «Бовари» надолго внушила мне отвращение к мещанским нравам. Быть может, я в течение нескольких лет буду жить роскошным сюжетом, далеко от современного мира, которым я сыт по горло.
То, что я задумал, — безрассудно и не будет пользоваться успехом у публики. Пустое! Надо прежде всего писать для себя. Это единственная возможность написать хорошо.
Вам бы следовало (если у вас не найдется сюжета) писать свои мемуары. Мы еще потолкуем об этом. Кажется, в одном из последних моих писем я указал вам несколько книг. Прочли вы их?
До свидания. Сердечно жму вам руки и целую вас в лоб.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, воскресенье [19 декабря 1858]
Я начинал уже злиться, что не имею известий о твоей жене, и собирался сегодня тебе писать. Тем лучше, если болезнь затягивается, это признак, что она не опасна. Г. Клоке тоже говорил моей матери, что находит улучшение. Она собиралась вчера к тебе. Держи меня в курсе всего, что случится (будь то хорошее или плохое).
Тысяча комплиментов, дорогой господин Фейдо, за умелую продажу «Даниеля». {Фейдо продал издателю Колонну свой роман «Даниель» за 10 000 франков.} Почему я не обладаю такой же ловкостью! Пока что литература стоила мне 200 франков! Вот мои доходы! А при моих темпах вряд ли они будут другими.
Ты спрашиваешь, что я поделываю? Так вот: встаю в двенадцать, а ложусь между тремя и четырьмя часами утра. Засыпаю около пяти. Почти не вижу дневного света. Отвратительная штука — зима. Поэтому я разучился отличать один день от другого и день от ночи. Живу замкнуто и необычно, без единого события, без какого-либо шума, и это мне нравится. Полное объективное небытие. И мне неплохо работается. За восемнадцать дней я написал десять страниц, прочел целиком «Отступление десяти тысяч» {Ксенофонта.} и проанализировал шесть трактатов Плутарха (sic!), гимн Церере (в «Гомерических стихотворениях» по-гречески), затем «Encomium moriae» Эразма и, наконец, вечером — Табарена, вернее, утром, лежа в постели, чтобы рассеяться. Так вот. А через два дня начинаю третью главу. Она была бы четвертой, если бы я сохранил предисловие; нет, никаких предисловий, никаких пояснений. Первая глава заняла у меня нынче летом два месяца. Тем не менее, я без колебания швырнул ее в печку, хотя сама по себе она мне очень нравится.
Я в ужасной тревоге, потому что должен повторить в третьей главе те же эффекты, что были уже во второй. Иные ловкачи с помощью ухищрений сумели бы обойти затруднение. Я же, точно вол, тяжело увязну в самой гуще, таков мой метод. Придется попотеть! И не раз я приду в отчаяние, отделывая этот абзац! Серьезно, мне кажется, что никогда еще не брались за такой трудный по стилю сюжет. В каждой строчке, в каждом слове я чувствую, как несовершенен наш язык, бедность словаря такова, что нередко я вынужден изменять те или иные детали... Эта книга угробит меня, старина. Ничего, она здорово меня забавляет.
Наконец, после подхлестывания и мастурбации появилась сила, сударь. Будем надеяться на будущее торжество.
Я наброшусь на «Даниеля» и отошлю его тебе обратно как можно скорее. Не бойся, я возможно критически подойду к изучению его. Предупреди меня, чтобы я послал в Руан за пакетом.
Тысяча нежных слов.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, вторник, вечер [30 августа 1859]
Не жалуйся больше на провидение, о Фейдо, ты не знаешь, какими благами оно осыпает тебя в провинции! Услышь сей анекдот; но прежде встань на стул и посмотри на себя в зеркало, ибо благодаря одному событию ты стал выше колонны: некий молодой человек, родом из Руана, богатый, в возрасте двадцати трех лет и пр. собирался жениться и осчастливить этим браком юную семнадцатилетнюю девицу, красивую и пр., как вдруг однажды он обнаружил в ее рабочем столе мерзкую книгу, озаглавленную «Фанни» и сочиненную неким Э. Фейдо! Скандал, крики, сцена! И брак из-за этого расстроился.
Опускаю комментарии. Я был так восхищен этим юным буржуа, что испытывал желание не то отчеканить в честь его алюминиевую медаль, не то содрать с живого кожу. Откровенно говоря, я с наслаждением посмотрел бы, как его четвертуют. Я сделал все, чтобы узнать имя молодого человека, однако его замалчивают, говорят, будто ничего не знают, и пр. Но положительная сторона этого факта в том, что твоя книжица расстроила брак и, может быть, сделала доброе дело! Как чудесно! Черт возьми, как чудесно!
Я не столь быстро подвигаюсь, как тебе кажется, старина! Но персонажи мои становятся для меня яснее. Мне кажется, они уже вышли из состояния манекенов, украшенных тем или иным именем. Чтобы можно было сказать об античном персонаже: «Это правдиво!», надо сделать его сугубо жизненным, ибо кто же видел модель, тип? Надеюсь через месяц окончить шестую главу, а седьмую необходимо сделать до возвращения в Париж. Я отделался от пятой главы, выкинув два превосходных абзаца, которые замедляли, однако, действие. Я изменил также порядок двух или трех глав и думаю, что теперь дело пойдет. Словом, неплохо!
Однако я становлюсь похотливым, честное слово. Меня кое-что очень беспокоит! Уж не вторая ли молодость подкатила? Боюсь! У меня на эту зиму самые свирепые планы! Тебе не страшно?
Два дня мне предстоит возиться с одним молодым английским писателем, сыном бывшего греческого посланника в Лондоне. {Гамильтон Аиде.} Затем приезжает Буйле. Далее, через неделю — родственники из Шампани. Эти мне мешать не будут.
Не беспокойся о своих замечаниях по поводу «Катерины». {«Катерина д'Овермейр» — роман Фейдо.} Все это ничего не значит. Опасность кроется в романтическом элементе сюжета. Надо найти бесчисленные нити, чтобы связать этот романтический элемент с обыденным, то есть с той частью, где описывается парижская жизнь, частью, которая в плане, казалось мне, прекрасно вяжется с началом.
Твои желудочные боли происходят от курения сигареток; кури ты чубук, осел! Твои сигаретки меня раздражают, в них совершенно нет изящества!
Раздобудь номер «Обзора народного образования» от 18 августа, журнал г-на Ашетта; там есть статья, {«Реализм» Легриля.} касающаяся нас: Arcades ambo. {Мы оба аркадийцы — слова Вергилия («Эклоги», VII), относящиеся к двум пастухам из Аркадии — Тирсиду и Коридону, искусным певцам.}
Послал Сент-Бёву открытку, получил он ее?
Прощай. Работай хорошенько.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Круассе, конец сентября 1859]
Что за человек папаша Гюго! Что за поэт, черт возьми! Проглотил залпом оба тома! {«Легенда веков».} Мне недостает тебя! Недостает Буйле! Недостает умных слушателей! Мне необходимо прогорланить три тысячи стихов, каких никто еще не создавал. Нет, не прогорланить — прорычать! Я сам себя не узнаю! Вяжите меня! Ах! Это принесло мне пользу!
Однако я нашел три великолепных детали, отнюдь не исторических, которые имеются в «Саламбо». Придется их убрать, иначе начнут кричать о плагиате. Ведь бедняки всегда воруют!
Моя работа идет лучше. Я в самом разгаре битвы со слонами и прошу тебя верить, что убиваю людей, как мух, проливаю потоки крови.
Хотел было написать тебе длинное письмо, мой бедный старик, по поводу всех неприятностей; мне кажется, они довольно серьезны, но, откровенно говоря, мне пора спать. Скоро четыре часа. Папаша Гюго вскружил мне голову.
У меня самого за последнее время крупные неприятности и беспокойства. Словом, «Аллах керим!»
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Круассе, первая половина октября 1859]
Твое письмо глубоко огорчило меня, мой бедный Фейдо! Что тебе сказать? Какую банальность? Я много думаю о тебе, вот и все! Неужели нет никакой надежды? Бедняжка! {Г-жа Фейдо (Агнесса-Октавия Бланки) умерла 18 октября 1859 года.} Это ужасно! Перед твоими глазами проходят и будут проходить прекрасные образы, и ты сможешь сделать прекрасные наброски. Но достаются они дорогой ценой. Буржуа и не догадываются, что мы преподносим им свое сердце. Род гладиаторов не умер, он живет в каждом художнике. Он забавляет публику своей предсмертной агонией. Как ты, должно быть, утомлен, подавлен, разбит! Единственный способ поменьше страдать в минуты таких переживаний — это преувеличенно изучать себя, а такая вещь возможна, ибо ум тогда необычайно обостряется.
Моя мать просит передать тебе, что очень жалеет тебя; она глубоко пережила все это.
Прощай, дорогой дружище. Крепись. Целую тебя.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Суббота вечером [12 или 15 ноября 1859]
Ты у меня настоящий мужчина, принялся за работу и вместо того, чтобы хныкать в своем несчастьи, воспрянул духом! Будь уверен, я ценю тебя за это и думаю, что мало найдется господ, которые подобно тебе способны жить двойной жизнью. Мы часто говорим об этом с папашей Сент-Бёвом.
Продолжай, старина! Пристрастись к идее! Эти женщины, по крайней мере, не умирают и не изменяют!
Хочешь рассеяться? Доставь мне (или, вернее, себе) удовольствие и купи только что вышедший роман Луизы Коле «Он». Ты узнаешь в нем своего друга, которого отделали под орех. Но чтобы основательно вникнуть в эту историю, а главное, понять автора, раздобудь, во-первых, «Служанку» — поэму, в которой молодца Мюссе настолько же ругают, насколько восхищаются им в романе «Он», и, во-вторых, «Историю солдата», где в качестве главного персонажа фигурирую я. Ты не можешь себе представить, какая это наглость! Но что за ничтожество синьор Мюссе! Эта книга («Он»), написанная для его реабилитации, еще более, чем «Она и Он», обесславит его!
Я же вышел бел, как снег, но мне приписывается бесчувственность, скупость, словом — я мрачная бездарность. Вот что значит совокупляться с Музами! Я хохотал до слез. Если бы «Фигаро» знал, что я храню в своих папках, он предложил бы мне невероятные суммы! Грустно об этом думать.
Смешно делать литературу орудием своих страстей; какие бездарные во всех отношениях получаются при этом произведения!
Насладился чтением Кювилье-Флёри. Статья его не лишена недоброжелательства, но я нахожу ее попросту глупой. Он мало ругает тебя. Быть может, в глубине души Кювилье восхищается тобой? В таком случае мне тебя жаль!
Неужели у нашего приятеля Тюргана склонность к католицизму? Он прислал мне свою статью, необыкновенно правоверную. В том же номере «Европейского обозрения» я прочел статью, ругающую Ренана, что меня очень возмутило. В какой грязи мы топчемся, бог ты мой!
Из ненависти ко всему и чтобы уйти от тех мерзостей, которые делают, говорят и думают, я, как человек, доведенный до отчаянья, ищу спасения в античном мире. Я упиваюсь античностью, как другие напиваются вином. «Карфаген» идет неплохо, но медленно. Зато теперь я вижу. Мне кажется, что я достигну Реальности. Что касается выполнения, то тут можно с ума сойти!
В книге тетеньки Коле встречаются места, где видны ее гнусные умыслы: так, она делает все возможное, чтобы поссорить меня с Сент-Бёвом, и т. д. Ах! Нечего сказать, красиво! Только держи это про себя, ибо единственное мое желание больше не слышать об этом. Впрочем, я придерживаюсь того принципа, что никогда не надо отвечать. Труды — вот и все. Какое значение имеют понятия мы, мое, и особенно я?
Мне любопытно узнать, приходил ли к тебе еще раз Тео? Мне кажется, если бы я был в Париже, ничего бы не случилось.
Часто встречаешься ты с Председательницей? Она превосходное, а главное, здравое существо.
Моя мать оканчивает сборы. Ты увидишься с ней на будущей неделе.
Спасибо тебе за Атенея.
Ну, прощай, бедняга! Что тебе сказать еще? Что я тебя люблю и целую.
В «Конституционалисте» печатается роман-фельетон, в котором героиня серьезно упрекает меня в том, что я пишу ради денег (ее устами говорит сам автор!). Чувствуешь ли ты глубину этого упрека?
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Вторник ночью, Круассе [29—30 ноября 1859]
Сейчас очень поздно, старина; ничего не значит, я должен пожелать тебе доброго утра! Как поживаешь? Утихла ли немного твоя печаль? Как подвигается «Катерина»? Я завяз в храме Молоха, заседание парламента не так-то легко дается!
Только безумец может взяться за сочинение такой книжицы! В каждой строке, на каждом слове я преодолеваю такие трудности, за какие никто меня не похвалит и прав будет, что не похвалит. Ибо если метод мой неверен, то произведение будет неудачным.
Иногда я чувствую себя истощенным и усталым до мозга костей и с жадностью призываю смерть — избавительницу от всех терзаний. Но потихоньку все проходит, я опять прихожу в восторженное состояние, потом снова впадаю в уныние и так без конца!
Надеюсь, читатели «Саламбо» не станут думать об авторе! Немногие поймут, какую надо было испытать тоску, чтобы взяться за воскрешение Карфагена. Это — Фиваида, куда меня толкнуло отвращение к современной жизни.
Если бы не моя мать, я поехал бы теперь в Китай. Случай легко найти.
Нынче вечером прочел «Женщину» папаши Мишле. Вот старый болтун! Право, он злоупотребляет языком. Не кажется ли тебе, что он, в сущности, завидует Бальзаку?
Коль скоро ты прочел роман «Он», прочти уж и «Историю солдата». Уверяю тебя, позабавишься. Эта книга гораздо лучше, потому что я там — на первом плане.
Разве ты каждое воскресенье бываешь у Председательницы?
Удивительно, как меня тянет заняться медициной (это теперь поветрие). Мне хочется делать вскрытия. Будь я лет на десять моложе, я занялся бы этим. Есть в Руане один сведущий человек, старший врач больницы для умалишенных, он читает в интимном кругу любопытные лекции об истерии, нимфомании и т. д. У меня нет времени пойти к нему, а между тем я давно уже обдумываю роман о безумии, или, вернее, о том, как сходят с ума! Меня злит, что я так долго пишу, провожу время за чтением и черканием. Жизнь коротка, Искусство долговечно! Да и к чему? Все равно «надо возделывать свой сад». Накануне смерти Сократ попросил в тюрьме какого-то музыканта научить его играть на лире одну песню; «К чему, — спросил тот, — раз ты все равно умрешь?» — «Чтобы знать ее перед смертью», — ответил Сократ. Вот одно из величайших изречений в области морали, какие я знаю; я предпочел бы быть тем, кто его сказал, чем тем, кто взял Севастополь.
Я ни с кем не вижусь, не читаю газет, не знаю, что делается на белом свете.
Прощай, старина, целую тебя, бедняга.
МОРИСУ ШЛЕЗИНГЕРУ
Декабрь [1859, в двадцатых числах]
Вот и новый год наступает, дорогой мой Морис! Что вам пожелать? Примите все мои пожелания и передайте то же своим.
Мне досадно, что я ни от кого из вас не имею вестей. Неужели я больше никого не увижу? Напишите, что поделываете вы, жена, сын, дочь и внучка.
Через два дня я возвращаюсь на бульвар Тампль. Вероятно, я найду Париж таким же глупым, каким я его покинул, а быть может, и еще глупее. Пошлость распространяется наряду с расширением улиц; идиотизм растет вместе с ростом украшений. Вы не можете себе представить, до какой степени кретинства мы дошли. Особенно безграничным становится добродетельное лицемерие, наша честность граничит с мошенничеством.
И в этом году я еще не окончу своей книжки про Карфаген. Пишу медленно, ибо для меня книга — это особый способ жить. Какое-нибудь слово или мысль заставляет меня заниматься исследованиями, я отклоняюсь от главной темы, отдаюсь бесконечным мечтам; наш век к тому же так жалок, что я с наслаждением погружаюсь в древний мир. Это смывает с меня грязь современности. Но лишь только книга будет окончена, а я надеюсь, это случится в начале 1861 года, я привезу ее вам: во-первых, хочется с вами повидаться, а во-вторых, не мешает немного проветриться.
В моей семье ничего нового. Мать стареет и становится хрупкой. Есть у меня красивая девятнадцатилетняя племянница, которую на днях выдают замуж, другая — тринадцати лет, больше всего любит котенка с белыми лапками. Брат этим летом получил орден, а меня вы, пожалуй, не узнаете, — я полысел и исхудал. Вот и все.
Я часто беседую о вас с Жаненом. Всякий раз, как мне случается видеть Панофку или проходить мимо роскошного магазина Брандуса, у меня сжимается сердце: я вспоминаю старые времена, когда мы так славно шутили в «Музыкальной газете».
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[1859—1860?]
Да! Снова разлука! «Снова среди морей», как сказал Чайльд Гарольд! Действительно, нельзя сказать, чтобы моя жизнь, исполненная возвышенных чувств, отличалась обилием нежности. Я живу как пес или как святой! Что поделаешь!.. Я вас не знаю; вы представить себе не можете, чего бы я не дал за то, чтобы пожить с вами два дня, вдвоем, в полном одиночестве! Многое сказал бы я вам, а вы мне. Мы не все высказали друг другу. Мне кажется, что мы две тени, догоняющие одна другую, между тем как могли бы слиться и составить одно целое.
Выражаю вам сожаление по поводу смерти вашей подруги. Невесело терять тех, кого любишь. Немало я похоронил близких людей! Часто проводил я ночи у смертного одра! Человек, которого я любил больше всех на свете, умер почти на моих руках. Если вы хоть раз целовали покойника в лоб, значит, у вас на всю жизнь остался на губах след, точно горький неизгладимый вкус небытия. Глядя на звезды, надо думать про себя: «Быть может, я уйду». Но меня возмущает манера, с какой говорят о боге все религии, — настолько самоуверенно, легкомысленно, фамильярно они обращаются с ним. Особенно раздражают меня попы, у которых не сходит с языка его имя. Слова: «благость господня», «гнев божий», «оскорбить господа» — они произносят, точно это привычное для них чихание. Это все равно, что считать бога человеком, и, хуже того, — буржуа. Иные к тому же ревностно стараются разукрасить его различными атрибутами, как дикари, которые украшают перьями свой фетиш. Одни окрашивают бесконечность в голубой, другие — в черный цвет. Все это каннибализм. Мы еще щиплем траву и ползаем на четвереньках, несмотря на существование воздушных шаров. В представлении человечества бог похож на восточного государя, окруженного свитой. Социальная идея на несколько столетий опередила религиозную идею, а кучка шутов притворяется, будто млеет от восторга перед лицом ее.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
Круассе, май 1860
Я должен вам сказать, какое огромное удовольствие доставило мне чтение ваших двух томов. {«Любовницы Людовика XV».} Я нахожу, что они очаровательны, полны новых деталей, написаны превосходным стилем, очень нервным и в то же время очень возвышенным. Мне кажется — это история, притом в оригинальном изложении.
Под телесной оболочкой все время чувствуется душа; обилие деталей отнюдь не заглушает психологической стороны произведения. Мораль вытекает из фактов без всякой декламации и отступлений! Книга живет — редкое достоинство.
Портреты Людовика XV, Башелье, а особенно Ришелье — вполне законченные образы, по-моему.
Вы заставляете меня полюбить г-жу де Мальи, она меня возбуждает! «То была одна из тех красавиц... подобно божественной вакханке!» Черт возьми, вы пишете положительно как ангелы.
Ни одна вещь не увлекла меня так, как конец «Госпожи де Шатору». Я думаю, что ваше суждение о Помпадур неповторимо. Что можно еще сказать после вас?
Бедняжка Дюбарри, как вы ее любите, а? Я, признаться, тоже. Какие вы счастливые, вы можете заниматься всем этим, вместо того чтобы, подобно мне, ломать себе голову над небытием!
Очень мило с вашей стороны, что вы прислали мне эту книгу, что вы так талантливы и немного меня любите.
Крепко, крепко жму ваши четыре руки.
Ваш Г. Флобер.
Друг Франклина и Марата, первостепенный мятежник и анархист, в течение двадцати лет стремящийся разрушить деспотизм на обоих полушариях!!!
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
Круассе, 3 июля [1860]
Поскольку вас беспокоит «Карфаген», могу вам сообщить следующее.
Кажется, я слишком уже жадный! Реальность в подобном сюжете — вещь почти невозможная. Остается один выход — сделать нечто поэтическое, но тут грозит опасность вернуться к целой куче старых, всем известных глупостей, начиная с «Телемака» и кончая «Мучениками». (Я не говорю о работе археолога, которая не должна чувствоваться, ни о соответствующем языке, что почти невозможно.) Чтобы быть правдивым, надо внести неясность, тарабарщину и начинить книгу примечаниями; а когда сохраняешь литературный французский тон, становишься банальным. «Проблема!» — сказал бы папаша Гюго.
Тем не менее, продолжаю, хотя меня снедают сомнения и тревоги. Утешаюсь тем, что пробую создать нечто достойное уважения. Вот и все.
Знамя Доктрины будет на сей раз смело развеваться! Ибо это произведение ничего не доказывает, ничего не говорит, оно и не историческое, и не сатирическое, и не юмористическое. Вместо всего этого оно может оказаться идиотским.
Приступаю к восьмой главе; после нее у меня останется еще семь! Я окончу не ранее, как через полтора года!
Я отнюдь не из вежливости поздравил вас с последней вашей книжкой и с избранным вами жанром. Я безумно люблю историю. Мертвые ко мне благосклоннее, чем живые! Почему так заманчиво прошлое? Почему вы вызвали во мне влюбленность к любовницам Людовика XV? Впрочем, такая любовь — нечто совершенно новое для человечества, и это, пожалуй, лучшее, что дал XIX век.
Что вы собираетесь делать теперь? Лично я отдаюсь целиком Каббале, Мишне, военному искусству древности и пр. (куча книг, которые мне ни на что не нужны; но я читаю их из избытка добросовестности, а также отчасти для развлечения). Но меня удручают ассонансы моей прозы; жизнь моя такая же плоская, как стол, за которым я пишу. Дни идут своей чередой и походят друг на друга, по крайней мере внешне. Отчаявшись, я мечтаю о путешествиях. Жалкое лекарство!
У меня впечатление, что вы добродетельно скучаете в лоне семьи, среди деревенских прелестей. Мне понятно это состояние, я сам неоднократно пережил его.
Будете вы в Париже между 10-м и 25 августа? В ожидании радостного свидания дружески жму вам руки. Ваш.
МИШЛЕ
Круассе, 26 января 1861
Как вас благодарить, милостивый государь и дорогой маэстро, за присланную вами книгу {«Море».} и как выразить вам, какое очарование вызвало во мне чтение ее?
Разрешите мне, однако, поговорить немного о вас; это мое давнишнее желание, и коль скоро представился случай, я пользуюсь им.
Существуют гении, которыми восхищаются, но их не любят; другие нравятся, но их не ценят; зато те, кто всесторонне захватывают нас и как бы созданы для нашего темперамента, — нежно любимы нами. Ими упиваются, они питают нас, они помогают нам жить.
В коллеже я зачитывался вашей «Римской историей», первыми томами «Истории Франции», «Записками Лютера», «Вступлением»; все, что выходило из-под вашего пера, поглощалось мною с наслаждением почти чувственным, настолько оно было живо и глубоко. Эти страницы (невольно запоминавшиеся наизусть) вливали в меня потоки всего того, что я тщетно искал в другом: поэзию и реальность, краски и рельеф, факты и мечты; то были не книги, то был для меня целый мир.
Сколько раз с тех пор, в самых различных местах, я декламировал самому себе (один, и чтобы получить удовольствие от стиля): «Я хотел бы видеть бледное лицо Цезаря»... «Там тигр на берегу реки подстерегает гиппопотама», и т. д. и т. д.! Некоторые выражения даже преследовали меня, например: «Ожиревшие в спокойствии греха», и т. д.
Когда я стал мужчиной, мое восхищение приняло определенную форму; я следил за вашими трудами том за томом — «Народ», «Революция», «Насекомое», «Любовь», «Женщина» и пр. Меня все более и более поражала огромная растущая симпатия, изумительный талант каким-нибудь одним словом освежить целую эпоху, необыкновенное чувство правды, охватывающее предметы и людей и проникающее в малейшие фибры.
Вот дар, благодаря которому помимо всех остальных вы становитесь, сударь, мастером, великим мастером. Прежде чем написать о чем бы то ни было, надо полюбить это. Вы придумали любовь в области критики, она плодотворна.
Я родился и прожил четверть века в больнице; может быть, это позволило мне во многих отношениях почувствовать вас не только с литературной точки зрения. Говоря народным языком, который вам понятен, я вас люблю потому, что вы славный человек, вы обладаете Добротой (четвертой из Граций), и в то же время вы более, чем кто-либо, обладаете безусловной привлекательностью Сильных, тем несказанным обаянием, которое является избытком Мощности.
Наконец вы погружаетесь в самую природу, и биение вашего сердца слышится даже в стихах. Какая чудесная книжка — «Море»! Сначала я залпом прочел ее, затем перечел два раза, а теперь надолго оставил на своем столе.
Это изумительное от начала до конца произведение, на вид простое, а на самом деле великое. Какое описание бури в октябре 1859 года! Что за изумительная глава, где вы пишете о молочном море и заканчиваете следующей прекрасной фразой: «Своими непрестанными ласками... видимая нежность женской груди!..» Вами выражен атом, цвет жизни, созидатели миров навевают на нас бесконечные мечтания! Все достойно быть цитированным! Вы заставляете любить тюленей, вы вызываете волнение и благодарность к вам. Какое чудо искусства и чувства та страница, где вы говорите о жемчуге (196—197), полярные моря, кит; «Человек и медведь бежали в ужасе от их вздохов...»
Можно подумать, что вы облетели свет на крыльях кондоров и вернулись из путешествия в подводные леса; слышишь шорох песков, в лицо точно хлещет соленая влага, кажется, будто тебя уносит прибоем.
А если какое-нибудь произведение не великолепно, то оно необычайно приятно, как, например, ваш небольшой роман о даме на морских купаньях, такой остроумный и правдивый! Образцы идиотов на пакеботе из Гонфлера напомнили мне личные мои переживания, так как меня такого рода люди также помучили! Они изгнали меня из Трувиля, где я десять лет подряд проводил осень; я жил там дикарем, гуляя босой по песку; но в одном из уголков вашей книги я снова пережил солнечные дни своей юности.
Ничего не значит! Даже в дни упадочного состояния, в одно из тех мрачных мгновений, когда руки опускаются от усталости, когда чувствуешь себя бессильным, печальным, состарившимся, сумрачным, как туман, и холодным, как льдина, которая трещит, даже тогда благословляешь жизнь, если встречаешь симпатию такого человека, как вы, такую книгу, как «Море»! Все забудешь тогда, и это высокое наслаждение дает, быть может, новую силу, прилив более длительной энергии.
Позвольте же, милостивый государь, сердечно и с горделивым трепетом пожать вашу честную, талантливую руку и сказать вам (без эпистолярной формулы), что я весь ваш.
Я занялся г. Ноэль. Один мой знакомый будет за него просить директора страхового общества. Если я получу хорошее известие, то с удовольствием передам его вам.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
[Круассе] Понедельник, вечер [8 июля 1861]
Дорогие мои старики!
Вашу книгу, полученную ныне в одиннадцать часов утра, я проглотил к пяти часам дня. {«Сестра Филомена».}
Начал с того, что стал искать на первых страницах повод к придиркам и нашел в двух-трех местах повторение одного и того же слова, например — постель. Потом увлекся и обо всем забыл. Прочел книгу залпом, увлажняясь временами, как обыкновенный буржуа.
Нахожу, что вы делаете успехи, выделяющие вас среди «литераторов», — в отношении повествования, изложения событий, общего сцепления фактов; нет ни отступлений, ни повторений, а это вещь превосходная и редкая.
Детство Филомены, ее жизнь в монастыре, вся вторая глава меня ослепила. Очень правдиво, очень тонко и очень глубоко. Я уверен, что многие женщины узнают там себя. Встречаются очаровательные страницы (44, 45, 46); под мистикой чувствуется плоть, маленькая грудь формируется под освященными медальонами, первая кровь регул смешивается с кровью Иисуса Христа. Все это красиво, хорошо и основательно.
Что касается остального — жизни в больнице, у вас все правильно, ручаюсь; встречаются места, хватающие за душу своей простотой, как, например, девятая глава.
Разговоры больных, второстепенные физиономии учащихся, образ старшего хирурга Маливуара и т. д. very well.
Я влюбился в Ромену. Черт возьми, до чего она меня возбуждает! Я очень хорошо понимаю увлечение Барнье монахиней впоследствии, это сдержанно и увлекательно.
Словом, ваша книжица необычайно мне понравилась, и я считаю, что вещь — удачная.
В одном только можно упрекнуть вашу книжку — она слишком коротка. Прочтя ее до конца, говоришь «уже», это жаль.
Теперь, во имя страсти навязать свою мысль автору и желания, пользуясь его книгой, придумать другую, я почтительно представляю на ваше рассмотрение следующие соображения.
Почему наряду с сестрой Филоменой, несомненно святой (являющейся вследствие этого исключением), вы не показали монахинь, какие встречаются в большинстве, а именно — эдаких старых дев с заднего двора, абсолютно глупых и иногда очень ворчливых? Ибо, что бы ни говорил Барнье, а чаще всего «монахиня — сущий обман», они ужаснейшим образом раздражают больных; к их услугам существует даже целая литература. У меня имеется какое-то маленькое руководство, невероятное по своей глупости, мне подарил его один студент медик. Но я предвижу ваш ответ: вы не претендовали на всестороннее изображение больницы; к тому же образ Филомены утратил бы свою значительность; это испортило бы его общий характер.
Ничего! Коль скоро понятие «монахиня» — прописная истина, я жалею (это вопрос нервного порядка и чисто личный), что в вашей книге нет никакого возражения в противовес данному понятию; это доставило бы неприятность читателю.
(Был в Руанской богадельне один идиот, которого звали Мирабо; за выпивку он насиловал покойниц на столе анатомического театра. Жаль, что вы не могли ввести этот маленький эпизод в вашу книгу; он понравился бы дамам. Правда, этот Мирабо был слабоват и не заслуживает такой чести, так как однажды подло сдрейфил перед трупом гильотинированной женщины.)
Пишу вам под первым ошеломляющим впечатлением. Простите меня за глупости, если я перехватил через край.
Скажите, как принимают вашу книгу? С какой стороны на нее нападают? Вы знаете, как я люблю ваши произведения и вас самих. Пишите мне о себе и будьте уверены, как тот, так и другой, что я вас люблю и нежно целую.
Весь ваш, мои сокровища.
Забыл сказать вам про смерть Барнье и про последнюю главу, — настоящий шедевр. Срезанная в конце прядь волос, которую она всегда будет носить на своем сердце, — это прелестно.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
[Круассе, 15 июля 1861]
У вас в Париже должно лежать письмо от меня, так как я написал вам в тот же день, как получил вашу книжку (в прошлый понедельник), прочитав ее от начала до конца в один присест.
Я в восторге от нее. В ней чувствуется цельность и ни на секунду не ослабевающий порыв. В отношении наблюдательности она безукоризненна. Это то, что нужно, именно то, что нужно! Но детство Филомены меня поистине ослепило. Вы найдете в моем письме непосредственное впечатление от первого чтения. Я бы прочел ее вторично, если бы не то, что у моей матери в настоящее время гостят три дамы, которые угощаются вашей книгой. Вы умиляете женский пол, а это, что ни говори, доказывает успех. Тем не менее, я снова просмотрел вашу «Филомену» и вполне ознакомился теперь с книгой.
И вот, по моему мнению, вы сделали то, что хотели сделать, и вещь оказалась удачной.
Не бойтесь ничего. Благодаря объяснениям в начале книги, ваша монахиня не вышла банальной. Тут был камень преткновения, вы его миновали.
Но, быть может, благодаря своей простоте, книга утратила до некоторой степени глубину? Наряду с сестрой Филоменой мне хотелось бы видеть монахинь вообще, нисколько на нее не похожих. Вот и все мои замечания. Правда, вы не озаглавили своей книги «Больничные нравы». Вот почему упрек, какой можно было бы вам сделать, отпадает.
Не могу вам выразить, как я доволен ею. Я заметил в вас новое качество, а именно — умение найти естественную связь явлений. Ваш метод превосходен. Очевидно, здесь и кроется интерес книги.
Какой болван этот Леви! Наоборот, вещь очень занимательная.
Нет! Там совсем не много ужасов, лично на мой вкус их слишком мало! Но это дело темперамента. Вы остановились как раз на грани. Имеются прелестные места, например кашляющий старик, главный врач среди своих учеников и пр. Конец великолепен: смерть Барнье.
Надо было сделать то, что вы сделали, либо написать роман в шести томах, вероятно, очень скучный. До сих пор сомневались в вашей способности нравиться. На этот раз, однако, вы нашли способ понравиться всем. Я в этом убежден и нисколько не удивлюсь, если «Сестра Филомена» будет иметь большой успех.
Не говорю о стиле, я уже давно с нежностью пожимаю руку этому господину!
Ромена невероятно возбуждает меня.
«Ах, мясник, как ты трудился, как резал!» Вот настоящая, глубокая и верная нота.
Насколько я доволен вами, настолько же недоволен собой. Да, милашки мои, не идет дело! Не идет! Мне кажется, что «Саламбо» смертельно скучна. Явное злоупотребление древним солдатиком, все время сражения, все время разъяренные люди. Жаждешь зеленых лужаек и молока. Беркен покажется после этого восхитительным. Короче говоря, невесело мне. Мне кажется, что мой план нехорош, а переделывать поздно, так как в целом все уже готово.
Начинаю тринадцатую главу. После нее останутся еще две, а все будет окончено в январе, если не помешают слишком продолжительные приступы упадочного состояния.
А вы что собираетесь теперь писать? Как подвигается «Молодая буржуазия»? {Первоначальное название «Рене Мопрен».} Напишите мне, когда нечего будет делать, ибо я очень часто думаю о вас обоих.
Прощайте, тысячу благодарностей и тысячу искренних поздравлений. Целую вас.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, понедельник вечером [15 июля 1863]
Если ты не весел, то и я не очень-то доволен. Я околею от бешенства из-за этого Карфагена. Сейчас я полон сомнений по поводу произведения в целом и общего плана. Кажется, там слишком много воинов. Это История, я понимаю. Но если роман так же скучен, как научная книга, то — прошу прощения, значит, Искусство в нем отсутствует. Короче говоря, я провожу время в том, что повторяю себе: «Я идиот», и сердце мое преисполнено печали и горечи.
Но воля не слабеет, и я продолжаю. Сейчас начну осаду Карфагена. Заблудился среди военных орудий, баллист и скорпионов, ничего не понимаю, так же как и другие. Об этом толковали, но ничего путного никто не сказал. Чтобы дать тебе представление о небольшой подготовительной работе, какой требуют некоторые места, достаточно сказать, что со вчерашнего дня я прочел 60 страниц (in folio, в две колонки) «Полиорсетики» Жюст Липсия. Так-то.
Начинаю тринадцатую главу, после нее останутся еще две. Если приступы бессилия будут у меня не столь многочисленны и значительны, я надеюсь окончить к новому году. Но мне трудно и тяжело.
Ты поступил правильно, послав к черту бумажку Бюлоза. Бывают лавочки, куда не следует даже заглядывать. Мне ненавистен этот сборник.
Какой сюжет у твоей новой пьесы? По моему убеждению, успех пьесы зависит только от сюжета.
Буйле, так же как и ты, возмущен рекламой, которую создали великому Моккару. {Речь идет о романе Моккара «Жеси».} Я не читал его г..., это мне не по средствам. Вышеупомянутый Буйле несколько раз спрашивал у меня, доволен ли ты исполнением «Сильвии»; он защищал упомянутую даму перед одним буржуа, который орал, что она безнравственна, не прочитав ее, само собою разумеется.
Ах, старина, лишь тот, кто родится бешеным, занимается литературой! Как тебя поддерживают! Как ободряют! Как вознаграждают! Да, пиши свою книгу об Условиях жизни художников, необходимость в такой книге дает себя чувствовать — мне по крайней мере.
Почему ты чувствуешь «смущение и нерешительность»? Будь ты раздосадован, обозлен до последней степени — я еще понял бы. У меня это обычное состояние, хотя я и не испытываю, как ты, материальных забот. Но коль скоро у тебя в запасе имеется несколько книг, а дома тебя окружает ласка, вернее — у тебя и внешне и внутренне хорошо складывается жизнь, иди вперед, к своей цели, не поворачивая головы.
Мы ворчим на свое время. Но верь: ни Рабле, ни Мольер, ни даже Вольтер не раскрывали перед нами своей души. Шекспиру предпочитали любого балагура, вожака медведей. Правда, я лучше хотел бы, чтобы меня сравнивали с Манженом, нежели с некоторыми нашими современными собратьями. Короче говоря — оглушим себя шумом перьев и будем упиваться чернилами. Это опьяняет лучше всякого вина. Ну, а следовать советам папаши Сент-Бёва, то есть, «чтобы овцы были целы и волки сыты, разбавлять вино водицей, короче говоря, стараться услужить публике» — слишком трудно и слишком рискованно. Знаешь ли, он проповедует мне, чтобы я писал на современные темы. А знаешь, о чем я сейчас мечтаю? Об истории Камбиза. Но мне жаль этой мечты, я слишком стар, и кроме того! Кроме того! Прощай, милый, прощай, старина, мужайся. Крепко целую.
ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
Круассе, пятница [начало октября 1861]
Очень мило, что вы прислали мне эти пунические чертовщинки, дорогой Жюль. Они, очевидно, были вывезены майором Гумбертом. Я знал этих рыбок и вазу. Третья (три ноги, пляшущие на быке) доставила мне больше всего удовольствия, хоть я и ничего не понимаю в ней. Надеюсь, что найду возможность вставить ее куда-нибудь.
Раз уж вы интересуетесь этим нескончаемым трудом, я сообщу вам о нем. Мне осталось дописать конец одной главы; во-вторых, четырнадцатую главу и, в-третьих, пятнадцатую главу, очень коротенькую. Короче говоря, я надеюсь избавиться от него в январе месяце и со всею низостью сознаюсь вам, что жажду этой минуты с величайшим неистовством. Не могу больше! Осада Карфагена, которую я сейчас заканчиваю, доконала меня, военные орудия надоели мне до смерти! У меня выступает кровавый пот, я с... кипятком, с... катапультами и рыгаю ядрами метательных пращей. Вот каково у меня состояние.
К тому же я начинаю уставать от всех глупостей, которые будут сказаны по поводу этой книги, если только она не провалится с треском, что весьма возможно. Ибо где найти людей, способных всем этим заинтересоваться?
Впрочем, мои намерения достойны похвалы. Так, я умудрился в одну и ту же главу последовательно ввести дождь из помета (sic!) и процессию педерастов. На этом я и остановился. Не слишком ли я умерен?
По мере того как работа подвигается вперед, я начинаю лучше судить о целом, и мне кажется, что книга чересчур растянута и в ней много повторений. Слишком часто появляются одни и те же эффекты. Такое количество свирепых воинов утомит читателя. А план, к сожалению, составлен таким образом, что сокращения могут внести целый ряд неясностей, и пр. и пр. Ничего! Быть может, я заставлю людей мечтать о великом, а это уже очень мило!
Я никуда не двигался все лето и никого не видел за исключением Буйле, с которым пробыл сутки.
А вы? Как ваша «Молодая буржуазия»? Весело ли провели вакации? Мне кажется, вы много разгуливаете.
«Сестра Филомена», очевидно, хорошо расходится, если судить по моим многочисленным знакомым буржуазным дамам, которые совершенно очарованы ею. Очень подходящее выражение.
Что говорят о ней газетные тупицы? Я знаю, что Сен-Виктор написал очень хорошую статью, но я ее не читал.
Рискуя повториться, утверждаю еще раз перед лицом бога и людей (как Прюдом), что вы написали превосходную книгу, хоть вы и поддерживаете в своей интимной переписке всякую ересь, касающуюся повторений!
Потешились ли вы, как я, над крестами Почетного легиона, которыми усеяли 15 августа литературу? Надо и Эно являются мне в лучах звезды... Помечтаем! А какая радость для бельевых мастерских!
Прощайте, я очень часто о вас думаю и люблю вас больше, чем мог бы высказать.
Жму ваши две руки и целую четыре щеки.
Ex imo. {Из глубины души (лат.).}
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, понедельник [конец сентября — начало октября 1861]
Послезавтра начну последний эпизод предпоследней главы: поджаривание малышей; на это мне потребуется еще три недели, после чего я с нетерпением буду ожидать ваше благородие.
Не можешь себе представить моей усталости, тревоги и досады. Отдохнуть же, как ты мне предлагаешь, — невозможно. Я не смогу снова взяться за работу. К тому же, как отдыхать и что делать во время отдыха?
По мере того как я подвигаюсь вперед, мои сомнения насчет произведения в целом увеличиваются, — я замечаю недостатки, непоправимые недостатки, которые я не стану исправлять, ибо лучше уж бородавка, чем шрам.
Я дал себе клятву не появляться в Париже, пока не окончу, так как пребывание в столице становится для меня невыносимым и противным из-за приставаний по поводу «Саламбо». С другой стороны, надо положить не менее трех месяцев на читку, переписку, исправление копий и сдачу в печать. Поэтому, ввиду того что лето — самый отвратительный сезон для публикации, придется, если я не окончу в январе, отложить на будущую осень. Таковы мотивы моего усиленного рвения, о, великий человек. В смысле морали я прекрасен. Но мне кажется, что с точки зрения интеллектуальной я становлюсь дураком. За год я видел у себя Буйле одни сутки, а тебя откладываю с недели на неделю. Старый миф об амазонках, которые выжигали себе грудь, чтобы стрелять из лука, вполне реален для некоторых людей! Скольких жертв стоит самая ничтожная фраза!
Ты как будто кипишь; две пьесы сразу, вот так молодец!
Я сейчас читаю физиологию, медицинские заметки по поводу людей, умирающих с голоду, и стараюсь найти связь между мифом о Прозерпине и мифом о Танит. Вот чем я занят последние два дня; в то же время я подготовляю для финала тринадцатой главы ужасы, которые будут еще страшнее в четырнадцатой. Кончил бесконечную книжку Ливингстона и перечитал многое из Рабле. Пусть меня повесят, если у меня есть что рассказать.
У нас тут три недели гостят родственники, с которыми я и часу не посидел, а я все лето никого не видел; самым большим развлечением моим было помыться в речке. Итак, жди недели через две письма, приглашающего тебя приехать в мою хижину.
Что слышно о Сент-Бёве? Ты мне никогда о нем не пишешь.
Прощай, миляга.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
[Круассе] четверг вечером [2 января 1862]
Очень мило с вашей стороны, что вы вспомнили обо мне; но это только справедливо, ибо мысль о вас раз двадцать на день пронизывает мой ум или сердце, как угодно, а вернее, и то и другое.
Что вам пожелать на 1862 год, мои милашки? Придумайте нечто изысканное и необычайно прекрасное и будьте уверены, что это совпадает с моим пожеланием. Именно!
Я написал приблизительно половину последней главы. Предаюсь шуткам, которые вызовут отвращение у честных людей. Нагромождаю ужасы на ужасы. Двадцать тысяч моих молодцов умирают от голода и поедают друг друга; остальные кончают жизнь под ногами слонов и в пасти львов. «Не расстаюсь со зверством и убийством». (История Жерома, том II.)
Пусть! Мне кажется, что у меня в настоящее время выработалась нахальная манера письма: короткие фразы и драматический жанр, это отнюдь не блещет красотой.
А вы???? Как мне не терпится вас увидеть! Я рассчитываю возвратиться в Париж в середине февраля, возможно, раньше. Я отчаянно устал и страдаю ревматизмом.
Прощайте. Желаю хорошего расположения духа и хорошей работы. Нежно целую вас обоих.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Круассе] вторник [10 июня 1862]
Дружище!
Обращаю твое внимание на то, что ни ты, ни твой брат не ответили ни на одно мое возражение по поводу передачи рукописи (решено, неправ я).
Монсеньер того мнения, что я должен сам прочитать Леви только отрывки. Сказать по правде, я не понимаю этой тонкости. Итак, уж не обречен ли я держать экзамен перед всеми парижскими издателями? Что же касается иллюстраций, то я клянусь тебе, ни одна не появится, даже если бы мне предложили сто тысяч франков. Значит, бесполезно к этому возвращаться. Даже мысль о такой вещи приводит меня в исступление. Я нахожу, что это глупо, особенно применительно к Карфагену. Ни за что, ни за что! Лучше уж навсегда запрятать рукопись в ящик. Вот вопрос, вызывающий раскол!
Сверх того, имеется одна забавная штука, которая начинает мне надоедать, а именно — непристойность. Ввиду того, что маэстро Леви весьма мало платит моему адвокату, когда у меня процесс, я считаю неблаговидным его беспокойство. Ибо если кто-нибудь и выгадал от моей безнравственности, то только он, мне кажется!
Отсюда вывод: уступить в деньгах — сделайте одолжение, но в вопросах искусства — никаких уступок!
Сегодня начну наносить последние поправки, на это уйдет две недели, после чего займусь чем-нибудь другим. Да. Итак, твой брат может ответить Леви, что сношения прерваны, так как ни один из нас не расположен идти на уступки. Можно еще спросить у него, сколько он предлагает за вещь, не зная ее, — мое дело согласиться или отказать. Я либо отправлюсь к другому издателю, либо опубликую на свой счет, либо сделаю это позднее, а то и совсем не стану публиковать. Ты ведь знаешь, что меня не очень-то гложет страсть к типографии, а так как на жизнь мне хватает, то я, слава богу, могу и подождать! Мне кажется, что «Парижское обозрение» снова примется за свои скучнейшие приставания.
Нет! Нет! Пусть твой брат разузнает, поглядит в других местах и будет сговорчивей в отношении цены. Как ему угодно. Но коль скоро Леви боится, я свирепею и не уступаю ни пяди; уж такой у меня характер. Я знаю, что вы окончательно сочтете меня безумцем. Но настойчивость, с какой Леви требует иллюстраций, приводит меня в неописуемую ярость. А пусть-ка мне покажут молодчика, который напишет портрет Ганнибала или нарисует карфагенское кресло; мне окажут большую услугу! Не стоило с таким искусством давать туманные образы для того, чтобы явился какой-нибудь сапожник и разрушил мою мечту нелепой точностью. Я вне себя и нежно тебя целую. Черт возьми, в каком я негодовании!
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, июль 1862
Вам я могу сказать все. Так вот — наше божество тускнеет. «Отверженные» вызывают во мне сильнейшее раздражение, а между тем дурно отзываться о них не разрешается: на тебя посмотрят, как на сыщика. Автор находится на недосягаемой высоте, и затрагивать его нельзя. Я, всю жизнь преклонявшийся перед ним, в настоящее время возмущен! Мне просто необходимо излить свое негодование. Я не нахожу в этой книге ни правды, ни величия. Что касается стиля, то он представляется мне нарочито неряшливым и низменным. Это своего рода способ подделаться под народ. Гюго хочет всем угодить и пошло льстит сен-симонистам, филиппистам, даже трактирщикам. А типы ходульные, точно в трагедиях! Разве существуют такие проститутки, как Фантина, такие каторжники, как Вальжан, или политические деятели вроде идиотских болванчиков из содружества ABC?
Нигде не видно, чтобы они страдали по-настоящему, от глубины души. Это — манекены, слащавые ваньки-встаньки, начиная с монсеньера Бьенвеню. От социалистического пыла Гюго оклеветал церковь так же, как оклеветал бедность. Откуда взялся епископ, испрашивающий благословение у члена Конвента? С какой это фабрики выгоняют девушку за то, что она родила? А сколько отступлений! Сколько их! Эпизод с удобрением, должно быть, привел в восторг Пеллетана. Эта книга написана специально для социал-католической и для всей философско-евангелической сволочи. Какие замечательные типы — г. Мариюс, три дня питающийся одной котлеткой, или г. Анжольрас, который за всю жизнь только два раза поцеловал женщину, бедняжка. Что касается их речей, они очень хороши, но все они говорят одинаково. Бесконечное пережевывание дядюшки Жильенормана, финальный бред Вальжана, юмор Толомье и Грантера — все это одно и то же. Одни лишь остроты, шутки, нарочитая веселость и никакого комизма. Длиннейшие объяснения по поводу вещей, не имеющих отношения к сюжету, и ни слова о том, что непосредственно касается его. Зато досыта повторяются проповеди о необходимости просвещения масс, о том, что всеобщее голосование — прекрасная вещь. Положительно, эта книга, несмотря на красивые места (а они попадаются лишь изредка), написана по-детски. Наблюдательность — второстепенное качество в литературе, но современнику Бальзака и Диккенса непозволительно так фальшиво описывать общество. А между тем сюжет прекрасный; но сколько нужно спокойствия, какой требуется широкий научный кругозор! Правда, Гюго презирает науку, доказательство налицо...
Потомство не простит ему того, что он хотел стать мыслителем вопреки своей природе. Куда завела его страсть к философической прозе? И какая философия! Философия Прюдома, дядюшки Ричарда и Беранже. Он не больший мыслитель, чем Расин или Лафонтен, которых не особенно-то почитает; я хочу сказать, что он, как и они, обобщает совокупность обыденных идей современной ему эпохи и притом с такой настойчивостью, что забывает и про свое произведение, и про мастерство. Вот мое мнение. Само собою разумеется, я держу его при себе. Каждый, кто берется за перо, слишком многим обязан Гюго, чтобы позволить себе критиковать его; но я чувствую, что боги стареют.
Жду от вас гневного ответа.
СЕНТ-БЁВУ
[Париж 23—24 декабря 1862]
Дорогой маэстро!
Третья статья ваша по поводу «Саламбо» смягчила меня (я и не был особенно зол). Ближайшие друзья мои немного рассердились на две предшествующие; но я, зная откровенное мнение ваше о моей объемистой книге, доволен вашей милостивой критикой. Итак, еще раз искреннейше благодарю вас за ваше расположение ко мне и, отбросив в сторону любезности, приступаю к Апологии.
Прежде всего, уверены ли вы, что на общую оценку не повлияло впечатление, подействовавшее на вашу нервную систему? Объект моей книги, весь этот варварский, восточный, молохоподобный мир не нравится вам сам по себе! Вначале вы сомневаетесь в реальности воспроизведенного мною, затем говорите: «В конце концов, может быть, это и правда», а в заключение восклицаете: «Тем хуже, если правда». Вы на каждом шагу удивляетесь и сердитесь на меня за это. Однако я ничем не могу вам помочь! Нужно было приукрасить, ослабить, офранцузить! Вы же сами упрекали меня в том, что я написал поэму, что я был классичен в дурном смысле слова, и сами же бьете меня «Мучениками»!
Между тем, метод Шатобриана, как мне кажется, диаметрально противоположен моему. Шатобриан исходил из идеалистической точки зрения, мечтая о типичных мучениках. Я же хотел зафиксировать некий мираж, применив к античности приемы современного романа, и стремился к простоте. Смейтесь, сколько угодно! Да, именно, к простоте, а не к умеренности. Нет ничего сложнее варвара. Теперь, переходя к вашим статьям, я начну защищаться и разобью вас шаг за шагом.
С самого начала останавливаю ваше внимание на «Перилле» Ганнона, вызывающем восхищение Монтескьё; но отнюдь не мое. Можно ли ныне заставить кого-нибудь поверить в подлинность этого документа? Это явно перевод, сокращенный, подчищенный, обработанный каким-нибудь греком. Ни один человек на Востоке не писал таким стилем. Свидетельством может служить надпись Эшмуназара, столь напыщенная и многословная! Люди, которые велят себя называть сыном божьим, оком божьим (смотрите надписи Гамакера), не отличаются простотой, как вы полагаете. К тому же вы должны со мной согласиться, что греки не имели понятия о варварах. Если б они хоть что-нибудь смыслили в них, то не были бы греками. Восток вызывал в эллинах отвращение. Каким только извращениям не подвергалось все чужое, проходившее через их руки. То же самое я скажу о Полибии. В отношении фактов он для меня неоспоримый авторитет; но все, что он не видел (или пропустил умышленно, ибо у него также был свой план, своя школа), я могу отыскать в другом месте. Итак, «Перипл» Ганнона отнюдь не «карфагенский памятник» и далеко не «единственный», как вы утверждаете. Настоящий карфагенский памятник — это марсельская надпись на подлинном пуническом языке. Вот действительно простой язык, — ведь это тариф; а в знаменитом «Перипле» сквозь греческое проникает элемент чудесного, взять хотя бы то место, где говорится про кожу горилл, которую в храме Молоха (читайте Сатурна) принимают за человеческую; я избавил вас от ее описания, да еще какого! Скажите спасибо. Между нами говоря, «Перипл» Ганнона положительно опротивел мне, — столько раз я читал и перечитывал его вместе с четырьмя диссертациями Буганвилля (в «Записках» Академии надписей), не считая многочисленных ученых докладов, так как «Перипл» Ганнона является предметом докладов.
Что касается моей героини, то я ее не защищаю. По-вашему, она похожа на «сентиментальную Эльвиру», на Велледу, на г-жу Бовари. Ну нет! Велледа активна, умна, она настоящая европеянка, сложные страсти волнуют г-жу Бовари, Саламбо, напротив, замерла в своей навязчивой идее. Она маньячка, своего рода св. Тереза. Неважно! Я не уверен в реальности ее образа, ибо ни я, ни вы и никто другой, ни из древних, ни из современных писателей, не знает восточной женщины по той причине, что не может с нею общаться.
Вы обвиняете меня в отсутствии логичности и спрашиваете: «Почему карфагеняне уничтожили варваров?» Причина весьма простая: они ненавидят наемников; те попадают им под руку, они сильнее, вот почему они их и убивают. «Но, — говорите вы, — ведь с минуты на минуту слух мог дойти до лагеря». Каким же образом? И кто мог его принести? Карфагеняне? С какой целью? Варвары? В городе ни одного из них не осталось. Чужеземцы? Посторонние? Но я ведь старался показать, что между войском и Карфагеном не было общения!
Что касается Ганнона (собачье молоко, между прочим, отнюдь не шутка! Оно было и по сю пору считается лекарством от проказы; загляните в «Научно-медицинский лексикон»; там имеется статья «Проказа», прескверная, впрочем, статья, данные коей я проверил по собственным наблюдениям, сделанным в Дамаске и Нубии), — так, Ганнон бежит, потому что наемники добровольно дают ему возможность бежать. Они еще не остервенились против него. Возмущение охватывает их позднее, когда они начинают соображать, так как немало времени нужно им на то, чтобы постичь вероломство старейшин (см. у меня начало главы IV). Мато как безумный бродит вокруг Карфагена. Безумный — подходящее слово. Не была разве любовь, — как понимали ее древние, — безумием, проклятием, болезнью, ниспосланной богами? Полибий был бы не мало удивлен, увидев таким своего Мато, говорите вы. Не думаю, да и Вольтер отнюдь бы не разделил этого удивления. Вспомните, что он говорил о силе африканских страстей в «Кандиде» (рассказ старухи): «Это огонь, купорос и пр.».
А по поводу акведука вы говорите: «Здесь мы по уши погружаемся в неправдоподобное». Да, дорогой маэстро, вы правы, и даже более, чем предполагаете; но предполагаете-то вы не то, что есть на самом деле. Дальше я скажу вам, что я думаю об этом эпизоде, который ввел отнюдь не для описания акведука, стоившего мне больших усилий, а для того, чтобы открыть путь в Карфаген двум моим героям. Впрочем, я вспомнил в данном случае анекдот, приведенный у Полнена («Военные хитрости»), где рассказывается о Теодоре, друге Клеона, во время взятия Сестоса солдатами Абидоса.
«Приходится пожалеть, что нет под рукой лексикона». Вот уж этот упрек я считаю в высшей степени несправедливым. Я мог бы до смерти наскучить читателю техническими терминами. Однако это далеко не так! Я тщательно перевел все на французский язык, не употребил ни одного специального термина, не объяснив его значение тут же, за исключением названий денег, мер и месяцев, понятных по смыслу. Неужели, если на странице встретится слово крейцер, ярд, пиастр или пенни, она станет непонятной? Что бы вы сказали, если бы я назвал Молоха Мелеком, Ганнибала — Ган-Баалом, Карфаген — Картаддой, или вместо того, чтобы сказать: рабы на мельнице носили намордники, сказал бы: pausicapes! Что касается благовоний и драгоценных камней, то я, само собою разумеется, вынужден был взять названия их у Феофраста, Плиния или Атенея. Для обозначения растений я употреблял латинские названия, общепринятые термины, а не арабские или финикийские названия. Так, я говорю Лавзония, а не Геннеб, и даже любезно пишу Лаузония, что явно является ошибкой, без прибавления слова инермис — более точного обозначения. То же с Кок'-heul; я пишу антимоний, избавляя вас от серного — неблагодарный! Но я не могу из уважения к читателю придерживаться Роллена, писать Ганнибал и Гамилькар без г, потому что альфа произносится с твердой придыхательной согласной. Немного снисхождения!
Я не сомневаюсь, что храм Танит воспроизведен мною именно в том виде, каким он был, причем я руководствовался трактатом о Сирийской богине, медалями Люинского герцога, всем, что известно о Иерусалимском храме, цитатой Зельдена (de Diis Syriis) из святого Еремии, планом несомненно карфагенского храма у Гоццо, а главным образом — развалинами храма в Фугги, которые я видел собственными глазами и о которых, насколько мне известно, не говорит ни один путешественник или знаток античного мира. Все равно, скажете вы, это смешно! Пусть так! Что касается самого описания как такового, с литературной точки зрения, то я нахожу его весьма понятным и отнюдь не загромождающим драму, так как Спендий и Мато все время остаются на первом плане и не исчезают из поля зрения. В моей книге нет ни одного изолированного, необоснованного описания; все они служат рамкой для моих персонажей и косвенно или непосредственно влияют на действие.
Равным образом я не принимаю термина жеманничанье, примененного к комнате Саламбо, несмотря на возвышающий его эпитет восхитительное (вроде лютых псов в знаменитом «Сиде»), ввиду того, что в описании моем нет ни одной детали, которая не была бы взята из Библии, а многое и сейчас еще можно найти на Востоке. Вы твердите, что Библия не является руководством при описании Карфагена (вопрос спорный); согласитесь, однако, что иудеи ближе к карфагенянам, чем китайцы! К тому же в каждой стране есть целый ряд вещей, существующих вечно, без изменения. Относительно мебели и одежды сошлюсь на тексты, собранные в 21 докладе аббата Миньо («Записки» Академии надписей, том LX или XLI, не помню).
Что же касается привкуса «оперы, помпезности и напыщенности», то почему бы ему и не быть, коль скоро он и сейчас не редкость. Ведь не Магомет, я полагаю, выдумал обряды, посещения, коленопреклонения, мольбы, каждение и все остальное.
То же относится и к Ганнибалу. Отчего вы находите, что детство его в моем описании баснословно? Неужели оттого, что он убивает орла. Хорошо чудо в стране, где в изобилии имеются орлы! Если бы действие происходило в Галлии, у меня фигурировала бы сова, или волк, или лисица. Вы же, как истый француз, невольно привыкли смотреть на орла как на птицу благородную и видеть в нем скорее символ, нежели живое существо. Но ведь орлы существуют.
Вы спрашиваете, откуда у меня взялось «подобное представление о Карфагенском совете»? Да во всех аналогичных случаях то же самое повторяется во время революций, начиная с Конвента и кончая американским парламентом, где недавно еще пускались в ход палки и револьверы, спрятанные в рукавах пальто (как у меня — кинжалы). Мои карфагеняне даже благопристойней американцев, так как у них не было посторонней публики. Вы ссылаетесь, возражая мне, на такой крупный авторитет, как Аристотель. Между тем Аристотель, живший более чем на восемьдесят лет ранее взятой мною эпохи, не имеет в данном случае никакого значения. Однако стагириец наш грубо ошибается, утверждая, что в Карфагене никогда не было ни смут, ни тиранов. Хотите узнать даты? Извольте: заговор Карфалона в 530 г. до христианской эры; бунт Магонов в 460; заговор Ганнона в 337; заговор Бомилькара в 307. Но я уже обогнал Аристотеля! Перейдем к другому.
Вы ставите мне в укор карбункулы, образовавшиеся из мочи рыси. Это взято у Феофраста — из «Трактата о драгоценных камнях»: тем хуже для него! Я чуть было не забыл про Спендия. Так вот, дорогой маэстро, в его военной тактике нет абсолютно ничего своеобразного и странного. Это почти шаблон. Такие сведения я почерпнул у Элиана («История животных») и у Полнена («Военные хитрости»). Это было даже настолько известно со времени осады Мегары Антипатром (или Антигоном), что свиней нарочно выкармливали вместе со слонами, дабы крупные животные не пугались более мелких. Короче говоря, то было обычной хитростью, очевидно весьма распространенной во времена Спендия. Мне не пришлось исходить из времен Самсона, так как я старался по возможности избегать всяких подробностей, взятых из легендарных эпох.
Перехожу к богатствам Гамилькара. Что бы вы ни говорили, описание это занимает второстепенное место. Фигура Гамилькара выделяется на нем, и я считаю его вполне обоснованным. Гнев суффета растет по мере того, как он замечает расхищение своего имущества. Далеко не каждую минуту он выходит из себя, он раздражается лишь в конце, когда ему наносят личное оскорбление. Что он не выигрывает от этого посещения, мне весьма безразлично, ибо я вовсе не собирался создавать ему панегирик; но я не думаю, что я шаржировал его образ за счет цельности характера. Человек, способный убивать наемников тем способом, какой я показываю (красивая черта его сына Ганнибала в Италии), способен также подделывать товары и до смерти засекать своих рабов.
Вы ругаете меня за одиннадцать тысяч триста девяносто шесть солдат его войска и спрашиваете: «Откуда вы знаете (это число)? Кто вам сказал?» Да ведь вы сами видите это, коль скоро я указываю количество солдат в различных частях пунического войска. Я просто привожу сумму, получившуюся от сложения, а не бросаю случайную цифру, чтобы поразить точностью.
Никакого злостного порока или любовной интрижки в эпизоде со змеей нет. Эта глава является известной ораторской предосторожностью, долженствующей ослабить впечатление от сцены в палатке, которая никого не оскорбляет, в то время как, не будь змеи, она вызвала бы крики возмущения. Я предпочел, чтобы в бесстыдном (если здесь имеется налицо бесстыдство) эпизоде фигурировала змея, а не мужчина. Прежде чем покинуть дом, Саламбо сочетается со змеей, с домашним духом, с религией своей родины, выраженной в наиболее древнем символе. Вот и все. Возможно, что это и непристойно для какой-нибудь «Илиады» или «Фарсалии», но я и не претендовал написать ни «Илиаду», ни «Фарсалию».
Не моя также вина, что в Тунисе в конце лета так часто бывают грозы. Шатобриан не выдумал ни гроз, ни солнечных закатов; и те и другие, насколько мне известно, принадлежат всем. Заметьте кстати, что душа всей этой истории — Молох, Огонь, Молния. Здесь действует сам бог в одном из своих воплощений: он покоряет Саламбо. Таким образом, гром весьма уместен: это глас Молоха. К тому же вы должны сознаться, что я вас избавил от классического описания грозы. При этом моя бедная гроза занимает не более трех строк и то в разных местах! Мысль о последовавшем за нею пожаре мне внушил эпизод из истории Массиниссы, другой — из истории Агафокла и, наконец, отрывок из Гиртиуса, причем действие во всех трех происходит при аналогичных обстоятельствах. Как видите, я не выхожу за пределы среды и самой местности, где развивается у меня действие.
Касаясь благовоний Саламбо, вы мне приписываете больше воображения, чем у меня есть на самом деле. Понюхайте же, вдохните в Библии аромат Юдифи и Эсфири! Их пропитывали, их буквально отравляли благовониями. Об этом именно я и говорил вначале, как только речь зашла о болезни Саламбо.
Почему вам не нравится также, что исчезновение заимфа играет некоторую роль в поражении, коль скоро в войске наемников были люди, верившие в заимф! Я указываю на главную причину (три военных маневра) этого поражения; затем я добавляю и эту причину, но как второстепенную, последнюю.
Говорить, что я выдумал пытки во время погребения варваров — неверно. Гендрих (Carthago, sive Carth. respublica, 1664) собрал ряд текстов, доказывающих, что у карфагенян был обычай уродовать трупы врагов. А вы удивляетесь, что варвары, побежденные, доведенные до отчаяния и взбешенные, платят им тем же, хотя бы это было только один-единственный раз? Неужели придется напомнить вам о г-же де Ламбаль, мобилях в 48 году или то, что происходит в настоящее время в Соединенных Штатах? Я же, наоборот, умерен и мягок.
И коль скоро мы решили с вами поговорить начистоту, то сознаюсь откровенно, дорогой маэстро, что ваше выражение легкий оттенок садизма несколько оскорбило меня. Всякое ваше слово имеет большое значение. Вот почему такое слово, высказанное вами в печати, является почти позорным клеймом. Разве вы забыли, что я сидел на скамье подсудимых в качестве обвиняемого в оскорблении нравов и что дураки и негодяи не брезгают никаким оружием? Не удивляйтесь, если в один прекрасный день вы прочтете в любой клеветнической газетке, каких существует немало, нечто вроде следующего: «Г-н Г. Флобер — ученик де Сада. Его друг и крестный отец, мастер критики, довольно ясно высказал это, правда, с той тонкостью и насмешливым добродушием, которые... и т. д.» Что прикажете отвечать? — и что делать?
Склоняюсь перед тем, что следует дальше. Вы правы, дорогой маэстро, я нажал, форсировал историю и, как вы удачно выразились, захотел устроить осаду. Но что же в том плохого, коль скоро я взял военный сюжет? К тому же эта осада не совсем вымышлена, я только слегка шаржировал описание ее. Вот в чем вся моя ошибка.
Что же касается того места из Монтескьё, где говорится о жертвоприношениях детей, — тут я решительно восстаю. Этот ужас не вызывает у меня никакого сомнения (вспомните, что человеческие жертвы не были окончательно уничтожены в Греции во времена битвы при Левктрах, в 370 г. до р. х.). По Диодору, несмотря на условие, поставленное Гелоном (480), во время войны с Агафоклом (392) сожгли двести детей; в отношении же позднейших эпох я могу сослаться на Сильвия Италийца, Евсевия и главным образом на святого Августина, который утверждает, что подобного рода вещи происходили иногда даже в его время.
Вы жалеете, что я не ввел греческого философа, резонёра, долженствующего прочесть курс морали или свершить несколько добрых деяний, короче говоря, господина, который чувствовал бы так же, как и мы. Полноте! Разве это возможно? Упоминаемый вами Аратий служил прототипом для создания Спендия. Это был человек отважный, хитрый, который ловко убивал по ночам часовых, а при дневном свете впадал в слепоту. Я отказался от противопоставления, тем более дешевого, фальшивого и нарочитого.
Я кончаю анализ и перехожу к вашему суждению. Быть может, ваши соображения по поводу исторического романа, взятого из античного мира, правильны, и легко может статься, что я потерпел неудачу. Тем не менее, по всем видимостям и по моим собственным впечатлениям я создал нечто похожее на Карфаген. Но не в этом суть. Плевать мне на археологию! Если колорит не отличается единством, детали фальшивы, нравы не проистекают из религии, а факты — из страстей, если в характерах нет последовательности, если одеяния и архитектура не приноровлены к обычаям и особенностям климата, одним словом, если нет гармонии, значит, я на ложном пути. В противном случае — нет, все в порядке!
Но вас раздражает среда! Знаю, вернее, чувствую это. Почему вы смотрите только со своей личной точки зрения, с точки зрения современного ученого парижанина? Почему не согласиться со мною? Душа человеческая отнюдь не всюду одинакова, что бы ни говорил Леваллуа. {См. «Опиньон насиональ» от 14 декабря 1862, статья по поводу «Саламбо».} Стоит лишь взглянуть на мир, чтобы увидеть обратное. Мне кажется даже, что в «Саламбо» я мягче отношусь к человечеству, нежели в «Госпоже Бовари». Любопытство, любовь, толкнувшие меня к исчезнувшим временам и народам, сами по себе кажутся мне моральными и симпатичными.
В отношении стиля, в этой книге я принес меньше жертв во имя закругленности фразы или периода: метафоры в ней редки, эпитеты обоснованы. Если после слова камни следует голубые, значит, это верно; поверьте мне на слово, что при свете звезд можно прекрасно различить цвет камней. Порасспросите-ка всех, кто бывал на Востоке, или съездите туда сами и убедитесь воочию.
А коль скоро вы ругаете меня за те или иные слова, вроде ужасный, которые я отнюдь не защищаю (хотя ужасная тишина действительно производит впечатление шума), то и я упрекну вас за некоторые выражения.
Я не понял цитаты из Дезожье, как не понял, с какой целью она приведена. Карфагенские безделушки, чертово покрывало, рагу и пряный — эпитеты, примененные к Саламбо, которая тешится со змеей, красивый чудак ливиец (кстати, он вовсе не красив и совсем не чудак), легкомысленное воображение Шагабарима — все эти слова заставляли меня хмурить брови.
Последний вопрос, о маэстро, вопрос несколько щекотливый: почему Шагабарима вы находите почти комичным, а ваших господ из Пор-Руаяля столь серьезными? На мой взгляд, Сенглен много теряет по сравнению с моими слонами. Я считаю татуированных варваров гораздо более человечными, не столь специфическими, смешными и редкостными, как люди, живущие вместе и до самой смерти величающие друг друга милостивыми государями! И потому именно, что они так далеки от меня, я восхищаюсь вашим талантом, благодаря которому могу их познать. Ибо я верю в Пор-Руаяль, но жить там желал бы еще менее, чем в Карфагене. Ведь и это так же исключительно, сверхнатурально, натянуто, угловато и тем не менее правдиво. Почему же вы не допускаете, что могут существовать две формы правдивого, две противоположных крайности, два различных вида чудовищного?
Кончаю. Немного терпения! Хотите узнать ужасную (здесь слово ужасная уместно) ошибку, какую я вижу в своей книге?
Вот она:
1. Пьедестал слишком велик для статуи. Но так как мы скорее склонны не доделать, чем сделать слишком много, то следовало написать еще сотню страниц, посвященных исключительно Саламбо.
2. Недостаточно переходов. Они были, но я либо уничтожил, либо слишком сократил их, боясь наскучить.
3. В шестой главе все, что относится к Гискону, написано в той же тональности, что и вторая часть второй главы (Ганнон). Та же ситуация, нет нарастания эффекта.
4. Все, начиная с битвы при Макаре и кончая змеей, а также вся тринадцатая глава, вплоть до перечисления варваров, упирается, исчезает в воспоминании. Как раз второстепенные места, бесцветные, служащие переходом, делают книгу тяжелой; к сожалению, я не мог их избежать, несмотря на все мои усилия придать ей легкость. Вот эти-то места и дались мне с трудом, они меньше всего нравятся мне, хоть им я больше всего обязан.
5. (Акведук). Признаюсь! В тайне я придерживаюсь мнения, что в Карфагене не было акведука, несмотря на имеющиеся в настоящее время развалины акведука. Вот почему я заранее сделал оговорку, лицемерно сославшись на археологов. И нисколько не стесняясь, напомнил, что акведук — римское изобретение, тогда еще новое, а нынешний был воспроизведен по образцу старого. Меня преследовало воспоминание о Велизарии, который перерезал римский акведук в Карфагене; к тому же я воспользовался акведуком для прекрасного выхода Спендия и Мато. Что делать! Мой акведук — малодушие! Confiteor. {Признаюсь (лат.).}
6. Еще одно последнее мошенничество: Ганнон.
Из любви к ясности я исказил историю в описании его смерти. Он действительно был распят наемниками, но в Сардинии. Начальник, распятый в Тунисе в присутствии Спендия, назывался Ганнибалом. Но это внесло бы путаницу и сбило бы читателя с толку!
Вот, дорогой маэстро, недостатки, какие я сам нашел в своей книге. Не скажу вам, какие вижу в ней достоинства. Но будьте вполне уверены, что описываемый мною Карфаген отнюдь не фантастичен. Документы, касающиеся Карфагена, существуют, но не все они у Моверса. Их не скоро разыщешь. Так, например, у Аммиена Марселлина я нашел точное описание двери, в поэме Кориппа («Иоаннида») я почерпнул много деталей, касающихся африканских народностей, и т. д.
К тому же мало кто последует моему примеру. В чем же опасность? Леконт де Лилей, Бодлеров приходится менее бояться, чем... и... в этой сладостной стране, именуемой Францией, где поверхностное является достоинством, пошлое, доступное и никчемное вызывает одобрение, признание, любовь. Когда стремишься к величию, можешь не бояться кого бы то ни было совратить с пути истинного. Заслуживаю я прощения?
Заканчивая письмо, я еще раз благодарю вас, дорогой маэстро. Нанеся мне несколько царапин, вы очень нежно пожали мне руки, и, хоть вы и посмеялись слегка мне в лицо, это не помешало вам сделать три глубоких поклона, написав три большие статьи, весьма детализированные и очень внушительные; вам тяжелее было написать их, чем мне прочесть. Вот за что я особенно благодарен вам. Советы, имеющиеся в конце, не пропадут зря, и вы увидите, что вам не придется иметь дело ни с глупцом, ни с неблагодарным.
Всецело ваш.
Г-ЖЕ ГЮСТАВ ДЕ МОПАССАН
Париж [январь 1863]
Твое милое письмо очень меня тронуло, дорогая Лаура; оно всколыхнуло во мне старые, но вечно юные чувства. На меня словно повеяло свежей струей, насыщенной ароматом моей молодости, в которой так много места занимал наш бедный Альфред! Воспоминание о нем не покидает меня. Нет дня, смею сказать, почти нет часа, когда бы я не думал о нем.
Я знаю теперь, кого принято называть «умнейшими людьми нашего времени». Я мерю их по его мерке и нахожу, что они несравненно ниже. Ни один из них не оказывал на меня такого ослепительного действия, как твой брат. В какие лазурные странствования направлял он меня! И как я его любил! Мне кажется даже, что я никого (будь то женщина или мужчина) не любил так, как его. Когда он женился, я испытывал глубокое страдание от ревности; то был настоящий разрыв! Для меня он дважды умер, и я ношу беспрестанно думу о нем, словно амулет, словно нечто особое и интимное. Сколько раз, усталый от работы, во время антракта в каком-нибудь парижском театре или же в Круассе, сидя одиноко у камина в долгие зимние вечера, я уносился мыслью к нему, вновь видел его перед собой и слышал его! Вспоминаю с наслаждением и в то же время с печалью наши бесконечные беседы, в которых шутка перемежалась с метафизикой, вспоминаю совместное чтение, обоюдные мечты и возвышенные стремления! Если я чего-нибудь стою, то несомненно благодаря этому. У меня сохранилось глубокое уважение к прошлому, мы были поистине прекрасны, я не хотел опускаться.
Вижу вас всех в вашем доме на Большой улице, вспоминаю, как вы прогуливались на солнышке по террасе, рядом с голубятней. Я появлялся, и «Холостяк» покатывался со смеху и т. д. Как приятно было бы мне поговорить обо всем этом с тобой, дорогая моя Лаура! Давненько мы не виделись.
Но я издали следил за твоей жизнью и в душе разделял с тобою страдания, которые угадывал. Я, наконец, «понял» тебя. Это старое слово, слово наших времен, доброй романтической школы. Оно выражает все то, что мне хочется сказать, и я сохраняю его.
Так как ты интересовалась «Саламбо», твое дружеское чувство будет приятно удовлетворено, когда ты узнаешь, что карфагенянка успешно подвигается вперед: мой издатель выпускает ее в пятницу вторым изданием. {Извещение о выходе 2-го издания было опубликовано 10 января 1863 г.} Большие и малые газеты говорят обо мне. Я вызываю множество глупых толков. Одни меня ругают, другие превозносят. Меня прозвали «пьяным илотом» и говорили, что я распространяю «зловоние», сравнивают меня с Шатобрианом и Мармонтелем, обвиняют в том, что я мечу в Институт, а какая-то дама, прочитав книгу, спросила у кого-то из моих друзей, не дьявол ли Танит. Вот она, литературная слава! Чем больше о вас говорят от времени до времени, тем скорее забывают — и кончено.
Ничего, я написал книгу для очень ограниченного числа читателей, а оказалось, что публика охотно читает ее. Да будет благословен книжный бог! Я рад был узнать, что тебе понравилась эта книжка; ведь ты знаешь, какое большое значение я придаю твоему уму, дорогая Лаура. Мы не только друзья детства, мы почти товарищи по учению. Помнишь, как мы читали «Осенние листья» {Сборник стихов В. Гюго (1831).} в Фекане в маленькой комнатке на третьем этаже?
Будь любезна, передай за меня извинения твоей матери и сестре за то, что я не послал им книжки, но у меня было очень ограниченное количество экземпляров и мне пришлось много раздарить. К тому же я думал, что г-жа Ле Пуатвен в Этрета, и рассчитывал на тебя в качестве лектрисы. Поцелуй за меня сыновей и прими от старого друга наилучшие пожелания вместе с двумя долгими рукопожатиями.
ЖОРЖ САНД
[Январь 1863]
Сударыня!
Не буду вас благодарить за то, что вы называете исполнением долга. Ваша сердечная доброта растрогала меня, а вашей симпатией я горжусь. Вот и все.
Только что полученное мной письмо ваше дополняет вашу статью {Письмо о «Саламбо» (январь 1863) Жорж Сана было перепечатано в ее книге «Вопросы искусства и литературы» (1878), стр. 305—312.} и превосходит ее; все, что я могу вам сказать, — это, что я искренне вас люблю.
Я не посылал вам в сентябре месяце цветочка в конверте. Странно, однако, что и я тогда же и таким же образом получил листок от дерева.
Относительно вашего сердечного приглашения я, как истый нормандец, не отвечу вам ни да, ни нет. Быть может, я и нагряну к вам нечаянно этим летом, так как мне очень хочется вас видеть и поболтать с вами.
Мне было бы очень приятно иметь ваш портрет: я повесил бы его на стене своего кабинета, здесь, в деревне, где часто провожу зимние долгие месяцы в одиночестве. Быть может, это нескромная просьба? Если да — заранее приношу тысячу благодарностей. Примите их вместе с другими.
ФРЁНЕРУ, РЕДАКТОРУ «СОВРЕМЕННОГО ОБОЗРЕНИЯ»
Париж, 21 января 1863
Сударь!
Я только что прочел вашу статью о «Саламбо», напечатанную в «Современном обозрении» от 31 декабря 1862 года. Несмотря на свой обычай не отвечать на критику, я не могу никак согласиться с вашей. Она весьма пристойна и полна необычайно лестных для меня слов; но так как она берет под сомнение искренность моих работ, разрешите мне раскрыть здесь некоторые из ваших утверждений.
Прежде всего я позволю себе спросить вас, сударь, почему вы столь упорно связываете меня с коллекцией Кампана, утверждая, что она была постоянным источником моего вдохновения? Между тем, я окончил «Саламбо» в марте месяце, шестью неделями ранее открытия музея. Вот уже и ошибка. Найдутся и более серьезные.
У меня нет, сударь, никаких притязаний на археологию. Я предложил свою книгу в качестве романа, без предисловия, без примечаний, и меня удивляет, что человек, столь известный, как вы, значительными работами, тратит часы своего досуга на такую легкую литературу! Между тем, сударь, я осмелюсь сказать, что вы совершенно ошибаетесь от начала до конца на протяжении всех восемнадцати страниц, в каждом разделе вашей работы, на каждой строчке.
Вы порицаете меня за то, что я «не справлялся ни у Фальба, ни у Дюро де ла Маля, из которых мог бы извлечь пользу». Тысячу извинений! Я читал их чаще, чем вы, быть может, и даже на развалинах Карфагена. Что вам ничего не известно «достаточно удовлетворительного ни о форме, ни о главных кварталах» — весьма возможно; но другие, лучше информированные, не разделяют вашего скептицизма.
Если неизвестно, где находилось предместье Акла, место под названием Фушанус, точное местонахождение главных ворот, название которых сохранилось, — зато достаточно хорошо известно месторасположение города, архитектоника стен, Таений, мол и Кофон. Известно, что дома были выкрашены смолой, а улицы вымощены; имеется представление об Анкро, описанном у меня в пятнадцатой главе; известны Малка, Виза, Мегара, Маппалы, катакомбы, храм Эшмуна, расположенный на Акрополе, и храм Танит, немного правее, если стать спиной к морю. Обо всем этом говорится (если оставить в стороне Аппиана, Плиния и Прокопа) у того самого Дюро де ла Маля, в незнании которого вы меня обвиняете. К сожалению, сударь, вы «не коснулись скучных деталей, чтобы показать», что у меня нет никакого представления о месторасположении старого Карфагена, «еще меньше, чем у Дюро де ла Маля», прибавляете вы. Что следует об этом думать? Кому верить, если вы до настоящего времени не соблаговолили раскрыть вашу систему карфагенской топографии?
У меня действительно не имеется никаких текстов, чтобы вам доказать, что существовали улицы Кожевников, Красильщиков, Продавцов благовоний. И все же, согласитесь, это правдоподобная гипотеза! Но я не изобрел Киниздо и Синасин — «слова, структура которых, по вашим словам, чужда духу семитских языков». Не столь уж чужда все же, раз все эти пунические имена, по-вашему извращенные, имеются у Гезениуса, взяты мною у Гезениуса (Scripturae linguae phaeniciae) или Фальба, к которому, уверяю вас, я обращался.
Такой ученый ориенталист, как вы, сударь, должен быть немного снисходительнее к нумидийскому имени Наравас, которое я пишу, как Нар Гавас от Har-el-haouah, огонь дыхания. Вы должны были бы угадать, что два «м» в имени Саламбо (Salammbo) поставлены умышленно, чтобы произносилось Салам, а не Салан, и снисходительно допустить, что в названии Эгатские (Egates вм. Aegates) вкралась типографская ошибка, исправленная к тому же во втором издании моей книги, которая на две недели предшествует вашим советам.
То же следует сказать о Сцисситах вместо Сисситов, о слове Кабир, напечатанном через букву «К» (о ужас!) даже в таких серьезных трудах, как «Религии античной Греции» Мори. Что же касается Шалишима, то если я не написал, как следовало бы сделать, Рош-эш-Шалишим, то потому, чтобы укоротить слишком отталкивающее имя, так как я к тому же не предполагал, что меня будут разбирать филологи. Но раз уж вы снизошли к этим кляузным словам, я коснусь и двух других, вами упоминаемых: 1) Compendieusement — которое вы употребляете в совершенно обратном смысле, чтобы сказать «в изобилии», и 2) Carthachinoiserie — превосходная шутка, хотя она принадлежит не вам, а вами почерпнута в начале истекшего месяца из маленького журнальчика. Так что если вы, сударь, не знакомы иногда с моими источниками, то я знаю ваши. Но лучше было бы, быть может, пренебречь «этими едва уловимыми для критики мелочами», как вы прекрасно выражаетесь.
И все же, упомяну еще одну! Почему вы подчеркнули «и» в следующей моей фразе (немного сокращенной): «Купи мне каппадокийцев и азиатов»? Не потому ли, чтобы блеснуть и заставить поверить зевак, что мне незнакома Каппадокия в Малой Азии? Нет, мне она знакома, сударь, я видел ее и прогуливался там!
Вы так небрежно меня читали, что почти всегда цитируете неправильно. Я нигде не говорил о том, что священники составляли особую касту, что ливийские солдаты «были охвачены желанием заставить их выпить железа», но я писал, что варвары угрожали карфагенянам заставить их выпить железа. Я не писал, что «солдаты Легиона носили на лбу серебряный рог, чтобы походить на носорогов», я писал, что «у их лошадей были» и т. д...; я не писал, что крестьяне однажды из забавы распяли двести львов. Такое же замечание я могу cделать о несчастных Сисситах, которых я упомянул, по-вашему, «не зная, видимо, что это слово обозначало частные корпорации». Это «видимо» — чрезвычайно любезно, но «видимо» я знал, какие это корпорации, и самую этимологию слова, так как перевел его на французский, когда впервые употребил в своей книге: «Сисситы — купцы, объединенные в общество, которые собирались для совместных трапез». Вы неправильно привели также одно место из Плавта, потому что он не указывал в «Пунийце», будто «карфагеняне знали все языки»; это было бы удивительной привилегией целой нации. У Плавта в прологе лишь сказано: «Is omnes linguas scit», что следует перевести так: «Он знает все языки», — речь идет о карфагенянине, а не о всех карфагенянах.
Неправильно сказать, что «Ганнон не был распят во время войны с наемниками, имея в виду, что он командовал армиями еще долго спустя», ведь у Полибия вы найдете, сударь, сведения о том, что мятежники захватили его, привязали к кресту (в Сардинии, правда, но в ту же эпоху), — таким образом, не «это действующее лицо должно было бы жаловаться на Флобера», но скорее Полибий на Фрёнера.
Что же касается жертвоприношения детей, то оно настолько не «невозможно», что в век Гамилькара их сжигали живыми, и еще позднее, во времена Юлия Цезаря и Тиверия, если верить Цицерону («Pro Balbo») и Страбону (книга III). Между тем вы пишете, что «статуя Молоха непохожа на адскую машину, описанную в «Саламбо». Эта фигура, состоящая из семи отделений, расположенных одно над другим и предназначенных для жертв, имеет отношение к религии галлов. У Флобера нет никаких оснований к аналогии для оправдания своего смелого перемещения».
Да, правда, у меня нет никаких оснований! Но у меня есть текст, а именно описание Диодора, о котором вы упоминаете; им-то я и пользуюсь, как вы можете в этом убедиться, соблаговолив прочесть или перечесть двадцатую книгу Диодора; к четвертой главе ее вы можете присовокупить халдейскую перифразу из Поля Фажа, о которой вы не упоминаете, — а она приведена Зельденом в книге «De diis syriis», стр. 166—170, и Евсевием.
Как могло случиться, что исторические источники не упоминают о чудодейственном плаще, раз вы сами говорите, что его «показывали в храме Венеры, но гораздо позднее и только в эпоху римских императоров»? Но вот я нахожу у Атенея, XII, 58, очень подробное описание этого плаща, «хотя история о нем не упоминает». Он был куплен Дионисию. Старшему за 120 талантов, отправлен в Рим Сципионом Эмилианом, возвращен в Карфаген Кайем Гракхом, вновь появился в Риме при Гелиогабале и затем продан был в Карфаген. Обо всем этом имеется у того же Дюро де ла Маля, который был мне весьма полезен.
Тремя строками ниже вы утверждаете, с той же откровенностью, что большинство богов, упомянутых в «Саламбо», являются чистой выдумкой, и прибавляете: «Кто слышал об Аптукосе?» — Кто? Давезак из Киренаики, по поводу храма в окрестностях Кирены. «О Шауле?» Но ведь это имя моего раба. «О Матисмане?» Этот упомянут в качестве бога у Кориппы (см. «Записки» Академии надписей, т. XIII). «Кто не знает, что Мисипса был не божеством, а человеком?» Обо всем этом я ясно говорю, сударь, на одной из страниц моего романа, когда Саламбо призывает своих рабов: «Ко мне, Крумм, Энва, Мисипса, Шаул».
Вы обвиняете меня в том, что я употребил в качестве двух различных божеств Астарот и Астарту, но в начале романа, когда Саламбо взывает к Танит, она возглашает все имена сразу: «Анаитис, Астарта, Деркето, Астарот, Тирата». Я даже позаботился сказать немного ниже, что она повторяла все эти имена и они не имели для нее различного смысла. И вы поступаете, как Саламбо? Мне приходится верить в это, потому что вы обратили Танит в богиню войны, а не любви, женского начала, влажного, плодоносного — в противность Тертуллиану, и то же с Тиратой, малопристойное, но ясное объяснение которой вы встретите у Моверса — «Финикийские древности», книга I, стр. 574.
Вас приводят в изумление также обезьяны, посвященные луне, и кони, посвященные солнцу. «Такие детали (вы в этом уверены) не имеются ни у одного из древних авторов, и ни на одном из автентичных памятников». Я же позволю себе относительно обезьян напомнить вам, сударь, что кинокефалы в Египте были посвящены луне, что явственно видно по стенам храмов, — а египетские культы проникли в Ливию и оазисы. Что же касается коней, то я не говорю, будто они были посвящены Эскулапу, но Эшмуну, которого уподобляли Эскулапу, Иолайю, Аполлону, Солнцу. И действительно, кони, посвященные солнцу, встречаются у Павзания (книга I, глава I) и в Библии (Цари, книга II, глава XXXII). Но, быть может, вы станете отрицать, что египетские храмы являются автентичными памятниками, а Библия и Павзаний не относятся к древним книгам.
По поводу Библии я возьму на себя большую смелость, сударь, указать вам на том II перевода Кагена, стр. 186, где вы прочтете следующее: «Они носили на шее на золотой цепочке маленькую фигурку из драгоценного камня, которую называли Истиной. Прения открывались, когда председатель ставил перед собою изображение Истины». Это из Диодора. А вот другой текст — из Элиана: «Самые пожилые из них были начальниками и судьями; они носили на шее изображение из сапфира, это изображение называлось Истиной». Так-то, сударь, «эта Истина является милым изобретением автора».
Но вас все удивляет: слово «молобатр», которое пишется (нравится вам это или нет) «малобатр» или «малабатр», — это золотой порошок; его и теперь находят, как прежде, на карфагенском берегу; и то, что у слонов уши выкрашены голубой краской, и то, что люди вымазываются киноварью и едят червей и обезьян; лидийцы в женских платьях, карбункулы из мочи рысей, мандрагоры, о которых говорится у Гиппократа, золотые цепочки на щиколотках, которые встречаются в «Песне песней» (Каген, том XVI, стр. 37), поливка из сильфия, бороды в мешочках, львы на кресте и т. д. — все!
Так нет же, сударь, я не «позаимствовал все эти детали у негров из Сенегамбии». По поводу слонов я отсылаю вас к труду Арманди, стр. 256, и к авторитетам, на которых он указывает, таким, как Флор, Диодор, Аммиен Марцелин и другие негры из Сенегамбии.
Что же касается кочевников, которые едят обезьян, щелкают зубами блох и мажутся киноварью, то так как «у вас могут спросить, из какого источника автор почерпал столь драгоценные сведения», и «так как вы были бы» — по вашему признанию — «очень затруднены дать на это ответ», то я вам смиренно дам некоторые указания, и они облегчат ваши изыскания.
«Максии... вымазывают себе тела киноварью. Гизангы вымазывают себя киноварью и едят обезьян, их жены (жены Адирмахидов), когда их кусают блохи, берут их и щелкают зубами» и т. д. Вы найдете все это в книге V Геродота в главах CXCIV, CXCI и CLXVIII. Я не затрудняюсь ответить.
У того же Геродота я узнал, в описании армии Ксеркса, что у лидийцев были женские платья.
Кроме того, у Атенея, в главе об этрусках и сходстве их с лидийцами, говорится, что у них были женские платья; наконец, лидийского Вакха всегда изображают в женской одежде. Недостаточно ли относительно лидийцев и их одежд?
Бороды в мешочках в знак траура имеются у Кагена (Езекиил, глава XXIV, 17), а также видны на подбородках египетских колоссов, между прочим из Абу-Симбала; карбункулы из мочи рысей имеются у Феофраста в «Трактате о драгоценных камнях» и у Плиния, книга VIII, глава LVIL А что касается распятых львов (число которых вы доводите до двухсот, чтобы наградить меня смешным элементом, чего у меня нет), то прошу вас прочесть в той же книге Плиния главу XVIII, из коей вы узнаете, что Сципион Эмилиан и Полибий, прогуливаясь вместе в окрестностях Карфагена, видели наказанных львов в этом самом положении. «Quia ceteri metu poenae similis absterrentur eadem noxia». He эти ли цитаты, взятые без разбору из «Вселенной в картинках», использовала с успехом против меня компетентная критика? О какой компетентной критике говорите вы? Не о вашей ли?
Вас очень забавляют гранатовые деревья, которые поливали сильфием. Но ведь эта деталь, сударь, не мне принадлежит. Она встречается у Плиния, книга XXVII, глава XLVII. Меня очень раздосадовала ваша насмешка над «эллебором, который следовало бы культивировать в Шарентоне». Но по вашим собственным словам, «самые проникновенные люди не смогли бы ничего добавить в случае недостатка знаний».
Вы очень ошибаетесь, утверждая, что «среди драгоценных камней сокровищницы Гамилькара многие являются продолжением легенд и христианских суеверий». Нет, сударь, все они имеются у Плиния и у Феофраста. Изумрудные стелы у входа в храм, вызывающие ваш смех, потому что вы веселый человек, упоминаются Филостратом («Жизнь Аполлония») и Феофрастом («Трактат о драгоценных камнях»). Геерен (том III) цитирует следующую фразу: «Самый большой бактрианский изумруд — в Тире, в храме Геркулеса. Это довольно больших размеров колонна». Другая цитата из Феофраста (перевод Гилля): «В храме Юпитера находился обелиск, состоящий из четырех изумрудов».
Несмотря на «приобретенные вами знания», вы смешиваете темно-зеленый нефрит, происходящий из Китая, с яшмой, разновидностью кварца, которую находят в Европе и Сицилии. Если бы вы открыли случайно «Словарь Французской академии» на слове яшма, вы бы узнали, не заходя далеко, что этот камень был черного, красного и белого цвета. Следовательно, нужно было, сударь, лишь умерить порывы вашего неукротимого одушевления и не упрекать шутливо моего учителя и друга Теофиля Готье за то, что он наделил женщину (в своем «Романе Мумии») зелеными ногами, тогда как в действительности они у нее были белые. Так что не он, а вы совершили смешную ошибку.
Если бы вы менее презрительно относились к путешествиям, вы бы могли видеть в Туринском музее подлинную руку мумии, доставленную г-ном Пассалаком из Египта, в позе, описанной Т. Готье, в той позе, которая, по вашему мнению, несомненно не является египетской. Не будучи инженером, вы узнали бы, как поступают Саки, чтобы доставлять воду в дома, и убедились бы, что я не злоупотреблял черными одеждами, упоминая их в описаниях стран, где они имеются в изобилии и где женщины высших классов не выходят на улицу без черных плащей. Но так как вы предпочитаете письменные свидетельства, я вам порекомендую, поскольку речь касается женских одежд, Исайю, III, 3, Мишну («О субботе»), Самуэля. XIII, 18, Св. Клементия Александрийского (Phaed., II, 13 и диссертации аббата Миньо в «Записках» Академии надписей (том XLII). Относительно изобилия орнаментики, что вас так удивляет, я вполне был прав, расточая их народам, которые инкрустировали пол своих жилищ драгоценными камнями (см. Кагена, Иезекиил, XXVIII, 14). Но вам не везет, когда дело идет о драгоценных камнях.
Я кончаю, сударь, благодарностью вам за приятные выражения, которые вы употребили, — вещь в настоящее время редкая. Среди неточностей ваших я коснулся лишь наиболее грубых, которые относятся к специальным вопросам. Что же касается неопределенной критики, суждений личного характера и литературного разбора моей книги, я не сделал на это даже намека. Я все время находился на близкой вам почве научного знания, и повторяю вам, что я не очень в этом силен. Я не знаю ни еврейского, ни арабского, ни немецкого, ни греческого, ни латинского и не могу похвастаться, что знаю французский. Я часто пользовался переводами, но иногда и оригиналами. Я обращался за советами, будучи неуверен, к людям, которые считаются во Франции наиболее компетентными, и если у меня не было лучшего руководства, то потому лишь, простите, что я не имел чести и преимуществ быть с вами знакомым.
Лучше ли мне удалась бы книга, если бы я воспользовался вашими советами? Сомневаюсь. Во всяком случае, я был бы лишен той благосклонности, которую вы проявляете ко мне местами в вашей статье, и я избавил бы вас от угрызений совести, которыми она заканчивается. Однако будьте спокойны, сударь. Хотя вы как будто сами приходите в ужас от вашей силы и серьезно думаете, что «разнесли» мою книгу на куски, не бойтесь, успокойтесь! Вы были не жестоким, а... легкомысленным.
Имею честь и т. п.
ТУРГЕНЕВУ
Круассе, близ Руана, 16 марта [1863]
Дорогой господин Тургенев.
Как я вам признателен за ваш подарок! Только что прочел две ваших книги {Видимо, Тургенев прислал Флоберу два тома своих избранных повестей и рассказов «Картины из русской жизни», один в переводе Кс. Мармье (1858), другой в переводе Л. Виардо (1858).} и не могу отказать себе в желании выразить вам свой восторг.
Давно уже вы являетесь для меня мэтром. Но чем больше я вас изучаю, тем более изумляет меня ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж. Видишь и мечтаешь.
Точно так же, как чтение «Дон Кихота» вызывает у меня желание ехать верхом по белой от пыли дороге и есть в тени утеса оливки и сырой лук, так, читая ваши «Картины из русской жизни», мне хочется трястись в телеге по снежным просторам и слушать волчий вой. От ваших произведений исходит терпкий и нежный аромат, чарующая грусть, которая проникает до глубины души. Каким вы обладаете искусством! Какое сочетание умиления, иронии, наблюдательности и красок! И как все это согласовано! Как вы умеете вызывать все эти впечатления! Какая уверенная рука!
Оставаясь самобытным, вы не выходите из рамок обычного. Сколько я нашел в вас перечувствованного, пережитого мною! Между прочим — в «Трех встречах», в «Якове Пасынкове», в «Дневнике лишнего человека» и т. д. — всюду. Но что недостаточно оценили в вас — это вашей души, т. е. постоянного волнения, какой-то глубокой и скрытой восприимчивости. Я был очень счастлив познакомиться с вами две недели тому назад и пожать вам руки; я это делаю снова и крепче, чем когда-либо. Прошу верить, дорогой собрат, что я весь ваш.
Гюстав Флобер
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Круассе, конец марта — начало апреля 1863]
Очень мило с твоей стороны, что ты прислал мне юмористические газеты. Передавали, будто синьор Вите нападал на меня в ответной речи Октаву Фейе; пришли-ка мне эту штуку. Кстати о нападках: знаешь, ведь меня в двух церквах объявили совратителем нравов — в церкви св. Клотильды и в церкви Троицы (на улице Клиши). Тамошнего проповедника зовут аббат Бесель; имени второго я не знаю. Оба разразились против похабства маскарадов, против одежды Саламбо! Вышеупомянутый Бесель напомнил о Бовари и утверждал, что на этот раз я хочу вернуть язычество. Итак, Академия и духовенство меня ненавидят. Это мне льстит и возбуждает меня!
Господи, какую речь произнес Фейе! {Речь при приеме во Французскую академию Октава Фейе (26 марта 1863), который был преемником Скриба.} Что за пошлость! Я был возмущен за папашу Скриба.
Чуть было не забыл тебе сказать, что считаю твое поведение неприличным: ты не пишешь своему старику. Как поживаешь? А г-жа Корню? А справка насчет Тео и т. д. ? А немецкий перевод? (Ввиду того, что с Пруссией не существует никакого соглашения, г. Рихтль {Издатель. Упоминается перевод «Саламбо» на немецкий язык.} совершенно свободно может располагать деньгами; пусть г-жа Корню устраивает дело по своему усмотрению.)
А я в настоящий момент занят обработкой двух планов одновременно; на это уходят у меня все вечера. Не знаю, на каком из них остановиться.
Ожидаю через две недели Монсеньора; тогда решусь.
В течение дня читаю по-английски и даже по-гречески; увлекаюсь Феокритом. Хороша подготовка для описания парижских нравов!
Положительно, я не создан писать о современности; с трудом берусь за это дело. Следовало бы после «Саламбо» немедленно приняться за «Святого Антония», я был в ударе, и вещь была бы уже готова.
Подыхаю от скуки; мое безделье (которого, в сущности, нет, ибо я напрягаю мозг, как самый жалкий человек), я хочу сказать — то, что я сейчас не пишу, тяготит меня. Проклятое состояние!
Я рассчитываю на тебя в это лето. Прощай, постарайся быть веселее, чем я. Нежно тебя целую, дорогой старик.
ТЕОФИЛЮ ГОТЬЕ
[Круассе, начало апреля 1863]
Как поживаешь, дорогой старый маэстро? Как подвигается «Фракасс»? Думаешь ли о «Саламбо»? Нет ли чего-нибудь новенького по поводу этой молодой особы? «Фигаро-Программа» снова заговорил о ней, {О либретто оперы по роману «Саламбо».} а Верди в Париже.
Лишь только кончишь роман, приезжай на недельку (или больше) ко мне в мою хижину, как обещал, и мы приведем в порядок сценарий. Жду тебя в мае месяце. Предупреди меня о своем приезде за два дня.
Я обдумываю одновременно две книги, но не очень-то много делаю. У меня застревают слова в горле, и я пропадаю от тоски, если можно так выразиться.
Мне кажется, что я уже очень давно не видел твоей славной рожи!
Представляю себе, как здорово мы будем болтать здесь, в тиши кабинета (вдали от женщин и ухаживаний!). Поэтому мчись сюда, как только освободишься.
Целую тебя в обе щеки.
Нежные приветы потомству, особенно Тотоше.
Я — жертва ненависти попов, ибо проклят таковыми в двух церквах: св. Клотильды и Троицы. Меня обвиняют в том, что я придумал похабные переодевания и захотел вернуться к язычеству.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, 23 октября 1863
Мне стыдно, что я так давно вам не писал. Я часто о вас думаю, но в течение двух с половиной месяцев был поглощен одной работой {Феерия «Замок сердец».} и лишь вчера окончил ее. Это феерия, которую, боюсь, никогда не поставят. Я напишу к ней предисловие, имеющее для меня больше значения, чем сама пьеса. Мне хочется лишь обратить внимание публики на пышную и широкую драматическую форму, которая до сих пор служит только кадром для вещей весьма посредственных. Мое произведение далеко не так серьезно, как бы следовало, и, между нами, мне немного стыдно за него.
Впрочем, я не придаю этому особого значения. Для меня в данном случае — вопрос литературной критики и ничего больше. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из директоров принял пьесу, а цензура вряд ли разрешит ее к постановке. Сочтут, что некоторые картины являются слишком явной социальной сатирой. Вот, дорогая мадмуазель, каким пустяком я был занят с июля месяца. Теперь поговорим о более важных вещах, то есть о вас и о ваших тревогах.
Книга моего друга Ренана не вызвала у меня того восторга, как у публики. Я люблю, чтобы в трактовке подобных тем было наличие большого научного аппарата. Но именно доступность формы и привлекла к произведению женщин и несерьезного читателя. Это уже много, и я считаю большой победой для философии, если публика интересуется такими вопросами.
Знаете ли вы «Жизнь Иисуса» доктора Штрауса? Вот это вещь содержательная и заставляет подумать! Советую вам прочитать ее; она суха, но в высшей степени интересна. Что же касается «М-ль де ла Кентини»... {Пьеса Жорж Санд.} право, Искусство не должно служить пищей для каких бы то ни было доктрин, иначе ему грозит падение! Действительность оказывается ложно истолкованной всякий раз, когда хотят привести к выводам, присущим одному лишь богу. К тому же разве можно раскрыть истину с помощью фикций? История, история и естествознание! Вот две музы нового времени. При помощи них проникнут в новые миры. Не будем возвращаться к средневековью. Будем наблюдать — в этом все. После многовекового изучения, может быть, кому-нибудь и будет дано синтезировать. Жажда делать выводы — одна из самых пагубных и бесплодных маний человечества. Каждая религия, каждая философия стремится всегда доказать, что бог принадлежит именно ей, что она охватила взором бесконечность и знает способ приготовления счастья. Какое честолюбие и какое ничтожество! Я же, напротив, считаю, что все великие гении и все великие творения никогда не делали выводов. Гомер, Шекспир, Гёте — все старшие сыны божии (как говорит Мишле) только изображали, воздерживаясь от чего бы то ни было иного. Мы хотим взобраться на небо; для этого надо сперва расширить свой кругозор и свое сердце! Осененные небесным вдохновением, мы по уши погрязаем в земном болоте. Средневековое варварство крепко держит нас в плену с помощью тысячи предрассудков и привычек. Лучшее парижское общество до сих пор еще занимается столоверчением. Говорите еще после этого о прогрессе. Добавьте к нашим моральным бедствиям польскую резню, войну в Америке {Подавление восстания в Польше (1863) против царского правительства; гражданская война южных рабовладельческих штатов Северной Америки с северными (1861—1865).} и пр.
А вы вот, бедная наболевшая душа, вы страдаете из-за прошлого, а именно из-за обязанностей, налагаемых культом, которому преданы сердцем, но против которого восстает ваш разум. Отсюда — разлад и мучение. Вы не можете обойтись без священника, но священник противен вам. Будьте сама себе священником. Или же «поглупейте», как сказал Паскаль. Но вы отталкиваете все лекарства. Вам полезно солнце, а вы продолжаете жить в мрачном климате и т. д. Побольше мужества! И облегчите ваши страдания! Вот чего желает вам от всей души тот, кто вам предан.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, лето 1864
Нет ничего печальнее прекрасных летних вечеров. Могучие силы вечной природы заставляют нас еще больше ощущать ничтожество собственной индивидуальности. Когда я думаю о своем одиночестве, о своих печалях, я невольно вопрошаю себя — глупец я или святой. Бешеная сила воли, которой я горжусь, быть может — признак глупости. Великие произведения не требовали стольких усилий.
Я все более и более возмущен современными реформаторами, которые не внесли никаких реформ. Все — Сен-Симон, Леру, Фурье и Прудон — завязли по уши в средневековье; все (чего никто не замечает) верят в библейское откровение. Но к чему стремиться объяснить необъяснимое? Объяснять зло первородным грехом равносильно тому, чтобы ровно ничего не объяснить. Поиски причины антифилософичны, антинаучны, и в этом отношении все религии еще менее нравятся мне, чем какое бы то ни было философское учение, поскольку они утверждают, что им знакома причина. Пусть это потребность сердца — согласен. Эта потребность, несомненно, достойна уважения, но отнюдь не эфемерные догмы.
Что же касается идеи об искуплении, то она исходит из узкого понимания Справедливости — своего рода варварской и туманной способности воспринимать ее. Это наследство, переданное человечеству на его ответственность. Восточный милосердный бог, который вовсе не отличается милосердием, заставляет маленьких детей искупать грехи отца совершенно так же, как паша требует от внука уплаты долгов за деда. Дальше этого мы не пошли, когда говорим о божьей справедливости, милосердии или о гневе божьем, — обо всех человеческих качествах, относительных, полноценных и в то же время не совместимых с абсолютным.
Какие прекрасные лунные вечера! В понедельник около полуночи мимо моих окон проехали на лодке какие-то люди, возвращавшиеся с вечеринки и игравшие на духовых инструментах. Они захватили меня врасплох. Я захлопнул окно... Сердце мое было переполнено. Ах! Апельсинные рощи Сорренто далеко!
[Лето 1864]
Я мог бы через некоторое время прочесть курс по социализму: я знаю, во всяком случае, его дух и сущность. Только что поглотил Ламеннэ, Сен-Симона, Фурье и взялся снова за Прудона, от строки до строки. Если хотят ничего не знать обо всех этих людях, надо прочесть критику и выводы, сделанные в отношении их произведений, ибо их либо опровергали, либо превозносили, но никогда не излагали. Одна резко бросающаяся черта роднит всех их; это ненависть к свободе, ненависть к Великой французской революции и к философии. Это какие-то средневековые люди, ум их погряз в прошлом. И что за педанты! Настоящие классные наставники! Раскутившиеся семинаристы или допившиеся до белой горячки кассиры. Если они потерпели неудачу в 48 году, то только потому, что находились вне традиционного потока. Социализм представляет собою один лик прошедшего, а иезуитство — другой его лик. Великим учителем Сен-Симона был де Местр, и неизвестно еще, что позаимствовал Прудон и Луи Блан у Ламеннэ. Лионская школа, наиболее активная, была полна мистицизма наподобие лоллардов. Буржуа ничего в этом не поняли. Все инстинктивно почувствовали то, что составляет сущность всякой социальной утопии: тиранию, противоестественность, смерть души.
МАДМУАЗЕЛЬ АМЕЛИ БОСКЕ
[Круассе] вторник, вечер [9 августа 1864]
Я и без вашего письма знаю, что у вас доброе сердце и выдающийся ум. На это и были рассчитаны моя резкость и грубости. {Флобер резко ответил Амели Боске по поводу ее статьи «Беранже, его друзья, его враги и его критики», в которой она, под псевд. Артур Арну, восхваляла Беранже («Руанская газета», 1 авг. 1864).} Если бы я сомневался в вашем уме, то не писал бы так прямо, а коль скоро вы вопреки всему принимаете от меня поцелуи, я посылаю вам целых четыре, — по одному в каждую щечку и два чуть покрепче и чуть пониже.
Вот что я хотел вам сказать: я лично считаю вышеупомянутого Беранже вредным; он внушает Франции такого рода небылицы, будто поэзия есть не что иное, как рифмованное восхищение тем, что дорого его сердцу. Я ненавижу его во имя самой любви к демократии и народу. Это приказчик, лавочник, буржуа, если можно так выразиться; мне ненавистна его веселость. После Вольтера надо покончить с религиозными шуточками двусмысленного характера. Какой аргумент против философии для всяких Вейло представляет такой человек! А затем еще одно соображение; почему не преклоняться перед большой вещью, перед настоящими большими поэтами? Но, быть может, Франция неспособна переварить более крепкое вино! Беранже и Гораций Берне надолго останутся ее излюбленными поэтом и художником.
Больше всего возмутило меня в вашей статье сравнение его с Боссюэ и Шатобрианом, хотя они далеко не боги в моих глазах. Я утверждаю, что первый писал плохо, что бы ни говорили. Пора, однако, договориться о стиле! Все равно! Я не могу сравнить этих патрициев с этим лавочником.
Я не стал ждать реакции, чтобы составить себе собственное мнение; двадцать четыре года тому назад, в 1840 году, меня чуть не выгнали вон, когда я напал на него у одного из его друзей. Это произошло у корсиканского префекта, в присутствии всего генерального совета. Скажу вам даже, что сейчас я довольно часто защищаю вышеупомянутого Беранже, потому что общество гораздо низменнее своего идеала.
Впрочем, в одной из последних книжек Сен-Бёва имеется очаровательная страничка, где превосходно описан Беранже и именно так, как я его мыслю. Я красуюсь там полностью и очень смеялся, настолько это правдиво!
Готов с вами согласиться, что он достойнее современных знаменитостей; слабая похвала, но дальше идти я не могу.
Чем объяснить такую снисходительность к позолоченной посредственности? Чем объяснить, что Беранже цитируют наизусть, тогда как ни одного стихотворения Сент-Амана, ни одной страницы Рабле никто не знает? Почему Тьер считается у нас великим историком, и т. д. и т. д. Какая тщета все это, литература и слава!
Кавалер Марини пользовался во Франции большим почетом, чем все писатели, вместе взятые. Кто читает ныне Байрона? Даже в Англии! Следуя за Кузеном, я делаю из всего этого вывод, что «Прекрасное в Европе создано для сорока человек в столетии». Подымаюсь на свою башню из слоновой кости и закрываю окно... ибо иначе можно разбить себе башку или сойти с ума. А когда вы будете впредь писать критический отзыв, постарайтесь из человеколюбия не снисходить к читателю, а возвысить его до себя. Не забывайте свое жреческое звание, как сказал бы г-н Прюдом, и любите меня по-прежнему, ибо я ваш.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, 6 октября 1864
Нет, дорогая мадмуазель, я вас не забыл. Я часто думаю о вас, о вашем выдающемся уме и о ваших страданиях, которые, как мне кажется, совершенно неисцелимы.
Между вашей и моей жизнью, быть может, не столь большая разница, как кажется с первого взгляда и как вы воображаете. Нас связывает, думается мне, не только литературная симпатия. Мои дни проходят в одиночестве, мрачном и тяжелом. Лишь с помощью работы мне удается подавить врожденную меланхолию. Но часто старая рана, глубокая рана, о которой никто не знает, вновь раскрывается.
Уже с месяц как я связался с романом о современных нравах, действие которого будет происходить в Париже. {«Воспитание чувств».} Я хочу написать моральную историю людей моего поколения; пожалуй, вернее, историю чувств... Это книга о любви, о страсти; но о такой страсти, какая может существовать теперь, то есть бездеятельной. Сюжет, как я его задумал, кажется мне глубоко правдивым; но именно в силу этого он, вероятно, мало занимателен. Не хватает фактов, драмы; к тому же действие растянуто на большой промежуток времени. Так что у меня много тревог и опасений. Я останусь здесь, в деревне, часть зимы, чтобы немного продвинуться вперед в этой долгой работе.
Я не был нынешний год в Виши; это ошибка, я был там два года тому назад и в прошлом году.
Я ничего не читаю и не могу вам указать ничего нового. За последнее время занимался социализмом; но вы все это знаете, хотя бы отчасти.
Очень хвалят новый роман г-жи Санд,
Вы никогда не говорите о Мишле, а я его очень люблю и восхищаюсь им. А вы?
Итак, постарайтесь не унывать и думайте обо мне.
Сердечно жму ваши руки.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе, октябрь? 1864]
Как я скучаю, как устал! Падают листья, слышен похоронный звон, мягкий ветер действует на нервы. Мне хочется уйти на край света, то есть к вам, положить свою бедную больную голову к вам на грудь и умереть. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как печальна моя жизнь и сколько мне нужно силы воли, чтобы жить? Я провожу дни в полном одиночестве, у меня так же мало общения с людьми, как было бы в центральной Африке. Только вечером, намяв себе бока, я, наконец, пишу несколько строк, которые наутро кажутся мне отвратительными. Положительно есть более веселые люди. Я подавлен трудностями своей книги. Постарел я, что ли? Истрепался? Думаю, что да. По существу, это так. К тому же то, что я пишу, не так просто; я стал робок. За семь недель написал пятнадцать страниц, и те немногого стоят.
Как скверно устроен мир! К чему уродство, страдание, печаль? К чему наши бессильные мечтания? К чему все это? Несколько лет я прожил в состоянии, которое смею назвать эпическим, не испытывая ни малейшего сомнения, ни малейшей усталости. А сейчас я разбит. Мне бы следовало много развлекаться!
Сколько я о вас думаю, и как хотелось бы мне насладиться вашим умом и вашей грацией! Но требования, какие предъявляет мой тяжкий труд, обрекают меня на разлуку, и я проклинаю ее. Я начинаю думать, что избрал в жизни неправильный путь; но разве мне была предоставлена свобода выбора? Счастливцы буржуа! А между тем я не хотел бы быть одним из них! Это история доброго брамина в повестях Вольтера.
Тем лучше, если вы интересуетесь «Английской литературой» Тэна. Это труд возвышенный и основательный, хотя я и не согласен с его исходной точкой.
Искусство вовсе не подобно той среде, где оно возникает, и предшествующему физиологическому быту работника. При помощи такой системы можно объяснить известный класс или группу, но отнюдь не индивидуальность, то особое обстоятельство, благодаря которому оказываешься именно тем-то. Такой метод неуклонно приводит к отрицанию таланта. Шедевр получает значение только как исторический документ. Вот полная противоположность старой критике Ла Гарпа. Когда-то думали, что литература — дело чисто личное, и что произведения падают с неба как аэролиты. Ныне же отрицают всякую волю, все абсолютное. Мне кажется, что правда между тем и другим.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
Понедельник [вторая половина января 1865]
Мои дорогие!
Получил вашу книгу {«Жермини Ласертё».} только вчера вечером. Начав читать в половине одиннадцатого, я окончил ее в три часа. После чтения я не сомкнул глаз, и у меня болит живот. Вы будете виноваты во множестве гастритов! Что за страшная книжка!
Если бы не сильное недомогание, я бы пространно написал вам сегодня все, что думаю о «Жермини», которая меня возбуждает. Книга сильная, увлекательная, она драматична, патетична, захватывает. Шанфлёри, кажется мне, превзойден. Больше всего восхищает меня в вашем произведении постепенность эффектов, психологическое нарастание. Жутко от начала до конца, а временами просто величественно. Последний эпизод (на кладбище) превосходит все предшествовавшее и проводит как бы золотую черту под вашим произведением.
Никогда еще так прямо не ставилась великая проблема реализма. В связи с вашей книгой можно здорово поспорить о целях искусства.
Мы возобновим наш разговор через две недели. Извините за письмо: у меня нынче ужасная мигрень и такое удушье, что я с трудом сижу за столом.
Тем не менее целую вас крепче, чем когда-либо.
Ваш.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
Круассе, суббота вечером, 12 августа 1865
Итак, когда же появится «Анриетта»? {«Анриетта Марешаль».} А что вы поделываете?
Что касается меня, мои милые, то, после возвращения к родным пенатам, на мою голову обрушились немалые несчастья: во-первых, злополучная и неожиданная смерть племянника (зятя моего брата); во-вторых, болезнь матери — общая невралгия, вызывающая по ночам такие болезненные крики, что мне пришлось оставить свою комнату. Можете себе представить остальное!
Сегодня ей немного лучше.
Вы понимаете, что в такой обстановке литература подвигается довольно туго.
Прочел книгу Прудона об Искусстве! Отныне у нас имеется максимум социалистического невежества. Любопытно, ей-богу! У меня осталось впечатление, как от отхожих мест, где на каждом шагу наступаешь на дермо. Каждая фраза — грязь. В целом, это написано во славу Курбе и во имя разрушения романтизма. О святой Поликарп!
Привет друзьям. Самый почтительный и сердечный привет принцессе. Целую.
Напишите мне письмо подлиннее, ведь вас двое. Честное слово, я нуждаюсь в развлечении.
ШАРЛЮ-ЭДМОНУ
[Круассе, октябрь 1865]
Дражайший!
Я еще не кончил!.. Приближаюсь к завершению первой части. Когда я дойду до конца двух остальных? Только Аполлон, бог помарок, может это знать!
Впрочем, узнайте следующее, о, моя прелесть! Ввиду того, что «Госпожа Бовари» стоила мне, за вычетом чистой прибыли, триста франков... я хочу отныне отдавать свои книги даром. Это было бы рисовкой; согласитесь, однако, что рисовкой изысканной.
Труд и заработная плата представляются мне вещами столь отдаленными одна от другой, столь непропорциональными, что я не понимаю, какое они имеют друг к другу отношение!.. Поэтому, не имея возможности что-либо поделать, я покоряюсь судьбе и, поскольку почти окупаю бумагу, на которой пишу, то и не требую большего. Побеседуем обо всем этом в ближайшее время на премьере Гонкуров.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
Вторник [Париж, декабрь 1865]
Неужели это правда? Ваша пьеса {Пьеса «Анриетта Марешаль»; премьера состоялась во «Французском театре» 5 декабря 1865 года.} действительно снята с репертуара по приказанию свыше? Почему? Думается мне, что тут причастно ваше предисловие. Оно кого-то задело, а чем — неизвестно.
Вы сказали все, что следовало сказать; я считаю только, что вы были слишком лояльны и слишком скромны. Такие благородные люди, как вы, могут быть храбрыми, такие талантливые — должны гордиться.
Правительственная мера тем более меня удивляет, что руанский обыватель, присутствовавший на одном из последних представлений «Анриетты», говорил мне вчера, будто все обошлось очень хорошо.
Все это так невероятно, можно прямо с ума сойти!
Я два раза перечел «Анриетту». Хорошая вещь. Вот мое мнение, а я понимаю в таких вещах толк не хуже Дарселя.
Умоляю вас, напишите мне побольше, и даже как можно больше.
Я чувствую, что в вашей интриге не обошлось без попов. «Социальная» вовсе не отличается таким остервенением. К тому же прежде всего, и это самое главное, у вас есть стиль, а этой штуки никогда не прощают.
Что говорит обо всем этом принцесса?
В то время как в угоду прощелыгам запрещают вашу пьесу, студентов изгоняют из школ за выступление в Лувене. Вот где равновесие. О, святая хулиганократия!
Прощайте, дорогие мои, старые бедняги. Как вы, должно быть, сейчас устали, изнервничались! Однако вы славные парнюги, черт возьми! Можете сами себе это сказать в тиши кабинета. И все же, хорошее у нас ремесло, коль скоро от зависти к нам и злобы даже «учащаяся молодежь» лопается.
А подробности, ладно?
Целую вас и люблю еще сильнее, если это возможно.
Ваш Г. Флобер.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, вторник, 23 января 1866
Вы совершенно напрасно называете меня утешителем, дорогая мадмуазель. Я хотел бы заслужить это звание, но что могу я для вас сделать? Разве лишь послать вам уверение в глубочайшей моей симпатии!
Я думал, что вы заняты большим историческим трудом об Анжере, и надеялся, что душа ваша найдет успокоение в этой работе. Увы, оказывается, ничего подобного. И вот я огорчен. Заставьте же себя изучать события, предметы, наконец, природу! Хотя вы и в курсе современного философского течения, все же средневековье душит вас. Вы связаны с ним множеством нитей. И повторяю, вопреки всему, бегите из родного края, покиньте свой дом, как будто там пожар, бросьте старые привычки, ведь они смертельны. Не ублажайте своих горестей.
Вы слишком упиваетесь, как сказал бы Монтень, теми тонкими чувствами, которые являются ступенью меланхолии.
Вас пожирает фанатизм и глупость окружающих. Я понимаю, что они могут оскорблять; но удивляться им! — Нет. Человечеству присуща глупость, столь же вечная, как само человечество. Народное образование и нравственность неимущих классов кажутся мне продуктами будущего. Но что касается ума в массовом масштабе, то его я отрицаю, что бы ни случилось, ибо массы всегда останутся массами.
Самое значительное в истории — это маленькая человеческая часть (может быть, три-четыре сотни людей в столетие), которая, начиная Платоном и кончая нашими днями, не изменялась. Они-то и создали все, они — совесть мира. Что же касается нижней части социального тела, то ее никогда не возвысить. Когда народ перестанет верить в непорочное зачатие, он уверует в вертящиеся столы. Надо утешиться и жить в башне из слоновой кости. Это не весело, знаю; но благодаря такому методу ты не окажешься ни одураченным, ни шарлатаном.
Завтра я отправляюсь в Париж и рассчитываю остаться там до конца месяца. Если вы вспомните обо мне, то напишите по адресу: Бульвар Тампль, 42.
Я много работал эту зиму; окончил первую часть своего романа. Когда будет он окончен целиком? Вот уж не знаю.
Тысяча приветов от преданного вам.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Круассе, четверг [февраль 1866]
Принцесса!
Вчера утром мною овладели два чувства — умиление и тщеславие. Ваше встречное письмо служит новым доказательством драгоценной для меня симпатии.
Не кажется ли вам, что все мы, сколько нас ни есть, несмотря на различие состояния, ранга и даже пола, живем на Плоту медузы и что вне нашей маленькой кучки, вокруг нас как бы расстилается океан недоброжелательства и глупости? Вот почему надо крепче сплотиться и не терять надежды.
То, что вы говорите о Гонкурах, нисколько меня не удивляет. Я считаю их самыми благовоспитанными людьми, каких только можно встретить. Я не знаю более чистоплотных людей в литературной среде. Они в полном смысле слова хорошие люди. Доверьтесь им. К тому же они питают к вашему высочеству расположение и от этого становятся мне милее. Вы говорите о мерзостях прессы; я ощущаю такое отвращение к газетам, что они вызывают во мне физическое чувство тошноты. Я предпочитаю ничего не читать, чем читать эти гнусные четырехугольные листы. Однако принимаются все меры к тому, чтобы придать им значение. Им верят, их боятся. Вот в чем зло. Пока не уничтожат уважение к печатному слову, ничего не будет сделано. Привейте публике вкус к великому, и она оставит мелкое — вернее, обречет его на самосъедение.
Я считаю счастьем своей жизни, что не пишу в газетах. Кошелек мой страдает, зато совесть чиста, а это главное. Считаю дни, оставшиеся до конца марта месяца, то есть до той минуты, когда я вновь увижу вас, принцесса, когда смогу в действительности поцеловать ваши руки и снова сказать вам, что я весь ваш.
Г. Флобер.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Париж, 3 февраля 1866
Детка моя!
Подобно тебе я веду беспокойный образ жизни, но только не в большом свете; я погрузился в изучение фабрик фарфора. Вчера провел весь день с рабочими Сент-Антуанского предместья и Тронной заставы. Утром у меня был кондуктор дилижанса. Нынче отправляюсь на вокзал Иври. Вернувшись домой, читаю книги о фаянсе. Я не был ни на балу в Тюильри, ни в Ратуше, слишком занят посудой.
Вчера я обедал с папашей Клоке; во вторник буду обедать с князем, а в среду ко мне придет монсеньор. Вот и все новости.
Как я хорошо понимаю, что Руан надоел тебе вообще! Все это действует на нервы и притупляет; для ума не вредно развлечься, когда есть возможность.
Как только приедешь в Париж, рекомендую тебе пойти посмотреть укротителя львов Батти. Это единственное зрелище, какое я видел и, по всей вероятности, пойду еще смотреть.
Предсказываю тебе: если вы месяц пробудете в Париже, бабушка не вынесет скуки и приедет к вам. Лучше бы ей устроиться так, чтобы сразу поехать вместе с вами.
Прощай, моя милая детка. Продолжай развлекаться, пока ты молода; надо пользоваться хорошей порой. Что касается меня, то я, признаться, с большим удовольствием увидел вновь Париж и своих друзей. У меня достаточно извращенный ум и достаточно жесткое сердце, чтобы не сожалеть о деревне и не испытывать необходимости идти поохотиться к Сент-Андре; единственно, о чем сожалею, это о твоей милой мордочке, созданной для поцелуев. Если воздыхания г. префекта оставляют тебе немного досуга, напиши.
Своему старому, нежно любящему тебя ротозею.
Поцелуй за меня своего птенчика, он очень мил.
СЕНТ-БЁВУ
Париж, понедельник [12 марта? 1866]
Дорогой маэстро!
Подумали вы обо мне? Не могли бы вы посоветовать, что мне прочесть, чтобы познакомиться с нео-католическим движением 1840 года? Моя история простирается от 1840 до государственного переворота. Само собою разумеется, что мне необходимо все знать и проникнуться духом времени, прежде чем взяться за работу.
Если у вас есть какая-нибудь книга или сборник, которые могут быть мне полезны, например «Будущее», {Газета либерально-католического движения (1831—1832), орган Ламеннэ, Лакордера и Монталамбера.} будьте любезны одолжите мне.
Не могу вас навестить, потому что у меня ужасный чирий; он мешает мне одеться. Я лишен возможности пойти в библиотеку. Теряю время и досадую на себя.
Тысячу раз жму вашу руку.
МАДМУАЗЕЛЬ АМЕЛИ БОСКЕ
Круассе, понедельник вечером [20 августа 1866]
Не писал вам, дорогой друг, потому что нечего было сказать; и нехорошо с вашей стороны сердиться, ибо вы знаете, что я вас люблю. Я свирепо работал в течение шести недель, с конца мая до середины июля месяца. Затем уезжал на две недели в Англию, две недели провел в Париже и окрестностях. Вчера вернулся из Дьеппа, где пробыл неделю, и вот я опять согнулся над своим столом на целых два месяца. В конце октября съезжу в Париж посмотреть пьесу Буйле, {«Заговор д'Амбуаза»; пьеса представлена была в первый раз в театре «Одеон» 22 октября 1866.} но не останусь, так как намерен провести здесь всю зиму, чтобы поторопиться окончить бесконечный роман; таким образом, мой светский сезон начнется не ранее марта месяца.
Возвращаясь из Камбремера, вы, вероятно, проедете через Руан? Я, вернее мы, рассчитываем видеть вас у себя.
Больше всего удовольствия от красной ленты доставляет мне радость тех, кто меня любит; это самое лучшее, уверяю вас. Ах, если б получать такие вещи в 18 лет!
О том, чтобы забыть процесс и не чувствовать злобы, не может быть и речи! Когда дело касается восприятия впечатлений, я — глина; но храню их так, будто отлит из бронзы.
Совершенно не знал о существовании книги, озаглавленной «Роберт Бюра». {Жюля Кларси.} Странная у вас эрудиция.
Я не совсем разделяю ваш восторг от «Дела Клемансо», хотя книга эта во многих отношениях лучшее произведение Дюма. Но он испортил его тирадами и целым рядом общих мест. По-моему, романист не имеет права высказывать свое мнение по поводу того, что совершается в этом мире. Он должен уподобиться в своем творении богу, то есть создавать и молчать. Конец книги («Клемансо») кажется мне совершенно фальшивым: никогда мужчина не убьет женщину после; тут наступает общая реакция, ощущение совершенно противоположное какой бы то ни было энергии. Это большой промах как с физиологической, так и с психологической точки зрения.
Лучше всего я нахожу письма молодой женщины.
Ничего не могу сказать о «Последней любви» {Роман Жорж Санд, посвященный Флоберу.} (между прочим, посвящение достойно, по-моему, самых милых шуток) по той простой причине, что не прочел ни строчки; жду, когда все будет окончено и напечатано отдельным изданием.
Зато я присутствовал на премьере «Деревенского Дон-Жуана». {Пьесы Жорж Санд.} Провал был полный, но тихий. Я совершенно теряюсь, не понимаю нашей публики. Почему на «Маркизе де Вильмер» {Жорж Санд.} публика рычала от восторга, а на «Дон-Жуане» зевала от скуки? Все это представляется мне вещами одного качества.
А как вы? Как ваши работы?
Свою книгу я окончу не ранее как через три года! И она будет неважной, потому что замысел ее плох. Вознагражу себя в другой книге; я не буду описывать там буржуа, так как они вызывают во мне отвращение.
Целую вашу прелестную шейку с обеих сторон так крепко, как вы позволите. Ваш.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Круассе, пятница вечером
Как же прошло путешествие? Без препятствий, не правда ли? Самое трудное выполнено, а час возвращения не замедлит наступить. Смелее.
Я знаю лучше, чем кто бы то ни было, волнения, связанные с отъездом (каждый год, уезжая из Парижа, я переживаю тягостные минуты), поэтому мне так понятно все, что вы говорите. Но позднее, то есть скоро, вы сами будете довольны своим решением и, вернувшись в Сен-Грасьен и на улицу Кур-сель, испытаете сладостное сердечное волнение.
По поводу умиления скажу вам, что я ощутил его, прочитав последние строчки вашего письма, где вы сообщаете о маленьком подарке, который будет приятнее самой вещи как таковой, ибо почесть разделяешь со многими, а тут совсем не то. И я не знаю, что ответить, как вас благодарить.
Я считаю все-таки, что вы слишком строго отнеслись к «Моей последней любви». В книге этой, по-моему, имеются замечательные места, между прочим характеры Фелиси и Тонино. Что же касается ее недостатков, то я сказал о них лично автору; ибо она неожиданно навестила меня третьего дня в моей хижине, возвращаясь из Сен-Валери, куда ездила к А. Дюма (у вас, должно быть, уши горели от всего плохого, что мы говорили о вас, принцесса). Она, как всегда, была очень проста и нисколько не похожа на синий чулок. У меня, знаете ли, в этом отношении есть опыт.
Мне очень хотелось бы, чтобы мой будущий роман {«Воспитание чувств».} вас развлек. Он предпринят с целью вызвать жалость к бедненьким мужчинам, которых так мало знают, и доказать дамам, насколько мужчины робки.
Нас сейчас заливает дождь, к тому же холодно, как зимой. Желаю вам поэтому более приятной погоды, чем здесь, хотя, вероятно, она и так хороша у вас. Можно лишь пожелать, чтобы она не стала плохой. Сена, журчащая под моими окнами, вызывает у меня воспоминания о Лаго-Маджьоре. Переношусь туда воображением, принцесса; припадаю к вашим стопам и пребываю (с подлинным верно) преданный вам и расположенный к вам.
Г. Флобер.
МАДМУАЗЕЛЬ АМЕЛИ БОСКЕ
Круассе, среда [5 сентября 1866]
Мадмуазель!
Вы написали мне очень любезное письмо, полное упреков, которые я считаю недопустимыми, мой друг. Как можете вы думать, что я вас забыл? Вы прекрасно знаете, что это не так!
Но о чем писать, когда за последнее время на меня, как снег на голову, свалилось столько домашних неприятностей, самым невероятным образом нарушивших «тишину кабинета».
Каролина говорила вам о болезни моей матери. Я отвожу ее (ее относится к матери, я пишу, как хороший писатель) завтра в Увиль. Надеемся, что морской воздух окончательно восстановит ее здоровье, но она очень страдает, и на это очень тяжело смотреть.
Мне кажется, что вы ошибаетесь относительно Нефцера. Он славный малый, будет печататься. А вы что делаете пока?
Я работаю, как тридцать негров, но запутался в сюжете, безвыходном по своей простоте и изобилию. Чем дальше, тем становится труднее. Вчера десять часов подряд просидел над тремя строчками — и не сделал их. «Экая глупость», — сказал бы покойный Грассо.
У меня нет никаких новостей, я ни с кем не вижусь, ничего не читаю. Тем не менее недавно я проглотил два посмертных тома некоего сапожника, именуемого Прудоном. {Видимо, «Искусство, его основания и общественное назначение» 1865.} Немного злости иногда не вредно для здоровья.
Мы не могли найти в томике китайских стихов указанного вами стихотворения. Ваши сведения очень туманны, мне кажется, вы что-то путаете.
Г-жа Комманвиль уезжает послезавтра в Сен-Мартен и вернется в конце будущей недели.
Мы надеемся, что вы навестите нас в конце месяца. Пребывайте в веселии и радости! Желаю вам хорошо поработать и, хоть вы называете меня «милостивый государь», — целую вашу очаровательную шейку с обеих сторон и остаюсь ваш.
Видел недавно дядюшку Потье. Он все еще гофманист.
ЖОРЖ САНД
Круассе [конец сентября 1866]
{Ответ на письмо Жорж Санд от 2 сентября 1866 г.}
Это я — таинственное существо? Полно, дорогой маэстро. Я считаю себя отвратительно пошлым и временами страшно досадую на буржуа, который сидит во мне. Между нами говоря, Сен-Бёв совершенно меня не знает, несмотря на его утверждения. Клянусь вам даже (улыбкой вашей внучки), что мало знаю людей менее «порочных», чем я. Я много мечтал и очень мало выполнил. Поверхностного наблюдателя обычно вводит в заблуждение разлад между моими чувствами и идеями. Если хотите выслушать мою исповедь, извольте, вот она целиком.
Чувство гротеска удерживало меня на наклонной плоскости беспорядочности. Я утверждаю, что цинизм граничит с целомудрием. Нам о многом придется поговорить (если у вас будет к этому лежать душа) в первый же раз, как мы встретимся. Вот какой предлагаю я план: мой дом будет полон народа и неудобен в течение месяца. Но к концу октября или в начале ноября (после пьесы Буйле) ничто не помешает вам, надеюсь, приехать сюда ко мне не на один день, как вы предполагаете, а на неделю по меньшей мере. У вас будет своя комната «со столиком о трех ножках и всем, что надо для письма». Условились!
Что касается феерии, спасибо за любезно предложенные вами услуги. Я прогорланю вам эту штуку (она сочинена в сотрудничестве с Буйле). Но я считаю ее слабым пустячком, и меня одолевает, с одной стороны, желание заработать несколько пиастров, с другой — стыд выставить напоказ такую ничтожную вещь.
Я считаю, что вы немного строго относитесь к Бретани, но не к бретонцам, которые показались мне отталкивающими животными. По поводу кельтской археологии я в 1858 году опубликовал в «Художнике» {«Камни Карнака и кельтская археология» — часть пятой главы «По полям и берегам» Флобера.} довольно забавную штуку про шатающиеся камни, но у меня нет номера журнала, и я не помню даже, в каком месяце он вышел.
Прочел в один присест десять томов «Истории моей жизни»; {Жорж Санд.} приблизительно две трети ее мне были знакомы, но лишь в отрывках. Больше всего поразила меня жизнь в монастыре.
У меня масса замечаний по этому поводу; надо потолковать с вами, я тогда вспомню.
ЖОРЖ САНД
Круассе, суббота вечером [29 сентября 1866]
Получив посылку — два портрета, я подумал, что вы в Париже, дорогой маэстро, и написал вам письмо, которое ждет вас на улице Фельянтинок.
Я не нашел своей статьи о кельтских памятниках. Но среди «неизданных произведений» у меня имеется целая рукопись о моем путешествии в Бретань. Будет о чем поболтать, когда сюда приедете. Наберитесь мужества.
Я не ощущаю, подобно вам, начинающейся жизни, не испытываю изумления перед новым расцветом существования. Мне кажется, наоборот, что я всегда существовал! И воспоминания относятся ко временам фараонов. Я очень явственно вижу себя в различные исторические эпохи занимающимся самыми разнородными ремеслами и в самых различных условиях. Теперешняя моя индивидуальность является результатом всех исчезнувших индивидуальностей. Я был лодочником на Ниле, сводником в Риме во время пунических войн, затем греческим ритором в Субурре, где меня заели клопы. Я умер во время Крестового похода оттого, что объелся виноградом на морском берегу в Сирии. Я был пиратом и монахом, странствующим актером и возницей. Быть может, также восточным императором.
Многое можно было бы объяснить, если бы мы знали настоящую свою родословную. Элементы, составляющие человека, ограничены, повторяются одни и те же комбинации.
Таким образом, наследственность в принципе совершенно правильное понятие; только на него мало обращали внимания. С этим понятием произошло то же, что и со многими другими. Каждый рассматривает его со своей точки зрения, и мнения расходятся.
Пока не будет найден общий язык для выражения самых различных понятий, пока их не расклассифицируют и не присвоят им совершенно точного наименования, до тех пор все научные изыскания в области психологии останутся в том виде, в каком находятся теперь, то есть будут окутаны мраком и безумием. Там, где спутаны все понятия, нет места для морали.
Вы не находите, что, в сущности, с 89 года занимаются сущим вздором? Вместо того, чтобы продолжать идти по большой дороге, широкой и прекрасной, как триумфальный путь, бегут по тропинкам и месят грязь в трясинах. Быть может, умно было бы вернуться на мгновение к Гольбаху. Не лучше ли познакомиться с Тюрго, прежде чем преклоняться перед Прудоном.
Но что станется тогда с Шиком — современной религией!
Шикарные мнения: быть за католицизм (ни на иоту не веря в него), быть за рабство, быть за австрийский императорский дом, носить траур по королеве Амалии, восторгаться «Орфеем в аду», интересоваться земледельческими съездами, говорить о спорте, холодно ко всему относиться, быть настолько глупым, чтобы сожалеть о договорах 1815 года. Все это — последний крик моды.
Ах! Вы, вероятно, думаете, что у меня нет своих скромных суждений о том, что происходит на белом свете, так как я всю жизнь работаю над сочинением гармонических фраз, стремясь избежать ассонансов. Увы! Меня даже бесит, что невозможно высказаться.
Но довольно болтать, боюсь, в конце концов, вам надоесть.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе, 12 ноября 1866)
Я так разбит, что едва держу в руке перо; зато я отличился вчера ночью во время пожара. Впрочем, я не жалею, что потрудился: проявленная во всем своем блеске глупость буржуа и администрации, которую мне пришлось наблюдать, вполне меня вознаградила. Для поддержания порядка вызвали солдат, выставивших штыки против рабочих, и кавалеристов, запрудивших деревенские улицы. Трудно себе представить, какое смятение сеет повсюду власть. Я вернулся домой подлым демократом.
Знаменитая моя приятельница г-жа Санд покинула меня в субботу вечером. Трудно быть лучше и добродушнее этой женщины и притом менее похожей на синий чулок. Она работала целый день, а по вечерам мы трещали, как сороки, до трех часов утра. Хотя она немного слишком доброжелательна и сладкоречива, тем не менее некоторые ее замечания отличаются большой тонкостью и здравым смыслом, особенно, когда она не садится на своего социалистического конька. Очень сдержанная во всем, что касается ее лично, она охотно говорит о людях 48 года и более охотно подчеркивает их добрые намерения, нежели их ум.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] суббота утром [17 ноября 1866]
Не мучьте себя из-за сведений, касающихся газет. Это займет мало места в моей книге, и я могу повременить. Но когда вам нечего будет делать, набросайте на каком-нибудь клочке бумаги все, что помните о 48 годе. Потом в разговоре вы все это разовьете. Я не прошу у вас списывать, само собою разумеется; соберите лишь свои личные воспоминания.
Не знаете ли вы одну актрису из «Одеона», некую Дюгере, игравшую в «Макбете» Макдуф: ей очень бы хотелось получить роль Натальи в «Мон-Ревеше». {Пьеса Жорж Санд.} Она имеет к вам рекомендацию от Жирардена, Дюма и меня. Я видел ее вчера в «Фостине», {Пьеса Луи Буйле.} она играла с огоньком. Итак, вы предупреждены; от вас зависит принять меры. По-моему, она умна, и ее можно использовать.
Если ваш инженерик дал обет, который ему ничего не стоило дать, то он прав, сдерживая его, — иначе это чистейшая бессмыслица, между нами говоря. Где же и существовать свободе, как не в страсти? Ах, нет! В мое время мы не давали подобных обетов, зато влюблялись. И здорово. Но все замыкались в широкий круг эклектики, и если избегали дам, то лишь из гордости, из недоверия к самому себе, из своего рода удальства. Словом, мы были красными романтиками, донельзя смешными, но в полном расцвете. Немногое хорошее, что осталось во мне, я сохранил от того времени.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] среда ночью [5—6 декабря 1866]
О, как прелестно письмо Маренго-ласточки! {«Маренго-ласточка» — шутливая подпись Ж. Санд под ее письмом к Флоберу от 4 декабря 1866.} Серьезно, я нахожу, что это шедевр! В каждом слове чувствуется гениальность автора. Я несколько раз принимался громко смеяться. Большое вам спасибо, дорогой маэстро, вы бесконечно милы.
Вы никогда не рассказываете мне о том, что делаете. В каком положении драма? {«Кадио».} Меня совершенно не удивляет, что вы не понимаете моих литературных терзаний! Я и сам ничего не понимаю. А между тем, они существуют, и они жестоки. Не знаю, как взяться за дело; после бесконечного нащупывания, я добиваюсь того, что выражаю сотую долю своих мыслей. Ваш друг отнюдь не из тех людей, которые действуют по первому порыву, нет! Так, я уже целых два дня бьюсь над одним абзацем, и ничего у меня не выходит. Иногда мне хочется плакать! Я, должно быть, внушаю вам жалость! И сам-то себя жалею!
То, что вы пишете мне в последнем письме по поводу предмета нашего спора (относительно вашего юноши), настолько сходится с моим личным взглядом, что я не только провожу это на практике, но и проповедую. Спросите у Тео. Договоримся, однако. Художники (которые суть священники) ничем не рискуют, оставаясь целомудренными, напротив! Но зачем это нужно буржуа? Надо же кому-нибудь следовать потребностям человеческой природы. Счастливы те, кто остается верен ей!
Я думаю (в противоположность вам), что вряд ли стоит менять характер идеального художника. Он оказался бы чудовищем. Искусство создано не для того, чтобы изображать исключительные явления; к тому же я испытываю непреодолимое отвращение, когда переносится на бумагу то, что я ношу в своем сердце. Я считаю даже, что романист не имеет права высказывать свое мнение по поводу чего бы то ни было. Разве господь бог говорил когда-нибудь свое мнение? Вот почему меня душит много такого, что я хотел бы изрыгнуть, а я проглатываю. На самом деле, к чему говорить об этом? Всякий первый встречный интереснее г-на Флобера, потому что ему свойственно более общее и вследствие этого он более типичен
Тем не менее бывают дни, когда я чувствую, что дошел до последней степени идиотизма. Я держу в банке красных рыбок, и они меня забавляют... За обедом они составляют мне компанию. Не глупо ли интересоваться такими пустяками! Прощайте, поздно, у меня трещит голова. Целую вас.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, 13 декабря 1866
Нет, дорогая мадмуазель, нет, я не нахожу смешным ваше горе по поводу утраты собачки. Не все ли равно, кого любить — животное или человека (разница не так велика); красота в том, чтобы любить. Если мы чего-нибудь да стоим, то только благодаря силе привязанности; вот чем вы ценны. Я вам сочувствую, не сомневайтесь, и хотя мы не знаем друг друга в лицо, я считаю вас другом.
Месяц тому назад у меня неделю гостила г-жа Санд, и мы много говорили о вас. Она вас любит и уважает. Мы тщетно обсуждали вдвоем, чем могли бы быть вам полезными, то есть как извлечь вас из печального состояния, в какое вы погружены. Это свыше наших сил — как ее, так и моих. Надо призвать свою волю, но кто не хочет, тот ее не имеет.
Не можете ли вы все-таки при помощи своего рода интеллектуальной гигиены отвлечься от своих страданий? Попробуйте чем-нибудь усиленно заняться, найдите для себя какое-нибудь крупное дело. Возьмитесь за чтение длинных произведений, разделив работу по часам, как в монастыре.
Не советовали ли вам гидротерапию? Холодная вода часто очень помогает при неврозах. Она укрепляет. Попробуйте, ведь это ничего не стоит; а затем перемените обстановку! Это нужно, нужно! Гуляйте, слушайте музыку.
Вы писали мне когда-то о книгах, которые читаете. Прочтите же новый роман одного моего очень близкого друга, Максима Дю Кана (моего спутника во время путешествия). Роман печатался в «Национальном обозрении» под заглавием «Утраченные силы».
Вот в точности какие мы были в молодости; все люди моего поколения найдут себя в нем.
Мне очень любопытно ваше личное мнение об этом произведении.
Что касается моего — я не написал еще и половины. Оно очень длинно, и писать его трудно.
С любовью жму ваши руки и остаюсь преданный вам.
ЖОРЖ САНД
Круассе, в ночь на субботу
[15—16 декабря 1866]
Виделся с гражданином Буйле, которому его милый родной город устроил настоящий триумф. Соотечественники, решительно не признававшие его, взвыли от восторга, с тех пор как ему аплодирует Париж. Он вернется сюда в будущую субботу на банкет, который дается в честь него: 80 кувертов по меньшей мере и пр.!
Что касается Маренго-ласточки, то Буйле постарался настолько строго соблюсти вашу тайну и с таким удивлением прочитал ваше послание, что даже меня провел. Бедная Маренго! Какая фигура! Вам следует где-нибудь ее поместить. Воображаю, что это были бы за мемуары, если бы их написать таким стилем. Мой (стиль) по-прежнему доставляет мне немалые заботы. Надеюсь, однако, через месяц миновать наиболее бессодержательные места. Но в настоящее время я блуждаю в пустыне. Ладно, тем хуже, с божьей милостью! С каким удовольствием я оставил бы этот жанр, чтобы никогда более к нему не возвращаться!
Удивительно, как мне претит описывать современных французских буржуа! К тому же пора бы, пожалуй, доставить себе в жизни немного радости, выбирая приятные для автора сюжеты.
Я неточно выразился, говоря вам, что «не следует писать своим сердцем». Я хотел сказать: «не выводить на сцену своей личности». Великое Искусство, мне кажется, научно, нелично. Надо усилием разума перенестись в своих персонажей, а не привлекать их к себе. Вот каким должен быть, по меньшей мере, метод, а отсюда вывод: старайтесь быть очень талантливым, даже, если возможно, гениальным. Сколько тщеславия во всех поэтиках и критических статьях! Но апломб всяких господ, которые пишут их, поражает меня. О, эти молодчики ничем не стесняются!
Замечали ли вы, что иногда в воздухе носятся веяния идей? Так, я прочел недавно новый роман моего друга Дю Кана «Утраченные силы». Роман во многих отношениях похож на тот, что я сейчас пишу. Книга (его) очень наивна, но в ней дано правильное представление о людях нашего поколения, которые нынешней молодежи кажутся настоящими ископаемыми. Реакция 48 года вырыла пропасть между двумя Франциями.
Буйле передавал мне, что на одном из последних обедов Маньи вы были серьезно нездоровы, хоть вы и считаете себя «бесчувственной женщиной».
О, нет! Вы не бесчувственная, дорогое, доброе сердце! «Старый любимый трубадур», пожалуй, было бы кстати реабилитировать в театре Альманзора. Я вижу его с гитарой, в берете и тунике абрикосового цвета, на вершине скалы, откуда он осыпает бранью биржевиков во фраках. Хорошая могла бы быть речь. Ну, спокойной ночи; нежно целую ваши щеки.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе, декабрь 1866]
Сейчас я в полном одиночестве. Туман еще более усугубляет тишину, вас словно покрывает большой белесый могильный холм. Только треск дров в камине да тиканье часов нарушают молчание. Работаю при свете лампы около десяти часов в сутки, и время идет. Но сколько я его трачу зря! Какой я мечтатель, вопреки собственному желанию. Начинаю немного меньше отчаиваться. Когда мы снова увидимся с вами, у меня будет написано около трех глав; три главы, не более. Но я думал, что умру от отвращения уже при первой. С годами вера в себя утрачивается, пыл гаснет, силы иссякают. В сущности, меня приводит в отчаянье убеждение, что я делаю вещь бесполезную, я хочу сказать, вещь, противоречащую целям Искусства, которое представляет собою неопределенное возбуждение. Вот мне и кажется, что при нынешних требованиях науки и принимая во внимание буржуазный сюжет, вещь эта совершенно немыслима. Красота несовместима с современной жизнью. Поэтому-то я в последний раз за это берусь, хватит с меня.
Как ни стараются монахи, солнце не с ними; ибо ничто не вечно, даже солнце. А мы, несчастные песчинки, мельчайшие колебания бесконечного движения, незаметные атомы, соединим свои ничтожные существа в одном трепетании, и пусть оно длится, как вечность! Что за метафизика! Но она простительна, я нисколько ею не злоупотребляю; к тому же все говорит о любви!
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, вторник [конец 1866 — начало 1867]
Старина!
Не знаю, существуешь ли ты еще на свете, но ввиду того, что я хочу просить тебя об одной услуге, надеюсь получить от тебя весточку. Дело в следующем, оно касается моей книжки. {См. главу 4-ю второй части «Воспитания чувств».}
У моего героя Фредерика законное желание иметь в кармане побольше денег; он играет на Бирже, немного выигрывает, затем все проигрывает, пятьдесят или шестьдесят тысяч франков. Мой молодой буржуа совершенно не сведущ в такого рода делах и не знает, что значит трехпроцентная государственная рента. Дело происходит летом 1847 года.
Итак, какие ценности были в наибольшем спросе с мая месяца до конца августа?
В моей истории имеется три факта:
1. Фредерик отправляется, захватив с собою деньги, к биржевому маклеру, советуется с ним и поступает согласно его советам. Так ли это обычно происходит?
2. Он выигрывает. Но сколько и каким образом?
3. Он все проигрывает. Как и отчего?
Будь любезен, пришли мне все эти указания, которые должны занять в моей книге не более шести, семи строк. Но объясни мне ясно и правдоподобно.
Обрати внимание на то, что это происходит летом 1847 года, когда были процессы Пралена и Теста.
Воспользуйся случаем и сообщи кстати, что ты поделываешь и что мастеришь.
ГРАФУ РЕНЕ ДЕ МАРИКУР
Круассе, близ Руана, 4 января [1867]
Милостивый государь и дорогой собрат!
Если отбросить две трети с половиною экстралюбезных вещей, какие вы мне пишете, то и тогда останется достаточно, чтобы удовлетворить самого требовательного человека. Вы, кажется, весьма любезный человек, таково мое мнение о вас. Поэтому прошу запомнить следующее: в конце февраля, между 20-м и 25-м, я буду в Париже, на бульваре Тампль, 42, и останусь там до июня месяца. Я рассчитываю, что вы навестите меня, ибо один час беседы ценнее десятка писем. Вы застанете меня дома каждое воскресенье, завтрак в 11 часов. Принесите с собой ваши рукописи; главное, чтобы они были разборчиво написаны — и всецело положитесь на меня.
Я сделаю все, что в моих силах, дабы вам услужить. Что касается того, чтобы пристроить вам статьи, я ничего лучшего и не желаю; но от обещаний до исполнения таковых, как вы знаете, очень далеко. Словом, посмотрим.
Конечно, надо продолжать. Человек с вашим талантом должен его использовать.
Вы путешествовали, знаете свет, вы человек в полном смысле слова. Надо обхватить руками голову, как следует подумать и не уставать.
Тем не менее мне приходится лишить вас одной иллюзии — она относится к возможности заработать несколько су. Чем более добросовестности вкладываешь в свой труд, тем меньше извлекаешь выгод. Я готов утверждать эту аксиому под ножом гильотины. Наша работа — предмет роскоши; поэтому никто не в состоянии нас оплатить. Кто хочет заработать деньги пером, должен стать журналистом, фельетонистом или драматургом. «Бовари» принесла мне... 300 франков, которые я истратил на нее, и я никогда не заработаю на ней ни одного сантима. В настоящее время я зарабатываю на бумагу, но никак не на поездки, путешествия и книги, которые требует моя работа; но, в сущности, я нахожу (или притворяюсь), что это хорошо, ибо не понимаю, что может быть общего между монетой в пять франков и идеей. Надо любить Искусство ради самого Искусства, иначе лучше заняться любым ремеслом.
Обо всем этом и еще о многом другом мы побеседуем, надеюсь, менее чем через два месяца. А пока жму вашу руку и остаюсь весь ваш.
Пришлите мне ваш роман, напечатанный в «Современном обозрении» {«Шикиридуцца».} (более ранний, чем тот, который я знаю); однако заранее прошу разрешения не писать о нем длинного письма, так как в настоящий момент у меня много работы.
ЖОРЖ САНД
Круассе, в ночь на субботу [с 12 на 13 января 1867]
Нет, дорогой маэстро, ваш конец еще не так-то близок. Тем хуже для вас, быть может. Но вы доживете до глубокой старости, как все гиганты, ибо вы из их породы; вам только надо отдохнуть. Одно меня удивляет, почему вы уже не умерли двадцать раз после того, как столько передумали, столько написали и столько выстрадали. Поезжайте же, как вам хотелось, на берег Средиземного моря. Лазурь успокаивает и укрепляет. Есть такие живительные места, как, например, Неаполитанский залив. Возможно, что в иные минуты они навевают грусть? Не знаю.
Жизнь нелегкая штука! Она сложна и требует больших средств! Я-то в этом кое-что понимаю. На все нужны деньги! При скромных средствах и непроизводительном ремесле надо довольствоваться малым. Я так и делаю! Привык; однако не очень-то бывает весело, когда не клеится работа. Ах, я охотно последую за вами на другую планету. Ведь на нашей скоро невозможно будет жить из-за денег, ибо даже богачам придется беспокоиться о своем имуществе; каждый должен будет по нескольку часов в день возиться со своими капиталами. Замечательно! А я продолжаю возиться со своим романом и в Париж поеду, когда окончу главу, приблизительно в половине будущего месяца.
Вопреки вашим предположениям, меня «никакие прекрасные дамы» не навещают. Прекрасные дамы занимали в моих мыслях много места, но отнимали у меня очень мало времени. Называя меня отшельником, вы, пожалуй, делаете более правильное сравнение, нежели думаете.
Целыми неделями я ни одним словом не обмениваюсь ни с одним человеческим существом и в конце недели не могу припомнить ни одного дня, ни одного события. По воскресеньям я вижусь с матерью и племянницей — и это все. Мое единственное общество составляет стая крыс, которые производят над моей головой на чердаке адский шум, когда перестает журчать вода и не дует ветер. Ночи черны, как чернила, вокруг меня тишина, точно в пустыне. Такая обстановка сильно повышает чувствительность. Всякий пустяк вызывает у меня сердцебиение.
Все это результат наших милых занятий. Вот что значит терзать себе душу и тело. Но что поделаешь, если это терзание — единственное, что есть хорошего в сей земной юдоли?
Я, кажется, говорил вам, что перечел «Консуэло» и «Графиню Рудольштадтскую»; чтение заняло у меня четыре дня. Мы побеседуем с вами об этом, когда вы пожелаете. Почему я влюблен в Сиверена? Быть может, потому что во мне оба пола.
ЭДМОНУ И ЖЮЛЮ ДЕ ГОНКУР
[Круассе] Суббота, ночь [с 12 на 13 января 1867]
Если для вас может служить утешением то, что я скучаю, утешьтесь! Ибо не могу сказать, чтобы я чрезмерно веселился. Но я много работаю, вот почему и подыхаю... Работаю — это только так говорится. Я выбиваюсь из сил — вот, пожалуй, и все. Пустяки! Я думаю, что миновал наиболее бессодержательное место моего нескончаемого романа. Но другого такого больше не напишу. Старею. Поэтому пора заняться чем-нибудь порядочным и более занимательным.
По целым неделям я не вижу ни одного человеческого существа и не обмениваюсь ни словом с себе подобными. Становлюсь необщительным вроде Марата, который, в сущности, был человеком одного со мною склада. Хочу даже поместить у себя в кабинете его бюст, с единственной целью вызвать возмущение буржуа; но он слишком уродлив. Увы, он прекрасен в моральном отношении, но лишен пластичности. Мое состояние таково (ибо все это между прочим), что, приняв третьего дня приглашение пообедать у племянницы в Руане, я доставил себе удовольствие и изругал разных местных особ, присутствовавших на обеде, чем вызвал полное неудовольствие... Это не помешало г-же Санд предположить, что время от времени меня навещает некая прекрасная дама, ибо женщины не могут понять, как можно без них обойтись.
Очень мило с вашей стороны, что вы тотчас же ответили мне. Напишите же мне подробнее о Сент-Бёве.
Надеюсь увидеться с вами приблизительно через месяц, когда окончу главу. Тогда у меня, бездарного чудака, будет написана половина моего объемистого «Чудака».
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Среда, ночь [с 23 на 24 января 1867]
Последовал вашему совету, дорогой маэстро, занялся тренировкой!
Ну, разве я не хорош?
В воскресенье, часов в 11 вечера, лунный свет так заливал речку и снег, что на меня напал зуд передвижения, и я прогулял два с половиной часа, воображая, будто путешествую по России или Норвегии. Во время ледохода, когда на Сене затрещали льдины и захрустели замерзшие лужи на дворах, картина поистине была прекрасная. Тогда я вспомнил о вас и пожалел, что вас нет.
Я не люблю кушать в одиночестве. Мне обязательно нужно кого-нибудь приобщить ко всякой приятной вещи, какую я делаю. Но этот «кто-то» редко находится. Я тоже спрашиваю себя, отчего вас люблю. Оттого ли, что вы большой человек, или оттого, что вы очаровательное существо? Не знаю. Одно лишь верно — у меня к вам особенное чувство, и я не могу его определить.
А как вы думаете кстати (ведь вы большой психолог), можно ли одинаково любить двух людей? Можно ли дважды испытать одно и то же чувство? Я думаю, что нет, ибо наша индивидуальность меняется каждую минуту своего существования.
Вы пишете прекрасные вещи по поводу «бескорыстной любви». Это верно, но верно и обратное! Мы всегда рисуем себе бога по своему образу и подобию. В основе всяких наших привязанностей и обожаний мы находим себя или нечто похожее на нас. Что до того, если мы хорошие!
Мое «я» досмерти надоело мне в данную минуту. Как тяготит иногда этот чудак мои плечи! Он слишком медленно пишет и нисколько не представляется, жалуясь на работу. Какое наказание! И что за чертовская мысль была взяться за подобный сюжет! Вам бы следовало указать мне на способ писать быстрее; а вы еще жалуетесь на судьбу! Вы!
Получил от Сент-Бёва письмецо, успокоившее меня относительно его здоровья, но очень мрачное. Он, кажется, в отчаянии оттого, что не может посетить Киприйских рощ! Как бы то ни было, он на верном пути, по крайней мере верном с его точки зрения, что в конечном счете одно и то же. Быть может, в его годы я буду на него походить. Впрочем, нет, пожалуй. Иной была моя молодость, иной будет и старость.
Это напоминает мне, что когда-то я мечтал написать книгу о св. Пэрине. Шанфлёри плохо разработал этот сюжет. Я не вижу в нем ничего комического; у меня он был бы, наоборот, ужасен и жалок. Мне кажется, что сердце не стареет; есть люди, у которых оно с годами становится даже более объемлющим. Лично я двадцать лет тому назад был более сухим и жестким. Я стал женственнее и умиленнее, в то время как другие черствеют старея, и это меня возмущает. Я чувствую, что становлюсь мягкотелым, растрогать меня ничего не стоит; все меня смущает и волнует, я слабею, как тростник, колеблемый ветром.
Воспоминание об одном вашем изречении побудило меня перечитать «Красивую девушку из Перта». {Роман Вальтер Скотта.} Мило написано, что бы ни говорили. Положительно, малый не лишен был воображения.
Ну, прощайте. Думайте обо мне. Шлю вам наилучшие пожелания.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
В ночь на среду [1867]
В шесть часов утра мне принесли из Руана прелестный подарок, {Индийский ножик} принцесса.
Я нахожу его таким красивым, и он мне так нравится, что я оставил его на своем столе с папками и беспрестанно любуюсь им, точно большой ребенок. Значит, я буду мечтать о вас и во время еды, — лишний раз в день, но для меня более лестно, чем подарок, ваша память обо мне. Я уже забыл об обещании, данном мне в Сен-Грасьене в то доброе время, которое я проводил с вами. Я представляю себе приближение момента вашего отъезда в Компьень. Разумеется, я не двинусь с места до вашего приезда. Ввиду того, что моя поездка в Париж, в сущности, не имеет иной цели, как увидеть вас, мне не хочется вас упустить. Мой грипп и хрипота, надеюсь, пройдут до тех пор. Впрочем, это неважно.
Я недавно получил известие о Сент-Бёве через Тургенева, который нанес мне визит, длившийся 24 часа. Я встречал не много людей с более восхитительной манерой вести беседу (я говорю о Тургеневе, а не о Сент-Бёве, можно еще ошибиться). Его общество вам бесконечно понравилось бы, я в этом уверен.
Какие неблагоприятные дни для вашей студии, не правда ли? Какая сырость, какая скверная погода! Не кажется ли вам иногда, что небесная влага проникает в ваше сердце, превращаясь там в слезы? Вот почему необходимо создать себе другой мир, вне природы: создаваемое воображением успокаивает от действительности. Бывает, однако, прекрасная и в то же время благоприятная действительность.
Целую ваши руки, принцесса, и остаюсь преданный вам
Г. Флобер.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Париж, понедельник утром, 8 апреля 1867
Милочка моя!
Как ты себя чувствуешь? Давай потолкуем. Я слышал о вас вчера от твоей соседки г-жи Бренн. Итак, мне известно, что ты продолжаешь украшать балы г-на префекта — вещь, мне кажется, нетрудная, если все его приемы похожи на те, что я видел.
Сегодняшний прием у тебя будет, наверное, более интересным, так как ведь нынче состоится знаменитый квинтет, не правда ли? Хотелось бы мне присутствовать на нем, милая крошка!
Скоро я отправлюсь обедать к нашему Маньи и там узнаю, как в действительности прошло знаменитое заседание Сената, где Сент-Бёв выступил в защиту Ренана. Завтра отправляюсь в Крейль, а в субботу буду обедать у дядюшки Бодри. Вот мой план на неделю.
«Политический горизонт становится мрачным». Никто не может сказать почему, но он омрачается, он даже совсем темнеет. Буржуа всего боятся! Боятся войны, боятся рабочих стачек, боятся (возможной) смерти императора; паника — всеобщая. Чтобы найти подобную глупость, приходится возвращаться к 1848 году! Я сейчас много читаю об этой эпохе; впечатление глупости, которое я выношу из этого чтения, присоединяется к тому, что получается у меня о современном состоянии умов, — и вот плечи мои сгибаются под тяжестью целых гор кретинизма. Бывали периоды, когда Франция была охвачена пляской св. Витта. Сейчас она, мне кажется, страдает частичным параличом мозга. Все это, сударыня, «не особенно утешительно в деловом отношении». Меня ничуть не удивляет то, что ты рассказала мне о своей приятельнице. Вот несколько строк, вычитанных мною вчера вечером в одной талантливой книжке, они мне напомнили о ней:
«Истинный способ страдать — это сойти с предназначенного судьбою пути. Неминуемые и вытекающие сами собою из положения вещей наказания постигают каждого человека, который отступает от этого пути, и пропорционально степени такого отступления» (Жуфруа, «Курс естественного права»). Слишком глубокая мысль для альбома.
Я не пошел на Выставку, так как у меня были другие дела. Что бы ни говорили, там все же есть интересные экспонаты.
Твой старый дядя.
В воскресенье ожидаю Монсеньора: он останется у меня до будущей среды.
ЖОРЖ САНД
[Париж] Пятница утром [май 1867]
В будущий понедельник возвращаюсь к матери и с той минуты, дорогой маэстро, теряю всякую надежду с вами увидеться.
Но что мешает вам, когда вы будете в Париже, заехать в Круассе, где все, в том числе и я, вас обожают!
Сент-Бёв согласился, наконец, посоветоваться со специалистом и начать серьезно лечиться. И действительно он чувствует себя лучше. Морально он подбодрился.
Место дает Буйле четыре тысячи франков ежегодно и квартиру. Он может теперь не думать о заработке на жизнь, а это подлинная роскошь.
О войне больше не говорят, да и ни о чем больше не говорят. Только Выставка «занимает все умы», и кучера фиакров вызывают неистовую злобу у всех буржуа.
Они (буржуа) были весьма хороши во время стачки портных. Можно было подумать, что Общество рушится.
Аксиома: ненависть к буржуа — начало добродетели. Я подразумеваю под словом «буржуа» как буржуа в блузе, так и буржуа в сюртуке. Только мы, одни мы, то есть люди образованные, представляем собой Народ, вернее, традиции Человечества.
Да, я поддаюсь бескорыстному гневу и еще больше люблю вас за то, что вы это любите во мне. Глупость и несправедливость вызывают у меня краску на лице. И я горланю в своей норе по поводу тысячи вещей, «до которых мне нет дела».
Как грустно не жить вместе, дорогой маэстро! Я преклонялся перед вами до того, как познакомился с вами. С тех пор как увидел ваше красивое и доброе лицо, я вас полюбил. Так-то. Поэтому я вас и крепко целую. Ваш старый
Г. Ф.
Посылаю на улицу Фельянтинок пачку брошюр о фаянсе. Крепко жму руку Морису. Целую щечки мадмуазель Авроры.
МАДМУАЗЕЛЬ АМЕЛИ БОСКЕ
Круаосе, вторник, 6 часов [май 1867]
Рассчитывал увидеться с Нефцером в прошлый понедельник (неделю тому назад) и вернуться с ним вместе в Париж, так как был в тот день в Версале. Однако я его не встретил, он не приехал. Но я ему написал только что письмо. Довольны?
Что вы там мне рассказывали в первом письме? И с чего вы вздумали жаловаться на то, что вас не «превозносят», и вздыхать по рекламе? Берегитесь, как бы вы не заразились парижской болезнью — жаждой знаменитости. Думайте-ка лучше о своих книгах, о своем стиле и больше ни о чем. Если я так с вами говорю, то, во-первых, потому, что вы почтили меня своим доверием, а во-вторых, потому, что имею право проповедовать литературную добродетель, ибо отвечаю за свои парадоксы.
Сколько бы вы ни уверяли меня, будто работаете, я утверждаю, что это неправда. Я подразумеваю под словом «работать» борьбу с трудностями и считаю, что оставить вещь можно лишь тогда, когда с ней больше нечего делать. Истинным вы интересуетесь достаточно, зато Прекрасным — слишком мало; и меня возмущает (как то было в последний раз), когда вы говорите мне о талантах XXIII степени (вроде Андре Лео или еще неизвестно кого). Набросьтесь же на классиков, высасывайте их до мозга костей; не читайте посредственных в литературном отношении вещей, насыщайте память статуями и картинами, а главное, смотрите по ту сторону народа, ибо его горизонт ограничен и непостоянен. Ах, какая была бы книга «Роман работницы», если бы приложить к ней немного больше терпения и сосредоточенности! Разве вы не чувствуете, что наряду с прекрасными вещами там встречаются шаблонные? Если бы вы больше подумали о гармоничности книги, то между первым любовником — персонажем условным — и мастерицей — персонажем правдивым — не было бы такого несоответствия.
Я высказываю вам все эти истины именно в силу того, что придаю большое значение вашему уму. А засим очень нежно целую с обеих сторон вашу красивую шею.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, около 15 июня 1867]
В начале текущей недели я провел полтора дня в Париже, чтобы присутствовать на балу в Тюильри. Шутки в сторону, бал был роскошный. Впрочем, Париж превращается в нечто гигантское. Он становится безумным и переходит все границы. Быть может, мы возвращаемся к древнему Востоку. Мне кажется, будто идолы встают из земли. Нам грозит стать Вавилоном.
Отчего же нет? Демократия настолько отрицает Индивидуальное, что оно будет падать все ниже и ниже; так бывало обычно во времена деспотической теократии.
Русский царь мне ужасно не понравился; я нахожу, что он очень невоспитан. Наряду с синьором Флоке, который, нисколько не стесняясь, кричит: «Да здравствует Польша», у нас имеются шикарные люди, чьи имена внесены в списки Елисейского дворца. О, благие времена!
Мой роман идет piano. По мере того как я подвигаюсь вперед, возникают все новые трудности. Как тяжело тащить такую тачку с камнями! А вы еще жалуетесь на работу, которая длится всего полгода! Мне же осталось по меньшей мере на два года. Черт возьми, как вы добиваетесь связности мыслей? Меня это именно и задерживает. К тому же моя книга требует скучнейших изысканий. Так, в понедельник я был последовательно в Жокей-клубе, в Английском кафе и у одного поверенного.
Нравится вам предисловие Виктора Гюго к «Путеводителю по Парижу»? Не очень, не правда ли? Философия Гюго всегда кажется мне туманной.
Неделю тому назад я умилился при виде цыганского табора, расположившегося в Руане. В третий раз вижу цыган и всегда с новым удовольствием. Самое замечательное то, что они возбуждают ненависть в буржуа, хотя и безобидны, как бараны.
На меня очень косо смотрела толпа, когда я дал им немного денег, и я услыхал несколько прелестных выражений, достойных Прюдома. Эта ненависть таит в себе нечто весьма глубокое и сложное. Она у всех, кто стоит за порядок.
Она распространяется на бедуина, еретика, философа, отшельника, поэта; в ней чувствуется страх. Меня, обычного сторонника меньшинства, эта ненависть ужасно злит. Правда, меня многое злит. В тот день, когда мне нечем будет возмущаться, я съёжусь, как кукла, когда из нее вынимают палку, на которой она держится.
Так, сваей, поддерживавшей меня эту зиму, было возмущение против нашего великого национального историка, г-на Тьера, который обратился в полубога, против брошюры Трошю и вечного Шангарнье. Слава богу, безумное увлечение Выставкой сразу освободило нас от этих великих людей!
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
[Июнь 1867]
Я предполагаю, ваше высочество, что вы в настоящее время освободились от своих высоких обязанностей. Вот почему я пишу вам, не боясь вас обеспокоить.
Хочется узнать, как вы поживаете, вернулись ли в Сен-Грасьен, занимаетесь ли снова живописью? Вы, должно быть, очень спокойно отдыхаете, не правда ли?
Что вы скажете о папаше Сент-Бёве? Я нахожу, что он великолепен. {Речь Сент-Бёва в Сенате по поводу свободы прессы.} Он доблестно защищал когорту и в самых лучших выражениях. Его противники кажутся мне безнадежно мелкими!
Откуда взялась такая ненависть к литературе? Что это, зависть или глупость? Очевидно, и то и другое, с примесью дозы лицемерия.
Как редко смертные отличаются терпимостью; но вы, принцесса, вы снисходительны. Ваш возвышенный ум смотрит на глупость сверху вниз; меня она давит, ибо я, как вызнаете, человек слабый и чувствительный.
Я даже настолько слаб физически, что бегу из своего жилища, чтобы не чувствовать запаха краски; сейчас как раз красят мою хижину снаружи, и я дня на два, на три удрал в Руан.
Только что меня неожиданно посетил здесь трувер Глатиньи; несчастный малый, кажется мне, очень благодарен вам за то, что вы ему послали.
На прошлой неделе под моим кровом побывали еще одни люди, обязанные вашему высочеству: барон и баронесса Жюль Клоке — у последней особенно захватывало дух от благодарности.
Гонкуры, должно быть, в Виши. У Эдмона, по-моему, очень болезненный вид. Ведь мы все больны! Результат нашего прекрасного ремесла.
Бешеные усилия, непрерывная тоска, замкнутая домашняя жизнь, отрешение от любви — вот в чем наша ошибка.
Но я, верно, наскучил вам, принцесса? Итак, позвольте мне, не придумывая заключительной формулы, уверить вас, что я весь ваш.
Г. Флобер.
Бал в Тюильри живет в моих воспоминаниях, как нечто феерическое, как сон. Недоставало лишь возможности видеть вас вблизи и говорить с вами. Совсем как госпожа Бовари под впечатлением первого бала!
АРМАНУ БАРБЕСУ
Круассе, 8 октября 1867
Не знаю, как вас благодарить за ваше столь любезное, сердечное и благородное письмо, милостивый государь. Я привык вас уважать, теперь я вас полюбил.
Присланные вами сведения будут помещены (при случае) в книге, которую я пишу и действие которой происходит от 1840 по 1852 год. Хотя сюжет у меня чисто аналитический, я все же иногда касаюсь современных событий. На фоне реального развертывается вымышленное действие.
Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете множество полезных для меня вещей, о которых мне следовало бы услышать. Но вы там, а я здесь, поэтому у меня нет возможности с вами встретиться. Если бы не г-жа Санд, я не знал бы даже, как передать вам свою благодарность. Меня очень тронуло все, что вы о ней говорите. Это наша общая религия.
А посему я позволю себе крепко пожать вам руки, оставаясь преданным вам.
ЖОРЖ САНД
Круассе [1 ноября 1867]
Дорогой маэстро!
Я был настолько же пристыжен, как и растроган, получив вечером ваше «столь приятное» послание. Я — негодяй, потому что не ответил вам на первое. Как это случилось? Ведь обычно меня нельзя упрекнуть в отсутствии пунктуальности.
Работа идет неплохо. Надеюсь окончить вторую часть в феврале месяце. Но чтобы книга была готова ранее чем через два года, ваш старик должен отныне не двигаться с своего кресла. Поэтому-то я и не приезжаю в Ножан. Неделя отдыха погружает меня в мечты на три месяца. Я только и стал бы думать о вас, о вашей семье, о Берри, обо всем, что видел. Мой бедный ум поплыл бы по этим неведомым морям. У меня так мало сил!
Не скрою, что мне доставила удовольствие ваша маленькая заметка о «Саламбо». В этой книжке следовало бы изменить местами порядок слов; в ней слишком много всяких тогда, но, и. Чувствуется работа.
Боюсь, что в той, которую я пишу сейчас, ошибочна сама концепция; это уже непоправимо; заинтересуют ли слабые характеры? Большие эффекты достаются лишь большой простотой, яркими страстями. Но я не вижу простоты в современном мире.
Печальный мир! Разве не плачевны и не жалки до смешного итальянские дела? Все эти приказы, отмены приказов, отмены отмененных приказов! Положительно, земля весьма низменная планета.
Вы не сказали мне, довольны ли возобновленными постановками в «Одеоне»? Когда едете на юг? И куда?
Через неделю, то есть между 7 и 10 ноября, я буду в Париже, так как мне нужно пошататься по Отейлю, чтобы поискать там разные уголки. Было бы очень мило возвратиться вместе в Круассе. Вы знаете, ведь я очень сердит на вас за последние две поездки в Нормандию.
До скорого свидания, не правда ли? Без шуток! Целую вас, как люблю, дорогой маэстро, иначе говоря, очень нежно.
Посылаю вашему дорогому сыну стишки, ведь он любитель такого рода лакомств.
Гортензией на вечер зван однажды,
Со стрелки не сводя очей,
И с сердцем, бьющимся все глуше и больней,
Младой Альфред изнемогал от жажды.
(Записки Академии Сен-Кентена.)
МИШЛЕ
Круассе, вторник [12 ноября 1867]
Дорогой маэстро!
Не знаю, какими словами выразить вам свое восхищение.
Последний камень, увенчавший ваш гигантский памятник, кажется мне глыбой золота. Я ослеплен.
Впервые передо мной ясно встает конец восемнадцатого века. До вас я ничего не понимал ни в Шуазёле, ни в Марии-Антуанетте, ни в деле с ожерельем и т. д. Благодарю вас, что вы поставили на свое место Калонна, ибо восторженные отзывы о нем Луи Блана казались мне незаслуженными. Вы справедливы, вот за что вас и любят.
Суждение ваше о Руссо, могу сказать, меня очаровало, так как оно уточняет мое собственное мнение о нем. Хоть я и состою в пастве внуков этого человека, тем не менее он мне не нравится. Мне кажется, что влияние его было пагубным. Он отец завистливой и тиранической демократии. Своей угрюмой меланхолией он затуманил в умах французов идею права.
Я не буду выделять всего, что восхитило меня в вашей книге. Взгляды, слова, меткие замечания, идеи — настоящее сплетение чудес.
Мне остается лишь часто перечитывать этот том, который я проглотил залпом. А затем я поставлю его рядом с его старшими братьями, в то отделение моей библиотеки, где находятся Тацит, Плутарх и Шекспир, которых всегда читаешь, которыми питаешься. Это отнюдь не громкие слова: вы, несомненно, принадлежите к числу французских авторов, которых я больше всего читал и перечитывал.
Мне не терпится поскорей вас увидеть и еще раз поблагодарить, дорогой маэстро. Я знаю, что вы были любезны зайти ко мне в сентябре месяце. В Париже я буду не раньше конца января.
Будьте добры передать привет г-же Мишле.
Позвольте мне пожать вам обе руки.
Ваш преданный почитатель.
МАДМУАЗЕЛЬ АМЕЛИ БОСКЕ
[Круассе] Суббота вечером [ноябрь 1867]
Если бы я писал вам каждый раз, как я о вас думаю, то это было бы ежедневно; но я так мало могу вам сообщить, моя жизнь так бессодержательна, и я настолько устал держать в руке перо, что если б не желание получить от вас весточку, я не подал бы вам вести о себе.
Как вы поживаете? Что читаете и что делаете?
Я должен вас поблагодарить за «Роман работницы»; хоть я его и не перечитал целиком, но просмотрел. Он выше «Мадмуазель де Вардон» — в этом будьте уверены, и в нем много превосходных мест.
Но к чему предисловие?
Уж не собираетесь ли вы теперь писать полезные книги?
Чем в области искусства господа рабочие интереснее других людей? Я вижу, что у всех нынешних романистов имеется тенденция представлять касту, как нечто само по себе существенное, пример — «Манетт Саломон».
Это, может быть, очень умно или очень демократично; но такие предпосылки исключают вечное начало, то есть человечество, как таковое.
Знаю все, что вы мне ответите: это каверза, придуманная мной для того, чтобы принудить вашу музу отойти от бедного класса.
Надо изображать Страсти, а не ратовать за Партии.
Ворчливый тон моего последнего письма доказывает, какое значение я придаю вашему уму по существу. Не менее люблю я и все остальное, касающееся вашей особы, вы это знаете. Вот почему я с удовольствием обнаружил, что Дарсель усвоил в отношении вас более почтительный способ критики; я доволен или почти удовлетворен его статьей.
Надеюсь увидеть вас в конце января, когда окончу последнюю главу второй части.
Думайте иногда обо мне. Целую с обеих сторон вашу хорошенькую шейку.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
Круассе, воскресенье [15 декабря 1867]
Как хотелось бы мне быть с тобой, мой милый, дорогой старик: во-первых, я был бы с тобой; во-вторых, был бы в Египте; в-третьих, не работал бы; в-четвертых, видел бы солнце, и т. д.
Не можешь себе представить, какая сегодня ужасная погода. Небо серо, как плохо вымытый ночной горшок, и еще более глупо, чем безобразно.
Живу сейчас совершенно один, так как моя мать в Руане. Монсеньор навещает меня обычно по воскресеньям. Сегодня, однако, он угощает обедом одного своего приятеля — мебельного торговца. Он вновь начинает обретать спокойствие. Мне кажется, что он нашел сюжет, но перемена местожительства совершенно развинтила его. Получил третьего дня письмо от Максима, он, по-видимому, прекрасно себя чувствует, только озлоблен против Тьера, который является в настоящее время королем Франции. Вот до чего мы дошли, мой милый, мы обратились в настоящих клерикалов. Таковы плоды демократической глупости! Если бы мы продолжали идти по широкому пути, намеченному Вольтером, а не последовали бы за Жан Жаком, неокатолицизмом, готикой и братством, то не дошли бы до этого. Франция, наподобие Бельгии, просто разделится на два лагеря. Тем лучше! Как преступен Исидор! Однако, поскольку из всего надо извлекать приятное, я радуюсь торжеству г-на Тьера. Это упрочивает мое отвращение к родине и ненависть к известному Прюдому. Разве можно говорить о религии и философии с более идиотским безразличием! Я предполагаю исправить дело в своем романе, когда буду касаться реакции, последовавшей за июньскими днями. Во второй главе третьей части у меня будет обед, на котором станут превозносить его книгу о собственности. Я работаю, как тридцать тысяч негров, старый дружище, потому что хотел бы окончить вторую часть к концу января. Чтобы подготовить все к весне 69 года и печатать через два года, мне нельзя терять ни одной недели; видишь, какая ждет меня перспектива. Бывают дни, вроде сегодняшнего, когда я чувствую себя совершенно разбитым. Мне трудно стоять на ногах, и я страдаю от одышки.
В прошлый четверг мне минуло 46 лет; это навело меня на философские размышления. Оглядываясь назад, я вижу, что не растратил жизнь попусту, а между тем, что мною сделано, господи! Пора уже разрешиться чем-нибудь приличным.
Не забудь изучить для меня восточно-западного плута, поройся в своей памяти, найди несколько подходящих для меня анекдотов, сделай заметки. И не увлекайся до одури европейскими биллиардами! Посмотри еще раз на танцовщиц и посети пирамиды. Кто знает, придется ли тебе еще раз побывать в Египте! Воспользуйся случаем, верь умудренному опытом и любящему тебя старику. Если не забудешь, привези мне: флакон санталового масла и нитяный пояс для панталон. Помни, что у твоего друга толстое пузо. По части новостей: «Графиня Шали» артиста Фейдо пользуется успехом, что не мешает ему обмениваться в «Фигаро» резкостями с иудеем Леви. «Манетт Саломон» наших милашек, мне кажется, облачена в такой длинный балахон, что он может сойти за саван; тем не менее читать можно.
По части чтения, я за последнее время занялся изучением крупа. Нет стиля длиннее и бессодержательнее, чем у врачей! Что за болтуны! А они еще презирают адвокатов!
Напомни мне, чтобы я тебе привез замечательную пьесу, сочиненную Бера; он восхваляет Руан в таких выражениях, каких ты не сыщешь и под землей, ручаюсь.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Среда ночью [с 18 на 19 декабря 1867]
Дорогой маэстро, дорогой друг господа бога, «поговорим-ка о Дозенвале», порычим на г-на Тьера! Существует ли более торжествующий болван, более гнусный старый сухарь, более узколобый буржуа! Нет, трудно себе представить, какую рвоту вызывает у меня этот старый дипломатический арбуз, округляющий свою глупость на буржуазном навозе! Можно ли с более нелепой и наивной бесцеремонностью говорить о философии, религии, народах, свободе, о прошлом и будущем, истории и естествознании, обо всем этом и об остальном! Он кажется мне извечным как ничтожество! Он подавляет меня.
Но лучше всего — храбрая национальная гвардия; он ее надул в 1848 году, а она снова собирается ему рукоплескать! Что за бесконечное безумие! Это доказывает, что все дело в темпераменте. Проститутки, так же как и Франция, всегда питают склонность к старым шутам.
Впрочем, я постараюсь в третьей части своего романа (когда дойду до реакции, последовавшей за июньскими днями) ловко вставить панегирик по поводу книги вышеупомянутого «О собственности» и надеюсь, что он останется мною доволен.
Каким образом следует выражать порою свое мнение по поводу происходящих в этом мире вещей, не рискуя прослыть впоследствии болваном? Трудная задача. Мне кажется, лучше всего попросту описывать то, что вас раздражает. Вскрытие — та же месть.
Ну вот! Не на него я сержусь и не на других, а на своих. Если бы больше занимались образованием высших классов, отложив на более поздний срок сельскохозяйственные съезды, словом, если бы голове стали придавать большее значение, чем брюху, мы, вероятно, не дошли бы до этого.
Прочел на этой неделе предисловие Бюше к его «Истории парламентаризма». Вот откуда, между прочим, взялось множество глупостей, тяготеющих над нами и ныне.
И потом, нехорошо говорить, что я не думаю «о моем старом Трубадуре». О чем же думать? Уж не о моей ли книжице? Но это гораздо труднее и менее приятно.
До каких пор останетесь вы в Каннах? Разве не вернетесь в Париж после Канн? Я буду там в конце января.
Чтобы окончить книгу весной 1869, я не должен позволять себе и недели отдыха! Вот почему я не еду в Ножан. Все та же история с амазонками. Чтобы лучше стрелять из лука, они уничтожали свои груди. Разве уж это такое хорошее средство в конечном счете?
Прощайте, дорогой маэстро, пишите мне, хорошо? Целую вас нежно.
МАДМУАЗЕЛЬ АМЕЛИ БОСКЕ
[Круассе] Четверг [конец декабря 1867]
Вам также, дорогой друг, желаю, чтобы новый год был «хорошим и счастливым и чтобы за ним последовало еще несколько подобных ему». Мне даже нечего больше вам сказать, так как моя жизнь не представляет ни малейшего интереса. Работаю, как несчастный из несчастных, и измучен до мозга костей — вот и все.
Известно ли вам, что у вас имеется в настоящее время поклонник, преклоняющийся перед вами до фанатизма. Угадайте кто? Сензье! Да, Он самый, собственной своей персоной. Он только и говорит, что о «Романе работницы».
Я не согласен с автором, что самые важные вопросы — свободная любовь, развод, измены и т. д.; по моему мнению, мы потому стоим так низко в моральном и политическом отношениях, что вместо того, чтобы следовать по большой дороге, указанной Вольтером, то есть по пути Справедливости и Права, свернули на тропинки Руссо, которые привели нас через посредство чувства к католицизму. Если бы думали с Справедливости, а не о Братстве, мы поднялись бы высоко! Однако бросаю эту материю, которую я начинаю познавать, так как основательно изучил ее для своей книги. Ограничусь замечанием, что, по-моему, слишком много значения придают тому, что господа врачи называют на своем элегантном наречии «мочеполовыми органами».
Что касается «духа касты», то я отнюдь не писал вам, что не следует его выражать; я только порицаю тех, кто его защищает.
Если бы вы меньше защищали рабочих (в вашем «Романе работницы»), вы могли бы пойти гораздо дальше. Я нашел, что вы слишком мягки в отношении буржуа.
Г-жа Санд, должно быть, в Каннах у Жюльетты Ламбер.
Я не знаю ни одной газеты, где я пользовался бы каким-нибудь авторитетом. В прошлом году предложил «Монитёру» один чрезвычайно приличный роман; мне вернули рукопись после того, как заставили раз пять или шесть прийти в редакцию.
Я называю серьезным чтением не те книги, которые трактуют о важных материях, а те, которые хорошо написаны, причем надо отдавать себе отчет в приемах письма. Кто мы: романисты или земледельцы?
Надеюсь через полтора месяца лицезреть ваши прелестные глаза и расцеловать вашу красивую шею.
Весь ваш.
ТЭНУ
[1868]
...Меня увлекают, преследуют мои воображаемые персонажи, вернее, я сам перевоплощаюсь в них. Когда я описывал отравление Эммы Бовари, у меня во рту был настоящий вкус мышьяка, я сам был так отравлен, что у меня два раза подряд сделалось расстройство желудка, самое реальное, потому что вырвало весь обед...
Не сравнивайте внутреннее видение художника с настоящей галлюцинацией. Мне отлично знакомы оба эти состояния, между ними — целая бездна. К галлюцинациям в собственном смысле слова всегда примешивается ужас; теряешь ощущение своей личности, кажется, будто сейчас умрешь. Поэтическое видение, наоборот, рождает радость, точно в тебе что-то растет. Правда, и тут утрачивается сознание действительности. Иногда видение нарастает медленно, по кусочкам, как различные части расставляемой декорации; но также часто оно бывает внезапным, мимолетным и подобно галлюцинациям в гипнотическом сне.
Что-то проходит перед глазами, и на это надо жадно наброситься.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
[Круассе] 24 января 1868
Нет, я вас не забываю, дорогая мадмуазель, и огорчен, что вы больны. Если бы симпатия могла в таких случаях помочь, вы бы выздоровели. Какого рода боль в глазах вы испытываете? Очевидно, перемежающуюся, коль скоро вы сами приписали несколько строчек внизу письма.
Вы сообщаете мне о смерти одного своего старого друга. Мне тоже приходится говорить о трауре. На прошлой неделе я потерял внучатую племянницу, трехлетнюю девочку, которую очень любил. Она погибла в пять дней от пневмонии, явившейся следствием кори. Мать тоже болела. Я был свидетелем глубокого отчаянья, в котором имелась и моя доля, и еще раз поднялся на холм кладбища, где схоронил столько близких.
Поскольку мы оба любим г-жу Санд, и вы просите меня сообщить, как она поживает, я могу это сделать, хотя давно не виделся с нею.
Но через неделю я ее увижу в Париже, где пробуду около четырех месяцев. Она прекрасно себя чувствует, собиралась провести зиму на юге, но сильные холода, затрудняющие путешествие, помешали ей.
Мой роман дописан до конца второй части. Но чтобы закончить его вполне, мне нужно не меньше десяти месяцев. Подхожу к революции 1848 года и, изучая эту эпоху, открываю в прошлом много такого, что объясняет разные явления наших дней. Мне кажется, что католицизм оказал на нее огромное, очень неблагоприятное влияние. Но я не согласен с вами, что мы накануне религиозной войны: слишком мало веры как с той, так и с другой стороны. Мы живем в эпоху шуток — и больше ничего. Тем хуже для людей нашего склада, которых она не забавляет!
Разве вы не можете найти кого-нибудь, кто читал бы вам вслух, чтобы продолжать начатую вами историю Анжу? Мне очень досадно, что вы оставили эту работу, такую полезную и здоровую для вас.
Ваши огорчения кажутся мне такими глубокими, так плотно вкоренившимися, что я не знаю, какой дать вам совет, дорогая мадмуазель. Лечите глаза и старайтесь не думать о том, что вас удручает.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Париж] Понедельник, час [март 1868]
Дорогая моя Кароло!
Я уже думал, что ты по-настоящему забыла своего старикана, когда твое милое письмецо усмирило мой гнев. Веселись, пока молода, моя миленькая, но не забывай посылать иногда весточку твоему недотепе дяде.
«Бальный сезон», должно быть, окончился, и у тебя теперь больше времени.
Я был очень занят посещением больницы св. Евгении для наблюдения над детьми, страдающими крупом (это ужасно, и я уходил оттуда потрясенный, но Искусство — прежде всего!). Вчера я был там всего два раза за пять часов; к счастью, это кончилось, и я могу теперь сделать нужное мне описание. Немало приходится мне бегать, чтобы раздобыть сведения о 48 годе, и немало трудов стоит втянуть моих персонажей в политические события; второстепенное заслоняет главное.
Вчера я так изнемог, что покинул принцессу; думая, что я заболел, она прислала ко мне только что с лакеем записку (приглашение на обед в среду). Вышеупомянутый посланец увешан военными медалями и очень высок ростом; это внушило моему портье большое почтение ко мне.
Вечером я иду на концерт к ее двоюродному брату — императору.
Сейчас мне подали извещение о смерти матери г-жи Валазе. Ничего не остается, как идти на похороны.
Ты читала «Терезу Ракен»? Я нахожу, что это замечательная книжка, что бы ни говорили. А о «Графине Шали» замолчали совершенно. Напиши мне подробней про бабушкиных горничных. Неужели она всерьез выгнала Жюли? За что? Мне эта мера кажется весьма суровой.
Когда вы приедете в Париж? Я соскучился по твоей свеженькой рожице. «Политический горизонт» продолжает темнеть, и все ругают правительство, что не мешает мне верить в его прочность по следующей причине: не существует ни объединяющего лозунга, ни общей идеи, ни знамени, вокруг которых можно было бы сгруппироваться. Сомневаюсь, чтобы можно было собрать двадцать человек, объединенных одним мнением, призывающим к действию. К тому же вопрос перестал быть политическим, и смена правительства не может его разрешить.
Единственно, что важно, сударыня, это — религия. Поэтому возможно, что Франция может поступить, как Бельгия, то есть разделиться на две резко разграниченные партии — с одной стороны, католики, с другой — философы. Но существуют ли истинные католики? И где они, философы?
Что касается войны, то с кем же? С Пруссией? Пруссия не так глупа!
Засим, милая моя барынька, я чмокаю вас в обе щечки и остаюсь
твоим старым чудаком-дядюшкой.
Возврати своему супругу поцелуй, который он мне посылает, другие передай бабушке.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Париж] Суббота, полночь 14 марта 1868
Дорогой мой дружище!
Рад был получить от тебя вчера письмо, но в то же время досадно стало, что увижу тебя не ранее, чем через шесть недель!
Видел Бламона дней десять тому назад и с минуты на минуту ждал тебя. Итак, надо покориться судьбе. Возвращайся к нам в хорошем состоянии, вот все, что от тебя требуется, и «обогащайтесь», как говорил лорд Гизо.
Все у Роше превосходно себя чувствуют. Макс днюет и ночует в мясных, на базарах и бойнях, все для своего большого труда о Париже; он затащил меня как-то ночью на Центральный рынок, но я замерз и сбежал от него в три часа утра.
Монсеньор пишет два сценария; судя по письмам, он немного воспрянул духом. Тем лучше! Ибо, уверяю тебя, он стал мало общительным; барин поговаривал о том, что выйдет в отставку, уйдет из библиотеки... Ох, уж эти поэты! Кстати, о поэтах — мой благородный друг Тео так здорово в настоящий момент чудит, что общество от него сторонится. Я считаю, что он тяжко болен, и очень обеспокоен этим. А папаше Сент-Бёву лучше.
В отношении политических новостей ты, вероятно, осведомлен о случае с Кервегуен и Кассаньяком во всех его фазах; смехотворно до чрезвычайности и бесконечно глупо. Впрочем, я нахожу, что Париж в эту зиму изменился; государь становится жертвой — жертвой большинства в его Палате, напоминающего своей бессмысленностью прекрасные дни улиц Пуатье. Если бы он распустил Палату, то, быть может, обрел бы все, что утратил. Вопрос, мне кажется, не в нем. Чувствуется, что перемена режима не внесет ничего нового; и именно потому, что все ругают Империю, я считаю Империю прочной. Вряд ли найдется двадцать человек, которые объединились бы под одним флагом, ни одна партия не имеет лозунга; вот почему, быть может, страна надолго обречена на полную неподвижность!
Ты слышал об огромном успехе молодого Ожье. {«Поль Форестье».} Особенно восторгались его стихами! С ума можно сойти! Синьор Роллан (поэт, который одевается бретонцем и считает, что Корнель — «неважный писатель») с треском провалился в «Водевиле»; его произведение кишит красивыми фразами, которыми ты можешь украсить альбом виконтессы. Вот и все пакости, какие я могу тебе сообщить.
Что касается твоего старого гиганта, то он начал сегодня первую главу третьей части; но мне очень трудно втиснуть своих действующих лиц в политические события 48 года. Боюсь, как бы второстепенные эпизоды не поглотили главного, обычный недостаток исторического жанра. Исторические личности интереснее вымышленных, особенно если последние наделены умеренными страстями; Фредерик вызывает меньше интереса, нежели Ламартин. К тому же, какие из реальных фактов выбрать? Я растерялся; трудно!
Собирание необходимых сведений требует огромного количества времени. Я хожу, пишу письма, гоняю своего мамелюка по домам и т. д., целую неделю таскался в больницу св. Евгении и изучал малышей, больных крупом. Словом, устал, и мне достаточно противно, а между тем осталось написать еще 250 страниц! Не говоря уже о буржуа, которые пристают с фразами вроде: «Ну как, новенькую страничку написали? Вы, лентяй», и т. д. Окончательно бросил обеды Маньи, куда ходят гнуснейшие рожи, зато по средам обедаю у принцессы в обществе милашек и Тео.
Я ждал тебя, чтобы отправиться в Версаль. Поеду один, только не знаю когда, ибо очень расстроен и занят.
Чтобы подурачиться, пошел на масляной к Арсену Уссей на бал. Яснее всего выразилась зависть добрых товарищей к нашему прелестному фантасту; кислые лица изображали величайшее удивление.
Советую тебе не пропустить ярмарки в Танте, если возможно, а также посетить пирамиды, в том числе и те, что находятся в Сахаре.
То что ты говоришь о восточных танцовщицах, меня удивляет: неужели во всем упадок?
Философ Бодри опубликовал первый том своей «Лингвистики», это должно открыть ему двери Института. В будущий вторник я приглашен на обед к этому милому человеку; там будут Литре, Ренан и Мори. Какое сборище! Принцесса Юлия без ума от Ренана, только и говорит, что о его произведениях и даже надоедает всем, если осмелюсь так выразиться. Он опубликовал новую книжку разных статей {«Современные вопросы», 1868.} с нашумевшим предисловием, но я ее еще не читал.
Раз уж ты так поглощен современным Востоком, то подумай обо мне и о моем будущем романе «Гарель-бей».
Очень хочется снова увидеться с тобой: удивительно, как мне недостает тебя.
Дружеский привет Чернуски. Крепко обнимаю тебя и чмокаю в обе щеки; позаботься о своем желудке и помни о старике.
Месиа чувствует себя превосходно; я видел его в прошлое воскресенье.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Париж, конец марта 1868]
Моя милочка!
Мне нечего тебе сказать, кроме того, что я сильно по тебе соскучился и очень хочу тебя видеть.
NB. Доставь мне удовольствие — спроси у своего супруга, сколько я могу ожидать от него на 1 апреля. Ибо с 1 января мои огромные капиталы, переданные ему в руки, увеличились благодаря новому вкладу в размере... тысячи или двух тысяч франков. Не помню. Да-с, прекрасная моя племянница, я чрезвычайно восхищен «Возмездием» {Сборник стихов В. Гюго, 1853.} и нахожу стихи грандиозными! Хотя сущность книги бессмысленна, ибо облаять следовало Францию, народ.
Я незнаком с произведением Бюхнера, о котором ты говоришь, но с удовольствием вижу, что моя бывшая ученица занимается серьезным чтением. Что касается моего мнения об этих вещах, то вот оно в двух словах: я не знаю, что обозначают существительные Материя и Дух; и то и другое неизвестны. Быть может, это лишь абстракции нашего разума. Словом, по-моему, Материализм и Спиритуализм — две равнозначащие дерзости.
Попроси Монсеньора одолжить тебе Платонов «Пир» и «Федона» (в переводе Кузена). А так как ты любишь идеальное, моя милочка, то будешь пить его в этих книгах из самого источника. Как искусство — это изумительно.
Вчера обедал у Батайля {Член Государственного совета, друг Наполеона III.} с герцогом и герцогиней де Персиньи, со свирепым Жолибуа и с женой бывшего манатского супрефекта, г-жой де Марсильи. Милейший Батайль снова говорил о хорошем обеде, которым твоя бабушка угощала его в в прошлом году; у него признательный желудок. (Впрочем, он хороший семьянин; меня умилило, как он чмокал свою внучку.) Он также распространялся о красоте г-жи Фортен. После этого я был у принцессы и видел нескольких господ. Что за писаки, черт возьми!
Ты читала «Терезу Ракен»?
В четверг я, вероятно, буду обедать с моим милым Тургеневым; он только что опубликовал свой новый роман «Дым», который я рекомендую тебе прочесть.
На этой неделе я занимался изучением старинных «Сборников шуток», благодаря чему увеличился мой репертуар каламбуров: я смогу блеснуть на свадьбе Эмилии.
Прощай, моя дорогая Каро, нежно тебя целую.
ЖОРЖ САНД
Круассе, среда вечером, 9 сентября [1868]
Разве так поступают, дорогой маэстро? Вот уже скоро два месяца, как вы не пишете вашему старому трубадуру! Где вы? В Париже, в Ножане или в другом месте?
Говорят, «Кадио» сейчас репетируется в театре «Порт-Сен-Мартен». (Вы, значит, в ссоре с Шильи?) Говорят, будто Тюилье вновь появится на сцене в вашей пьесе. (Но я думал, что она — Тюилье, а не ваша пьеса — при смерти.) А когда же поставят «Кадио»? Вы довольны? И т. д.
Я живу совершенно, как устрица. Мой роман — скала, к которой я прилепился, и я не знаю, что творится на белом свете.
Я даже не читаю, — вернее, не читал «Фонаря»! Между нами говоря, Рошфор здорово мне надоел. Надо иметь смелость, чтобы робко сказать, что, быть может, он не лучший писатель нашего века. О, Вельш, Вельш! Так вздыхал (или рычал) Вольтер. Ну разве не простофили они со своим Рошфором? Жалкие люди!
А как Сент-Бёв? Видаетесь вы с ним? Я бешено работаю. Только что кончил описание леса Фонтенбло, от которого захотелось повеситься на одном из его деревьев. Ввиду того, что я прервал работу на три недели, мне стоило неимоверных усилий снова войти в колею. У меня повадка верблюдов, которых нельзя остановить, когда они идут, и нельзя заставить идти, когда они отдыхают. Осталось еще на год работы, после чего я окончательно брошу буржуа. Это слишком трудно и в конечном счете уродливо. Пора написать что-нибудь красивое, такое, что бы мне нравилось.
В данный момент мне больше всего хотелось бы вас расцеловать. Когда это осуществится? А пока — тысяча нежных приветов.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, конец сентября 1868]
Вас это удивляет, дорогой маэстро? Ну, а меня — нет. Я ведь говорил вам, но вы не поверили. Мне жаль вас.
Ибо грустно видеть, когда меняются люди, {Г-жа Арну Плесси, актриса «Французской комедии», бывшая в дружбе с Жорж Санд, стала ревностной католичкой.} которых любишь. Эта замена души в оставшемся без изменения теле — глубоко печальное зрелище. Как будто тебя подменили. Я не раз испытывал то же самое.
Но какого же мнения о женщинах вы, существо третьего пола? Разве они не «великая скорбь для справедливого», как сказал Прудон? С каких пор могут они обойтись без химер? После любви — благочестие; это в порядке вещей. У Дорины нет больше мужчин — она берет себе господа бога. Вот и все, все.
Редко люди не нуждаются в сверхъестественном. Философия всегда будет уделом аристократов. Сколько бы вы ни утучняли человеческое стадо, сколько бы ни клали подстилки под брюхо, можете даже позолотить его стойло, — все равно оно останется скотом, что бы ни говорили. Единственный прогресс, на какой можно надеяться, — это, что скотина станет немного добрее. Но что до того, чтобы привить массе более возвышенные идеи, более широкое и не столь человеческое понятие о боге — в этом я сомневаюсь, сомневаюсь.
Сейчас я читаю порядочную книгу (написанную одним моим знакомым чиновником) о революции в департаменте Эры. Она полна цитат, принадлежащих буржуа той эпохи, простым обывателям маленького городка. Ну так вот, уверяю вас, что сейчас мало найдется равных им по силе! Они были образованны и смелы, преисполнены здравого смысла, идей и великодушия!
Неокатолицизм, с одной стороны, и социализм — с другой, сделали Францию глупой. Все гибнет между непорочным зачатием и общим котлом для рабочих.
Я говорил вам, что не льщу в своей книжице демократам. Однако ручаюсь, что я не щадил в ней и консерваторов. Сейчас я пишу несколько страниц про гнусности, учиненные национальной гвардией в июне 1848 года — уж этим-то я заслужу благорасположение буржуа! Я, елико возможно, тычу их носом в собственную их мерзость.
Со всем тем, вы не сообщаете мне никаких подробностей относительно «Кадио». Каковы актеры? и т. д.
Я не питаю доверия к вашему роману о театре. Вы слишком любите этих людей! Много ли вы знавали среди них таких, которые любят свое искусство? Какое множество артистов не более как сбившиеся с пути буржуа!
Итак, мы увидимся через три недели, самое позднее. Я этому очень рад и целую вас.
А цензура? Надеюсь, ради вас, что она наделает глупостей. Читали вы в одной газете следующее:
«Виктор Гюго и Рошфор — величайшие писатели нашего времени!» Если Баденге не чувствует себя теперь отмщенным, значит, он очень не чувствителен к пыткам.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Круассе, сентябрь — октябрь 1868]
Дорогой старинушка!
Вот что случилось со мной: я проделал путешествие в Фонтенбло, имея в виду возвратиться по железной дороге, как вдруг меня взяло сомнение, и я убедился, увы, что в 1848 году еще не существовало железной дороги между Парижем и Фонтенбло. Из-за этого приходится уничтожить и вновь написать два эпизода! В «Путеводителе по Парижу» (т. I, стр. 1660) я прочел, что Лионская железнодорожная линия начата была в 1849 году. Ты не можешь себе представить, как мне досадно! Итак, мне необходимо знать: 1) каким способом передвигались в июне 1848 года из Парижа в Фонтенбло? 2) Не был ли готов какой-нибудь отрезок пути, которым уже пользовались? 3) Какие были перевозочные средства? 4) Где останавливались в Париже? Ситуация у меня следующая: Фредерик с Розанеттой в Фонтенбло; он узнает про рану (дело происходит 25 июня) и едет в Париж с Розанеттой, которая не хочет его отпускать. Но по дороге ей снова становится страшно, и она остается. Он приезжает в Париж один, и тут, из-за сент-антуанских баррикад, ему приходится сделать большой крюк, чтобы добраться до квартиры Дюссардье, который живет вверху предместья Пуассоньер.
Помнишь смешные рожи в походных лазаретных фурах? Если припомнишь какие-нибудь детали из парижских ночей той недели, сообщи мне.
Мой герой бродит по улицам в последнюю ночь, с 25-го на 26-е (26-го все кончилось). Теперь тебе все так же ясно, как и мне самому. Постарайся найти точные данные, будь добр.
Мой подлый роман истощает меня до мозга костей. Я разбит и становлюсь из-за него мрачным. В 48 году путь из Корбея в Париж был открыт, остается узнать, как проехать из Фонтенбло в Корбей. Но это не та дорога.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Суббота вечером [17 октября 1868]
Меня мучат угрызения совести за то, что я так долго не отвечал вам на письмо, дорогой маэстро. Вы писали мне, какие вам чинят «неприятности». Вы думаете, я об этом не знал? Признаюсь вам даже (между нами говоря), что мой вкус к прекрасному в данном случае был еще более оскорблен, чем мое чувство к вам. Я нашел, что некоторые из ваших близких друзей проявили слишком мало горячности. «Боже мой, боже мой! Как глупы писатели» — отрывок из переписки Наполеона I. Хороший отрывок, не правда ли? Не кажется ли вам, что Наполеона слишком поносят?
Благодаря бесконечной тупости масс я становлюсь снисходительным к индивидуальностям, как бы гнусны они ни были. Проглотил первые шесть томов Бюше и Ру. Самое ясное, что я оттуда извлек, — это величайшее отвращение к французам. Черт возьми! Какие же глупцы населяли во все времена нашу родину! Ни одна либеральная идея не пользовалась популярностью, ни одно правое дело не обошлось без скандала, ни один великий человек не избежал синяков или поножовщины... «История человеческого духа — история человеческой глупости», как сказал де Вольтер.
И я все более и более убеждаюсь в следующей истине: мы настолько прониклись доктриной Милосердия, что утратили чувство Справедливости. То, что ужаснуло меня в истории 48 года, берет естественно начало в Великой революции, которая, что бы ни говорили, недалеко ушла от средневековья. Я находил у Марата целые страницы из Прудона и готов держать пари, что они найдутся и у проповедников Лиги.
Какое мероприятие предложили наиболее передовые люди после Варенны? Диктатуру, притом диктатуру военную! Церкви закрывают и в то же время воздвигают храмы и т. п.
Уверяю вас, что я глупею от Революции. Это пропасть, и она меня притягивает.
Между тем я работаю над своим романом, как несколько волов. Надеюсь, что к новому году мне останется дописать не более ста страниц, другими словами, у меня еще на добрых полгода работы. В Париж поеду как можно позднее. Зиму проведу в полном одиночестве — лучший способ ускорить течение жизни.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Круассе, вторник вечером [27 октября 1868]
Что я поделываю, милый мой Фейдо? Да ровно ничего. Только и занимаюсь тем, что настраиваю да расстраиваю свою башку. Полторы недели спал не более пяти часов в сутки и вот теперь страдаю сильнейшей болью в затылке. Мне необходимо как следует выспаться, и тогда, надо надеяться, все пойдет по-прежнему.
Признаться, мне не очень-то весело. Я разбит, как старая кляча, к тому же сильно беспокоит меня замысел моего романа; но теперь уже поздно что-либо изменить.
Через неделю окончу вторую главу последней части, а все надеюсь закончить в июле.
Но больше я не возьмусь за описание буржуа, ах нет, ах нет! Пора мне развлечься.
Было бы очень любезно с твоей стороны ответить мне на следующие два вопроса: 1) каковы были в июне 48 года сторожевые посты Национальной гвардии в кварталах Муфтар, Сен-Виктор и Латинском? 2) Кто занимал в Париже левый берег в ночь с 25 на 26 июня (в ночь с воскресенья на понедельник) — линейные войска или Национальная гвардия?
Я уже ко многим обращался, но не получил ответа; и вот сижу теперь в недоумении перед тремя пустыми страницами.
Три недели тому назад ездил в Париж на премьеру «Кадио». Пробыл там всего три дня и не зашел к тебе, так как был уверен, что ты еще в Трувиле.
Мать моя в Ко у своих внучек. Ей сейчас лучше, чем было весной; длительное пребывание на берегу моря очень полезно для нее.
Ну, а я живу в Круассе медведем. Впрочем, я становлюсь все более раздражительным и нелюдимым; в конце концов, я уподоблюсь Марату, который хоть и был большим болваном, однако рожу имел преуморительную. Когда мне не работается, я занимаюсь изучением Французской революции.
Да, я завидую Марфори; только он мямля. Какая была бы потеря для литературы, если бы он свернул себе шею, как Рошфор! Ибо, ведь ты знаешь, вышеупомянутый — «первый писатель нашего времени»; он решительно отвращает меня от папаши Гюго.
Твой.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Понедельник [ноябрь 1868]
Если бы я последовал первому своему импульсу, принцесса, то ответил бы тотчас же на ваше последнее письмо, которое восхитило меня с литературной точки зрения. Но я побоялся утомить вас обилием моих автографов.
Да! Да! Да! Присланное вами описание их величеств, короля и королевы испанских, в отношении стиля просто шедевр. (Я уверен, что вы этого и не подозреваете.) Я громко смеялся «в тиши кабинета». Вы не можете себе представить, как удался вам этот образ. Мне казалось, когда я читал, что я слышу ваш голос. Это прелестно, а между тем, я должен вам указать, что я знаток (стиля) и никогда не ошибаюсь.
Кстати о стиле: вчера я получил известие о Сент-Бёве через Тургенева, который провел воскресенье в Круассе. Мало встречается людей, чье общество столь приятно, а ум так пленителен. Как жаль, что нельзя жить с людьми, которых любишь.
Моя племянница покидает меня в будущий четверг — она возвращается в Руан, и меня снова ждет полное одиночество. Воспользуюсь им, чтобы ускорить работу над моей бесконечной книжкой, которая приводит меня в отчаянье из-за медлительности, с какой я ее пишу. Г-жа Санд пригласила меня на крестины, где крестным отцом будет принц Наполеон. Но путешествие в Ножан слишком меня обеспокоило бы — я отказался.
А вот поездка в Париж, на рождество или ранее, нисколько меня не обеспокоит. Там, вероятно, остались только немногие из приглашенных в Компьень. Вы — одна из них, не правда ли? Конец, кажется, 15 декабря.
Не могу вам высказать, как огорчило меня дело Бодена. Но, быть может, мне незачем вам говорить об этом?
Пожалуйста, больше не извиняйтесь за свой плохой почерк, принцесса. Именно из-за него я больше бываю в вашем обществе и нисколько не жалею, ибо я весь ваш.
Целую ваши руки. Г. Флобер.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Ночь под новый год, час 1 января 1869
Почему не начать мне 1869 год пожеланием вам и вашей семье, чтобы «он был хорошим и счастливым и чтобы за ним последовало много других»? Это — старомодно, но мне нравится. Теперь побеседуем!
Нет, я не «порчу себе кровь», ибо никогда не чувствовал себя так хорошо. В Париже нашли, что я «свеж, как юная девушка», а люди, которые не знают моей биографии, приписывают мой здоровый вид деревенскому воздуху. Вот что значит «прописная истина».
У каждого своя гигиена. Единственно, что я могу есть, когда не голоден, — это сухой хлеб. А самые неудобоваримые блюда, вроде незрелых яблок в сидре и сала, успокаивают мне боль в желудке. Из этого следует, что человек, не обладающий здравым смыслом, не должен жить согласно правилам здравого смысла.
Свой пыл к работе я сравниваю с лишаем на коже. Я чешусь и кричу. Это одновременно — удовольствие и пытка. И я не делаю того, что хочу! Ибо сюжеты не выбирают, они сами навязываются. Найду ли я когда-нибудь сюжет по душе? Упадет ли мне с неба идея, соответствующая моему темпераменту? Смогу ли я написать книгу, которой отдам всего себя?
В минуты тщеславных мыслей мне кажется, что я начинаю понимать, каким должен быть роман. Но прежде чем я напишу его (а он еще весьма туманен), я должен написать штуки три или четыре, а с моими темпами я больше этих трех или четырех и не напишу. Я вроде г-на Прюдома, считающего, что самой красивой церковью была бы та, у которой одновременно шпиль Страсбургского собора, колоннада св. Петра, портики Парфенона и т. д. У меня противоречивые идеалы. Отсюда затруднения, заминки, бессилие.
Не могу сказать, чтобы «заточение, на которое я себя обрек, было приятным». Но что же делать? Напиться водки. Муза, как бы ни была она неласкова, доставляет меньше огорчений, чем женщина. Я не могу примирить их. Надо выбирать. Мой выбор сделан давно. Остается вопрос чувств. Они всегда были моими слугами. Даже в пору самой зеленой юности я делал с ними решительно все, что хотел. Мне скоро стукнет пятьдесят, и меня ничуть не смущают их порывы.
Такой режим не весел, согласен. Бывают минуты пустоты и ужасной скуки. Но они становятся все реже и реже по мере того как стареешь. Словом, я, кажется, не создан для ремесла, именуемого жизнью. А между тем!
Я пробыл в Париже три дня и употребил их на справки и поездки для моей книжки. Прошлую пятницу я так устал, что лег спать в семь часов вечера. Вот каковы мои безумные оргии в столице.
Гонкуров застал в диком восхищении (sic!) от некоего произведения Жорж Санд, озаглавленного «История моей жизни». Это доказывает, что у них хороший вкус преобладает над эрудицией. Они хотели даже написать вам, чтобы выразить все свое восхищение. (Я, наоборот, считаю *** глупцом.) Он сравнивает Фейдо с Шатобрианом, весьма восторгается «Прокаженным из града Аосты», {Роман Ксавье де Местра (1811).} считает «Дон-Кихота» скучным и т. д.
Замечаете вы, как редко бывает в литературе здравый смысл? А между тем знание языков, археологии, истории и пр. должно бы принести пользу. И вот нисколько! Люди, с позволения сказать, просвещенные становятся все глупее в вопросах искусства. Самая сущность Искусства от них ускользает. Комментарии для них важнее текста. Они придают больше значения костылям, чем ногам.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Четверг [январь 1869]
Ваше вчерашнее письмо, принцесса, опечалило меня, и если бы не свадьба мадмуазель Леруа, дочери префекта, я бы тотчас же ответил вам. У меня был большой кутеж: я ездил на вечер в Руан!
Коль скоро вы огорчены, то и я огорчаюсь. Но разрешите мне сказать, что вы, по-моему, несколько преувеличиваете причину вашего огорчения. Не на знамя надо смотреть, а на то, что под ним; не важно где написано, главное что написано.
Я ни в коей мере не защищаю газету «Тан», которая мне глубочайшим образом не нравится, впрочем, как и все газеты. Я ненавижу пользоваться этим мелким способом для того, чтобы сделать мысль свою достоянием печати, и ненависть моя выражается в том, что я решительно воздерживаюсь от него, несмотря на связанный с ним заработок.
Пресса опасна только благодаря преувеличенному значению, какое ей придают; к несчастью, и друзья и враги сходятся на этом! Ах, если бы предоставили дело скептикам!
Возвращаюсь к Сент-Бёву; самая большая вина его, по-моему, в том, что он совершил поступок, который вам не нравится, — коль скоро вы просили его не писать в этой газете, он должен был исполнить вашу просьбу. Таковы мои политические убеждения.
Впрочем, я отлично понимаю его озлобление, раз отказались печатать его статью. {Сент-Бёв, обидевшись на «Всемирный монитёр» за отказ напечатать его статью, перешел в качестве постоянного сотрудника в газету «Тан» несмотря на просьбы принцессы Матильды.} Надо быть писателем, чтобы понять, как оскорбительны для нас такие вещи. Я возбудил дело против «Парижского обозрения» за то, что оно позволило себе вычеркнуть у меня три-четыре строчки; мой принцип — не уступать в подобных случаях.
Итак, его гнев понятен. Но чего я не могу извинить — это разрыва с правительством, которое осыпало его милостями. Это невероятно! И несмотря на то, что вы мне говорите, я все еще сомневаюсь.
Перечитываю ваше письмо, пока пишу, и мне становится больно до слез, потому что мне кажется, что эта история оскорбила вас до глубины души и вы страдаете, как от измены.
Вы были бы очень добры, если бы дали мне более пространное разъяснение по этому поводу; мне хотелось бы узнать, что вы ошиблись. Ибо, в конце концов, если он пишет в «Тан» лишь чисто литературные статьи, то зло не так еще велико. Но, повторяю, мне очень не нравится и я не могу ему простить то, что он огорчил вас, вас, принцесса! Ведь вы были к нему исключительно добры, более того, преданны; к тому же, коль скоро тебя поощряют...
Несмотря на мое добродетельное решение не возвращаться в Париж до конца марта, я обещаю нанести вам краткий визит в будущем месяце.
Припадаю к вашим стопам, принцесса, и целую ручки.
Всецело ваш.
ЖОРЖ САНД
Круассе, вторник 2 февраля 1869
Дорогой маэстро!
В лице вашего старого трубадура вы видите человека до крайности усталого. Провел в Париже утомительную неделю в поисках сведений (семь-девять часов в день не сходя с фиакра — хороший способ приобрести состояние литературным трудом). Что поделаешь!
Только что перечел свой план. То, что осталось еще написать, приводит меня в ужас — вернее, надоело мне до тошноты. Так всегда бывает, когда я вновь принимаюсь за работу. Мне становится скучно, скучно, скучно! А на этот раз скучнее чем когда-либо! Вот почему я так боюсь перерывов во время горячей работы! Но я ничего не мог поделать. Я таскался по похоронным бюро, по Пер-Лашезу, по долине Монморанси, по лавкам торговцев предметами культа и т. п.
Словом, у меня осталось работы на четыре-пять месяцев. Как свободно я вздохну, когда окончу ее и уж больше не стану писать о буржуа! Пора развлечься чем-нибудь иным...
Видел Сент-Бёва и принцессу Матильду, знаю в точности историю их разрыва и думаю, что дело это непоправимо. Сент-Бёв возмутился Даллозом и перешел в «Тан». Принцесса умоляла его не делать этого. Он не послушал ее. Вот и все. Если хотите знать мое мнение об этом, извольте: принцесса первая виновата, потому что была слишком резкой; но гораздо серьезнее виноват папаша Бёв, он вел себя не так, как подобает благовоспитанному человеку. Если имеешь такого славного друга, да к тому же, если этот друг доставил тебе тридцать тысяч ренты, ты должен оказывать ему внимание. Будь я на месте Сент-Бёва, я бы, вероятно, сказал: «Вам не нравится. Не будем больше об этом говорить». Он не умеет себя вести. Между нами говоря, мне было немного противно, когда он стал расхваливать императора! Это при мне-то! Расхваливать Баденге! А ведь мы были одни!
Принцесса с самого начала приняла дело чересчур всерьез. Я писал ей об этом, оправдывая Сент-Бёва, который, я уверен, нашел, что я отнесся к нему слишком равнодушно. Вот тогда-то, желая передо мною оправдаться, он и стал уверять меня в своих чувствах к Исидору; это показалось мне немного унизительным, ибо означало, что он принимает меня за круглого дурака.
Мне кажется, он готовит себе похороны а la Беранже и завидует популярности Гюго. К чему писать в газетах, когда можно сочинять книжки и не умираешь с голоду? Он далеко не мудр; не то, что вы!
Ваша сила чарует и поражает меня. Я имею в виду всю вашу личность, а не только силу вашего ума.
Вы пишете в последнем письме о критике и говорите, что она скоро исчезнет. Наоборот, я думаю, что заря ее только еще восходит. Говорят обратное тому, что говорилось ранее, вот и все. Во времена Лагарпа обращали внимание на грамматику, во времена Тэна и Сент-Бёва сделались историками. Когда же будут художниками, только художниками, подлинными художниками! Где вы найдете критика, который по-настоящему интересуется произведением, самим по себе? Очень тонко анализируется среда, породившая его, причины, которые привели к тем или иным выводам; а где же подсознательная поэтика? Откуда она проистекает? Где композиция, стиль? Где точка зрения автора? Этого нигде нет.
Критикам следовало бы обладать большим воображением и большей добротой, я хочу сказать, способностью заранее воспринимать все с энтузиазмом, а затем иметь вкус, редкое качество, даже у лучших из них, настолько редкое, что о нем больше уж и не говорят.
Меня всегда возмущает, что на одну доску ставится шедевр и любая гнусность. Мелкоту превозносят, а великое принижают; ничто не может быть глупее и аморальнее.
На кладбище Пер-Лашез меня охватило глубокое и тягостное отвращение к роду людскому. Вы не можете себе вообразить, до чего доходит фетишизм в отношении могил. Истый парижанин больший идолопоклонник, нежели негр. Это вызвало во мне желание лечь в одну из могил.
А передовые люди еще думают, что самое умное — реабилитировать Робеспьера! Смотрите книгу Гаммеля! {«Господин Мишле, историк», 1869.} Если бы восстановили республику, они бы вновь освятили деревья Свободы во имя политики, считая это мероприятие очень умным.
Когда увидимся? Я рассчитываю быть в Париже с пасхи до конца мая. Летом приеду к вам в Ножан. Даю честное слово.
МИШЛЕ
Круассе, 2 февраля 1869
Дорогой маэстро!
Получил третьего дня ваше «Вступление к Террору» и от души благодарю вас за него. Благодарю не за память, ибо привык к вашему вниманию, а за вещь, как таковую.
Я, как и вы, ненавижу якобинское поповство, Робеспьера и его последователей, которые мне знакомы, так как читал о них и встречался с ними.
Книга, которую я сейчас кончаю писать, побудила меня изучить немного социализм. Мне кажется, что известная доля зла происходит у нас от республиканского неокатолицизма.
Я открыл у так называемых людей прогресса, начиная с Сен-Симона и кончая Прудоном, самые необычайные высказывания. Все они исходят из религиозного откровения.
В процессе работы мне довелось прочитать «Предисловия» Бюше. Современная демократия дальше их не шагнула. Вспомните, какое негодование вызвала книга Гизо.
Если бы завтра восстановилась республика, она, я уверен, освятила бы деревья Свободы. Это считалось бы у них «политикой».
Нынче зимой я прочитал, сидя у камина, четырнадцать томов истории парламентаризма. Угрызения совести в отношении вас заставили меня в шестой или седьмой раз перечитать вашу «Историю революции». Мне казалось, дорогой маэстро, что я слишком мало восхищался вами. Основательное знание фактов позволило мне лучше оценить вашу исключительную заслугу. Какая прозорливость, сколько справедливости! Не говорю об остальном, чтобы не показаться человеком, делающим комплименты.
Надеюсь увидеться с вами в конце будущего месяца, ближе к пасхе, и долго беседовать с вами.
Прошу передать от меня привет г-же Мишле и принять уверения в моей неизменной преданности, дорогой маэстро.
ТУРГЕНЕВУ
Круассе [вторник] 2 февраля [1869]
Мой дорогой друг, Я все еще в Круассе, то есть я вернулся сюда вчера, после недели, проведенной в Париже в поисках самой нелепой информации, какую только можно вообразить: погребение, кладбище и похоронные бюро — с одной стороны, арест, наложенный на движимое имущество, и судопроизводство — с другой, и т. д. и т. п. Короче говоря, я разбит, устал и озабочен.
Мой бесконечный роман {Речь идет о «Воспитании чувств».} вызывает у меня отвращение и наводит скуку, а мне еще предстоит иметь с ним дело не менее четырех месяцев.
Я горю желанием увидеть вашу литературную критику, ибо это будет критика человека, который сам является писателем, а это очень важно. В моих друзьях — Тэне и Сент-Бёве меня отталкивает то, что они недостаточно считаются с Искусством, с произведением в себе, с композицией, со стилем, словом, с тем, что образует Прекрасное. Во времена Лагарпа занимались грамматикой, теперь стали историками, — вот и вся разница. При вашем столь оригинальном и сильном умении чувствовать ваша критика будет на высоте ваших творений, я уверен в этом...
И я также очень часто думаю о тех часах, которые вы провели в моей хижине. Вы очаровали всех; моя мать и племянница часто вас вспоминают и спрашивают о вас.
Что же до меня, вы знаете, какую симпатию я питаю к вам с первого дня. Почему мы не живем в одной стране? Я буду в Париже к Пасхе. Не приезжайте туда раньше. Крепко обнимаю вас.
Гюстав Флобер.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Вторник, ночь [с 23 на 24 февраля 18691
Мое мнение, дорогой маэстро? Следует ли возбуждать у детей чувствительность или, наоборот, подавлять ее? Мне кажется, что к этому вопросу нельзя подходить с одинаковым мерилом. Все зависит от того, чрезмерна ли склонность или недостаточна. Впрочем, сущность нельзя изменить. Бывают натуры мягкие и натуры сухие — это неизбежно. К тому же одно и то же зрелище, один и тот же урок может произвести совершенно обратное действие. Ничто не могло сделать меня более черствым, как воспитание в больнице, где я ребенком играл в анатомическом театре. Однако нет человека жалостливее меня к физическим страданиям. Правда, я сын исключительно человеколюбивого человека, чувствительного в лучшем смысле слова. При виде больной собаки у него навертывались слезы на глазах. Это не мешало ему производить хирургические операции и изобрести ряд очень жестоких.
«Показывать малышам лишь приятное и хорошее в жизни до тех пор, пока разум не научит их воспринимать дурное или бороться с ним». Я с этим не согласен. Ибо тогда в их сердце произойдет нечто ужасное, они испытают бесконечное разочарование. И потом, как же может сложиться разум, если он не приучится (или его не приучат) разбираться в том, что хорошо и что дурно? Жизнь должна беспрерывно воспитывать; надо всему научиться, начиная от уменья говорить и кончая уменьем умирать.
Вы говорите очень правильные вещи относительно неведения детей. Тот, кто ясно умеет читать в этих маленьких головках, уловил бы корни человеческой природы, божественное происхождение, соки, питающие последующие деяния, и пр. Негр, обращающийся к своему божку, и ребенок, разговаривающий с куклой, кажутся мне очень близкими друг к другу.
Дитя и варвар (примитивный человек) не отличают действительности от фантастики. Я очень ясно помню, как, будучи пяти- или шестилетним мальчиком, хотел «послать свое сердце» одной маленькой девочке, в которую был влюблен (я имел в виду подлинное сердце). Я себе представлял, как оно лежит на соломе в корзиночке из-под устриц!
Никто, однако, не углублялся в эти анализы так, как вы. Есть в «Истории моей жизни» страницы, полные неизмеримой глубины. Я говорю истинную правду, так как умы, наиболее далекие от ваших воззрений, совершенно поражены этими страницами. Доказательство — Гонкуры.
Милейший Тургенев должен быть в Париже в конце марта. Хорошо бы как-нибудь пообедать втроем.
Я все возвращаюсь к Сент-Бёву. Несомненно, можно обойтись без 30 000 ливров ренты. Есть, однако, еще одна, более легкая вещь; а именно: имея их, не изрыгать еженедельно брань в газетах. Почему бы ему не писать книг, раз он богат и талантлив?
Перечитываю в настоящее время «Дон Кихота». Какая гигантская книжица! Есть ли что-нибудь прекраснее?
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Париж] Воскресенье, утро 23 мая 1869
Я настолько переутомлен, что у меня едва хватает сил тебе писать. Теперь, когда роман окончен, я вижу, как устал. Неделю приводил в порядок рукопись, которую завтра отдам в переписку; это займет неделю — десять дней. Надо будет ее перечитать, а затем я вернусь в Круассе.
Если бы вы могли отложить свой отъезд числа до 8—10 июня, твоей бабушке не пришлось бы оставаться одной.
Ты все еще намерена поехать в августе месяце в Пиренеи? Не скрою от тебя, милочка, что я был бы вам бесконечно обязан, если бы вы отказались от этого путешествия; иначе у меня не будет никакого отдыха, так как мне необходимо быть в Париже к 1 сентября и начать печатать мою книгу, а я, откровенно говоря, очень нуждаюсь в передышке.
Меня очень смущает вопрос о переезде: мне жаль покинуть мою милую маленькую квартирку. С другой стороны, я не могу оставить ее за собой: она слишком дорого обходится, большие расходы на извозчиков и слишком далеко от вас. Но переезд «влетит мне в копеечку», милая моя барынька! К тому же мне некогда искать себе квартиру, у меня едва хватает времени на переписку рукописи.
А между тем... Растерянность, хлопоты.
Еще одна причина усталости: принцесса Матильда раза два просила меня прочесть отрывки из моего романа. При третьей просьбе я уступил и вчера начал чтение первых трех глав. Невозможно описать энтузиазм ареопага, а посему надо прочесть все, а на это потребуется четыре сеанса по четыре часа каждый (помимо других моих занятий).
У нее-то есть время меня послушать! Старик у нее не на последнем плане.
Бедняжка, мы еще долго не увидимся. А будущей зимой будем видеться очень редко. Ты будешь в Париже, а я снова останусь там один, чтобы работать, как вол. Такова жизнь.
Передай мое почтенье прекрасному племянничку и попроси его прислать мне тысячу франков. Я сижу без единого су. Поцелуй его от моего имени в знак благодарности и скажи, чтобы успокоить его относительно дальнейшей моей судьбы, что я рассчитываю вытянуть у Леви прибавку в 5 или 6 тысяч франков. Этим я буду обязан тетушке Санд. Чмокаю твои милые щечки.
Твой старый дядя.
Бабушка, по-видимому, чувствует себя лучше. Но как будет во время твоего отсутствия?
ЖОРЖ САНД
[Круассе, конец нюня 1869]
Мое предсказание сбылось; выставив свою кандидатуру, мой друг X *** добился лишь того, что сделался посмешищем. Это хорошо. Когда человек пера унижается до жажды деятельности, он терпит поражение и должен понести наказание. Да и разве дело сейчас в политике? Граждане, горячо выступающие за или против империи или республики, кажутся мне такими же полезными, как те, кто спорил о благодати действительной и о благодати действенной. Политика умерла, так же как богословие! Она существовала триста лет, вполне достаточно.
Я сейчас углубился в отцов церкви. А о своем романе «Воспитание чувств» я, слава богу, больше не думаю! Он переписан, прошел через чужие руки, значит, вещь больше уже не моя. Она перестала существовать, до свиданья. Я вернулся к старой своей нелепице, «Святому Антонию». Перечел заметки, переделал заново план и теперь с жадностью читаю «Духовные мемуары» Ле Нен де Тиллемона. Я пытаюсь найти логическую связь (и, следовательно, драматический интерес) между различными галлюцинациями святого. Этот необычайный мир нравится мне, и я погружаюсь в него, так-то.
Бедняга Буйле тревожит меня. У него такое нервное состояние, что ему советуют проехаться на юг Франции. Его схватила непреодолимая ипохондрия. Не странно ли! Его — такого веселого когда-то!
Боже мой, какая прекрасная и забавная штука — жизнь пустынников! А ведь все они были, наверное, буддистами. Вот шикарная проблема, и разрешение ее гораздо важнее, чем выборы какого-то академика. О маловерные! Да здравствует святой Поликарп!
Фанжа, вновь появившийся на днях, и есть тот самый гражданин, который 24 февраля 1848 года требовал смерти Луи-Филиппа «без суда». Так служат делу прогресса.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, конец июня — начало июля 1869]
Какое милое, очаровательное письмо, обожаемый маэстро! Вы единственная в своем роде, честное слово! Окончательно прихожу к этому убеждению. Над миром проносится в настоящее время вихрь безумия и глупости. Редко встретишь людей, которые прямо и стойко держатся на ногах.
Вот о чем я хотел сказать, когда писал, что время политики прошло. В восемнадцатом веке дипломатия была делом главным. «Тайна кабинетов» существовала в действительности. Народами можно было еще руководить — разделять их и сливать. Такой порядок вещей, по-моему, сказал последнее свое слово в 1815 году. С тех пор только и занимаются спорами о том, какая внешняя форма подобает фантастическому и гнусному созданию, именуемому Государством.
Судя по опыту, мне кажется, ни одна форма правления не содержит в себе ничего хорошего; орлеанизм, республика, империя — ничто больше не говорит ни уму, ни сердцу, ибо в каждое из этих отделений входят самые противоречивые идеи. Все знамена были так испачканы кровью и дермом, что пора совсем от них отказаться. Долой слова! Довольно символов и фетишей! Великая мораль этого царствования будет заключаться в том, чтобы доказать, что всеобщее избирательное право так же глупо, как и божественное, хотя и немного менее гнусно.
Вопрос таким образом перемещен. Дело не в мечтаниях о том, какая форма правления лучше, поскольку все они стоят друг друга, а в преобладании Науки. Вот наиболее спешное дело. Остальное неизбежно последует. Люди чистого разума оказали больше услуги человечеству, чем все Венсан де Поли вместе взятые! Политика до тех пор будет сущим вздором, пока не окажется в полной зависимости от Науки. Правительство страны должно быть одной из секций Академии, и притом самой значительной.
Прежде чем заниматься кассами вспомоществования и даже сельским хозяйством, пошлите во все французские деревни Робер Гуденов для сотворения чудес! Самое большое преступление Исидора заключается в том, что он предоставляет нашей прекрасной родине погрязать в невежестве. Dixi.
Восторгаюсь занятиями Мориса и его здоровым образом жизни. Но я неспособен ему подражать. Природа не только не укрепляет меня, а наоборот — истощает. Когда я ложусь на траву, мне кажется, что я уже под землей и в животе у меня как будто начинает пускать ростки салат. Ваш трубадур — человек несомненно нездоровый. Я люблю деревню только во время путешествия, ибо тогда, благодаря независимости моего «я», теряю сознание собственного ничтожества.
ЖЮЛЮ ДЮПЛАНУ
[Круассе] Четверг [22 июля 1869]
Дорогой старик! Твой бедный гигант получил жестокий шлепок, от которого больше не оправится. {Смерть Луи Буйле, 18 июля 1869.} Я говорю себе: «К чему теперь писать, раз его больше нет!» Кончены милое горластое чтение, общие восторги, совместные мечты о будущих творениях. Надо быть «философом и остряком», но это не легко. Детали расскажу тебе, когда увидимся. Пока узнай только, что он умер философом. Самое тяжелое, что я пережил, — это переезд из Парижа в Руан; я умирал от жажды, а напротив меня сидела кокотка, которая смеялась, пела, курила сигаретки и т. д. Образована комиссия по сооружению памятника. Ему сделают приличную могилку и установят в музее его бюст. Меня избрали председателем комиссии; я пришлю тебе список первых подписавшихся. «Одеон» прислал мне два или три прекрасных письма. На 12 августа у меня назначено свидание с директорами. Все его бумаги находятся у меня; после него остался прекрасный том стихов, который я намерен опубликовать через несколько дней после постановки «Аиссе». У меня не хватило сил перечитать мой роман, тем более, что как бы ни были справедливы замечания Максима, они меня раздражают. Я боюсь либо принять их целиком, либо послать к черту. Какая потеря для литературы, старина, какая потеря, — не говоря уж о другом! А ты все еще болен? Не вздумай ему подражать, черт возьми! Только этого недостает!
МАКСИМУ ДЮ КАНУ
Круассе, 23 июля 1869.
Мой милый старина Макс, я испытываю потребность написать тебе длинное письмо; не знаю, хватит ли у меня сил, попробую. С тех пор как наш бедный Буйле вернулся в Руан после назначения заведующим библиотекой в августе 1867, он был убежден, что сложит здесь свои кости. Все, в том числе и я, смеялись над его печальным настроением. Он уже не был таким, как прежде; он совершенно изменился, только литературное чутье осталось тем же. Словом, когда я в начале июня возвратился из Парижа, я нашел его в плачевном состоянии. Поездка в Париж из-за «Мадмуазель Аиссе», во второй акт которой директор «Одеона» просил его внести изменения, была для него настолько тягостной, что он смог только дотащиться с вокзала до театра. Приехав к нему в последнее воскресенье в июне месяце, я застал у него доктора П*** из Парижа, руанского врача X***, доктора психиатра Мореля и одного милейшего аптекаря, его друга, некоего Дюпре. Буйле не решался пригласить на консультацию моего брата, так как чувствовал, что очень болен, и боялся узнать правду. П*** послал его в Виши, откуда Вильмен поспешил отправить его обратно в Руан. Прибыв в Руан, он позвал, наконец, моего брата. Болезнь была неизлечима, как, впрочем, и писал мне Вильмен.
В течение последних двух недель моя мать была в Вернейле у г-жи Васс, и письма приходили с опозданием на три дня: видишь, сколько мне пришлось вынести огорчений. Я навещал Буйле через день и находил улучшение. Аппетит был прекрасный, настроение также, отеки на ногах уменьшились. Из Кани приехали его сестры и устраивали ему религиозные сцены; они были так неистовы, что возмутили милейшего соборного священника. Наш бедный Буйле был великолепен, он выгнал их вон. Когда я ушел от него в последний раз, в субботу, у него на ночном столике лежал том Ламетри; я вспомнил моего бедного Альфреда (Ле Пуатвена), который читал Спинозу. Ни один священник не входил к нему. Гнев на сестер еще поддерживал его в субботу, и я уехал в Париж в надежде, что он еще долго проживет. В воскресенье в 5 часов у него начался бред, и он стал вслух сочинять сценарий средневековой драмы об инквизиции; он звал меня, чтобы показать ее, и был от нее в восторге. Потом у него сделался озноб, он пролепетал: «Прощай! Прощай!» и, спрятав голову на груди у Леони, тихо, тихо скончался.
В понедельник утром мой портье разбудил меня, передав депешу, извещавшую меня об этом телеграфным стилем. Я был один, уложил свои вещи; отправил тебе сообщение, зашел сказать об этом Дюплану, который был погружен в свои дела, потом бродил по улицам до часу; в привокзальных улицах было жарко. По дороге из Парижа в Руан, в переполненном вагоне, напротив меня сидела девица легкого поведения, — она курила сигаретки, растягивалась с ногами на скамейке и пела. При виде мантских колоколен я думал, что схожу с ума, и был, вероятно, недалек от этого. Увидев, как я бледен, девица предложила мне одеколону. Это меня оживило, но какая жажда! Та, что я испытывал в Коссеирской пустыне, — ничто в сравнении с нею. Наконец я прибыл на улицу Бигорель; избавлю тебя от подробностей. Я не знаю более доброго сердца, чем у молодого Филиппа; {Филипп Лепарфе, сын Леони, подруги жизни Буйле, усыновленный последним.} он и милая Леони прекрасно ухаживали за Буйле. Я нахожу очень порядочным то, что они сделали. Чтобы успокоить его и убедить в том, что он вовсе не опасно болен, Леони отказалась венчаться с ним, а сын поддерживал ее в этом. Намерение Буйле было настолько твердо, что он вытребовал свои документы. Я считаю, что молодой человек, в особенности, поступил как джентльмен.
Я и д'Омуа шли во главе траурной процессии; на похоронах было очень много народу, две тысячи человек по меньшей мере! Префект, генеральный прокурор и проч., весь цвет прихода св. Иоанна. И вот, поверишь ли, следуя за гробом, я совершенно отчетливо смаковал всю гротескность церемонии и слышал замечания Буйле по поводу ее; казалось, во мне говорил он, он был тут, рядом со мною, и мы вместе шли за колесницей кого-то другого. Стояла ужасная жара, погода была грозовая. Я обливался потом, а подъем на Монументальное кладбище доконал меня. Друг его, Годрон, выбрал ему место рядом с могилой Флобера-отца. Я оперся на балюстраду, чтобы отдышаться. Гроб стоял на досках, над могилой. Начались речи (их было три), и тут мне стало дурно; мой брат и какой-то незнакомец увели меня. На следующий день я поехал за матерью в Серкиньи. Вчера ездил в Руан за всеми его бумагами, сегодня прочел полученные мною письма; вот и все. Ах, дорогой Макс, как тяжело!
Он оставил завещание в пользу Леони. Все книги и все рукописи принадлежат Филиппу; он поручил ему пригласить четырех друзей, чтобы те указали, как поступить с неизданными произведениями: меня, д'Омуа, тебя и Годрона; он оставил том прекрасных стихов, четыре пьесы, написанные прозою, и «Мадмуазель Аиссе». Директору «Одеона» не нравится второй акт, не знаю, как он поступит. Надо будет тебе приехать сюда зимой с д'Омуа, и мы соберем все, что должно быть опубликовано.
Не могу продолжать, слишком болит голова; к тому же, что тебе сказать? Прощай, горячо тебя целую. Ты остался один, один лишь ты! Помнишь, как мы писали: Solus ad solum? {Одинокий одинокому.}
P. S. Во всех письмах, которые я получил, имеется фраза: «Сомкнем теснее наши ряды». Какой-то незнакомый господин написал на своей визитной карточке два слова: Sunt lacrimae! {Начальные слова одного из стихов Вергилия («Энеида»): «Sunt lacrimae rerum. » — Для горя есть у нас слезы.}
ТУРГЕНЕВУ
Круассе, вторник вечером
Дорогой собрат!
Вы написали мне очень любезное письмо, но вы слишком скромны. Я прочел вашу новую книгу {«Московские новеллы».} и в ней снова узнал вас, более чем когда-либо самобытного и выразительного.
Больше всего привлекает меня в вашем таланте изысканность, — высшее, что может быть. Вы нашли способ писать правдиво, но без пошлости, чувствительно, но без слащавости, с комизмом, но отнюдь не низменно. Не стремясь к театральности, вы добиваетесь трагических эффектов одной лишь законченностью композиции. Вы кажетесь простодушным, а между тем в вас много силы. «Лев в лисьей шкуре», — как говорит Монтень.
Прелестна история Елены; мне нравится эта фигура, так же как и Шубин и остальные. Читая вас, думаешь: «Я это пережил». Недаром мне кажется, что никто так не почувствует 51 страницу, как я. Сколько психологии! Много понадобилось бы мне строчек, чтобы выразить все, что я думаю.
А ваша «Первая любовь» тем более понятна мне, что в ней рассказывается, собственно говоря, история одного из самых близких мне друзей. Все старые романтики (а я из их числа, ведь недаром я спал, положив голову на кинжал) должны быть благодарны вам за эту маленькую повесть, которая так много говорит о собственной их юности! Какая жизненная девушка — Зиночка! Одно из ваших качеств — это придумывать женские образы. Они идеальны и соответствуют действительности. Они привлекательны благодаря своему ореолу. Но выше всего в этом произведении, и даже во всем томе, следующие две строчки: «Я не испытывал никакого злобного чувства к отцу. Напротив, он, так сказать, еще больше вырос в моих глазах». Это, по-моему, пугает своей глубиной. Заметит ли кто-нибудь это? Не знаю. Но для меня лично — вот самое возвышенное, что может быть.
Да, дорогой собрат, надеюсь, что наши взаимоотношения не ограничатся этим и обоюдная симпатия перейдет в дружбу.
А пока тысячу раз жму вам руку. Ваш.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Круассе, сентябрь — октябрь 1869]
Деточка моя!
Мне нечего сказать кроме того, что я соскучился по тебе и хотел бы тебя поцеловать.
Впрочем,
Сударыня,
Я должен вас поблагодарить за любезное гостеприимство, какое встретил на вашей очаровательной вилле, и т. д.
Признаюсь, я здорово скучал вчера. Так всегда бывает, когда я вновь принимаюсь за работу. Но через два-три дня я снова войду во вкус чернил.
Нынче утром меня разбудили барабаны и рожки; господа пожарные три часа подряд занимались этой милой музыкой на острове напротив меня. Я бы с наслаждением придушил их.
Идет дождь. Холодно, у меня топится камин, как зимой. Сегодня в Увилле должны были получить две мои фотографические карточки. Завтра ты увидишься с бабушкой; таким образом, она ежедневно получает известия обо мне.
Прощай, моя милочка.
Твой старый дядька.
МАКСИМУ ДЮ КАНУ
[Париж] Среда 13, 11 час. вечера [13 октября 1869]
Сент-Бёв скончался сегодня ровно в половине первого пополудни.
Я случайно зашел к нему в 1 час 35 минут. Еще один ушел! Маленькая кучка все уменьшается! Потерпевшие кораблекрушение исчезают с Плота медузы!
С кем теперь беседовать о литературе? Он любил ее, — и хотя я не считал его своим другом в подлинном смысле слова, все же его смерть глубоко меня огорчает. Для всякого француза, который только держит в руке перо, это непоправимая потеря.
Не весело твоему старому Графинчику! У меня большие неприятности по поводу «Аиссе». Появился Латур Сент-Ибар с договором, он принуждает «Одеон» сыграть сперва его, а потом уже тетку Санд.
А ввиду того, что «Незаконнорожденный» {«Незаконнорожденный» Альфреда Туруда.} делает сборы. а «Вольноотпущенник» {«Вольноотпущенник» Латур Сент-Ибара.} будет поставлен не ранее как в начале декабря, постановка «Аиссе» откладывается неизвестно до какого срока. Ничего еще не решено окончательно. Но мне досадно из-за юного Филиппа.
Отсрочка постановки препятствует печатанию тома стихов и так далее, и так далее. Хотя мне нечего тебе сказать, я все же испытываю непреодолимую потребность увидеть и обнять тебя, старина Макс.
Поклон майору; нежный привет Барашку и тебе.
Твой Г. Ф.
ЖОРЖ САНД
3 декабря 1869
Дорогой, добрый мой маэстро!
Ваш старый трубадур сильно охаян газетами. Прочтите «Конституционалист» {«Воспитание чувств», Барбэ д'Оревильи («Конституционалист» 29 ноября 1869).} за прошлый понедельник, сегодняшний номер «Голуа», {«Воспитание чувств», Сарсэ («Голуа», 3 декабря 1869).} — там сказано коротко и ясно. Меня обзывают кретином и канальей. Статья Барбэ д'Оревильи («Конституционалист») может служить образцом такого жанра, а статья добрейшего Сарсэ, хоть и менее резкая, ни в чем не уступает первой. Эти господа взывают к морали и Идеалу! Ругают меня также Сезена {Статья Амедея де Сезена, 20 ноября 1869.} и Дюранти в «Фигаро» и в «Пари». Мне на них глубоко наплевать. И все же меня удивляет такая ненависть и злоба.
«Трибуна», {Беседа о «Воспитании чувств», Эмиль Золя («Трибуна», 28 ноября 1869).} «Страна» {«Маленькая газета», Поль де Леони («Страна», 26 ноября 1869)..} и «Опиньон насиональ» {«Литературное обозрение», Ж. Левалуа («Опиньон насиональ», 22 ноября 1869).}, наоборот, страшно меня хвалят... Что касается друзей, лиц, которые получили по экземпляру книги, украшенному моей подписью, — они говорят о чем угодно, только не о ней, из страха себя скомпрометировать. Смелые встречаются редко. Тем не менее книга расходится очень хорошо, несмотря на политические события, и у Леви довольный вид.
Я знаю, что руанские буржуа злятся на меня из-за дядюшки Рокка и тюильрийской сплетни. Они считают, что следовало бы воспретить опубликование подобных книжек (буквально), что я заодно с Красными, что я способен разжечь революционные страсти и так далее. Короче говоря, до настоящего времени я получил очень мало лавровых венков, и ни один лепесток розы не ранит меня. Я говорил вам, не правда ли, что переработаю Феерию? Теперь я описываю картину скачек и убираю все, что кажется мне шаблонным. Рафаэль Феликс {Директор театра «Порт-Сен-Мартен».} что-то не очень торопится с нею ознакомиться. Проблема.
Все газеты цитируют в доказательство моей низости эпизод с турчанкой и, само собой разумеется, искажают его, а Сарсэ сравнивает меня с маркизом де Садом, хотя сознается, что не читал его...
Все это меня ни в коей мере не выводит из равновесия. Я только спрашиваю себя, к чему печататься?
ЖОРЖ САНД
Вторник, 4 часа [7 декабря 1869]
Дорогой маэстро!
Вашего старого трубадура втоптали в грязь самым невероятным образом. Люди, прочитавшие мой роман, боятся говорить о нем со мной из страха себя скомпрометировать или из жалости ко мне. Наиболее снисходительные находят, что у меня написан ряд картин, а композиция, рисунок совершенно отсутствуют. Сен-Виктор, расхваливающий книги Арсена Уссей, не хочет писать статьи о моей книге, так как находит ее слишком плохой. Так-то. Тео в отъезде, и никто, решительно никто не берется меня защищать.
А вот и другая история: вчера Рафаэль и Мишель Леви слышали чтение Феерии. Аплодисменты, восторг. Я был уверен, что тут же подпишут договор. Рафаэль настолько хорошо понял пьесу, что сделал два или три прекрасных критических замечания. Впрочем, он показался мне милейшим парнем. Он попросил у меня отсрочки до субботы для окончательного ответа. И вот сейчас я получил от вышеупомянутого Рафаэля письмо (крайне вежливое), в котором он уведомляет меня, что Феерия потребует от него слишком много затрат.
Снова провал. Надо повернуть в другую сторону. В «Одеоне» ничего нового.
Сарсэ опубликовал вторую статью против меня.
Барбэ д'Оревильи утверждает, что я загрязняю ручей, умываясь в нем (sic!). Все это меня нимало не задевает.
Г-ЖЕ ГОРТЕНЗИИ КОРНЮ
Воскресенье вечером [20 марта 1870]
В своей преданности вы напрасно били тревогу, дорогая г-жа Корню. Я был уверен в этом. Вот ответ, полученный мною с обратной почтой.
Повторяю вам, светские люди видят намеки там, где их нет. Когда я написал «Госпожу Бовари», меня неоднократно спрашивали: «Не правда ли, вы хотели изобразить г-жу ***?» И я получал письма от совершенно незнакомых мне людей; между прочим, какой-то господин из Реймса приветствовал меня за то, что я за него отомстил (изменнице)!
Все аптекари Нижней Сены, узнав себя в Омэ, хотели прийти ко мне и надавать мне пощечин; но лучше всего (я открыл это пять лет спустя) оказалось то, что в Африке жила в те времена жена одного военного врача по фамилии Бовари; она была похожа на Госпожу Бовари — вымышленное имя, переделанное мною из Буваре.
Первая фраза, с какой обратился ко мне наш друг Мори, говоря о «Воспитании чувств», была: «Вы не знавали итальянца ***, учителя математики? Ваш Сенекаль — точный его портрет как со стороны внешней, так и с моральной. Все налицо, вплоть до прически». Иные думают, что в лице Арну я хотел изобразить Бернар-Латта (бывшего издателя), которого я в глаза не видел, и так далее.
Все это я говорю, сударыня, чтобы доказать вам, как ошибается публика, приписывая нам несуществующие намерения.
Я был вполне уверен, что г-жа Санд совершенно не хотела делать чей-либо портрет; во-первых, из величия ума, из уважения к Искусству и как человек, обладающий вкусом; во-вторых, из морального чувства и знания приличий, а также из справедливости.
Мне кажется даже, между нами говоря, что это обвинение немного ее оскорбило. Газеты ежедневно обливают нас помоями, но мы никогда не отвечаем им, а между тем наше ремесло — орудовать пером. Неужели же воображают, что ради эффекта, ради того, чтобы сорвать аплодисменты, мы станем задевать ту или иную личность? О нет! Мы не так смиренны! У нас более высокие запросы, и мы более честны. Человек, уважающий себя, не станет выбирать низменные средства толпы для того, чтобы понравиться. Вы, надеюсь, меня поняли?
Довольно, однако. На днях зайду к вам. В ожидании этого удовольствия целую ваши руки, дорогая г-жа Корню, и пребываю весь ваш.
ЖОРЖ САНД
[20 марта 1870]
Дорогой маэстро!
Только что отослал ваше письмо (за которое благодарю) г-же Корню, вложив его в послание от вашего трубадура, где я позволяю себе резко высказать свой образ мыслей.
Оба документа будут представлены ее величеству и немного научат ее эстетике.
Вчера вечером я видел «Другого» {Пьеса Жорж Санд.} и несколько раз принимался плакать. Это подействовало на меня благотворно. Именно! Какая нежная и возбуждающая вещь! Какое прелестное произведение, как я люблю автора! Мне очень вас недоставало. Хотелось чмокать вас, как будто я маленький ребенок. С души спала тяжесть. Спасибо. Теперь мне будет лучше. Было много народу. Бертона и его сына вызывали два раза.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, конец мая 1870]
Нет, дорогой маэстро. Я не болен, только я был занят переездом из Парижа и водворением в Круассе. Затем мать моя сильно недомогала — теперь она поправилась; далее, мне нужно было разобраться в остальных бумагах бедняги Буйле, о котором я начал статью. Я написал на этой неделе около шести страниц, что для меня очень хорошо; эта работа во всех отношениях для меня тягостна. Самое трудное — знать, чего не надо говорить. Я немного отведу душу, выложив два-три догматических взгляда на искусство писать. Вот случай высказать свои мысли: вещь приятная, в которой я всегда себе отказывал.
Вы говорите прекрасные и такие милые вещи, чтобы вернуть мне бодрость. У меня ее нет, но я притворяюсь бодрым, а это, быть может, одно и то же.
Я не чувствую более потребности писать, ибо писал специально для одного существа, а его нет больше. Вот она, истина! А между тем я буду продолжать писать. Но охоты нет, и увлечение прошло. Так мало людей, которые любят то, что люблю я, которых волнует то, что волнует меня! Знаете ли вы во всем огромном Париже хотя бы один дом, где говорили бы о литературе? А если и коснутся ее случайно, то лишь со стороны чисто внешней, второстепенной: успеха, нравственности, пользы, умеренности и прочего. Я, кажется, обращаюсь в ископаемое существо, не имеющее ничего общего с окружающими творениями.
Я не имел бы ничего против того, чтобы увлечься новой привязанностью. Но как? Почти все мои старые друзья женаты, занимают официальное положение, весь год думают о своих делишках, во время отпуска — об охоте, после обеда — о винте. Я не знаю ни одного, кто способен был бы провести со мной послеобеденное время за чтением какого-нибудь поэта. У них свои дела; а вот у меня нет дел! Заметьте, что социальное положение мое то же, что и в восемнадцать лет. Племянница, которую я люблю, как родную дочь, не живет со мной, а моя бедняжка мать, превосходнейшая женщина, становится такой старенькой, что ни о чем (помимо ее здоровья) с нею разговаривать невозможно. Все это создает не очень-то веселую жизнь.
Что касается дам, то «наши места» не снабжают меня ими. К тому же, что ни говорите, я никогда не умел совмещать Венеры и Аполлона. Одно или другое, ибо я человек, склонный к чрезмерному, всецело отдающийся тому, чем в данный момент занят.
Я повторяю слова Гёте: «Вперед, по ту сторону могил», и надеюсь привыкнуть к образовавшейся вокруг меня пустоте, но и только.
Чем больше я вас знаю, тем сильнее восхищаюсь вами: какая вы сильная!
Но вы обнаружили чересчур много доброты, написав снова сыну Израиля. {Издателю М. Леви.} Пусть он оставит себе свое золото! Этот малый даже и не догадывается, как он хорош. Он, может быть, считал себя великодушным, предлагая одолжить мне денег без процентов, но с условием, что я свяжу себя новым договором. Я не сержусь на него, он меня не оскорбил; он не задел чувствительного места.
Если не считать Спинозы и Плутарха в небольших дозах, я ничего не прочел со времени своего возвращения, так как был всецело занят текущей работой. Она будет тянуться до конца июля месяца. Спешу покончить с ней, чтобы вернуться к безумствам моего милого святого Антония, но боюсь, что у меня нет достаточно подъема.
Как прекрасна история мадмуазель д'Отрив, не правда ли? Самоубийство влюбленных во избежание нищеты способно внушить Прюдому несколько красивых фраз о нравственности. А я понимаю такое самоубийство. Они поступили не по-американски, их поступок в истом латинском и античном духе! Они были не сильны, но очень нежны, быть может.
ЭДМОНУ ДЕ ГОНКУР
[Круассе] Воскресенье вечером [26 июня 1870]
Как я жалею вас, мой бедный друг. {Жюль Гонкур умер 20 июня.} Ваше сегодняшнее письмо глубоко опечалило меня! За исключением вашего личного признания (которое я сохраню между нами, будьте уверены), оно не было для меня новостью — вернее, я по меньшей мере догадывался обо всем, что вы мне пишете. Ибо я думаю о вас ежедневно и по нескольку раз в день. Воспоминание об исчезнувших друзьях неизбежно вызывает мысль о вас. Хорошенький баланс за последний год! Фейдо, {Видимо, г-жа Фейдо.} ваш брат, Буйле, Сент-Бёв и Дюплан. Эти размышления — те же могилы, среди которых я брожу.
Но я не смею жаловаться перед вами, потому что ваше горе превосходит все, что можно перечувствовать и вообразить.
Вы хотите, чтобы я написал вам о себе, дорогой Эдмон? Так вот, я отдаюсь работе, которая дает мне величайшее опьянение: я пишу предисловие к тому стихов Буйле. Я коснулся лишь вскользь биографической части, насколько это было возможно. Пространнее будет обзор произведений, а еще больше я скажу по поводу его (или наших) литературных доктрин.
Я перечитал все написанное им. Перелистал наши старые письма. Перебрал ряд воспоминаний — иные из них имеют тридцатисемилетнюю давность! Мало веселого, как видите! Впрочем, здесь, в Круассе, меня преследует его призрак, я нахожу его за каждым кустом в саду, на диване в моем кабинете, вплоть до моей одежды, в моих шлафроках, которые он надевал.
Я надеюсь, что буду меньше думать о нем, когда окончится эта противная работа, то есть через шесть недель, после чего я попытаюсь вновь приняться за «Святого Антония». Но сердце не лежит к нему. Вы прекрасно знаете, что пишешь всегда, имея кого-нибудь в виду. А так как этот «кто-то» перестал существовать, у меня не хватает мужества.
Так я и живу один на один с матерью, которая день ото дня стареет, слабеет, жалуется! Мало-мальски серьезно разговаривать с ней невозможно, и вот мне не с кем поговорить.
Надеюсь в августе месяце поехать в Париж и тогда увидеться с вами. Но где вы будете? Присылайте мне иногда весточку о себе, бедный мой Эдмон! Никто не жалеет вас так, как я.
Целую вас очень крепко.
ЖОРЖ САНД
Воскресенье, 26 июня 1870
Забываете своего трубадура, а он только что похоронил еще одного из своих друзей! Из семи человек, которые с самого начала посещали обеды Маньи, нас осталось трое! Я переполнен гробами, как старое кладбище! Хватит с меня, право.
И несмотря на это, я продолжаю работать! Будь что будет, но я закончил вчера статью о моем бедном Буйле. Посмотрю, нельзя ли будет восстановить одну его комедию в прозе — «Слабый пол». После чего я примусь за «Святого Антония».
А вы, дорогой маэстро, как поживаете вы и все ваши? Моя племянница в Пиренеях, и я живу один с матерью, которая все больше и больше глохнет, так что моя жизнь окончательно лишена веселья. Мне бы нужно уехать поспать на теплом морском берегу. Но на это не хватит ни времени, ни денег. Значит, надо продолжать черкать и как можно больше зарыться в работу.
В начале августа поеду в Париж. Затем пробуду там весь октябрь месяц из-за репетиций «Аиссе». Мои вакации ограничатся одной неделей, которую я проведу в Дьеппе в конце августа. Вот мои планы.
Тягостные были похороны Жюля де Гонкур. Тео плакал навзрыд.
ЖОРЖ САНД
Суббота вечером, 2 июля 1870
Дорогой маэстро!
Смерть Барбеса очень огорчила меня из-за вас. У каждого из нас свой траур. Какой кортеж покойников за этот год! Я так отупел от этого, будто меня били по голове. Особенно меня удручает (ибо мы все переносим на себя лично) ужасное одиночество, в котором я живу. У меня никого не осталось, я говорю никого, с кем можно было бы поговорить.
Кто красноречием и стилем нынче занят?
Кроме вас и Тургенева я не знаю смертного, с кем мог бы излиться по поводу вещей, близких моему сердцу; а вы оба живете далеко от меня.
Тем не менее я продолжаю работать. Я решил завтра или послезавтра приняться за «Святого Антония». Но чтобы начать длительную работу, нужна известная бодрость, а у меня ее недостает. Но я надеюсь все же, что эта сумасбродная работа захватит меня. О, как хотел бы я не думать более о моей бедной личности, о моем жалком теле! Оно очень хорошо поживает, это самое тело! Я колоссально много сплю; «сундучок в порядке», как говорят буржуа.
За последнее время прочел кучу скучнейших богословских вещей, вперемежку с Плутархом и Спинозой. Мне нечего больше вам сказать.
Бедняга Эдмон де Гонкур в Шампани у своих родных. Он обещал мне приехать сюда в конце этого месяца. Не думаю, чтобы надежда встретиться с братом в лучшем мире утешала его в утрате здесь.
В вопросе о бессмертии мы отделываемся словами, ибо вопрос этот сводится к тому, чтобы знать — продолжает ли жить наше я. Утверждение, кажется мне, проистекает из нашего чрезмерного самомнения, гордости, из протеста против нашей слабости перед вечным законом. Быть может, смерть скрывает не больше тайн, чем жизнь.
Проклятый год! Мне кажется, что я затерялся в пустыне, а между тем я — мужественный человек, уверяю вас, дорогой маэстро, и прилагаю величайшие усилия к тому, чтобы оставаться стойким. Но несчастный мозг мой временами слабеет. Я нуждаюсь лишь в одном (но это не дается само) — в энтузиазме.
Ваше предпоследнее письмо было очень печально. Вы тоже геройски держитесь; и чувствуете себя усталой! Что же с нами будет!
Только что прочитал «Беседы Гёте с Эккерманом». Вот Гёте — настоящий человек! Но у него и за него было все.
ЭДМОНУ ДЕ ГОНКУР
Круассе, понедельник вечером [начало июля 1870]
Дорогой Эдмон!
Не могу сказать, чтобы ваше последнее письмо доставило мне удовольствие. Но я был очень рад получить от вас весточку. Мне было досадно ничего о вас не слышать, ибо, уверяю вас, я часто и душевно о вас думаю. Какой год! Какой отвратительный год! Я не сравниваю своих огорчений или своего горя с вашим, но и меня здорово пришибло, и я надолго оглушен всеми этими ударами.
Сколько бы я ни повторял великие слова Гёте: «Вперед, по ту сторону могил!» — это нисколько меня не утешает.
Приезжайте же сюда. Мы поговорим о них. Если вас ничто там не держит, мчитесь тотчас же. Я вас жду, так как в конце текущего месяца или в начале августа мне придется поехать в Париж, а затем в Дьепп. Отложить ваш визит на сентябрь очень поздно. Мне не терпится вас обнять, дорогой мой, бедный старик. А там, если будет охота, вы вернетесь в Бар-на-Сене.
Вы, надеюсь, понимаете, что я не настолько глуп, чтобы предлагать вам утешение. Я, напротив, рекомендую вам изо всех сил погрузиться в отчаянье. Надо, чтобы оно утомило вас и своей навязчивостью наскучило вам наконец. Только по окончании этого периода горькие воспоминания приобретают для нас очарование, — так по крайней мере полагают.
Читаете вы что-нибудь? Хватает ли у вас на это сил?
Итак, решено. Вас мы увидим скоро, не правда ли? Моя мать поручила мне передать вам, что она присоединяется к моему приглашению.
В обе щеки, дорогой Эдмон, и весь ваш.
Не знаю вашего адреса. Ответьте мне.
ЖОРЖ САНД
Круассе, среда вечером [20 июля 1870]
Что вы поделываете, дорогой маэстро, а также и все ваши?
Во мне вызывает отвращение, меня удручает глупость моих соотечественников. Неисправимое варварство человечества наполняет меня мрачной печалью. Энтузиазм, не движимый какой-либо идеей, внушает мне желание околеть, чтобы ничего не видеть.
Добряк француз хочет воевать: {Объявление Францией войны Пруссии 18 июля 1870 года.} во-первых, потому что он думает, что его спровоцировала Пруссия; во-вторых, потому что естественное состояние человека — дикарство; в-третьих, потому что война хранит в себе элемент мистики, который увлекает толпу.
Уж не возвращаемся ли мы к расовым войнам? Боюсь, что так. Для подготовляющейся ужасной бойни нет даже предлога. Просто — желание войны ради войны.
Я оплакиваю разрушенные мосты, испорченные туннели, весь этот пропавший людской труд, наконец — такое радикальное отрицание!
Мирный конгресс в настоящий момент — ошибка. Мы, кажется, далеко отошли от цивилизации; Гоббс был прав: Homo homini lupus. {Человек человеку — волк.}
Начал «Святого Антония», и дело пошло бы довольно хорошо, если бы я не думал о войне. А вы?
Здешнему буржуа уже не сидится. Он считает, что Пруссия была слишком нахальной, он хочет «отомстить». Вы знаете, что один господин {Де Кератри.} предложил в Палате разгромить Баденское герцогство. Ах, почему я не могу жить у бедуинов!
ЖОРЖ САНД
Круассе, среда 3 августа 1870
Как, дорогой маэстро, и вы лишились бодрости, и вы грустите! Что ж в таком случае делать слабым?
У меня сердце так щемит, что я и сам удивляюсь и погружаюсь в бездонную скорбь, несмотря на работу, несмотря на доброго «Святого Антония», который должен был бы меня развлечь. Не результат ли это моих беспрерывных огорчений? Возможно. Но во многом виновата война. Мне кажется, что мы вступаем во мрак.
Итак, вот он, человек в естественном своем виде! И стройте теперь теории! Восхваляйте прогресс, знания и здравый смысл масс, кротость французского народа. Уверяю вас, что здесь удавили бы друг друга, если бы кто-нибудь вздумал проповедовать мир. Что бы ни случилось, мы надолго отодвинулись назад.
Быть может, вновь начнутся расовые войны. Не пройдет и ста лет, как мы увидим миллионы людей, убивающих друг друга в один прием. Весь Восток против всей Европы, Старый свет против Нового! Почему же нет? Большой коллективный труд вроде Суэцкого перешейка, быть может, — черновой проект и подготовка в ином плане тех чудовищных конфликтов, о которых мы не имеем представления.
А быть может, Пруссия получит здоровую взбучку, которая входит в намерение провидения и имеет целью восстановить европейское равновесие? Эта страна предполагала гипертрофироваться, как сделала Франция при Людовике XIV и Наполеоне. Это стесняет соседние страны: вот причина всеобщего волнения. Полезно ли сильное кровопускание?
Ах, мы, люди ученые, человечество далеко от нашего идеала! И наша огромная, наша гибельная ошибка в том, что мы считаем его подобным себе и соответственно относимся к нему.
Уважение, фетишизм в отношении всеобщего избирательного права еще больше возмущают меня, чем непогрешимость папы (который, кстати сказать, здорово дал маху). Как вы думаете, дошли бы мы до этого, если бы Франция была во власти мандаринов, а не толпы, которая, в сущности, управляет ею? Если бы вместо желания просвещать низшие классы, занялись бы образованием среди высших классов, у нас не было бы г. Кератри с его предложением разгромить Баденское герцогство — мерой, которую общество считает весьма справедливой.
Изучаете ли вы Прюдома нашего времени? Он стал громадный. Восторгается «Рейном» Мюссе и спрашивает, создал ли Мюссе что-нибудь иное. Вот Мюссе и попал в национальные поэты, вытеснив Беранже! Какая чудовищная буффонада... все вообще. Только невеселая буффонада.
Предвидится нищета. Все находятся в стесненных обстоятельствах, начиная с меня. Но, быть может, мы слишком привыкли к комфорту и спокойствию. Мы погрязли в материи. Надо вернуться к великой традиции не дорожить ни жизнью, ни счастьем, ни деньгами, ничем; стать такими, какими были наши деды: легкомысленными, воздушными созданиями.
Когда-то всю жизнь подыхали с голоду. Та же перспектива брезжит на горизонте. То, что вы говорите о несчастном Ножане, ужасно. Здесь деревня менее пострадала, чем у вас.
ЖОРЖ САНД
Круассе, среда [17 августа 1870]
Я приехал в Париж в понедельник и уехал оттуда в среду. Теперь я знаю сущность «Парижанина» и прощаю в своем сердце самых свирепых политиков 1793 года. Ныне я их понимаю. Какая глупость! Какое невежество! Какое самомнение! Мои соотечественники вызывают у меня рвоту. Их можно повесить на одном дереве с Исидором.
Этот народ, быть может, заслуживает наказания, и я боюсь, как бы он и в самом деле не понес его.
Я не в состоянии ничего читать, тем более писать. Провожу время, как и все, в ожидании известий. Ах, если бы не мать, я бы уже давно уехал!
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, среда 5 часов [31 августа 1870]
Дорогая моя Каро!
Бонанфаны, кажется, очень счастливы, что находятся вдали от «театра военных действий». Их девочки нисколько не раздражают меня, но бедняга Бонанфан без конца харкает. Поверишь ли, что, лежа в постели, я слышу его харканье в саду. Вот что будит меня по утрам, а также споры Гиацинты {Служанка. Флоберов.} с бабушкой.
Я больше не могу переносить это, уверяю тебя, моя Кароло! Если подобная жизнь будет продолжаться, я сойду с ума или обращусь в идиота. У меня судороги в желудке и беспрестанная головная боль. Подумай, мне не с кем, абсолютно не с кем поговорить! Твоя бабушка продолжает стонать из-за слабости ног и глухоты. Можно прийти в отчаянье!
Поговорим о войне, чтобы развлечься. Фортен встретил сегодня одного молодого человека — Стеней, ускользнувшего из рук пруссаков; он утверждает, что Мак-Магон и Базен занимали превосходные позиции. Дней пять тому назад и за два дня до плена Мак-Магон ночевал у его отца (отца этого юноши). Говорят, будто Базен утопил в Мозеле (или, вернее, во рвах, куда он отвел воды Мозеля) 25 000 пруссаков; и еще много чего рассказывают!
Осада Парижа менее чем вероятна. Будут защищать станции между Руаном и Парижем. Говорят также о защите Руана!!!
Национальная гвардия Круассе (вещь весьма важная) соберется, наконец, в будущее воскресенье. Я получил стороной сведения о принце Наполеоне: он очень здорово удирал! Хороши гуси стояли у нас во главе правительства, надо сознаться!
Принцесса останется в Париже до конца.
У меня больше ничего нет на сохранении. Вчера приехали и все забрали. {Принцесса Матильда отдала Флоберу на хранение свои драгоценности и серебро.} Я не знал, что бабушка пригласила сюда мадмуазель Карбоннель. {Дочь музыканта.} Только этого мне недоставало!
А у тебя, милочка, сохранилось ли хоть немного мужества? А как твой муж? Если у тебя есть какое-нибудь серьезное сообщение, напиши на газетном листке.
Где то время, когда я давал тебе уроки, когда мой бедный Буйле приезжал к нам каждую субботу!
Ну, прощай. Постарайся приехать на будущей неделе.
Нежно тебя целую. Твой старый дядя.
ЭДМОНУ ДЕ ГОНКУР
[Круассе] Понедельник ночью [начало сентября 1870]
Дорогой Эдмон!
Не писал вам так долго, ибо думал, что вы в Шампани, а с тех пор как началась война — уже и вовсе не знал, где вы.
Какая нахлобучка, а? Но мы, я думаю, оправимся!
Я ничего не делаю. Жду известий и терзаюсь, сгораю от нетерпения. Глупость местных властей приводит меня в бешенство.
Сюда приехали наши несчастные родственники из Ножана, и под моим кровом ютится теперь шестнадцать человек.
Я пошел санитаром в Руанский госпиталь в ожидании, когда понадобится защищать Лютецию, если начнется осада (которой, я думаю, не будет). У меня желание, зуд драться. Не кровь ли моих предков, натчезов, говорит во мне? Нет... Это поганая жизнь наша сказывается. Ах, бедный друг мой, счастливы те, кого мы оплакиваем!
Как только все окончится, вам необходимо будет ко мне приехать. Мне кажется, нам о многом надо поговорить. К тому же я так одинок! А вы?
Если можете, напишите мне и сообщите о себе и об остальном.
Крепко вас целую.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Суббота [10 сентября 1870]
Дорогой маэстро!
Итак, мы на дне пропасти! Постыдный мир, быть может, мы не примем. Пруссаки хотят разрушить Париж. Это их мечта.
Не думаю, что осада Парижа так близка. Но чтобы принудить Париж пойти на уступки, его запугают появлением пушек, а кроме того, разгромят окрестные провинции.
Мы в Руане ожидаем визита этих господ, а так как я являюсь командиром роты (с воскресенья), то обучаю своих людей и езжу в Руан, где беру уроки военного искусства.
Очень жалко, что мнения расходятся: одни стоят за борьбу не на живот, а на смерть, другие — за мир во что бы то ни стало.
Я умираю от огорчения. Во что обратился мой дом! Четырнадцать человек, и все они стонут и раздражают вас. Я проклинаю женщин, из-за них мы гибнем.
Я ожидаю, что Париж постигнет судьба Варшавы, а вы огорчаете меня своим энтузиазмом перед республикой. {4 сентября 1870 года во Франции была провозглашена республика.} Как можно верить в какие-то призраки, после того как нас побеждает чистейший позитивизм? Что бы ни случилось, люди, находящиеся у власти, окажутся жертвами, и республику постигнет та же участь. Заметьте, что я защищаю эту злосчастную республику; но я в нее не верю.
Вот все, что я имею теперь вам сказать. Я мог бы еще многим с вами поделиться, но голова занята другим. Целые водопады, реки, океаны печали бушуют надо мною. Нет сил больше выносить это. Я боюсь временами, что сойду с ума.
Когда я смотрю на свою мать, у меня пропадает вся энергия.
Вот к чему нас привело яростное нежелание смотреть в лицо Истине! Любовь к фальши и обману! Мы станем как Польша, а затем как Испания. А там придет черед Пруссии — и ее съест Россия.
Ну, а себя я считаю человеком конченным. Мой рассудок никогда не оправится. Нельзя писать, если не уважаешь себя. Одного лишь я хочу — околеть и успокоиться.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Среда [середина сентября 1870]
Я больше не грущу. Вчера я вновь взялся за «Святого Антония». Что поделаешь, надо приспособляться! Надо привыкнуть к тому, что является естественным состоянием человека, то есть к плохому.
Греки во времена Перикла занимались искусством, не зная, чем они будут питаться завтрашний день. Будем как греки! Признаюсь, однако, дорогой маэстро, что я лично чувствую себя скорее дикарем. Кровь моих предков — натчезов или гуронов — кипит в моих венах образованного человека, и у меня, серьезно, глупое, животное желание драться.
Объясните мне это! Мысль о мире бесит меня, и я предпочел бы видеть Париж, объятый пожаром (как было в Москве), чем знать, что туда вступили пруссаки. Но мы до этого не дошли; мне кажется, что ветер повернул в другую сторону.
Я прочел несколько солдатских писем — они образцовы.
Нельзя проглотить страну, где пишутся подобные вещи. Франция — старая кляча, но в ней заложены богатства, она воспрянет.
Что бы ни случилось, мир станет иным, а я чувствую себя слишком старым, чтобы примениться к новым обычаям.
Ах, как мне недостает вас, как хочется вас видеть!
Мы все здесь готовы двинуться к Парижу, если соотечественники Гегеля начнут осаду.
Постарайтесь внушить своим беррийцам, чтобы набирались духу. Взывайте к ним: «Сюда, ко мне, если хотите воспрепятствовать врагу пить и есть в стране ему чужой».
Война (надеюсь) нанесет большой удар «властям». Приобретет ли вновь значение индивидуум, отрицаемый, раздавленный современным обществом. Пожелаем ему этого.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, четверг, 11 часов вечера
[22 сентября 1870]
Милая моя Каро!
Сегодня чувствую себя немного лучше; мы получили такие хорошие вести, что на душе стало легче, хоть и не верится, столько раз они нас обманывали! Ничего тебе не сообщу, чтобы не вызвать у тебя ложной радости. Достоверно лишь одно: всюду отливают пушки, вооружаются и двигаются к Парижу. За два дня через Руан прошло 53 000 человек из разных полков (все пленные бегут из Седана). Формируются армии: через две недели вокруг Парижа соберется около миллиона человек. Руанская Национальная гвардия выступает в будущую субботу.
Так как всем известно, что от пруссаков нечего ждать пощады и что они не хотят мира, даже наиболее робкие люди решились теперь драться до конца. Словом, не все еще, кажется мне, потеряно.
Мне неоднократно казалось, что я схожу с ума, уверяю тебя. Больше всего меня удручает праздность и жалобы. И болтовня. Но в данный момент я воспрянул духом.
Бабушка чувствует себя хорошо. Сегодня у нас были в гостях г-жа Бренн и г-жа Лапьерр, прошлое воскресенье — Рауль-Дюваль с г-жой Перро (матерью Жанвье), г-жа Лепик (ее дочь) и жена полковника Гантес. Последняя была в ужасном состоянии. Она обошла Седанское поле битвы, разыскивая среди трупов своего мужа, но не нашла его. Я думаю, она с удовольствием проглотила бы и Баденге и де Файльи!
В понедельник я завтракал в Ото у философа Батайля. Вот счастливая натура у человека! Твое второе письмо (сегодняшнее) менее печально, чем первое; но я боюсь, что ты будешь очень скучать в Лондоне, где к тому же и климат нездоровый. Я всегда там хворал. Этот город пугает меня; и потом я сомневаюсь, будет ли подходящим для тебя стол, отсутствие мясного бульона. И тысячи мелочей, к которым мы привыкли. Старушки, у которых ты столуешься, не знают твоих любимых блюд, деточка.
Словом, боюсь, как бы ты не расхворалась в Лондоне. Думаю, что тебе лучше через несколько дней переселиться в Брайтон; ты снимешь маленькую квартирку, а Маргарита будет стряпать. Вряд ли пруссаки придут в Дьепп. Сомневаются даже, придут ли они в Руан, слишком он далек от Парижа. Все равно. Оставайся пока в Англии.
От д'Омуа нет никаких известий.
Фейдо в Булони-на-Море, я получил от него сегодня письмо, в котором он сообщает, что «дохнет с голоду», и просит денег. Собираюсь ему послать.
Нас осаждают бедняки! Они начинают нам угрожать. Патрули моей милиции приступят к делу на будущей неделе, и я отнюдь не расположен к снисходительности.
Самое ужасное в этой войне то, что она делает людей злыми. У меня сердце стало каменное, и, что бы ни случилось в дальнейшем, мы так и останемся глупыми. Мы обречены до конца дней своих говорить о пруссаках! Такие удары обухом по голове не проходят безнаказанно. Потрясенный ум не может оправиться.
Я считаю себя человеком конченным, опустошенным. Я лишь оболочка, тень человека. Общество, которое возникнет на развалинах нашего, будет воинствующим и республиканским, то есть оно окажется противным всем моим инстинктам. «Всякая приятность», по выражению Монтеня, станет немыслимой: это именно убеждение (гораздо более, чем война) является причиной моей печали. Музам не будет места.
Но какой я неблагодарный, ведь я увижу еще дорогую мою Каро (которую крепко чмокаю).
Твой старый дядя.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
Четверг, 11 часов вечера [22 сентября 1870]
Дорогой дружище!
С этой же почтой ты получишь сто франков, которые я посылаю заказным. У меня останется сто; из них я возьму завтра пятьдесят франков на покупку револьвера. А там, что бог даст.
Перед визитом пруссаков нам наносят визиты бедные, группами от десяти до тридцати человек, в течение всего дня.
Твой друг не расположен к кротости. Чуть было не сойдя с ума, я впал в бешенство и, что бы ни случилось, останусь идиотом. Такие ливни, захлестывающие мозг, безнаказанно не проходят. Ничего, мне стало лучше. Сейчас я оправился. Не все кончено, а фортуна изменчива. Париж, быть может, будет сожжен, но пруссаков там изрубят и в большом количестве.
Мы получили нынче вечером такие хорошие вести, что я и верить не хочу. Достоверно лишь одно, что Луарская армия — не шутка. Через Руан за два дня прошло 50 000 человек. Руанская Национальная гвардия выступит в будущую субботу в X... (Вернон).
Я погружен в мрачную меланхолию. Какое будущее! Какая колоссальная глупость! Какая насмешка! О, Прогресс! А нас еще обвиняют в пессимизме! Хорошенькая зима будет в «наших местах».
Чувствуешь ли ты, как хорош Баденге? По-моему, он единственный в своем роде.
Я — лейтенант, у меня имеется милиция, и я обучаю своих людей. Все это вызывает во мне отвращение до рвоты, если не слезы ярости.
Хуже всего, что мы заслуживаем такую участь, и пруссаки правы, по крайней мере они были правы.
Прощай, постарайся быть мужественным. Что касается денег, то я очень долго не сумею послать тебе и двадцати франков. Ах, в хорошенькое состояние пришел мой дом — ведь я тебе не сказал, что приютил всех своих родственников из Шампани; приходится кормить четырнадцать человек, а за последние несколько дней тысячи нищих ломятся в калитку моего сада. Ничего! Надо быть философом и «шутить во что бы то ни стало»! «Кандид» — прекрасная книжка.
Лучший привет г-же Фейдо, {Эрнест Фейдо женился вторично.} хотя проклинаю и ненавижу всеми силами души ее очаровательный пол. Ах, долой женщин!
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, среда вечером [27 сентября 1870]
Милочка моя!
Я воспрянул, ибо готов на все; на все, говорю: после воскресенья, когда мы узнали только условия перемирия, поставленные нам Пруссией, в умах у всех произошел полный переворот. Теперь предстоит поединок на смерть. Надо, согласно старой поговорке, «победить или умереть». Самые трусливые люди стали серьезны. Руанская Национальная гвардия посылает завтра в Вернон 1-й батальон; через две недели поднимется вся Франция. Сегодня я видел в Руане пиренейских мобилей! Гурнейские крестьяне идут на врага. Из совокупности известий следует, что во всех стычках, имевших место в окрестностях Парижа, перевес был на нашей стороне, несмотря на паническое бегство зуавов генерала Дюкро. Да, я и забыл, что твой муж каждый день посылает тебе «Хроникёра».
Сегодня вступаю в ночной дозор. Днем сделал своим «людям» отеческое внушение и объявил им, что вспорю шпагой брюхо первому, кто отступит, призывая их пальнуть из ружья, если я побегу. Твой старый толстяк дядя впал в эпический тон! Странная вещь — наш мозг, а мой в особенности! Поверишь ли, я чувствую себя почти веселым! Вчера взялся вновь за работу и вернул себе аппетит!
Все изнашивается, даже горе.
Твой дядя Ахилл Флобер превзошел меня, он собирается оставить своих больных и взяться за ружье.
Р***, неделю тому назад дрожавший от страха, приготовил походный ранец и ждет не дождется выступления: каждый чувствует, что это необходимо; время сетований прошло. Да будет милость божья. Спокойной ночи.
Быть может, я сошел с ума? Но теперь ко мне возвратилась надежда. Если Луарская или Сенская армия отрежет пруссакам подступ к железной дороге, — мы спасены. В Париже 600 000 человек, вооруженных шаспо, и 11 000 человек морской артиллерии, не считая страшнейших орудий и поистине каннибальской ярости, которая всех воодушевляет.
Поговорим, однако, о тебе, бедняжка Каро! Как я скучаю без тебя! Привыкаешь ли к лондонской жизни? Советую тебе проводить побольше времени в Британском музее и Национальной галерее, а также в Кенсингтоне. Не правда ли, как очаровательны прогулки по Темзе? Самое любимое мое место в Лондоне — Гринвичская лужайка. Ты не сообщила мне ничего о Путцеле. {Путцель — маленькая собачка, привезенная Каролиной из Пруссии.} Имеет ли она успех?
Как тебе нравится Жюли? {Старая служанка семьи Флоберов, выходившая Гюстава.} Она уверена (несмотря на то, что ей говорят), что в Париж все еще, и невзирая ни на что, можно попасть «верхним путем»!
Нищие сегодня меньше беспокоили нас, чем прошлый вторник. Более всего приводит меня в отчаянье чудесная погода, солнце как будто насмехается над нами! Каким философским размышлениям предаешься ты, должно быть, в Лондоне, бедняжка моя Каро! Нам никак нельзя последовать за тобою, так как «здоровые мужчины» не могут покинуть Францию! Эмиграция приостановлена.
Прощай, дорогая Каро, бедная моя девочка. Целую тебя нежно и от всего сердца.
Твой старый чудак дядя.
МАКСИМУ ДЮ КАНУ
Круассе, 29 сентября 1870
На твое письмо от 19-го, полученное мною нынче утром, отвечу по порядку. Прежде всего целую тебя и от всего сердца жалею; засим давай побеседуем. Начиная с прошлого воскресенья, воодушевление стало всеобщим, мы знаем, что предстоит поединок не на жизнь, а на смерть. Всякая надежда на мир потеряна; самые большие трусы стали храбрецами. Вот доказательство: первый батальон руанской Национальной гвардии отправился вчера, второй выступает завтра. Муниципальный совет вотировал миллион на покупку шаспо и пушек. Крестьяне взбешены. Ручаюсь тебе, что через две недели поднимется вся Франция. Какой-то крестьянин в окрестностях Манта задушил пруссака и разорвал его зубами. Словом, энтузиазм сейчас самый настоящий. Что касается Парижа, он может устоять и устоит. «Царит самая исключительная сердечность», вопреки тому, что говорят английские газеты. Гражданской войны не будет. Буржуа искренне стал республиканцем: во-первых — от страха, во-вторых — в силу необходимости. Спорить нет времени; я думаю, что социальная революция надолго отложена. Мы получаем известия через посредство воздушных шаров и голубиной почты. Несколько писем к частным лицам, доставленных в Руан, единодушно утверждают, что во всех стычках, происходивших за последние десять дней под Парижем, перевес был на нашей стороне; 23-го было серьезное столкновение.
«Таймс» бессовестно лжет последнее время. Луарская и Лионская армии отнюдь не мифы. За двенадцать дней через Руан прошло 55 000 человек. Огромное количество пушек отливают в Бурже и в Центральной Франции. Если бы возможно было выручить Базена и отрезать сообщение с Германией, мы были бы спасены. Наши военные ресурсы в открытом поле ничтожны, но зато наши артиллеристы странным образом беспокоят гг. пруссаков, которые находят, что мы с ними воюем бесчестно, — по крайней мере они утверждают это в Манте. Вот генералов и офицеров у нас недостаточно. Ничего, мы надеемся на хороший исход. Что касается меня, то, «будучи близок» или «скользнув» мимо безумия и самоубийства, я совершенно оправился. Купил солдатский ранец и готов на все.
Становится красиво, уверяю тебя. Нынче вечером к нам в Круассе прибыло четыреста мобилей из Пиренеев. Двое квартирует у меня, не считая двоих в Париже; у моей матери в Руане двое, у Комманвиля — пятеро в Париже, двое — в Дьеппе. Я провожу время в обучении солдат и в ночных дозорах. С прошлого воскресенья принялся снова за работу и больше не грущу. Бывают — верней, бывали — восхитительные сценки, поистине полные гротеска; в такие минуты человечество предстает во всей наготе. Удручает меня величайшая глупость, которая подавит нас впоследствии. Всякая приятность, по выражению Монтеня, надолго утратится. Народится новый мир: в детях будут воспитывать ненависть к пруссакам. Милитаризм и самый гнусный позитивизм — вот отныне наш удел, разве что порох очистит воздух, и мы, наоборот, станем в результате более сильными и здоровыми. Мне кажется, что мщением за нас в ближайшее время будет всеобщий переворот.
Когда Пруссия овладеет портами Голландии, Курляндии и Триеста, Англии, Австрии и России придется раскаяться. Вильгельм сделал ошибку, не заключив мира после Седана. Мы были бы покрыты несказанным позором; теперь же мы начинаем возбуждать интерес. Что касается немедленного нашего успеха, то как знать? Прусская армия — машина изумительной точности; однако непредвиденное обстоятельство может испортить любую машину. Какой-нибудь пустяк — и сломана пружина. Немцы, наш враг, владеют знаниями, наука за них; однако чувство, воодушевление, отчаяние — это такие элементы, с которыми нельзя не считаться. Победа должна достаться правому, а в данный момент правда на нашей стороне. Да, ты прав; мы расплачиваемся за ложь, в которой так долго жили, ибо все было поддельным: поддельная армия, поддельная политика, поддельная литература, поддельный кредит, даже куртизанки — и те поддельные. Говорить правду считалось анормальным. Персиньи всю прошлую зиму упрекал меня за «недостаток идеала». Возможно, он был искренен. Не то еще откроется; хорошенькие вещи попадут в историю.
Ах, как меня унижает состояние дикаря, в которое я впал, ибо сердце мое иссушилось точно камень! За сим иду перерядиться и отправляюсь на маленькую военную прогулку в Кантелейский лес.
Имеешь ли ты понятие, какое у нас количество нищих? Все фабрики закрыты, рабочие остались без работы и без хлеба: хорошенькая предстоит зима. Несмотря на все это, что-то говорит мне, что мы выпутаемся; но, может быть, я безумец. Выражаю почтение генералу, а тебе — самые нежные свои чувства.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Круассе] Среда, вечер, 5 октября 1870
Дорогая моя Каро!
Не могу сообщить тебе хороших вестей. Пруссаки с одной стороны подошли к Вернону, с другой — к Гурнею. Руан — не устоит! Я не знаю ничего гнуснее Нормандии! Поэтому возможно, что пруссаки обойдутся без особых эксцессов.
Мне кажется, что Республика превзошла в своей глупости Империю! Толкуют все время о центральных армиях, но их не видно. Солдат водят из одной провинции в другую; вот и все. Люди благородные, принимающие в этом участие, возвращаются к себе домой в отчаянье; мы не только несчастны, мы смешны.
Париж продержится еще некоторое время; но, говорят, что скоро не будет мяса; тогда поневоле придется сдаться. Выборы в Учредительное будут 16-го. Мир ни в коем случае не может быть заключен, пока все не урегулировано; таким образом, нам надо ждать еще месяц. Через месяц все окончится, то есть окончится первый акт драмы, вторым будет гражданская война.
Циркуляр Фавра вызвал оживление; но сдача Страсбурга (куда не было послано ни одного человека, ни одного ружья) вновь повергла нас в уныние.
Нам недостает благородства — и больше ничего, ибо если бы все были солидарны между собой, мы могли бы еще одержать верх. Теперь нас может спасти только чудо; но время чудес прошло.
Ты держишь себя стоически и очень благоразумно, дорогая моя девочка. Действительно ли в такой мере, как говоришь? А вот я чувствую себя разбитым, ибо ясно вижу бездну. Что бы ни случилось, тот мир, к которому я принадлежал, умер. Латинская раса окончила свое существование. Настал черед саксонцев, которых поглотят славяне. Такова последовательность.
В утешение мы лет через пять-шесть увидим Европу, объятую пожаром; припав к нашим стопам, она будет молить нас о союзе с ней против Пруссии. Первая держава, которая раскается в своем эгоизме, будет Англия. Ее влияние на Востоке утрачено; Александр одним глотком слопает Константинополь, и это случится очень скоро.
Со вчерашнего дня все ножанцы и бабушка находятся у тебя в Руане, думая, что там они в большей безопасности, чем в Круассе, так как там больше народу; но бабушка надеется скоро вернуться в Круассе, предоставив им выпутываться в Руане, как они сумеют. Написал твоему мужу, чтобы он приехал в субботу вечером отобедать и переночевать в Круассе, дабы мы могли спокойно поговорить. Ты, мне кажется, отнюдь не восхищена семейством Фармеров. Оно слишком буржуазно.
Думаю, что Эрнест скоро вызовет тебя обратно.
Мало вероятия, чтобы пруссаки пришли в Дьепп. Обобрав Руан и Гавр, на что потребуется не много времени, они вернутся к Парижу. Вот и все, моя милочка. Как я буду рад снова увидеть тебя! Невесело мне было, когда я прощался с тобой в Невилле!
Твоя бабушка держится довольно благоразумно. Чувство превосходства над гостями придает ей энергию.
Прощай, Каро, бедная моя девочка. Целую тебя со всею нежностью своего сердца.
Твой старый дядя.
Передай привет г-же Герберт и двум ее дочерям. Ты знакома с Аделаидой (горбатенькой, той, у которой самые прелестные в мире глаза)?
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Вторник, И октября 1870
Дорогой маэстро!
Живы ли вы? Где вы, где Морис и остальные?
Не знаю, как я не умер; я так ужасно страдаю последние полтора месяца.
Моя мать укрылась в Руане. Племянница — в Лондоне. Брат занят городскими делами, а я один томлюсь от нетерпения я горя. Уверяю вас, я хотел делать добро, но это невозможно
Какая нищета! Сегодня у моих дверей собрался двести семьдесят один бедняк — им всем подали милостыню. Что-то будет зимой?
Пруссаки находятся теперь в двенадцати часах пути от Руана, а у нас нет ни приказов, ни начальства, ни дисциплины — ровно ничего! Нам все время морочат голову Луарской армией. Где она? Знаете вы что-нибудь о ней? Что делается в центральной Франции?
Париж, в конце концов, будет голодать, а ему не подают никакой помощи!
Глупость Республики превосходит все глупости Империи. Уж не разыгрывается ли за этим какая-нибудь гнусная комедия? Почему такое бездействие?
Ах, как мне грустно! Я чувствую, что мир гибнет.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Воскресенье [13 октября 1870]
Каждый день я откладываю письмо к вам на завтра в надежде, что смогу сообщить что-нибудь определенное. Но нет ничего; подобно тонущему кораблю мы постепенно погружаемся и не можем даже предвидеть минуты, когда исчезнем окончательно. Прошлое воскресенье мы ожидали здесь 80 000 пруссаков; теперь нам обещают только 70 000, но и они не появляются. Почему? Орлеанское дело, быть может, отвлекло их на несколько дней, и они пойдут прямо на Париж.
Провинция, мне кажется, зашевелилась, и Луарская армия отнюдь не миф. Но что из того! Я не хочу больше надеяться!
Хуже всего — это иметь у себя людей на постое. Если бы вы знали, как они себя ведут, какие позволяют себе гнусности! Я не то что возненавидел человечество, оно внушает мне ужас. Один вид человеческого лица причиняет мне боль.
Я чувствую себя более старым, чем восьмидесятилетний старик! Я в отчаянье, и это слово недостаточно сильно.
Я ничего не могу делать. Провожу время, перебирая воспоминания о прошлом. Будущее представляется мне ужаснейшим мраком. Что бы ни предстояло нам — все, что мы любим, умерло! Быть может, мы станем добродетельными, но обратимся в глупцов! Наступит мир хамства!
Бедный Париж держится геройски; но на сколько его хватит? На месяц, на шесть недель, пожалуй, а после?..
Нищета растет. Ах, куда ни взглянешь, всюду хорошо.
Вы, вероятно, знаете больше нашего; за границей осведомлены лучше, чем во Франции. Неужели Европа допустит, чтобы у нас сожгли все до последней хижины и расстреляли всех до единого крестьян, неужели никто не поможет нам!
Сколько я о вас думаю! Сколько думаю! Я умоляю П... написать мне длинное письмо и по возможности подробно рассказать о вас, о том, как вы устроились. На что уходят у вас бесконечные часы? Прошу вас также, пишите мне медленнее: ваше последнее письмо было очень неразборчиво. Правда, голова у меня стала слабая, да и физически я тоже очень ослаб.
Я подавлен глупостью и зверством человечества.
Прощайте, вспоминайте иногда обо мне. Надеюсь, настанет день, когда я увижу вас! Я сделаю это, как только буду свободен.
Весь ваш.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, четверг вечером [13 октября 1870]
Дорогая девочка, бедняжка моя Каро!
Пруссаков в Руане еще нет, но они в Гурнее и в Жизоре, а сегодня, возможно, и в Андели. Есть предположение, что они займут Амьен; тогда почта из Англии пойдет через Дьепп.
Они столько говорят о своем намерении прийти в Руан, что это, быть может, хитрость; на самом же деле они прямо направятся в Нижнюю Нормандию. Много наших в Флёри; боюсь, однако, как бы мое письмо не попало к ним в руки, поэтому ничего больше тебе не скажу.
Мой бедный слуга уехал сегодня к себе на родину на проверку. Если его у меня заберут, это еще более усугубит мою тоску. Наши родственники возвращаются завтра к себе на родину. На путешествие им потребуется не менее трех дней. Надеюсь, с ними ничего не случится, так как центральная Франция свободна. Бабушка завтра окончательно возвращается домой. С приездом Гамбетты в Тур стало как будто немного больше порядка, чувствуется власть. Как тебе нравится его путешествие на воздушном шаре под пулями? Кокетство.
Бурбаки должен был сегодня прибыть в Руан. Говорят, к нам возвращается Паликао: он может оказать нам немалую помощь.
Что за жалкий гражданин философ Бодри! Он вернулся в Руан, я видел его сегодня. Ты бы не узнала его, так он похудел. Он умирает от страха, это ясно! И не он один.
А я с самого начала недели стал работать, и не плохо! Ко всему можно приспособиться; притом я, кажется, дошел до предела; если не сошел с ума, то чуть было не умер от огорчения и ярости.
Непрекращающийся дождь наполняет меня радостью и благотворно действует на нервы. Мне кажется, что наши враги делают грубейшую ошибку, поджигая деревни. Крестьянин, смирный, как клоп, из любви к своему добру становится диким зверем, если потеряет корову. Излишняя жестокость приводит к затаенной мести: вольные стрелки убивают у них много народу. Ах, если б у нас были: во-первых — артиллерия, а во-вторых — настоящая власть.
Очень хорошо, что ты встретила Франклину. {Франклина Гру, подруга г-жи Комманвиль, вышедшая замуж за Огюста Сабатье, профессора богословия в Страсбурге и Париже.} Советую тебе бросить квартиру и взять другую, где была бы комната с камином. Будь осторожна и не заболей, бедненькая моя Каро. Ты не особенно крепкого сложения, а лондонский климат очень вреден. Если почувствуешь недомогание, тебе придется все же возвратиться домой. Мне кажется, если бы ты была здесь, с нами, я бы вдвое меньше мучился. Как мне хочется тебя поцеловать! Как давно я не видел твоей славной хорошенькой мордочки!
И я не увижу больше часовщика! Он укрылся у себя на родине, в Нижней Нормандии, и будет жить там на свою ренту. Мы не услышим больше его воркотни по два раза в месяц. Прядется ли ему в полное свое удовольствие беседовать о времени!
В прошлый вторник у нас побывало до трехсот бедняков. Что будет зимою? Какая ужасная катастрофа! И к чему? С какой целью? Кому от нее польза? Что за глупое и злое животное человек! И как грустно жить в такое время. Мы попадаем в условия, которые считали немыслимыми, терпим муки, какие Терпели в IV веке, когда варвары проникли в Италию. История Франции не знает ничего более трагического и более великого, чем осада Парижа! От одного этого слова голова идет кругом, а сколько мыслей возбудит оно у будущих поколений! Ничего! Вопреки всему я еще надеюсь. Вот и погода испортилась. Это большая подмога. И потом — как знать? Фортуна изменчива.
Смелее, бедняжка моя Каро. Целую тебя в обе щечки.
Твой старый чудак.
Приласкай Путель.
Наглый тон «Таймса» возмущает меня больше, чем пруссаки.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Воскресенье [23 октября 1870]
Получили ли вы мое письмо, которое должно было попасть к вам через Англию? Из сегодняшнего письма от г. Дюбуа де л'Этан я узнал, что пока можно писать вам непосредственно.
Что мне вам сказать? Я, как и вы, умираю от огорчения, и вы немало места занимаете в этом огорчении. Какая тоска! Какое бедствие! Какие проклятия! Все зависит от темперамента и чувствительности. Многие достойны большего сожаления, чем я. Но я уверен, что никто так не страдает. У меня такое чувство, будто наступил конец мира. Как бы ни сложились обстоятельства, но то, что я любил, утрачено навсегда. Когда война окончится, мы, люди со вкусом, вступим в убийственную полосу. Меня не столько возмущают ужасы этой войны, сколько удручает до отвращения глупость ее; а между тем эти ужасы многочисленны и тяжки!
Здесь мы со дня на день ожидаем в гости пруссаков. Что-то будет? Какая тоска! Я один с матерью, которая стареет с каждым часом, среди тупого населения и осажден бандами бедняков. У нас их бывает до 400 (я говорю 400) в день. Они угрожают; приходится закрывать ставни среди бела дня. Мило! Милиция, во главе которой я стою, настолько недисциплинированна, что я подал сегодня в отставку. Но не все коммуны, слава богу, таковы. В общем, до сих пор у нас не много убитых. Если Базен сумеет прорваться и соединиться с Бурбаки, а Луарская армия в то же время подступит к Парижу — тогда не все потеряно, ибо парижане сделают общую вылазку, и я не сомневаюсь в том, что она будет ужасна. У нас достаточно людей, и скоро мы получим удовлетворительную артиллерию; единственно, чего нам недостает, — главы, командира. О, хотя бы один человек! Только один! Одна умная голова — и мы были бы спасены! Что касается провинции, то ее я считаю погибшей. Пруссаки могут распространяться до бесконечности, но пока Париж не взят, Франция жива.
Бедная Франция, сто лет она боролась и за Америку, и за Грецию, и за Турцию, и за Испанию, и за Италию, и за Бельгию, за всех, — а теперь все равнодушно смотрят на то, как она умирает.
Как нас ненавидят! И как завидуют нам эти каннибалы! Знаете, им доставляет удовольствие разрушать создания искусства и предметы роскоши, когда те попадают к ним в руки. Их мечта — уничтожить Париж, потому что Париж прекрасен.
Я непрестанно думаю об улице Курсель! В воскресные вечера я особенно рвусь куда-то и чувствую себя так, будто меня распиливают пополам.
Милый, дорогой и красивый дом, куда мы никогда больше не войдем! Когда же вновь увижу я ту, которая наполняла тебя такой несказанной грацией? Как радовалось мое сердце, когда я поднимался по ступеням твоей лестницы и подходил целовать ее руку!
Я-то хотел внушить вам мужество, а вот сам плачу, как дурак! Я очень постарел. Простите меня!
Нельзя воспрянуть после такого народного бедствия. Подобные удары бесповоротно разрушают ясность ума! Несчастья, свалившиеся на меня за последние полтора года (то есть утрата самых дорогих мне друзей), настолько ослабили меня морально, что мне труднее бороться, чем я думал. Я, как и несчастная моя родина, унижен в своей гордости.
Что вы делаете по целым дням? Для меня они тянутся бесконечно! Я не могу ничем заняться. Хотелось бы побольше знать о вас. Поручите кому-нибудь из окружающих вас написать мне. Прощайте. Когда мы снова увидимся? Как только будет возможность, я навещу вас, не сомневайтесь. Думайте иногда обо мне и верьте, что я ваш более чем когда бы то ни было.
Пусть Жиро или Поплен {Жиро — художник, Поплен — артист, друзья принцессы Матильды.} напишут адрес на вашем письме.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Пятница, 10 час. вечера [28 октября 1870]
Если я не писал тебе, моя милая Каро, на той неделе, пеняй только на себя. Перед отъездом из Линтона ты писала, что сообщишь мне свой новый лондонский адрес. Я его до сих пор не получил (мы с бабушкой не могли разобрать тот, что ты написала ей третьего дня), поэтому посылаю это письмо наудачу г-же Герберт.
Ничего нового. Мы все еще ждем их! И каждый день множит нашу тоску. Длительная неопределенность отнимает у нас всякую энергию. Единственное, в чем я почти уверен, — это, что на Руан будет сделано нападение только после решительного боя на Луаре. Он должен быть согласован с вылазкой Трошю. Судьба Нормандии (а также и Франции) зависит от этой двойной операции. Если она не окажется решающей, то война затянется еще надолго, ибо в Париже достаточно продовольствия, и он продержится до конца января месяца, а то и дольше. Но когда настанет пора заключить мир, с кем же будет Пруссия вести переговоры, коль скоро у нас нет правительства? Придется провозгласить то или иное, а это продлит пребывание врага на нашей жалкой родине.
Как бы я желал покинуть ее окончательно! Мне хотелось бы жить в стране, где я не был бы обязан слушать барабанный бой, вотировать, сражаться; хотелось бы жить далеко от всех этих ужасов, которые не столь страшны, сколь глупы. Помимо удручающего горя, меня гнетет невыразимое отвращение ко всему, досада, которой нет названия.
Я очень сожалею, что не отправил с тобою вместе бабушку, как намеревался, а сам не уехал в Париж! Там я, по крайней мере, занялся бы каким-нибудь делом и не дошел бы до того состояния, в каком нахожусь.
На что употребить время? Единственное мое общество — бабушка, а с ней невесело, она слабеет с каждым днем! Зачем ты уехала, моя бедненькая Каро! Твое милое общество поддержало бы нас. То, что я говорю, очень эгоистично, ибо тебе гораздо лучше в Лондоне, чем в Дьеппе. Но мы все трое глубоко по тебе соскучились, уверяю тебя.
Раз в неделю я обедаю у Лапьерров, они очень милые и морально стойкие люди. Читаю Вальтер Скотта (о том, чтобы писать, не может быть и речи); как видишь, делаю, что могу. Стараюсь образумиться. Даю себе обеты, но очень быстро снова падаю духом и теряю энергию, как и прежде. Невесело мне живется последние полтора года! Вспомни всех, кого я потерял. У меня никого не осталось, кроме тебя и бедняжки Жюли! И обеих вас здесь нет!
Я менее мрачен в Руане, чем в Круассе; здесь меньше нежных воспоминаний. К тому же я хожу туда, сюда, гуляю в порту, бываю даже в кафе! Какое падение!
Не суди по мне других! Конечно, всем не весело. Но многие переносят наше несчастье философски. К услугам толпы имеются готовые фразы, которые служат для нее утешением от всех зол.
Меня удручают извечная людская жестокость и убеждение, что мы вступаем в отвратительный мир, откуда латиняне будут изгнаны. Со всяким изяществом, даже материальным надолго покончено. Такому писателю, как я, нет больше места на свете.
И даже если бы перевес оказался на нашей стороне, положение вещей останется таким, как я говорю. Будь мне на двадцать лет меньше, быть может, я не плакался бы так на все это. И будь я на двадцать лет старше, мне было бы легче смириться.
Прощай, дорогое дитя мое. Мое старое испытанное сердце преисполнено нежности, когда я думаю о тебе. А думаю я почти непрестанно, мне не нужно это повторять, не правда ли? Когда я снова увижу тебя?
Целую тебя очень крепко.
Твой старый дядя.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Воскресенье вечером [30 октября 1870]
Я еще жив, дорогой маэстро, но от этого мне не легче — так мне тоскливо! Не писал вам раньше, так как ждал известий от вас. Не знал, где вы.
Вот уже шесть недель, как мы со дня на день ждем в гости пруссаков. Прислушиваемся, думая различить в отдалении грохот пушек. Немцы окружают Нижнюю Сену в районе от четырнадцати до двадцати льё. Они даже ближе, так как занимают Вексен, который опустошили дотла. Какой ужас! Просто стыдно называться человеком.
Если мы победим на Луаре, их приход отсрочится. Но победим ли мы? Когда ко мне является надежда, я стараюсь ее отогнать, а между тем, в глубине души, вопреки всему, я не могу запретить себе надеяться хотя бы немного, хоть чуточку.
Не знаю, найдется ли во Франции человек печальнее меня. (Все зависит от чувствительности.) Я умираю от горя — вот где истина, а утешения меня раздражают. Меня удручают людская жестокость и убеждение, что мы вступаем в бессмысленную эру. У нас будет утилитаризм, милитаризм, американизм и католицизм, особенно католицизм! Вот увидите! Война с Пруссией заканчивает и разрушает Французскую революцию.
Но если мы победим, скажете вы? Такая гипотеза противоречит всем прецедентам в истории. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы юг побил север, чтобы католики одолели протестантов? Латинская раса в агонии. Франция идет по стопам Испании и Италии, на сцену выступает хамство.
Какой крах! Какое падение! Какая беда! Сколько ужасов! Можно ли верить в прогресс и цивилизацию после всего, что происходит? На что существует наука? Коль скоро народ, имеющий столько ученых, совершает гнусности, достойные гуннов, даже хуже, ибо он совершает их систематически, холодно, намеренно и извинением ему не может служить ни страсть, ни голод!
За что они нас так ненавидят? Разве вы не чувствуете себя подавленной ненавистью сорока миллионов людей? Эта необъятная адская бездна вызывает у меня головокружение.
Нет недостатка в ходячих фразах: «Франция воспрянет духом! Не надо отчаиваться! Это целительная кара! Право, мы были слишком безнравственны!» и т. д. О, вечная ложь! Нет, нельзя подняться после подобного удара! Я чувствую, что меня он задел до мозга костей.
Будь я на двадцать лет моложе, быть может, я не стал бы так думать, а если бы я был на двадцать лет старше, то смирился бы.
Бедный Париж! Я нахожу, что он держится геройски. Но если мы вновь обретем его, это будет уже не наш Париж. Все мои друзья, которые жили там, умерли или скрылись из виду. У меня уже нет центра. Литература кажется мне излишней и бесполезной. В состоянии ли я буду когда-нибудь вновь заниматься ею?
О, если бы я мог бежать в страну, где не видно мундиров, не слышно барабана, где не говорят о резне, где не надо быть гражданином! Но на земле нет больше места для бедных мандаринов!
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Руан, воскресенье, 18 декабря 1870
Дорогая Каро!
Как ты, должно быть, беспокоишься о нас! Успокойся, мы все живы, пережив ужасные волнения, испытания, невероятные неприятности! Слава богу, что тебя они миновали. Были минуты, когда я думал, что сойду с ума. Какая ночь предшествовала нашему отъезду из Круассе! Бабушка всю неделю ночевала в больнице. Я сам провел там одну ночь. Сейчас мы находимся в порту, и у нас на постое двое солдат. В Круассе их семеро, да еще три офицера и шесть лошадей. До сих пор мы не можем пожаловаться на этих господ. Но какое унижение, бедная моя Каро! Какое разорение! Какая тоска! Какое несчастье! Не жди от меня повествования. Оно было бы слишком длинно, к тому же я не в состоянии рассказывать.
Две недели как мы не имеем возможности получать откуда бы то ни было письма, газеты, сообщаться с окрестностями; ты, вероятно, знаешь больше нашего благодаря английским газетам. Нам невозможно было доставить письма твоему мужу (а он не мог нам написать). Надо надеяться, что когда пруссаки окончательно осядут в Нормандии, они позволят нам передвигаться.
Английский консул в Руане сказал мне, что пакебот из Нью-Гавена больше не ходит. Как только он пойдет, как только можно будет ездить из Дьеппа в Руан„ возвращайся к нам, дорогая моя Каро. Бабушка так стареет! Она так хочет — вернее, так нуждается в тебе! Какие месяцы я провел с ней после твоего отъезда! Мои страдания были так ужасны, что я никому не желаю их испытать, даже тем, кто причинил их! Время, свободное от беготни по поручениям господ пруссаков (вчера я три часа ходил добывать для них сено и солому), мы тратим на то, чтобы осведомляться друг о друге, или плачем каждый в своем углу. Я не вчера родился, и в жизни у меня были тяжелые утраты; так вот все это пустяки в сравнении с тем, что я терплю сейчас. Я говорю — пустяки! Как только переносишь это? Удивляюсь.
И мы не знаем, когда все кончится. Несчастный Париж еще держится! Но он падет! И тогда Франция будет окончательно разгромлена и погибнет. Ну, а потом? Что станется с нами? Какое ждет нас будущее! Не будет недостатка в софистах, которые начнут доказывать, что все к лучшему, что «несчастье очищает». Нет, несчастье делает людей эгоистами, злыми и глупыми. Это было неизбежно, таков исторический закон. Но какая насмешка в словах: «гуманность», «прогресс», «цивилизация»! О, бедное, милое дитя, если бы ты знала, как ужасно слышать стук их сабель на тротуаре, слышать ржание их лошадей у самого лица! Какой стыд! Какой позор!
Мой бедный мозг так болит, что мне стоит больших усилий писать тебе. Как дойдет к тебе это письмо? Не знаю. Меня обнадежили нынче вечером, что можно послать его кружным путём. У дяди Ахилла Флобера были (и продолжаются) большие неприятности в муниципальном совете, который заседал под ружейные выстрелы рабочих. Меня почти беспрерывно одолевает рвота; бабушка совсем не выходит из дому, а когда ей нужно пройти по комнате, то она должна опираться о мебель и стены. Как только станет безопасно, возвращайся. Мне кажется, что твой долг быть теперь возле нее. Твой бедный муж очень грустил о твоем долгом отсутствии. Последние две недели ему, вероятно, еще горше! Говорят, будто пруссаки два раза были в Дьеппе, но не оставались там (первый раз они явились туда за табаком; его прячут, и он становится редкостью). Но мы не знаем ничего положительного, так как секвестрированы, точно в осажденном городе. Ко всем прочим горестям присоединяется неопределенность. Прошлое представляется мне сном!
О, Тампльский бульвар, какой рай! Знаешь, они занимают в Круассе все комнаты. Если бы мы вздумали туда вернуться, нам негде было бы жить. Сейчас 11 часов вечера, дует ветер, дождь хлещет в окно. Пишу в твоей бывшей спальне и слышу, как храпят два солдата, которые спят в твоей туалетной. Погружаюсь в печаль, словно баркас, тонущий в море. Не думал я, что сердце может вынести столько страданий и не умереть от них.
Целую тебя со всей силою. Когда я увижу тебя?
Твой старый дядя, который не может больше выдержать.
В семействе Гру все здоровы.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
1 февраля 1871
Дорогая Каро!
Твой муж писал мне вчера, что предлагает тебе возвратиться домой, как только будут восстановлены рейсы нью-гавенского пакебота. Неужели блокада снята? Не думаю. Он добавляет, что надеется увидеть тебя на будущей неделе. Сомневаюсь в твоем возвращении через неделю. Это будет большим разочарованием для бабушки, у которой иссякли силы и терпение. Остается дорога на Сен-Валери, но безопасна ли она?
Капитуляция Парижа, которой, впрочем, следовало ожидать, повергла нас в неописуемое состояние! Повеситься можно от злобы! Мне досадно, почему Париж не сгорел дотла, почему от него не осталось одно лишь большое черное пятно. Франция так низко пала, так обесчещена, что лучше бы ей сгинуть. Надеюсь, однако, что гражданская война погубит не мало людей. Хотелось бы и мне попасть в их число! Подготовка к этому делу — избрание депутатов. Какая горькая ирония! Само собою разумеется, я воздержусь от голосования. Я снял свой орден Почетного легиона, ибо слово «почет» изъято из французского языка, и я настолько перестал считать себя французом, что собираюсь спросить у Тургенева (лишь только можно будет ему написать) — как сделаться русским.
Твой дядя Ахилл Флобер хотел броситься с моста в реку, а у Рауль-Дюваля было нечто вроде припадка буйного помешательства. Сколько бы ты ни читала газеты и ни рисовала в своем воображении вторжения неприятеля, ты не можешь себе представить, что это такое. Гордые души ранены смертельно и, как библейская Рахиль, «не желают утешений».
С воскресенья у нас в Круассе больше нет пруссаков (зато много их возвращается в Руан). Как только там немного почистят, я поеду взглянуть на бедный, постылый мне теперь дом, куда я боюсь войти, так как не могу выбросить все предметы, побывавшие в руках у этих господ. Будь дом этот моим собственным, я несомненно уничтожил бы его.
О, какая ненависть! Какая ненависть! Она душит меня! Я, такой мягкий от природы человек, чувствую, как злоба подступает мне к горлу.
Прощай, целую тебя.
Твой муж приглашает нас к себе, в Невиль. Для бабушки это путешествие затруднительно; тем не менее, она поедет.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Суббота вечером [18 февраля 1871]
Не писал вам потому, что с 5 декабря по 1 февраля мы были совершенно отрезаны, точно в осажденном городе. Передвижение на расстоянии пяти льё в окружности было затруднено. На целый месяц прервались почтовые сношения между Руаном и Дьеппом!
Невозможно рассказать, сколько я выстрадал; если нагромоздить одно на другое огорчения, испытанные за всю мою жизнь, то и тогда они не сравнятся с тем, что я пережил в настоящее время. По ночам, лежа в постели, я хрипел, как умирающий. Мне казалось иногда, что я умираю, и я сильно желал смерти, клянусь вам. Не знаю, как я не сошел с ума! Я никогда не забуду этого, разве только память откажется сохранить воспоминание об ужасных днях.
Я был изгнан из Круассе пруссаками, которые на целых полтора месяца заняли все комнаты. Их было десять человек, из них — трое офицеров и вдобавок шесть лошадей. В Руане, где я укрылся с матерью, у нас было на постое четверо пруссаков. Муниципальный совет, в котором состоит мой брат, заседал под пулями любезного народа. По городу пронесся даже мимолетный слух, будто брат мой убит.
Здесь, в Дьеппе (куда я привез свою мать, когда внучка ее вернулась из Лондона), нам грозил на той неделе грабеж; эти господа разгромили дома четырех муниципальных советников. Пришлось снова зарыть в землю ценные вещи! Одновременно нам грозила подобная же участь в Круассе. Но то, что творится со времени перемирия, — пустяки. Ужаснее всего было в первые дни оккупации. Все, что вы читаете, не дает об этом ни малейшего представления. Стараюсь не вспоминать, но это немыслимо.
Получил письмо от Эдмона де Гонкур; он извещает меня относительно Тео (оба они здоровы).
Дюма, с которым я часто встречаюсь, сообщил мне о вас, как только я сюда приехал, то есть десять дней тому назад. Он дал хороший совет: не пытайтесь возвращаться в Париж сейчас, вы поступили бы неосторожно.
Мы оба радуемся при мысли, что скоро поедем к вам в гости. Как оживит мое сердце свидание с вами!
Я думаю, что мир будет подписан дней через пять-шесть. Итак, Тьер ныне президент Республики. Сохранит он ее или отдаст в руки Орлеанам? Ах, как мне надоела современная эпоха!
Мне кажется, будто война длится пятьдесят лет, будто вся жизнь до нее была лишь сном, и пруссаки всегда будут сидеть на нашей шее.
Хотел бы снова приняться за работу, но голова слишком еще слабая; самое лучшее занятие — мечтать о прошлом, в котором ваше лицо горит для меня огромным мягким светом.
Терпение и мужество! Быть может, через несколько месяцев мы будем беседовать об этом на улице Курсель.
Нежно и глубоко преданный вам.
Г-ЖЕ РЕНЬЕ
Дьепп, 11 марта 1871
Ваше письмо из Ренн от 17 февраля дошло сюда кружным путем с большим опозданием. Вот почему я не ответил вам ранее. К тому же я чувствовал себя таким удрученным (да и сейчас еще удручен), что не в силах был взяться за перо. Мне кажется, что никого эта война не доводила до такого отчаянья, как меня. Как я не умер от злобы и горя!
Я, как Рахиль, «не желал утешений», проводил ночи, сидя в постели, и хрипел, как умирающий. Я зол на современную эпоху, которая внушила мне чувства, достойные грубого существа, жившего в XII столетии. Какое варварство! Как мы отошли назад! Я ведь отнюдь не был сторонником прогресса и гуманитарных идей! И все же у меня были иллюзии! Я не ожидал, что увижу Конец света. Ибо это так! мы присутствуем при кончине латинского мира. Прощай все, что мы любим! Паганизм, христианство, хамство. Таковы три великие этапа в эволюции человечества. Неприятно оказаться современниками последнего. Ах, мы еще увидим хорошенькие вещи! Меня душит злоба. Вот итог.
Что касается моих пенатов, о коих вы осведомляетесь, то они стали мне ненавистны, ибо в течение полутора месяцев их оскверняли своим присутствием десять пруссаков, не считая четырех лошадей, затем еще шесть в течение шести дней, а в на» стоящее время у меня их не более не менее, как сорок. Да, четыре раза по десяти! Вы не ошиблись, читая.
Я нашел прибежище в Руане, в квартире моей племянницы; здесь их, пруссаков, у меня шестеро и т. д.
Но все это ничто по сравнению с вашими страданиями. Я слышал, что эти господа развлекались вашими платьями. Ну и чудаки. Бедный Мант!
Я вовсе не потому не еду в Париж, что он стал «очагом заразы», ибо мне на это глубоко наплевать. Суть в том, что железная дорога еще не принимает багажа, а я не могу вернуться в свою мансарду с одним только саквояжем. Ответ пишите в Круассе; мне перешлют ваше письмо. Свое я адресую в Мант, куда вы, вероятно, уже возвратились.
ЖОРЖ САНД
Дьепп, 11 марта 1871
Дорогой маэстро!
Когда же мы увидимся? В Париже не очень-то весело. Ах, какая предстоит нам жизнь! Паганизм, христианство, хамство — вот три великие этапа в эволюции человечества. Грустно думать, что находишься при возникновении последнего.
Не буду вам описывать, что я выстрадал с сентября месяца. Удивительно, как только я не подох от всего этого? Никто не приходил в такое отчаянье, как я. Почему? У меня бывали в жизни горькие минуты, я перенес тяжелые утраты, много плакал и намыкался горя. Так вот, все эти страдания, вместе взятые, ничто в сравнении с тем, что я переживаю сейчас. Я не могу прийти в себя. Я безутешен. Потерял всякую надежду.
Я не считал себя, однако, сторонником прогресса и гуманитарных идей! Нет нужды! У меня были иллюзии! Какое варварство! Как мы ушли назад! Я зол на своих современников за то, что они заставили меня испытать чувства грубого существа, жившего в XII веке. Злоба душит меня. Эти офицеры в белых перчатках, разбивающие зеркала, офицеры, изучившие санскритский язык и набрасывающиеся на шампанское, ворующие у вас часы и присылающие вам затем свою визитную карточку, эта война ради денег, эти цивилизованные дикари вызывают во мне больше отвращения, нежели каннибалы. И весь мир подражает им, все собираются стать солдатами! В России их теперь четыре миллиона. Вся Европа готова надеть мундир. Если мы возьмем реванш, он будет отличаться исключительной жестокостью. Заметьте при этом, что теперь только и будут думать о том, как бы отомстить Германии. Правительство, какое бы оно ни было, сумеет удержаться, только если будет играть на этой страсти. Убийство в большом масштабе станет целью всех наших усилий, идеалом Франции.
Я лелею мечту поселиться где-нибудь в спокойной солнечной стране.
Надо ожидать новых лицемерных выходок: напыщенных фраз по поводу добродетели, злобных нападок на испорченность, суровость в одежде и пр. Полнейшее педантство!
В настоящее время у меня в Круассе двенадцать пруссаков. Как только мое несчастное жилище, ставшее для меня теперь ненавистным, освободится и очистится, я туда вернусь, затем, вероятно, отправлюсь в Париж, несмотря на нездоровые условия жизни. Но мне это глубоко безразлично.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Брюссель, ул. Арлон, 15, воскресенье 2 часа
[19 марта 1871]
Дорогая моя Каро!
Сегодня утром мы узнали, что в Париже идет сражение. {18 марта в Париже произошло рабочее восстание и была провозглашена революционная Коммуна.} Неужели это правда? Боюсь, как бы вы не попали в эту суматоху. Вчера послал в Руан телеграмму, сообщающую о моем приезде, а вечером написал вам.
Ввиду того, что я рассчитываю выехать отсюда в Лондон во вторник либо утром, либо вечером, сообщи мне по телеграфу, как вы поживаете. Депеша пойдет через Англию.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Лондон, суббота вечером [25 марта 1871]
Дорогая моя Каро!
Только что получил твое письмо от четверга, которое очень меня успокоило. Как я рад, что вы вернулись в Дьепп!
Я думал выехать завтра вечером и быть с вами в понедельник. Но нью-гавенский пакебот не ходит по воскресеньям. Таким образом, мое пребывание здесь затягивается на сутки, и я попаду в Дьепп не ранее вторника утром. Не нужно высылать мне навстречу Ансельма, если Мерсье обещает, что его экипаж будет на набережной, когда я высажусь.
Мне кажется, что в Париже положение без перемен. Сегодня во французском посольстве (куда я захожу ежедневно) не получено ни одной парижской газеты. Но от одного приезжего, выехавшего вчера в 5 часов вечера с Елисейских полей, мы узнали, что все было спокойно. Ничего не понимаю!
Я подумал было ехать через Кале, Булонь, Амьен и Клер, но тогда я прибыл бы в Дьепп не ранее понедельника вечером, да к тому же меня мог бы задержать в дороге какой-нибудь прусский обоз. Вернее всего, я думаю, избрать кратчайший путь. Как мне хочется поскорей устроиться где-нибудь и начать работать!
Прощай, дорогая моя милочка, — вернее, до свиданья. Поцелуй за меня бабушку и постарайся, чтобы она потерпела до вторника утром.
Поздравляю твоего супруга, избежавшего шальной пули «наших братьев».
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Невиль [близ Дьеппа] 30 марта 1871
Две недели тому назад я рассчитывал, что буду теперь в Париже, однако «наши братья» судили иначе.
Я выехал из Дьеппа в Брюссель, надеясь не увидеть больше остроконечных касок, так как должен был встретиться со своей семьей в новых Афинах, которые, кажется мне, опустились ниже Дагомеи; но в Брюсселе я узнал, что Париж неприемлем для житья. Моя мать и племянница вернулись из Руана в Дьепп; я приехал сюда третьего дня, и в будущую субботу отправляюсь в Круассе, куда решил возвратиться. Было бы очень любезно с вашей стороны, дорогая г-жа Роже, сообщить мне о себе несколько слов. Задача у генерала {Генерал Летелье-Валазе, брат г-жи Роже де Женетт.} трудная. Будут ли ему повиноваться? В этом проблема настоящего момента. Ибо Интернационал только еще возникает, и он будет иметь успех — не тот, на какой надеется, и не тот, какого боятся буржуа; но за ним будущее (и какое будущее!). Разве что восторжествует реакция — клерикальная и монархическая. Это в равной мере возможно.
Эти несчастные переместили ненависть! О пруссаках уже не думают. Еще немного — и их начнут любить! Не миновать нам позора.
Как я устал, как мне хотелось бы поселиться там, где не услышишь ни о чем.
Прощайте, дорогая г-жа Роже; не смею сказать до скорого свидания.
ЖОРЖ САНД
Невиль близ Дьеппа, пятница, 31 марта 1871
Дорогой маэстро!
Решаюсь, наконец, завтра вернуться в Круассе. Тяжело, но необходимо. Постараюсь вновь приняться за бедного моего «Святого Антония» и забыть про Францию.
Матушка останется здесь у своей внучки, пока не выяснится вопрос, куда можно ехать, не опасаясь пруссаков или бунта.
Несколько дней тому назад я уехал отсюда с Дюма в Брюссель, откуда рассчитывал вернуться прямо в Париж. Но новые Афины, кажется мне, превзошли в жестокости и глупости Дагомею.
Наступил ли конец хвастовству? Скоро ли покончат с пустой метафизикой и пошлой болтовней? Все зло происходит от нашего гигантского невежества! То, что надо изучать, безоговорочно принимается на веру. Вместо того, чтобы вникнуть, — утверждают!
Великая французская революция должна перестать быть догматом, ей следует сделаться составной частью Науки, как и всему, что относится к человеку. Если бы мы были более сведущи, мы не верили бы в то, что мистическая формула способна создать армии и что слова «Республика» достаточно для того, чтобы победить миллион дисциплинированных людей. Мы бы умышленно оставили Баденге на троне, чтобы заключить мир, хотя бы после пришлось отправить его на каторгу! Если бы мы были более сведущи, мы бы знали, что представляли собою волонтеры 92 года и брауншвейгское отступление, ценою денег выигранное Дантоном и Вестерманном. Но нет, вечно то же фразерство, вечное хвастовство! А тут Парижская Коммуна, возвращающая нас в полном смысле слова к средневековью. Это совершенно ясно! Вопрос о квартирной плате в особенности изумителен! Правительство вмешивается теперь в естественные права, выступает посредником при сделках между частными лицами. Коммуна утверждает, что долг не долг, что не надо платить услугой за услугу. Это чудовищно по своей глупости и несправедливости!
Многие консерваторы, желавшие из любви к порядку сохранить Республику, жалеют о Баденге и в душе призывают пруссаков. Люди из Ратуши переместили ненависть. Вот за это я и сержусь на них. Мне кажется, мы никогда не были столь низменны.
Мы колеблемся между обществом св. Венсан де Поля и Интернационалом. Но последний делает слишком много глупостей, чтобы быть долговечным. Я допускаю, что он побьет версальцев и опрокинет правительство. Пруссаки войдут в Париж, и в «Варшаве воцарится порядок». Если же, напротив, он будет побежден, — наступит ужаснейшая реакция, и всякая свобода будет задушена.
Что сказать о социалистах, которые подражают приемам Баденге и Вильгельма: реквизиции, запрещение газет, смертная казнь без суда и следствия и т. п. Ах, что за безнравственное существо — толпа и как унизительно быть человеком!
Целую вас.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Круассе, четверг [1871]
Маленькое ваше письмецо из Сен-Грасьена сулило мне послание.
Я жду его, принцесса.
Поплен два раза сообщал мне о вас, но я предпочел бы иметь весточку от вас лично. Я сам отправлюсь за ним, когда племянница увезет мою мать из Дьеппа, то есть как только освобожусь.
Не забудьте осведомить меня, на чье имя вам писать. Просто на ваше, не правда ли? Простите меня на сей раз за чрезмерную осторожность.
Удовольствие снова оказаться у себя дома должно быть смягчает горечь от присутствия пруссаков. Ибо они, вероятно, имеются у вас? По крайней мере, мы еще не освободились от них. Это счастье нам сулят на ближайшее время, но оно откладывается с недели на неделю, со дня на день. Я дошел до последней степени отчаянья. Все! Все, что угодно (даже Коммуна), только не остроконечные каски! Ничто в мире я не ненавидел так, как этих людей, ибо ничто не причиняло мне столько страданий.
Мне кажется, что на политическом океане сейчас мертвая зыбь. Не может все время длиться буря! А вы теперь обыкновенная гражданка? Но для нас вы всегда останетесь принцессой, нашей принцессой, чьи руки я благоговейно целую.
Ваш верный.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, пасхальное воскресенье
6 часов вечера [9 апреля 1871]
Моя милочка!
Бабушка пишет мне каждый день и все повторяет, что собирается обратно в Руан.
Что мне думать? И что делать? Она могла бы в крайнем случае спать в своей спальне в Круассе, хотя лучше было бы сейчас же оклеить ее комнату новыми обоями в уверенности, что пруссаки больше не вернутся.
Мне же перспектива возвращаться в Порт мало улыбается, ибо я уже водворился к себе в кабинет и принялся, слава богу, за работу. Бабушка не усидит в Руане, если я буду в Круассе! Милая, неугомонная старушка! Она пишет мне в своих письмах, что «боится причинить вам беспокойство». Если ее очень мучают зубы, я могу зайти к Колиньону и попросить его съездить в Дьепп. Или же ты отвезла бы ее в Руан (еще раз!).
Будущая горничная окончательно обещала мне, что станет свободна через неделю; так что будь спокойна.
С тех пор как я сюда вернулся, у меня не было гостей, за исключением семьи Лапьерров, которые находятся сейчас здесь в полном составе. Лапьерр (возвратившийся вчера вечером из Парижа) полагает, что дня через два с коммунарами будет покончено. Сегодня должны обойти Монмартр и, быть может, вступят в Париж. В воскресенье он присутствовал при сражении и видел в Версале д'Омуа, который чувствует себя чудесно. Вышеупомянутый д'Омуа является одним из тех депутатов, которые присоединяются к солдатам на поле битвы и подбадривают их. Впрочем, милые солдатики так взбешены против «наших братьев», что не дают им пощады.
Прощай, милая. Ты теперь, пожалуй, лучше настроена? Твое последнее письмо способно было наполнить меня самодовольством...
ЖОРЖ САНД
Круассе, понедельник, 2 часа ночи [24 апреля 1871]
Дорогой маэстро!
Почему нет писем? Разве вы не получили моих из Дьеппа? Не больны ли вы? Живы ли? Что это значит? Надеюсь, вы (и никто из ваших) не в Париже — столице искусств, очаге цивилизации, центре хороших манер и урбанизма? Знаете ли вы, что хуже всего? К этому привыкаешь. Да, мы приспособляемся, привыкаем обходиться без Парижа, не думать о нем, почти забываем о его существовании.
Вот я не таков, как буржуа; я считаю, что после вторжения неприятеля не существует никаких несчастий. Война с пруссаками представляется мне огромным переворотом в природе, одним из тех катаклизмов, какие происходят через каждые шесть тысяч лет; в то время как парижское восстание, по-моему, вещь чрезвычайно ясная и почти естественная.
Что за ретрограды! Что за дикари! Как они похожи на приверженцев Лиги. Бедная Франция, она никогда не освободится от средневековья! Она до сих пор еще держится средневекового понятия о Коммуне, которая есть не что иное, как римская муниципия!
Ах, мне тяжело на сердце, клянусь вам!
А маленькая реакция, которая ждет нас после всего этого! Как расцветут добрые священники!
Я снова взялся за «Святого Антония» и работаю с большим рвением.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, четверг [27 апреля 1871]
Не писал вам, так как думал, что вы заперты в Париже, и немало беспокоился о вас; к тому же не знал, каким образом переслать вам письмо.
Хорошенькие дела творятся! Ну, что же! Для меня все ясно, и я вышел из того ужасного состояния агонии, в каком находился последние полгода. Как только не сошел я с ума? Вопреки всеобщему мнению, я не знаю, что может быть хуже прусского нашествия. Полное уничтожение Парижа Коммуной причинило бы мне меньше страданий, чем сожжение одной какой-нибудь деревушки этими господами, столь «очаровательными» и т. д. Ах! Доктора философских наук, предающиеся такого рода ремеслу и подчиняющиеся такого рода дисциплине — вот это ново и непростительно! Поэтому и не следует сравнивать ужасы настоящего нашествия с теми, что могли натворить солдаты Наполеона I. Кстати, об этом старике — я боюсь, как бы его колонна {«Вандомская колонна» — памятник, поставленный в Париже в 1806 году для увековечения побед Наполеона I. Была низвергнута во время Парижской Коммуны как «варварский монумент, символ грубой силы и ложной славы, апология милитаризма». В 1875 году восстановлена.} при разрушении не рассеяла в воздухе семян какой-нибудь Третьей империи, которая расцветет впоследствии. Один из сыновей Плонплона {Прозвище принца Жерома Бонапарта.} лет через двадцать восстановит младшую ветвь. Ну, а социализм упустил единственный случай, и теперь он надолго умер. Его погубил мистицизм. Ибо все, что делается в Париже, — лишь обновленное средневековье. Коммуна все равно, что Лига! Чтобы уйти от всего этого, я с отчаяньем углубляюсь в «Святого Антония» и работаю над ним последовательно и настойчиво. Если ничто мне не помешает, я окончу книгу менее чем через год.
Как тут не заболеть! Меня отнюдь не удивляет то, что вы говорите о своем здоровье. Бедные нервы! Бедные нервы! И вы очень страдаете! Пишите мне длинные письма, если можно. А в Бурбонне поехать попытайтесь.
Ну, прощайте. Когда увидимся? Я лично приеду в Париж-Дагомею, как только можно будет въехать туда.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, 29 апреля 1871]
Отвечаю вам тотчас же на ваши вопросы, касающиеся лично меня. Нет, пруссаки не разгромили моего жилища. Они стибрили несколько мелких вещичек, туалетный несессер, папку, несколько трубок; но в общем не причинили беды. Мой кабинет они пощадили. Я зарыл большую коробку с письмами и спрятал в надежное место объемистые заметки к «Святому Антонию». Я нашел все нетронутым.
Худшее для меня в этом нашествии то, что оно на десяток лет состарило мою милую старушку-мать. Как она изменилась! Она не может самостоятельно передвигаться и удручающе слаба. Грустно видеть, как постепенно хиреют любимые существа!
Чтобы не думать об общественных и личных бедствиях, я вновь яростно погрузился в «Святого Антония» и, если ничто мне не помешает и я буду продолжать в таком же духе, то окончу будущей зимой. Хотелось бы очень прочесть вам шестьдесят написанных мною страниц. Приезжайте же мепя навестить, дорогая, когда можно будет снова ездить по железным дорогам. Ваш старый трубадур давно уже вас ожидает. Ваше письмо нынче утром растрогало меня. Какой вы молодец, и какое у вас всеобъемлющее сердце!
Я не таков, как многие, которых огорчает война в Париже. Я лично считаю, что ее легче перенести, чем нашествие немцев. Отчаянье дошло до предела, и это является лишним доказательством нашего падения. «Ах, слава богу, здесь пруссаки!» — в один голос кричит буржуазия. Сюда же я отношу и господ рабочих, пусть они все вместе отправляются ко всем чертям, с камнем в воду — туда им и дорога! Тогда вновь наступит спокойствие. Наша родина станет большой заурядной промышленной страной, вроде Бельгии. Когда Париж перестанет существовать как правительственный центр, Франция станет бесцветной и тяжеловесной. У нее больше не будет ни сердца, ни центра, ни, кажется мне, ума.
Ну, а Коммуна, у которой начинается предсмертный хрип, — это последнее проявление средневековья. Последнее ли? Будем надеяться!
Я ненавижу демократию (по крайней мере в том смысле, как ее понимают во Франции), то есть превозношение милосердия в ущерб справедливости, отрицание права, словом, антиобщественное.
Коммуна реабилитирует убийц точно так же, как Иисус оправдывал разбойников; грабят особняки богачей, потому что научились предавать проклятию Лазаря не за то, что он был злым богачом, но просто богачом. Мысль, что «Республика вне всяких споров», стоит веры в «непогрешимость папы»! Вечно формулы! Вечно божества!
Предпоследнее божество, всеобщее избирательное право, недавно сыграло ужасную штуку со своими приверженцами, провозгласив «версальских убийц». Во что верить? Ни во что! Вот начало мудрости. Пора отделаться от принципов и вступить в область Науки, изучения. Единственно разумная вещь (к чему я всегда возвращаюсь) — это правительство мандарината, лишь бы мандарины что-нибудь знали и даже многое знали. Народ — извечный труженик и всегда останется (в социальной иерархии) в последних рядах, ибо он — большинство, масса, беспредельность. Ничего, что многие крестьяне умеют читать и не слушаются своего кюре; гораздо важнее, чтобы многие, вроде Литре или Ренана, могли жить и чтобы к ним прислушивались. Наше спасение ныне в законной аристократии; я подразумеваю под этим не численное, а иное большинство.
Если бы мы были более образованны, если бы в Париже больше людей знало историю, нам не пришлось бы пережить ни Гамбетты, ни Пруссии, ни Коммуны. Что делали католики, чтобы уберечься от большой опасности? Они творили крестное знамение и призывали милость божию и всех святых. Мы же, более передовые, готовы были кричать: «Да здравствует республика!» — воскрешая воспоминание о 92 годе, и не сомневались в удаче, заметьте. Пруссаков более не существовало, люда обнимались от радости и удерживались, чтобы не побежать к Аргонским ущельям, которых больше не существует. Это неважно, такова традиция. Один мой руанский знакомый предложил какому-то клубу выделывать пики для борьбы против шаспо!
Ах! Насколько практичнее было бы оставить Баденге, чтобы отправить его на каторгу по заключении мира! Ни в Австрии после Садовой, ни в Италии после Новары, ни в России после Севастополя не произошло революции. А добрые французы спешат разрушить дом, лишь только в трубе показывается огонь.
Наконец, я должен сообщить вам ужасную мысль: боюсь, как бы разрушение Вандомской колонны не заронило бы зерна Третьей империи. Как знать, быть может, лет через двадцать или сорок какой-нибудь внук Жерома окажется нашим властителем.
В данный момент Париж положительно находится в припадке эпилепсии. Это результаты прилива крови, причиненного осадой. Впрочем, последние несколько лет Франция пребывала в странном умственном состоянии. Успех «Фонаря» и Тропман — довольно явные симптомы его. Это безумие — последствие слишком большой глупости, а глупость проистекает от излишнего пристрастия ко лжи, ибо ложь приводит к идиотизму. Утрачено всякое представление о добре и зле, о прекрасном и уродливом. Припомните критику за последние годы. Делала ли она какое-нибудь различие между великим и смешным! Какое отсутствие уважения! Какое невежество! Какая путаница! «Говядина или жаркое — одно и то же». И в то же время какое раболепство перед общественным мнением текущего дня, модное пресмыкание!
Все было поддельно: поддельный реализм, поддельная армия, поддельный кредит, даже распутные девки — и те поддельные. Их называли «маркизами» так же, как светские дамы фамильярно называли друг друга «свинушками». Девицы легкого поведения, вроде Лажье, сохранившие традиции Софи Арну, внушали ужас. Вы не видели, с каким почтением относился Сен-Виктор к Паива! И вся эта фальшь, являющаяся, быть может, следствием романтизма, господства страсти над формой и вдохновения над правилом, главным образом применяется к манере суждения. Если хвалили актрису, то лишь как хорошую семьянинку. От Искусства требовали высоконравственности, от философии — ясности, от порока — приличия, а Наука должна была быть доступна для народа.
Какое, однако, длинное письмо. Когда я начинаю облаивать своих современников, то не знаю пределов.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Круассе] Воскресенье вечером [30 апреля 1871]
Милая моя!
Бабушка как будто чувствует себя лучше; последние два дня она не такая грустная; мне кажется, что консультация дяди Ахилла, которая состоялась в четверг, немного подняла ее моральное состояние.
Сегодня у нас весь день провели Жюли, Жюльетта и Эрнест (с которым я сыграл партию в «пробку»), засим я ходил пешком (!!!) в Бапом, чтобы отдать свой избирательный бюллетень, вычеркнув имя «Псевдо». Если этот фрукт получит еще много голосов, он может сделаться нашим мэром, а это было бы досадно.
Я выбрал для камина в комнате с двумя кроватями маленькие белые изразцы. Философ Бодри был у нас вчера к завтраку. Вот и все новости.
Коммунар и коммунист Кордом в одиночке. Его жена хлопочет об его освобождении и обещает, что он эмигрирует в Америку. Третьего дня взяли также и других патриотов.
Что касается меня, то я по горло сыт парижским восстанием! У меня больше духа не хватает читать газеты. Беспрерывные ужасы не столько меня огорчают, сколько вызывают во мне отвращение, и я всеми силами погружаюсь в добрейшего «Святого Антония». Нынче вечером начал описание маленького христианского кладбища, куда правоверные приходят оплакивать мучеников. Это будет отменно.
Бедняжка Каро! Как жаль, что мы не живем вместе! Я так люблю беседовать с тобой! Впрочем, теперь мне некому делать свои излияния.
Узнал нынче утром из газет о смерти г-жи Виардо. Мне очень жаль Тургенева, и я сейчас же ему напишу.
Кстати, твое последнее письмо бабушке было очень мило. Первая премия за эпистолярный стиль — Каро!
Твой супруг, вероятно, сильно устал от путешествия. Рад узнать, что он добился от грациозного Винтера того, что хотел.
Твой старый недотепа.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Среда вечером [3 мая 1871]
После нашего свидания я получил только два письма. Одно неделю тому назад, от 22 апреля, а другое, от 28-го числа — в воскресенье. Теперь я уверен, что перехватили и ваши, и мои письма, если только они просто не затерялись на почте. Та же история повторилась с г-жой Дюбуа де л'Этан, о чем я знаю со слов ее матери, так как ее я не видел; я напрасно прокатился в Руан.
Коль скоро правительство (или Коммуна, — не знаю) сует свой нос в мои послания, я не вижу причины стесняться; поэтому я возвращаюсь к старым своим привычкам и буду по-прежнему называть вас настоящим вашим именем, ибо для меня вы навсегда останетесь высочеством, и даже лучше — «нашей принцессой», как говорил Сент-Бёв. Это наименование принадлежит вам одной. Оно исключительно, подобно моему чувству к вам.
Я чувствую, что вы очень грустите, и хотел бы вам чем-нибудь помочь. Воспоминание об очаровательных часах, проведенных возле вас в Сен-Грасьене и на улице Курсель, заняло прочное место в моем сердце. Я вновь вижу места, отмеченные вашим присутствием, разливавшим вокруг словно свет и доброту.
В эту минуту у меня безумное желание целовать ваши руки.
Ах, как мне понятно все, что вы говорите! И я думаю, что никто не поймет вас лучше меня. Я тоже восемь месяцев задыхался от стыда, бешенства и горя; ночи напролет я плакал, как маленький ребенок. Я был близок к самоубийству, чувствовал, как мной овладевает безумие, испытал первые симптомы, первые приступы рака. Но я дал своей злобе перекипеть, и это как будто очистило ее, так как теперь я стал почти нечувствителен к народным бедствиям. Когда же дело касается несчастий отдельных лиц, несчастий тех, кого я люблю, тут происходит обратное: моя чувствительность обостряется, мысль о вашем горе приводит меня в отчаянье. Рана затянулась. Добрый вечер!
После вторжения пруссаков я закрыл лицо Франции смертным покровом. Пусть она отныне влачится в грязи и крови! Ничего не поделаешь, с нею покончено.
Что бы ни случилось, Париж уже не будет резиденцией правительства. Отныне Париж — не столица, Париж, нами когда-то любимый, отходит в область истории. Мы больше не найдем в нем того, что делало жизнь такой приятной. Я говорю мы, ибо вы возвратитесь (вас заставят возвратиться, как только восстановится прочное правительство). Но, быть может, вы пожалеете о своем изгнании, увидя столько разрушений и перемен!
Коль скоро вы просите сообщить подробно о моем житье-бытье, извольте: я один в Круассе вместе с матерью, которая не может более ходить и ужасно слабеет. Единственное мое развлечение — это военные прогулки господ пруссаков, которых я вижу иногда в окно, а занятием мне служит работа над «Святым Антонием», над которым я работаю, не сходя с места. Это необычайное произведение отвлекает мои мысли от парижских ужасов. Когда один мир кажется нам очень плохим, мы ищем спасения в другом. Старая поговорка «спасение в литературе» — отнюдь не штамп! Кстати о литературе. Как вам нравится этот несчастный Труба, сделавшийся секретарем, — угадайте у кого? — У Феликса Пиа! После Сент-Бёва! Какая дистанция. Странные натуры, эти люди, которым всегда нужно за кого-нибудь цепляться, которые не могут жить иначе как на положении сеидов!
Г-жа Санд прислала мне письмо, полное отчаянья. Она увидела, что старый кумир ее — ничто, и ее республиканская вера, мне кажется, окончательно угасла! Вот несчастье, какого со мной не случится.
Итак, прощайте, мужайтесь! Фортуна возвращается! Когда вам нечего будет делать, напишите мне. Я почти непрестанно о вас думаю и более, чем когда-либо, верен вам, принцесса.
ЖОРЖ САНД
Круассе, воскресенье вечером [11 июня 1871]
Дорогой маэстро!
Никогда еще у меня не было такого желания, такой потребности видеть вас, как сейчас. Я только что вернулся из Парижа, и мне не с кем поговорить. Задыхаюсь. Подавлен — вернее, полон отвращения.
Трупный запах вызывает во мне меньше отвращения, нежели миазмы эгоизма, вырывающиеся из всех уст. Вид развалин — ничто в сравнении с огромным зверем, каким стал Париж. За редким исключением всех, кажется, надо было бы связать.
Одна часть населения готова задушить, другую, а эта, в свою очередь, питает те же чувства к первой. Это можно ясно прочесть в глазах прохожих.
А пруссаков больше не существует! Им прощают, ими восхищаются. «Люди благоразумные» хотят получить права гражданства в Германии! Уверяю вас, род людской может привести в отчаянье.
В четверг отправлюсь в Версаль. Правые наводят страх своей жестокостью. Голосование за Орлеанский дом {Отмена закона об изгнании членов Орлеанского дома, изданного во время Второй империи.} — уступка правым, дабы не раздражать их и выиграть время для подготовки борьбы с ними. Я исключаю из общего безумия Ренана, который показался мне, напротив, большим философом, и милейшего Сулье; он поручил мне передать вам тысячу нежных слов.
Я узнал кучу новых ужасных подробностей, но вас я от них избавлю.
Кратковременная поездка в Париж чрезвычайно меня взволновала, и мне трудно будет снова приняться за работу. Как вам нравится мой друг Мори, который в течение всей Коммуны удержал над зданием Архива трехцветный флаг? Я думаю, немного найдется людей, способных на такой смелый шаг.
Когда история разберется в парижском пожаре, она, (несомненно, найдет там немало различных элементов, среди которых, вероятно, окажется: 1) Пруссия, 2) приверженцы Баденге. Ни одной письменной улики против Империи более не существует, и Гаусманн смело может явиться в Париж на выборы.
Читали ли вы план романа Исидора, находившийся среди документов, найденных в сентябре прошлого года в Тюильри? Что за сценарий!
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Круассе, понедельник вечером [21 июня 1871]
Вы знаете теперь, что означала моя телеграмма, и должны понять, каково было мое беспокойство. Новая любезность милых газет. У меня было сомнение, не является ли новость ложной. И все же угнетала какая-то тоска. Вид вашего милого почерка избавил меня от тяжести на сердце.
Так вот, принцесса, ваши мрачные предсказания опровергнуты. Парижская Коммуна не только не распространилась по всей Франции, но находится при последних конвульсиях. И через недельку можно будет без сомнения вернуться в проклятый и обожаемый город. У меня нет желания вновь его увидеть, и надолго, вероятно, пребывания мои в нем будут краткими. Мне хотелось бы передать мое маленькое жилище его хозяину. Соседство с улицей Курсель будет мне столь тягостно! Но кто знает, что произойдет до января месяца?
Я продолжаю работать в ужасной тоске, которую постоянно вызывает во мне общество моей матери. Сохрани вас бог видеть физический и моральный упадок тех, кто вам дорог! Ах, какие огорчения я перенес в течение двух лет!
С радостью предполагаю отправиться к вам с продолжительным визитом в июле или в августе. Откажитесь на это время от путешествия в Италию. Фортуна изменчива, обождите. Я не хочу подавать вам никакой надежды, но я хотел бы избавить вас от отчаянья.
Знаете, что меня ужасает в близком будущем Франции? Надвигающаяся реакция. Название, которым она прикроется, не имеет значения; но она будет антилиберальной. Страх перед социальной революцией бросит нас в сторону консервативного режима, отличающегося большой глупостью. Неважно! Арест Рошфора на минуту пробудил во мне радость. Не его я хотел бы видеть наказанным, я предпочел бы видеть в грязи вместе с этой глупой личностью всех кретинов, которые млели от восторга перед его стилем! Когда я размышляю о гигантской глупости моей родины, то спрашиваю себя: не достаточно ли она наказана?
Я встретил случайно герцога Альбюфера и Буателля. Уже давно я не имею никаких вестей от г-жи Санд. Не продолжает ли она сердиться по поводу моих «разочаровывающих» писем? Я думаю все же, что нет. Я клевещу на нее. Ввиду того, что Тьер оказал нам недавно очень большую услугу, через месяц к нему в нашей стране будут относиться с самым большим омерзением; это в порядке вещей. Возможно также, что продлят его полномочия на два года. И в этом случае друзья потревожат себя, чтобы доказать вам, что не все забывчивы.
Часто шлите мне ваши письма.
Целую вам обе руки и пребываю, принцесса, ваш верный и преданный.
ЖОРЖ САНД
[Париж] 25 июля 1871
Я нашел Париж не таким обезумевшим, как в июне месяце, по крайней мере внешне. Пруссию начинают ненавидеть самым естественным образом, другими словами — возвращаются к французским традициям. Никто не произносит больше фраз, восхваляющих ее цивилизацию. Что же касается Коммуны, то ее возрождения ждут позднее, и «люди порядка» не делают ровно ничего, чтобы воспрепятствовать этому возвращению. Новые болезни лечат старыми средствами, которые никогда не излечивали (и не предупреждали) даже малейшего заболевания. Восстановление заложничества представляется мне огромнейшей глупостью. Один мой знакомый произнес прекрасную речь по этому поводу; он крестник вашего друга, Мишеля де Бурж, мэр Клермон-Феррана Барду.
Я согласен с вами, что у нас может утвердиться буржуазная республика. Отсутствие возвышенных чувств гарантирует устойчивость ее. Впервые мы имеем дело с беспринципным правительством. Начинается эра позитивизма в политике.
Чудовищное отвращение, внушенное мне современниками, уносит меня в прошлое, и я изо всех сил работаю над милым моим «Святым Антонием». И в Париж я поехал исключительно ради него, так как не могу достать в Руане необходимых мне в данный момент книг; я погружен в изучение персидских религий. Пытаюсь уяснить себе сущность бога Гома, но это не легко. Весь июнь месяц прошел в изучении буддизма, о котором у меня уже раньше было много заметок. Но я хотел исчерпать предмет до дна. Как бы мне хотелось прочесть вам эту книжку (мою!).
Не еду в Ножан, так как не решаюсь теперь оставлять мать одну. Ее общество удручает и нервирует меня; и я и моя племянница Каролина сменяем друг друга, поддерживая это дорогое и тяжелое бремя.
Через две недели я вернусь в Круассе. С 15-го по 20 августа ожидаю милейшего Тургенева. Было бы очень мило с вашей стороны сменить его, дорогой маэстро. Я говорю сменить потому, что после пребывания пруссаков у нас осталась только одна чистая комната. Право, сделайте доброе дело. Приезжайте в сентябре.
Знаете ли вы что-нибудь об «Одеоне»? Я никак не могу получить от г-на Шилли какого-либо ответа. Заходил к нему несколько раз, послал три письма — ни слова. У этих молодчиков прелестная манера корчить из себя важных персон. Не знаю, продолжает ли он быть еще директором или же дирекция перешла к компании Бертон — Лоран — Бернар?
Бертон писал мне, чтобы я отрекомендовал его (или их) д'Омуа, депутату и председателю драматической комиссии, но с тех пор я ничего о них не слыхал.
ЖОРЖ САНД
Круассе, среда вечером, 6 сентября [1871]
Что это, дорогой маэстро, вы, кажется, забыли своего трубадура? Верно, вас совсем замучили дела? Как давно я не видел ваших милых крупных строчек! Как давно не беседовали с вами! Как жаль, что мы живем так далеко друг от друга! Вы мне очень нужны.
Я не решаюсь оставлять бедную мою мать. Когда я бываю вынужден отлучиться, меня заменяет Каролина. Если бы не это, я приехал бы в Ножан. Неужели вы вечно будете там сидеть? Неужели придется ждать, пока пройдет ползимы, чтобы вас расцеловать?
Мне бы очень хотелось прочесть вам «Святого Антония», первая половина которого написана, а затем излить перед вами душу и рычать возле вас.
Один из ваших почитателей, который знает, что я вас люблю, принес мне номер «Голуа», где напечатаны отрывки вашей статьи о рабочих, опубликованной в «Тан». Как метко! Как правильно и хорошо сказано! Грустно! Грустно! Бедная Франция! А меня еще обвиняют в скептицизме!
Как вам нравится м-ль Папавуан, поджигательница, которая на одной из баррикад выдержала натиск восемнадцати граждан. Перед этим бледнеет конец «Воспитания чувств», где ограничиваются' преподнесением цветов.
Но консервативная партия всех превзошла; она даже не вотирует, а только и делает, что дрожит от страха. Вы не можете себе представить, какая в Париже тревога. «Через полгода, сударь, всюду установится Коммуна», — вот всеобщий ответ, или, вернее, вопль.
Я не верю в близкую катастрофу, потому что никогда не сбывается то, что предполагаешь. Интернационал, может быть, и восторжествует в конце концов, но не так, как надеются, и не так, как этого боятся. Ах, как надоели мне гнусный рабочий, тупой буржуа, глупый крестьянин и ненавистный священник!
Поэтому я и погружаюсь, насколько могу, в античный мир. В данный момент я заставляю говорить умирающих богов. Подзаголовок моей книжки мог бы быть такой: «Верх безумия». А типография отодвигается все дальше и дальше в моем сознании. К чему печататься? Кто сейчас думает об Искусстве? Я пишу для себя точно так же, как буржуа вытачивает кольца для салфеток у себя на чердаке. Вы скажете, что лучше делать что-нибудь полезное. Но как? Как заставить себя слушать?
Тургенев писал мне, что в октябре месяце приедет в Париж и останется там всю зиму. Будет с кем поговорить. Ибо я не могу больше говорить с кем бы то ни было и о чем бы то ни было.
Сегодня убирал могилу моего бедного Буйле, и поэтому нынче вечером мне еще горше.
ЖОРЖ САНД
Круассе, 8 сентября 1871
Ах, какие миленькие! {Внучки Жорж Санд — Аврора и Габриель, дочери ее сына Мориса.} Что за амурчики! Какие хорошие головки — серьезные и ласковые! Моя мать совсем растрогалась, да и я также. Это называется деликатным вниманием, и я вам очень благодарен, дорогой маэстро. Завидую Морису: его жизнь не так бесплодна, как моя.
Наши письма снова встретились в пути. Это, очевидно, доказывает, что мы чувствуем одно и то же, одновременно и в той же степени.
Почему вы так печальны? Человечество не сулит ничего нового. Бесконечное ничтожество его исполнило меня с юных лет горечи. Поэтому я не испытываю сейчас разочарования. Мне кажется, что толпа, стадо, всегда будет вызывать ненависть. Значение имеет только небольшая группа одних и тех же мыслителей, передающих друг другу светоч знания. Пока не начнут преклоняться перед мандаринами, пока Академия наук не станет заместителем папы, до тех пор вся целиком политика и общество в корне своем будут лишь скопищем отвратительных пошлостей.
Мы вязнем в последах Великой революции, этого недоноска, этой неудачи, этого провала, «что бы там ни говорили». И все потому, что она исходила из средневековья и христианства. Идея равенства (представляющая собою всю современную демократию) — идея главным образом христианская, она противопоставляется идее справедливости. Смотрите, какое преобладающее место занимает теперь милость. Чувство — все, право — ничто. Убийцы никого даже не возмущают, поджигатели Парижа наказуются меньше, чем клевещущие на г. Фавра.
Чтобы оправиться, Франции надо перейти от вдохновения к Науке, оставить в стороне метафизику и заняться критикой, то есть изучением сути вещей.
Я убежден, что потомству мы покажемся чрезвычайно глупыми. Они так же будут смеяться над словами «республика» и «монархия», как мы смеемся над реализмом и номинализмом. Ибо я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог указать мне на существенное различие между этими двумя терминами. Современная республика и конституционная монархия — тождественны. Нужды нет! Об этом спорят, кричат, из-за этого дерутся.
Что касается доброго народа, то его доконает «бесплатное и обязательное» образование! Когда все смогут читать «Пти журналы» и «Фигаро», то кроме этого ничего больше читать не будут, ибо буржуа, барин, ничего другого не читает. Пресса — школа тупости, так как она избавляет от необходимости мыслить. Имейте мужество это сказать, а если вы сумеете в этом убедить, то окажете немалую услугу.
Первое средство — это покончить с всеобщим избирательным правом, этим позором человеческого разума. В том виде, в каком оно существует, одна часть преобладает в ущерб остальным; количество преобладает над разумом, образованием, происхождением и даже над деньгами, хотя они и ценнее количества.
Но общество (которому всегда нужен бог, спаситель), быть может, не способно защищаться. Консервативная партия даже не обладает инстинктом грубого животного, ибо животное умеет, по крайней мере, бороться за свою берлогу и пропитание. Но как предтечи, также не имевшие ни родины, ни права, ничего не достигли, так и Интернационал погибнет, потому что находится на ложном пути. Никаких идей, одни лишь жадные желания!
Ах, дорогой маэстро, если бы вы могли ненавидеть! Вот чего нам недостает: ненависти. Хоть у вас и большие глаза, как у сфинкса, вы смотрите на мир сквозь золотое сияние! Оно исходит от солнечного вашего сердца; а в наступивших потемках вы перестали различать предметы. Ну же! Кричите! Мечите громы! Возьмите свою великую лиру и заиграйте на медных струнах: чудовища разбегутся. Окропите нас каплями крови раненой Фемиды.
Почему у вас такое чувство, что «великая привязанность порвана»? Что же порвано? Привязанность к вам, ненарушимая симпатия сохранится навеки.
Благодаря незнанию истории мы клевещем на современность. Так было всегда. Несколько спокойных лет ввели нас в обман. Вот и все. Я сам верил в то, что нравы смягчились. Надо вычеркнуть эту ошибку и оценивать себя в той же мере, в какой оценивали себя во времена Перикла или Шекспира, ужасные времена, когда творили все же прекрасные вещи. Скажите мне, что вы поднимаете голову и думаете о вашем старом любящем трубадуре.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] 14 ноября [1871]
Уф! Только что окончил «богов», то есть мифологическую часть «Святого Антония», над которой сижу с июня месяца. Хотелось бы прочесть ее вам, маэстро божьей милостью!
Почему вы не последовали своему доброму порыву? Почему не приехали этой осенью? Нехорошо так долго не заглядывать в Париж. Я лично буду там послезавтра, а зимой мне предстоит мало развлечений в связи с «Аиссе», публикацией тома стихов (хотелось бы показать вам предисловие), а затем — как знать? — может быть, будет еще куча не очень-то приятных вещей.
Я не получил второго, обещанного мне, фельетона. У вашего старого трубадура трещит голова. За последние три месяца самая длинная ночь длилась у меня не более пяти часов. Я неистово трудился. В результате я, кажется, довел свою книжицу до хорошенького абсурда. Мысль о глупостях, какие будут о ней говорить буржуа, поддерживает меня; впрочем, я не нуждаюсь в поддержке, ибо такая среда мне безусловно нравится.
А добрый буржуа все глупеет: он даже не идет избирать. У бессмысленных животных и то больше чувства личного самосохранения. Бедная Франция, бедные мы!
Знаете, что я теперь читаю для развлечения? Биша и Кабаниса, и они доставляют мне огромное удовольствие. Умели писать книжки в то время. Ах, как далеки наши современные врачи от этих людей!
Мы страдаем лишь от одного: от глупости. Но она огромна и всеобща. Говорить о тупости народа несправедливо и односторонне. Из этого следует, что надо просвещать просвещенные классы. Начните с головы — это самое больное место, остальное приложится.
Вот вы не такая, как я! Вы полны снисходительности. А у меня бывают дни, когда я задыхаюсь от гнева. Я хотел бы утопить своих современников в помоях или, по меньшей мере, излить на их головы потоки ругани, ошарашить их бранью. Почему? Я и сам не знаю.
Какого рода археологией занят Морис? Поцелуйте, пожалуйста, за меня ваших девочек.
Ваш старик.
ЭМИЛЮ ЗОЛЯ
[Париж] Пятница вечером [I декабря 1871]
Только что прочел вашу жестокую и прекрасную книгу! {«Карьеру Ругонов».} Я и сейчас еще под впечатлением ее. Сильно! Очень сильно!
Не одобряю только предисловия. По-моему, оно портит ваше произведение, такое беспристрастное и возвышенное. Вы открываете в нем свою тайну, это слишком наивно; и высказываете свое мнение, вещь, которую, с точки зрения моей (лично моей) поэтики, романист не имеет права делать.
Вот и все мои возражения.
Но у вас замечательный талант, и вы молодец!
Напишите, когда можно вас навестить, чтобы подольше побеседовать о вашей книжке.
Сердечно жму руку, весь ваш.
Улица Мурильо, 4.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Париж [между 5 и 12 декабря 1871]
Итак, вы приняли решение, которого я опасался, — оставить Париж? Как это грустно! Как все вообще грустно! Ваше мрачное письмо мне переслали из Круассе, так как я здесь две недели; вот к чему сводятся мои делишки: я руковожу репетициями «Аиссе», и ввиду того, что Шилли очень болен, а Дюкенель очень бездарен, мне приходится решительно во все входить — и в декорации, и костюмы, и мизансцены. Во-вторых, сдал в печать том стихов Буйле и верчусь среди печатников и граверов. Мне хочется, чтобы книга появилась одновременно с постановкой. Я скачу в семнадцатиградусный мороз из парка Монсо на Монпарнасский бульвар и в «Одеон». Актеры репетируют ежедневно, не исключая и воскресений, и я все время с ними. В-третьих, мы хотим, как вам известно, поставить в Руане маленький памятник Буйле. И тут у меня очень важные хлопоты. Мне кажется, что весь день я манипулирую его трупом! Никогда еще жизнь не вызывала во мне такого огромного отвращения. Пока я занят делом, я отдаюсь ему всецело и совершенно безотчетно. Но «в тиши кабинета» я провожу невеселые часы.
«Святой Антоний» окончательно отложен. Едва удается от времени до времени урвать, или, вернее, вырвать, часок для какой-нибудь заметки. Я много работал этим летом, и мне хотелось дописать страниц пятьдесят-шестьдесят. Если не случится ничего особенного, я смогу окончить все в нюне месяце, не ранее, так как зима для меня совершенно пропадет. Прочел некоторые места старику Тургеневу, и он, кажется, в восторге. Говорю «некоторые», потому что тут подоспели театральные хлопоты и нам невозможно было встретиться и продолжать чтение.
На политическом горизонте спокойно, что бы ни говорили. Перевороты? Полноте! У нас нет необходимой энергии.
Рекомендую вам прочесть последнюю книгу Ренана: она очень хороша, то есть в моем духе. Читали ли вы письма г-жи Санд в «Тан»? Друг, которому они адресованы, — я, так как мы вели нынче летом политическую переписку. То, что я ей говорил, частично можно найти в книге Ренана.
Сегодня вечером прокорректировал гранки «Последних песен». Некоторые стихотворения напомнили мне вечера у Музы.
А знаете, в будущий вторник 12 декабря вашему другу исполнится пятьдесят лет. Эта простая фраза избавляет от всяких комментариев.
Мне кажется, что вас (или вы сами себя) очень плохо лечили. Что за ослы, эти добрые доктора! Но неужели это так серьезно, бесповоротно и окончательно?
Неужели вы больше не вернетесь в Париж? Когда же мы увидимся?
Как только я буду менее обалделым, тотчас же напишу вам длинное письмо. Но у вас-то, должно быть, не так уж много дела. Попачкайте же ради меня немного бумаги.
Целую ваши руки.
ПИСЬМО РУАНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СОВЕТУ
[Декабрь 1871]
Милостивые государи!
Большинством тринадцати голосов против одиннадцати (включая голоса г-на мэра и его шести адъюнктов) вы отклонили сделанное мною предложение воздвигнуть за наш счет на одной из городских площадей или улиц, по вашему выбору, маленький фонтан, украшенный бюстом Луи Буйле.
Являясь уполномоченным лиц, доверивших мне единственно для этой цели свои деньги, я считаю своим долгом публично выразить протест против такого отказа, то есть ответить на возражения, высказанные в вашем заседании от 8 декабря сего года, аналитический отчет которого появился в руанских газетах 18-го того же месяца.
Они сводятся к четырем основным причинам:
1. Комитет подписчиков изменил назначение памятника.
2. Проект может пагубно отразиться на городском бюджете.
3. Буйле не является уроженцем Руана.
4. Его литературные заслуги недостаточны.
Первое возражение (я точно передаю выражения отчета):
«Дано ли Комитету право нарушать обычай и заменять надгробный памятник фонтаном? Можно задать себе вопрос, все ли подписчики согласились на подобное изменение?»
Мы ничего не изменяли, милостивые государи; мысль о памятнике (выражение неопределенное, не означающее точно надгробный памятник) впервые возникла у бывшего префекта Нижней Сены, г-на барона Эрнеста Леруа, который и поделился ею со мною лично во время похоронной процессии.
Тут же была открыта подписка. Среди подписчиков встречаются имена всякого рода и всякого происхождения: одно лицо из императорской фамилии, несколько анонимов. Жорж Санд, Александр Дюма-сын, великий русский писатель Тургенев, Гаррис — журналист из Нью-Йорка, и другие. «Французская комедия» представлена в лице г-жи Плесси, Фавар, Броган и г-на Брессан. «Опера» — в лице г-на Фор и мадмуазель Нильсон; короче говоря, через полгода мы уже располагали суммой приблизительно в 14 000 франков, причем мрамор нам обещали предоставить в Министерстве изящных искусств, а избранный нами скульптор заранее отказался от какого бы то ни было вознаграждения.
Все эти люди, великие и малые, знаменитые и неизвестные, отнюдь не собирались жертвовать своим временем, талантом или деньгами для сооружения на кладбище (которого большинство из них никогда не имело бы случая посетить) столь дорогого памятника, одного из тех гротескных сооружений, в которых гордость пытается опровергнуть небытие и которые противны духу всякой религии, как и всякой философии.
Нет, господа! Подписчики имели в виду вещь менее бесполезную и более морального порядка, а именно: чтобы, проходя по улицам мимо изображения Буйле, каждый из них мог сказать себе: «Вот человек, который в наш алчный век всю свою жизнь посвятил поклонению литературе. Почесть, оказанная ему после смерти, лишь долг справедливости! И я внес свою лепту в это поучительное и справедливое дело».
Такова была их мысль. Иной у них не было. Впрочем, что вы знаете об этом? Кто поручал вам замещать их?
Но муниципальный совет, имея в виду надгробный памятник, предоставил нам десять метров земельного участка и сверх того подписался на 500 франков. Поскольку в его решении ясно слышен упрек, мы отказываемся от его денег. Пусть он оставит себе свои 500 франков!
Что касается земельного участка, мы готовы купить его у вас. Скажите вашу цену.
Пожалуй, этим и исчерпывается ответ на первое возражение.
Второе внушено чрезмерной осторожностью.
«Если бы Комитет подписчиков ошибся в своих расчетах, город не мог бы оставить его (памятник) незаконченным и должен с самого начала предвидеть необходимость взять на себя негласное обязательство пополнить в случае нужды недостающие ресурсы».
Но мы имели в виду свою смету представить на рассмотрение вашего архитектора; и поскольку наши ресурсы оказались бы недостаточными, Комитет (само собою разумеется) прибегнул бы к помощи подписчиков или скорее сам доставил бы недостающую сумму. Все мы достаточно богаты, чтобы быть верными своему слову.
Ваше чрезмерное беспокойство как будто страдает недостатком вежливости.
Третье возражение — «Буйле не является уроженцем Руана»!
Однако г-н Декорд в своем докладе называет его «один из наших»! А после «Заговора д'Амбуаза» бывший мэр Руана, г-н Вердрель, на банкете, устроенном в честь Буйле, привел весьма лестные сопоставления по его адресу, называя его славой Руана. В течение нескольких лет малая парижская пресса даже смертельно надоела всеми своими насмешками над восторгом руанцев от Буйле. «Шаривари» поместила карикатуру, изображавшую Елену Пейрон, которая принимает почести руанцев, приносящих ей в дар сахар, яблоки и руанские булочки; в другой я, недостойный, был изображен возницей «колесницы руанцев».
Но что из того! По-вашему, господа, выходит, что если великий человек родился в деревушке, насчитывающей тридцать лачуг, ему нужно воздвигнуть памятник в этой деревушке, а не в главном городе его округа?
Почему же не в районе, не на улице, не в доме, и, наконец, не в самой комнате, где он появился на свет!
А если место его рождения неизвестно (история не всегда точно осведомлена), что вы сделаете? Ничего; не правда ли?
Четвертое возражение — «Его литературные заслуги»!
И по этому поводу я встречаю в отчете весьма веские слова. «Вопрос приличия и вопрос принципа». Имеются опасения. «Это было бы чрезмерное восхваление, высокое отличие, преждевременное почитание, высшая дань уважения», а «она может быть пожалована лишь с величайшей осторожностью». Короче говоря: «Руан слишком высокий пьедестал для его славы!»
На самом деле, подобной почести не удостоили:
1) Милейшего г-на Потье, «оказавшего городской библиотеке более значительные услуги». (Конечно! как будто речь шла о вашей библиотеке!); и 2) Гиацинта Ланглуа! С ним я был знаком, господа, и лучше, чем кто-либо из вас. Не вспоминайте о нем! Никогда не говорите об этом благородном художнике! Жизнь его была позором для его соотечественников!
Теперь, правда, вы называете его «великой нормандской знаменитостью» и, распределяя славу совершенно фантастическим образом, называете среди «знаменитостей, которыми может гордиться наш город» (он может, но не всегда делает это), П. Корнеля (Корнель — знаменитость! Решительно, вы строги!); затем идут вперемежку Бойельдьё, Лемонье, Фонтенель и г-н Курт! Причем вы забываете Жерико — основоположника современной живописи; Сент-Амана — известного поэта; Буагильбера — первого экономиста Франции; Кавелье де ля Саль, открывшего устье Миссисипи; Луи Потера, изобретателя фарфора в Европе, и других! То, что ваши предшественники позабыли воздать «должные, чрезвычайные, достаточные почести» или даже никакого рода почестей таким знаменитостям, как, например, Самюель Бошар, предоставив городу Кан назвать его именем одну из улиц, — это неопровержимо! Но разве предшествующая несправедливость должна оправдать последующую!
Правда, на родине Рабле, Монтеня, Ронсара, Паскаля, Лабрюйера, Лесажа, Дидро, Вовенарга, Ламеннэ, А. Дюма нет ничего, напоминающего о них, между тем как в Ножан-ле-Ротру можно встретить статую генерала Сен-Поля, в Жизоре — статую генерала Бланмона, в Понтуазе — статую генерала Леклера, в Авранше — статую генерала Вальгубера, в Лионе — статую г-на Вайсса, в Нанте — статую г-на Биллоля, в Довиле — статую г-на де Морни, в Гавре — статую Ансело, в Валенсе — статую Понсара; в общественном саду в Вире — громадный бюст Шендолле; в Сеезе, напротив собора, — превосходную статую, воздвигнутую Конте, знаменитому своими рисунками карандашом, и другие.
Очень хорошо, если общественные деньги не пострадали при этом. Кто любит славу, должен платить за нее; пусть частные лица, желающие оказать кому-либо почести, оказывают их за собственный счет.
Примером, даже прецедентом, может служить как раз упоминаемый нами памятник, который мы желаем соорудить.
Ваша обязанность, поскольку ваши финансы от этого ничуть не пострадают, была принять на себя гарантию за выполнение. Пользуясь полным правом выбора места для установки нашего фонтана, вы равным образом имели право отвергнуть нашего скульптора и даже требовать конкурса.
Вы же вместо этого беспокоитесь о гадательном успехе «Мадмуазель Аиссе».
«Не встретит ли противодействие сооружение общественного памятника в честь его (Буйле) литературных заслуг, если драма не будет одобрена?»
А г-н Нион (адъюнкт специально по делам изящных искусств) считает, что, если, к несчастью, драма потерпит неудачу, применение положенной Муниципальным советом меры было бы со стороны последнего «безрассудством».
Значит, говоря прямо и без обиняков, весь вопрос в том, чтобы заранее знать сумму сборов. Если пьеса даст доход — Буйле знаменитый человек, если она провалится — стой! Благородная теория, нечего сказать!
Да ведь непосредственный успех драматического произведения не имеет никакого отношения к его достоинству. «Скупой» Мольера выдержал четыре представления; «Аталия» Расина и «Севильский цирюльник» Россини были освистаны. Примеров можно привести сколько угодно.
Впрочем, успокойтесь. «Мадмуазель Аиссе», сверх ваших ожиданий, пользуется успехом.
Но не все ли равно! Ведь по словам вашего докладчика, г-на Декорд, «талант Буйле не может считаться вне всякой критики» и «репутация его недостаточно тверда, недостаточно установлена». По словам г-на Нион, «он значительнее по форме, чем по сценической концепции!», «он несамобытный писатель». И, наконец, г-н Декорд называет его «ученик, зачастую удачный, Альфреда де Мюссе!»
Ах, сударь, вы не обладаете снисходительностью, подобающей собрату по искусству, а между тем не вы ли весьма тонко высмеяли тот самый город Руан, чье литературное целомудрие так горячо защищаете, запечатлев в «Преуспевающем городе» Сен-Тард: {Прочитано на публичном заседании Руанской Академии 7 августа 1867 (см. «Аналитический разбор трудов Руанской Академии»),}
Неведом был он вам.
Он не был сопричтен к славнейшим именам!
Однако же владел, отметим с уваженьем,
Бюро полиции, жандармским управленьем,
Судебной камерой, палатою писцов
И богаделенкой — наследием отцов.
Красивое местечко, где
Акцизу вопреки, хоть и ропша при этом.
Буфеты и кафе цветут отменным цветом.
Если бы у вас попросили денег, я понял бы ваше отвращение:
Совсем иное здесь: всемерно, каждый час
Здесь контрибуцию взимать готовы с нас...
Сен-Тардским буржуа не слишком-то пристал
Порывов щедрости высокий идеал.
А мы ожидали от вас большего вкуса, после того как вы бичевали современное арго. В вашем послании об «Английском импорте», {Прочитано на публичном заседании Руанской Академии 7 августа 1865 (см. там же).} где встречается следующее, достойное зависти, четверостишие:
В Булони на море, я знаю из газет,
Большой спортивный клуб готовит матч в крикет.
И всяческой хвалы заслуживает тот.
Кто тирании мод не слишком подпадет.
Прекрасный отрывок, но он превзойден следующим:
Я в Ренне знал рассказ о скряге бестолковом:
Гонимый жадностью, иссохший от забот,
Он вздумал умереть, окончив старый год,
Чтоб не расходоваться в новом.
Действительно, вы настраиваете все струны — воспеваете ли вы альбомы с фотографиями:
Для посетителей — пустое развлеченье,
А в составителе, увы, какое рвенье!
Либо сад Сент-Уена:
Ты жребий разделил отцветших этих мест,
Бывал здесь прежде пышный съезд,
А нынче — никого не стало.
{«Соболезнование саду в Сент-Уене, письмо». Заседание 2 июня 1863 (см. «Аналитический разбор трудов Руанской Академии»).}
Либо наслаждение танцами:
Меж тем как вкусам дня сдавалось все без спора,
Свободно торговать училась Терпсихора.
И вскоре, обойдя таможенный закон.
«Уланов» нам прислал соседний Альбион.
{«Зима в городе» (Послание. Заседание 6 августа 1863).}
Либо званые обеды:
Едва ли ожидать подобного могли вы.
Меню тех завтраков безмерно прихотливы:
На первое десерт нам подадут порой...
Весь этот блеск, увы! не дешев, хоть желанен.
Так будь готов зимой к расходам, горожанин!
{«Зима в городе» (Послание. Заседание 6 августа 1863).}
Либо чудеса современной промышленности:
Отныне могут все, удобней и скромней,
В уютных поездах объехать в восемь дней
Холмы Швейцарии иль Бельгию морскую...
Когда пожнет Лессепс плоды своих трудов,
Пробившись сквозь гранит Суэцких берегов,
Туристы сбросят цепь привычных расстояний:
Как прежде Францию избрали для скитаний,
Так Индию, Восток — спокойно занесут
В увеселительный маршрут.
[«Вакации» (Интимное послание. Заседание 6 августа 1864).]
Создавайте, создавайте дальше подобные конфетки! Создавайте даже драмы — ведь вы так хорошо распознаете форму драматической мысли — и будьте уверены, почтенный сударь мой, что «хотя ваша репутация достаточно тверда», и хотя вы похожи на Луи Буйле, ибо «и ваш талант» не может считаться «вне всякой критики», и вы также не являетесь «самобытным писателем», равно как и «первостепенным автором», вас никогда не назовут «учеником», хотя бы «удачным», Альфреда де Мюссе!
Впрочем, в этом отношении вы грешите недостатком памяти. Не выступал ли один из ваших коллег в «Академии наук изящной литературы и искусств Руана», в публичном заседании 7 августа 1862 года, с торжественным похвальным словом о Луи Буйле? Он весьма высоко оценивал его как драматического писателя и так удачно опровергал подражание Альфреду де Мюссе, что, когда я хотел сказать то же в предисловии к «Последним песням», мне оставалось лишь припомнить, или, вернее, списать, выражения моего старого приятеля Альфреда Нион, брата г-на Эмиля Нион, того самого адъюнкта, у которого не хватает смелости!
Чего же вы опасаетесь, о адъюнкт по делам изящных искусств, — «загромождения ваших общественных площадей»?
Но ведь подобные поэты (не прогневайтесь) не так уж многочисленны.
С того времени как вы отказались от бюста Буйле, невзирая на то, что мы даровали вам фонтан, вы лишились одного из своих, вашего адъюнкта, г-на Тюбефа; я не собираюсь сказать чего-либо неуместного или оскорбить скорбь семьи, которой не имею чести знать, но мне кажется, что имя Николя-Луи-Жюст Тюбефа отныне столь же неизвестно, как какой-нибудь фараон из 23-й династии, — а между тем имя Луи Буйле выставлено в витринах всех книжных магазинов Европы, «Аиссе» ставят на с.-петербургской и лондонской сценах, и его пьесы будут ставиться, а стихи вновь печататься через шесть, двадцать и сто лет, а возможно, еще поздней.
Ибо в памяти людей запечатлеваются лишь те, кто оказал ценные услуги; вам не дано доставлять нам одни из них, окажите же нам другие.
И вместо того чтобы предаваться литературной критике, — развлечению вне вашей компетенции, — займитесь более серьезными делами, как-то:
постройкой прочного моста;
постройкой пакгаузов — складов на правом берегу Сены;
расширением улицы Гран-Пон;
проведением улицы, ведущей от здания Суда к набережным;
продажей доков;
окончанием вековечного шпица на соборе и т. п.
Таким образом, в ваших руках находится недурная коллекция, которую можно было бы прозвать «музеем отсроченных проектов». Ключ от музея передается каждым исчезающим управлением его последователю, — настолько велико опасение скомпрометировать себя, до того боятся действовать! Осмотрительность считается такой добродетелью, что инициатива становится преступлением. Быть посредственным не вредит; но прежде всего следует воздерживаться от какой бы то ни было предприимчивости.
Когда публика вдоволь накричится, или, вернее, набормочет, прибегают к узаконенным формам, назначают комиссию; и тут уж ничего не поделаешь, абсолютно ничего, — «создана комиссия». Неопровержимый аргумент, универсальное средство против всякого нетерпения.
Иногда, однако, дерзают осуществлять. Но это чудо, почти скандал. Так было во время «грандиозных руанских работ», то есть когда проводили бывшую улицу Императрицы, ныне улицу Жанны д'Арк, и сквер Сольферино. Между тем
О скверах все твердят, и столь могуч пример:
Руану в тот же миг понадобился сквер.
Но из всех ваших проектов самым запоздалым, самым насущным, самым срочным является водоснабжение, так как вы испытываете недостаток в нем, вы в нем нуждаетесь, например, в Сен-Севере.
Вот мы и предложили вам соорудить на углу любой улицы две ионические колонны, снабженные вверху водоподъемным колесом, с бюстом посредине, раковиной внизу — и вот наш фонтанчик готов... — Обещания, — я говорю о формальных обещаниях, — были даны кое-кому из нас многими из вас.
Поэтому велико было наше удивление, тем более, что муниципалитет иногда весьма щедр в подобных случаях; доказательством может служить статуя Наполеона I, украшающая площадь Сент-Уена. Действительно, вы пожертвовали на это прекрасное произведение искусства (Генеральный совет голосовал первый раз за 10 000 франков, во второй раз — за 8 000 франков, и наконец в третий раз за 5 000 франков вознаграждения скульптору, ввиду того, что макет был случайно опорочен Комиссией — опять Комиссией! Какая склонность к Искусству!) — итак, вы дали 30 000 франков на сооружение этой статуи — конное изваяние с распухшей от водянки головой, — которая в конечном результате обошлась всего приблизительно в 160 000 франков, точная сумма неизвестна.
Но на статую Пьера Корнеля, гредложенную в 1805 году и воздвигнутую через 29 лет (в 1834), вы, Муниципальный совет, израсходовали 7 037 франков 38 сантимов, ни одного су больше.
Правда, это был великий поэт, вы же так далеко заходите в своем уважении к великим поэтам, что готовы скорее лишить себя самого необходимого, чем разрешить оказать почесть писателю второго порядка.
Однако позволяю себе два вопроса: если бы фонтан, если бы этот памятник общественной пользы, предложенный нами, должен был носить в виде украшения нечто иное, нежели бюст Луи Буйле, отклонили бы вы его сооружение?
Если бы дело касалось почести кому-нибудь из крупных промышленников нашего округа, чье состояние исчисляется десятками миллионов, отклонили бы вы его? Сомневаюсь.
Как бы вас не обвинили в презрении к тем, кто не является представителем капитала!
Для людей столь осторожных, которые главное значение придают успеху, вы жестоко ошиблись, милостивые государи! «Всемирный монитёр», «Ордр», «Пари-журналь», «Общественное благо», «XIX век», «Опиньон насиональ», «Конституционалист», «Голуа», «Фигаро» и т. д. — словом, почти все газеты резко высказались против вас, и дабы ограничиться одной лишь ссылкой, приведу несколько строк патриарха современной критики Жюля Жанена:
«Когда наконец наступил час окончательного воздаяния, то встретили некоторое недоброжелательство в осуществлении последней надежды друзей Луи Буйле. Отказались от его бюста на общественной площади города, который он украсил отзвуком своей славы. Тщетно его друзья предлагали снабдить водою эту сухую местность... для того, чтобы бюст, украшение фонтана, скрылся за этим благодеянием; но попробуйте вразумить несправедливых людей, указав им на жестокость подобного отказа! Они готовы воздвигнуть сколько угодно изображений во славу войны. А поэзия им неугодна!»
Впрочем, из вас, двадцати четырех, бывших налицо, одиннадцать высказались за нас, а г-н Вокье дю Траверсен, Ф. Дешан и Рауль Дюваль красноречиво протестовали в пользу литературы.
Дело само по себе совсем не важное. Но его можно отметить как знамение времени, — как характерную черту вашего класса, — и я обращаюсь уже не к вам, господа, но ко всем буржуа.
И я говорю им:
Хранители, которые ничего не хранят, пора бы вам пойти по иному пути — и раз говорят о возрождении, о децентрализации, измените ваш дух! Проявите наконец какую-то инициативу!
Французское дворянство погубило себя из-за своего двухвекового духа угодливости. Конец буржуазии начинается благодаря тому, что она прониклась духом черни. Я не вижу, чтобы она читала другие газеты, чтобы она наслаждалась иной музыкой или находила более возвышенные развлечения. Как у одной, так и у другой одинаковая любовь к деньгам, то же преклонение перед совершившимся фактом, та же потребность в кумирах для их разрушения, та же ненависть ко всякому превосходству, тот же дух поношения, то же грубое невежество!
Национальное собрание представляют 700 человек. А сколько из них знают названия наших главных трудов по истории или могут назвать даты правления шести королей Франции; кто из них знаком с основами политической экономии, кто прочел хотя бы Бастиа! Возможно, руанский муниципалитет, в полном составе отрицавший заслуги поэта, даже совершенно незнаком с правилами стихосложения? Да ему и нет надобности знать их, поскольку он не интересуется стихами.
Чтобы заслужить уважение тех, кто стоит ниже вас, уважайте сами тех, кто вас превосходит!
Прежде чем посылать народ в школу, посетите ее сами!
Просвещенные классы, просвещайтесь!
Благодаря презрению к знанию, вы мните себя полными здравого смысла, положительными, практичными! Но действительно практичным можно быть при условии большего... Вам не пришлось бы пользоваться всеми благами промышленности, не будь единственным идеалом ваших отцов XVIII века материальная польза. Мало ли осмеивали Германию за ее идеологов, ее мечтателей, ее туманных поэтов! Вы видели, увы, куда привели эти туманы! Ваши миллиарды вознаградили ее за все время, которое она не зря потеряла на построение разных систем. Если я не ошибаюсь, мечтатель Фихте реорганизовал прусскую армию после Иены, а поэт Кернер повел против нас некоторое количество уланов в 1813 году!
Вы практичны? Полноте! Вы не умеете держать в руках ни пера, ни ружья! Вы позволяете каторжанам обирать себя, лишать свободы и убивать! В вас нет уже даже скотского инстинкта самосохранения; и когда дело касается не только вашей шкуры, но и мошны, которой вы должны были бы больше дорожить, у вас не хватает энергии пойти и опустить клочок бумаги в ящик! Со всеми вашими капиталами и вашей мудростью вы не можете создать ассоциации, равносильно Интернационалу! Все ваши умственные силы направлены на страх перед грядущим!
Придумайте что-либо другое. Поторопитесь! Иначе Франция будет все больше и больше погрязать в тисках гнусной демагогии и глупой буржуазии.
Гюстав Флобер.
ШАРЛЮ-ЭДМОНУ
Январь [1872]
Дружище!
Не можете ли вы прислать мне два входных билета на заседание Сената? Они мне нужны для племянницы, любительницы мумий (ибо она моя ученица).
Позвольте вам заметить, дружище, что вы свинья: во-первых — я вас никогда не вижу, а во-вторых — я вас несколько раз безрезультатно запрашивал, на каких основах восстановлены обеды у Маньи?
Я не мог присутствовать на двух трапезах, на которые был приглашен, по той причине, что первый раз был занят, а второй раз отсутствовал.
Так-то, милый мой.
Ваш.
Улица Мурильо, 4, парк Монсо.
ФИЛИППУ ЛЕПАРФЕ
Суббота утром [Январь 1872]
Дорогой Филипп!
Вот каково положение дел: «Рюи-Блаз» пойдет не раньше будущей субботы или четверга; «Аиссе» ставится завтра и в понедельник, а может быть, еще два-три раза, если не будет готов «Рюи-Блаз».
Вчера потащился в «Одеон» совсем больной, еще не оправившись от ангины. Аплодировали больше, чем когда-либо, и актеры ни в коей мере не провалили пьесу; только народу было очень мало. Пресса с первого же дня нанесла нам смертельный удар.
Хлопочу о статьях по поводу «Последних песен», и вот письма и беготня возобновились. Я думаю, что статьи будут во всех больших газетах.
Письмо в муниципальный совет вызвало много толков в течение трех дней. Я не знаю, что происходит в Руане, так как синьор Кодрон не ответил на мои послания. Лапьерру пришлось его разыскивать и вызывать на то, чтобы он написал письмо в «Фигаро».
Мне не удалось пустить в ход депутата Барду, которому я поручил добиться в министерстве внутренних дел разрешения продавать мою брошюру в заде «Одеона». Что касается д'Омуа, то он дважды просил передать мне, что «на днях напишет».
А Герар, которому я послал экземпляр книги и брошюру, не удостоил даже подтвердить получение.
Друзья Буйле обнаружили бесподобную преданность и изысканность манер изумительную. Роган составляет исключение.
Еще новость: похоже, что собираются возобновить «Феерию». Леви советует мне дождаться перестройки театра «Порт-Сен-Мартен», которая предполагается в ближайшем будущем.
С другой стороны, у меня имеется сильная поддержка в лице Буле.
Я ни на что не надеюсь, однако зевать не следует!.. Ах, будь у меня помощник!!!
Лапьерр должен приехать в Париж недели через две; передай ему имеющуюся у тебя рукопись. Если приедешь раньше, привези ее с собой.
Поцелуй за меня свою мать.
Твой.
ЖОРЖ САНД
[Париж] Воскресенье [21 января 1872]
Наконец-то выдалась спокойная минута, и я могу вам написать. Но мне так много надо вам пересказать, что я теряюсь. Ваше письмецо от 4 января, полученное в день премьеры «Аиссе», растрогало меня до слез, дорогой и любимый маэстро. Никто, кроме вас, не способен проявить столь деликатные чувства.
Премьера прошла блестяще, и только! На следующий день зал был почти пуст. Печать, вообще говоря, обнаружила глупость и гнусность. Меня обвинили в желании создать рекламу вставной зажигательной тирадой. Я прослыл красным (sic!). Вот до чего мы дошли, как видите!
Дирекция «Одеона» ничего не сделала для пьесы. Напротив! В день премьеры я собственными руками пронес аксессуары для первого акта. А на третьем представлении мне пришлось руководить выходами фигурантов.
Все время, пока шли репетиции, они объявляли в газетах о возобновлении «Рюи-Блаза» и т. д. Они заставили меня задушить «Баронессу» {«Баронесса» — драма в прозе Шарля-Эдмона и Фусье.} точно так же, как «Рюи-Блаз» задушил «Аиссе». Словом, наследник Буйле заработает весьма мало денег. Честь спасена — и только.
Я напечатал «Последние песни». Вы получите книжку вместе с «Аиссе» и моим «Письмом Руанскому муниципальному совету». Это маленькое разглагольствование показалось «Руанскому хроникёру» таким крамольным, что он не решился его напечатать; но оно появится в свет в «Тан», а затем в Руане, отдельной брошюрой.
Какую глупую жизнь я вел два с половиной месяца! Как только я не околел! Самые длинные мои ночи длились не более пяти часов. Сколько беготни! Сколько писем! И сколько гнева, к сожалению, сдержанного! Наконец, три дня я сплю как сурок, совсем осовел от сна.
Был вместе с Дюма на премьере пьесы «Король-хитрец». {«Король-хитрец» — пьеса Викторьена Сарду, муз. Оффенбаха.} Трудно себе представить, что это за гадость! Вещь глупей и бессодержательней самой плохой феерии Клервиля. Публика была совершенно со мной согласна.
Милейший Оффенбах вознаградил себя от провала успехом «Фантазио» в «Комической опере». Неужели мы никогда не возненавидим хвастовство? Это был бы такой прогресс на пути к добру.
Тургенев в Париже с начала декабря. Каждую неделю мы назначаем друг другу свидание, чтобы прочесть «Святого Антония» и пообедать вдвоем. Но всегда что-нибудь мешает нам повидаться. Я более чем когда-либо издерган жизнью, и все вызывает во мне отвращение, но это не мешает мне чувствовать себя здоровым как никогда.
Чем это объяснить?
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Февраль 1872?]
Гнусный сторонник Империи!
Не прихожу к тебе, во-первых, из-за паршивого гриппа, а во-вторых, оттого, что мне противны твои политические убеждения.
Как только поправлюсь, приду, чтобы УБИТЬ тебя!
Трепещи!!! Да здравствует Марат!
Его тень.
ЖОРЖ САНД
[Париж, между 20 и 28 февраля 1872]
Как давно я вам не писал, дорогой маэстро! Мне столько надо сказать вам, что я не знаю, с чего начать. Как глупо жить в разлуке, когда люди любят друг друга!
Что же вы, навек простились с Парижем? Неужели я вас больше не увижу там? Приедете вы этим летом в Круассе послушать «Святого Антония»?
Я лично не смогу приехать в Ножан, ибо время у меня, ввиду скудных средств, рассчитано. К тому же мне осталось еще добрый месяц пробыть в Париже для исследований и чтения, после чего я уеду с матерью; мы сейчас ищем компаньонку. Ее не так легко найти. Таким образом, к пасхе я возвращусь в Круассе и примусь за переписывание. Появляется желание писать.
В настоящее время читаю по вечерам «Критику чистого разума» Канта, в переводе Барни, и вновь пересматриваю Спинозу. Днем развлекаюсь перелистыванием средневековых беллуариев, {Ошибочно — вместо «бестиариев», средневековых рассказов о животных.} ищу у «авторов» самых причудливых зверей. У меня в самом разгаре описание фантастических чудовищ.
Когда вопрос будет более или менее исчерпан, пойду в Музей помечтать возле настоящих чудовищ, и на этом исследования для «Святого Антония» закончатся.
В предпоследнем письме вы выражали опасения о моем здоровье; не тревожьтесь. Никогда я еще не был так уверен в хорошем его состоянии. Жизнь, какую я вел зимой, могла бы убить трех носорогов, но это не мешает мне чувствовать себя хорошо. По-видимому, ножны крепки, ибо лезвие отточено хорошо; но все обращается в печаль. Всякая деятельность вызывает у меня отвращение к жизни. Я последовал вашим советам и развлекался. Но меня это мало забавляет. Очевидно, меня интересует одна лишь пресвятая литература.
Мое «Предисловие к последним песням» вызвало напыщенную ярость у г-жи Коле. Я получил от нее анонимное письмо в стихах, где она изображает меня шарлатаном, который пользуется могилой друга для рекламы, подлецом, заискивающим перед критиками, после того как он «низкопоклонствовал перед Цезарем»! Грустный пример страстей, как сказал бы Прюдом!
Кстати, о Цезаре; я не верю в скорое его возвращение, что бы ни говорили. До этого мы еще не дошли, несмотря на весь мой пессимизм. Однако, если посоветоваться с богом, именуемым всеобщим избирательным правом, как знать?.. Ах, мы пали, мы очень низко пали!
Видел «Рюи-Блаза», играли скверно, за исключением Сарры. {Сарры Бернар.} Мелинг — бродящий во сне золотарь, остальные также наводят скуку. Виктор Гюго дружески пенял мне, что я не навестил его; поэтому я счел своим долгом нанести ему визит. Он оказался... очаровательным! Повторяю — очаровательным, отнюдь не великим человеком, отнюдь не важной птицей. Это удивительное открытие благотворно на меня подействовало, ибо у меня сильно развито чувство почитания и мне нравится любить то, чем я восхищаюсь. Этот намек относится к вам лично, дорогой и добрый маэстро.
Я познакомился с г-жой Виардо и нахожу ее весьма любопытной натурой. Меня ввел к ней Тургенев.
Поцелуйте от меня крепко своих внучек и примите мой лучший, возвышенный привет.
ЖОРЖ САНД
[Начало марта 1872]
Дорогой маэстро!
Получил фантастические рисунки, {Рисунки к «Искушению св. Антония».} они меня развлекли. Быть может, в рисунке Мориса скрыт глубокий символ? Я его не обнаружил... Мечта!
Там есть два очень хорошеньких чудища: 1) зародыш в форме баллона на четырех лапках; 2) череп в соединении с глистой.
Мы еще не нашли компаньонки. Мне кажется, это трудно. Нам нужна особа, которая могла бы быть чтицей, очень ласковая; ей будет также поручено вести хозяйство. Физического ухода от нее не потребуется, так как мать оставляет свою горничную.
Нам нужен прежде всего приятный человек, безукоризненно честный. Религиозных принципов не требуется. Остальное предоставляется на ваше усмотрение, дорогой маэстро. Вот и все.
Меня беспокоит Тео. Он, по-моему, необыкновенно стареет. Должно быть, он очень болен какой-нибудь сердечной болезнью. Еще один собирается меня покинуть.
Нет! Не литературу люблю я больше всего на свете, я плохо выразил свою мысль (в последнем своем письме). Я говорил только о развлечениях, больше ни о чем. Я не такой педант, чтобы предпочитать фразы людям. Чем дальше, тем больше усиливается моя чувствительность. Но фундамент крепкий, и машина продолжает свою работу. К тому же после войны с Пруссией не страшны никакие невзгоды.
А «Критика чистого разума» некоего Канта в переводе Барни еще более тяжелое чтение, нежели «Парижская жизнь» Марселена. Ничего, в конце концов пойму.
Почти закончил набросок последней части «Святого Антония». Спешу начать писать. Слишком уж давно ничего не писал. Скучаю по стилю.
А еще более по вас, добрый, дорогой маэстро. Известите меня тотчас же о Морисе и сообщите, подойдет ли для нас ваша знакомая дама.
Засим целую вас всех от всей души.
Ваш старый трубадур, вечно волнующийся, вечно вввозмущенный, подобно святому Поликарпу!
ЖОРЖ САНД
Круассе [Конец марта 1872]
Итак, я возвратился сюда, дорогой маэстро, но мне невесело; меня тревожит мать. Упадок сил увеличивается у нее с каждым днем, почти с каждым часом. Она захотела вернуться домой, невзирая на то, что маляры еще не окончили работу и жить здесь очень плохо. В конце будущей недели у нее будет компаньонка, которая облегчит мне идиотские хозяйственные заботы.
Десять дней тому назад у меня произошла крупная ссора с моим издателем.
Поводом послужили «Последние песни». Знаете ли, сколько достанется наследнику Буйле от «Аиссе» и «Последних песен»? После всех расчетов ему придется уплатить четыреста франков. Избавляю вас от деталей, но это так. Вот как обычно вознаграждается добродетель. Если бы она получала награду, то не была бы добродетелью.
Все равно! Последняя история расстроила мне нервы, как слишком сильное кровопускание. Унизительно видеть одни неудачи, а когда отдаешь всю свою душу, ум, нервы, мускулы, время и ничего за это не получаешь, то чувствуешь себя совершенно подавленным.
Мой бедный Буйле вовремя умер; несладко сейчас живется.
Ну, а я твердо решил на долгие годы избавить печатные станки от усиленной работы, единственно лишь, чтобы не иметь «дел» и избежать всяких сношений с издателями, типографиями и газетами, а главное, чтобы не слышать разговора о деньгах.
Моя бездарность в этом направлении развивается в ужасающих размерах. Почему вид счета приводит меня в ярость? Это доходит до безумия. «Аиссе» не принесла денег. «Последние песни» чуть было не послужили причиной привлечения меня к суду. История с фонтаном еще не окончена. {Речь идет о проекте памятника Луи Буйле.} Я устал, бесконечно устал от всего!
Только бы не провалить еще и «Святого Антония». Примусь за него через неделю, когда покончу с Кантом и Гегелем. Эти два великих человека по-прежнему действуют на меня отупляюще, и когда я покидаю их общество, то с жадностью набрасываюсь на своего старого и трижды великого Спинозу. Какой гений! Что за произведение «Этика»!
Г-ЖЕ ЛАУРЕ ДЕ МОПАССАН
7 апреля 1872
Дорогая Лаура!
Вчера утром моя мать скончалась!
Завтра похороны.
Разбит от усталости и горя.
Нежно тебя целую.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Вторник 16 апреля 1872
Дорогой маэстро!
Мне следовало тотчас же ответить на ваше первое письмо, такое нежное. Но мне было слишком грустно. Не хватило физических сил.
Сегодня я, наконец, вновь услыхал пение птиц, увидел зеленеющую листву. Солнце уже не раздражает меня, это хороший признак. Для меня было бы спасением, если бы я снова ощутил желание работать.
Ваше второе письмо (вчерашнее) растрогало меня до слез. Какая вы добрая! Какое вы превосходное существо! В настоящий момент мне деньги не нужны, спасибо вам. Но если они мне понадобятся, я, конечно, обращусь к вам.
Моя мать завещала Круассе Каролине с условием, что мои комнаты останутся за мной. Итак, до полного окончания дела о вводе во владение я останусь здесь. Прежде чем решить вопрос о будущем, мне нужно знать, на какие средства мне придется жить, а там видно будет.
Хватит ли у меня силы жить совершенно одному, в одиночестве? Сомневаюсь. Я старею. Каролина не может теперь поселиться здесь, у нее уже имеются две квартиры, а дом в Круассе требует расходов.
Я думаю бросить парижскую квартиру. Ничто больше не влечет меня в Париж. Все мои друзья умерли, а последний, бедняга Тео, боюсь, долго не протянет. Ах, трудно в пятьдесят лет перестраивать жизнь заново!
За эти две недели я убедился, что мою бедную старушку маму я любил больше всех на свете. У меня точно вырвали что-то внутри!
ЖОРЖ САНД
[Круассе, конец апреля, первые дни мая 1872]
Какая приятная новость, дорогой маэстро! Наконец-то через месяц, и даже ранее, я увижусь с вами!
Устройте так, чтобы не очень спешить в Париже и чтобы у нас осталось достаточно времени для беседы. Было бы очень мило, если бы вы возвратились вместе со мной сюда на несколько дней. Тут нам будет спокойнее; «моя бедная старушка» очень вас любила. Мне было бы приятно видеть вас у нее в доме, так недавно покинутом ею.
Я снова взялся за работу, ибо жизнь становится выносимой лишь тогда, когда забываешь о своей жалкой особе. Я не скоро узнаю, на какие средства мне предстоит жить, так как все наше состояние заключается в недвижимости, и для раздела надо будет все продать.
Как бы ни сложились обстоятельства, я оставлю за собой мои комнаты в Круассе. Это будет мое прибежище, а быть может, и единственное мое жилище. Париж меня не привлекает. Через некоторое время у меня не останется там ни одного друга. Вечно человеческое (включая сюда и вечно женственное) все меньше и меньше меня забавляет.
Знаете ли вы, что бедняга Тео очень болен? Он умирает от неприятностей и бедности! Никто больше не говорит на одном с ним языке! Мы похожи на ископаемых, которые продолжают существовать, затерянные в новом мире.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, 15 мая 1872
Вы правы, я очень часто думаю о вас, более чем когда-либо, и углубленно думаю. Почему?.. Я точно старик живу весь в прошлом. Роюсь в воспоминаниях и теряюсь в них. Я нахожусь в полном одиночестве, и когда у меня мало горя, его заменяет скука. Это вносит разнообразие. После слез — зевота. Небольшой ассортимент маленьких развлечений.
Делаю все, что могу, чтобы избавиться от этого; принуждаю себя насильно работать. Но сердце не лежит к литературе. Добрый «Святой Антоний» (я вновь принялся за него и думаю окончить к августу месяцу) надоел мне, как сама жизнь, а этим многое сказано. Мне бы нужен, чтобы дописать его, энтузиазм, какой был у меня прошлым летом. Но за это время у меня случились сильные встряски. Как я выбит из колеи! Моя несчастная башка никуда не годится.
А между тем как хотелось бы мне прочитать вам свою книгу! Ведь она написана для вас, я имею в виду немногих, маленькую кучку, которая все редеет.
Почему пребывание в Париже может вредно отразиться на вашем лечении? Разве вам совершенно нельзя передвигаться? Если так, то я вас навещу, я принесу эту большую жертву, сделав вещь, которая мне приятна.
Мои дела (скучнейшие денежные дела) не окончены и не могут скоро окончиться. В одном лишь я уверен — Круассе навсегда останется моим убежищем. В Париже меня мало что привлекает, а будущее сводится для меня к дести бумаги, которую надо покрыть черным единственно для того, чтобы не умереть от скуки, вроде того как, живя в деревне, надо иметь башню на чердаке. Да, я прочел «Ужасный год». {В. Гюго} Там есть очень красивые места, но я не ощущаю потребности прочесть его еще раз. Не хватает насыщенности. Ничего. Какой он еще зубастый, этот старый лев! Он умеет ненавидеть, — достоинство, которого недостает моему другу Жорж Санд. Но как жаль, что он недостаточно тонко распознает истину! Говорил я вам, что встречался с ним несколько раз этой зимой и даже обедал как-то раз у него? Я нахожу, что старик он просто восхитительный и, разумеется, совсем не такой, каким его себе представляешь.
Как вы проводите время? Пишите мне, я думаю, что это самое лучшее занятие для вас.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, 4 июня 1872]
Какие часы я могу вам посвятить, дорогой маэстро? Да все — сейчас, потом и всегда.
Я рассчитывал отправиться в Париж в конце будущей недели, числа 14-го или 16-го. Будете ли вы еще там? Если нет, я ускорю свой отъезд.
Но я предпочел бы, чтобы вы приехали сюда. Нам было бы спокойнее, без посторонних и докучливых гостей. Более чем когда-либо мне хотелось бы видеть вас теперь в моем бедном Круассе.
Мне кажется, у нас найдется, о чем поговорить круглые сутки. Потом я прочту вам «Святого Антония», для окончания которого мне осталось дописать страниц пятнадцать. Но если коклюш у вас не прошел, не приезжайте, я боюсь, как бы сырость не повредила вам.
Вандомский мэр пригласил меня «почтить своим присутствием» освящение памятника Ронсару, которое состоится 23-го сего месяца. Поеду. Я хочу даже произнести там речь, направленную против современного Панхамства. Предлог подходящий. Но для того, чтобы написать настоящую вещь, у меня не хватает веселости и силы.
До скорого свидания, дорогой маэстро. Ваш старый трубадур целует вас.
МАДМУАЗЕЛЬ ЛЕРУАЙЕ ДЕ ШАНТПИ
Круассе, 5 июня 1872
Вы пишете мне о смерти, которая глубоко вас удручает. Мне казалось, что я сообщил вам о другой смерти, смерти моей матери. Я самолично написал ваш адрес на уведомлении. Неужели вы его не получили?
Что вам сказать, дорогая корреспондентка? Вы сами испытали и знаете, какие это страдания. Для нас, старых холостяков, это тяжелее, чем для кого бы то ни было.
Мне предстоит жить в полном одиночестве. За три года умерли все мои близкие друзья. Поговорить не с кем.
Через несколько дней я увижу г-жу Санд, которой не видел с зимы 1870 года. Мы побеседуем о вас.
Среди моих огорчений я заканчиваю «Святого Антония». Это произведение всей моей жизни, ибо впервые я задумал его в 1845 году в Генуе, перед картиной Брёгеля, и с тех пор непрестанно обдумывал его и читал относящиеся к нему книги.
Но у меня такое отвращение к издателям и газетам, что сейчас я не буду печататься. Дождусь лучших дней; если они не настанут, я заранее утешаюсь. Искусством надо заниматься для себя, а не для толпы. Если бы не настояния матери и моего бедного Буйле, я бы не опубликовал «Госпожу Бовари». В этом отношении я менее всего литератор.
Что вы читаете? Чем питаете свой ум? Что бы ни случилось, мы должны работать; это единственное средство не чувствовать бремя жизни. Стоицизм — гигиена.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Париж, четверг, 9 часов утра, 13 июня 1872
Милая моя Каро!
Твое письмецо очень мило, но слишком кратко. Надеюсь, что следующее послание будет более пространным. Мне кажется, что мы хорошо провели три недели вдвоем и благотворно действовали друг на друга. Твой старый дядя тебя понимает, не так ли?
Мне было чрезвычайно грустно по приезде в Париж; всякий раз, как я сюда возвращаюсь, мне ужасно недостает моего милого Дюплана.
Встретил Лапьерра, он затащил меня обедать на Миланскую улицу к Жирару. Мне хотелось плакать, садясь к столу, но затем, мало-помалу, грусть прошла, и в конечном счете я развеселился, так как общество было очень приятное, а обед — превосходный.
Вчера я провел вечер с теткой Санд; я нахожу, что она нисколько не изменилась. Она очень мило справлялась о тебе и о всех ваших делах. Сегодня отправляюсь к Флавии, а в воскресенье буду ночевать в Сен-Грасьене. Дамский вагон в Вандом ограничится, очевидно, мною одним. Они прямо изумительны там, в Вандоме! Я получил программу празднеств: будет конгресс археологов, сельскохозяйственная выставка, орфеоны и пр. и пр., будет даже присутствовать министр народного просвещения. Я приглашен к обедне! Ввиду того, что Ронсар был католик, я пойду. Г-жа Санд убеждает меня написать речь, но я знаю, что она будет неудачной, и воздерживаюсь, хотя мне и очень жаль молчать.
Если хочешь знать новости (мало интересные для тебя), могу тебе сообщить о внезапной кончине Шилли; само собою разумеется, что каждый старается получить место директора «Одеона».
Вероятно, я не успею окончить «Святого Антония» до нашего отъезда в Люшон. Работы осталось еще немало.
Наш отъезд окончательно назначен на 8-е число, не правда ли? Чем раньше, тем лучше для меня. Я заказал себе у Маскилье очаровательный костюм, чтобы не стыдно было перед моей прекрасной племянницей, которая находит, что старик недостаточно изящен!..
Сейчас ожидаю г-на X***, третьесортного скульптора; он лепит бюст Буйле и меня преследует.
Привет Эрнесту.
Тебе же, милая моя бедняжка, самые нежные чувства.
Старик.
ЖОРЖ САНД
Баньер-Люшон, 12 июля [1872]
Вот я и здесь, дорогой маэстро, приехал в воскресенье вечером; но мне не веселее, чем в Круассе, пожалуй, даже хуже, — я совершенно выбит из колеи. В доме такой шум, что работать невозможно. К тому же мне нестерпим вид окружающих нас буржуа. Я не создан для путешествий. Малейшая перемена обстановки является для меня причиной неудобств. Ваш старый трубадур положительно сильно постарел! Доктор Ламбру, местный врач, приписывает мою нервную чувствительность злоупотреблению табаком. Послушаюсь, буду меньше курить, хотя очень сомневаюсь, чтобы мое послушание меня вылечило.
Прочел «Пиквика» Диккенса. Знаете вы эту вещь? Есть в ней превосходные места; но сколько недостатков в композиции! Все английские писатели таковы. У них нет плана. Вальтер Скотт — исключение. Мы, латиняне, не выносим этого.
Синьор***, по-видимому, окончательно назначен директором. Все, кто связан с «Одеоном», начиная с вас, дорогой маэстро, раскаются в том, что оказывали ему поддержку. Что касается меня, то поскольку мне, слава богу, не придется иметь дела с этим учреждением, я умываю руки.
Собираюсь писать книгу, которая потребует усиленного чтения в продолжение многих месяцев; {«Бувар и Пекюше».} не знаете ли вы в Париже книготорговца, который мог бы ссужать меня всеми книгами, какие я ему укажу, потому что мне не хотелось бы разоряться на покупку их.
Что вы теперь делаете? Последняя наша встреча была короткой и неудачной. Какое глупое вышло письмо! Но над моей головой так шумят, что она (голова) идет у меня кругом.
Целую вас и всех ваших. Любящий вас старый ротозей.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Вторник [16 июля 1872]
Улица Сите, 8, дом Боннет, Баньер-Люшон
[Верхняя Гаронна]
Принцесса!
Если вам так же весело в Сен-Грасьене, как мне в Люшоне, — остается только искренне вас пожалеть. Современная пошлость в наиболее отвратительных ее проявлениях пышно расцветает здесь, среди гор. Меня глубоко раздражают мои ближние, веселая публика; к тому же ваш друг стал слишком стар для передвижения. Самое лучшее — не покидать своего одиночества.
Я приехал сюда с наилучшими намерениями работать; но их постигла обычная участь всех лучших намерений, то есть полный провал. Я ничего не прочитал, кроме романа Диккенса и нескольких глав Геродота. А к писанию не лежит сердце. Большую часть времени я сплю; можно подумать, что я соревнуюсь со всеми сурками этого края. Развлечения ради лечусь, то есть принимаю ванны, души, пью воды. Доктор Ламбру, местный врач, посоветовал мне меньше курить, чтобы успокоить нервное раздражение. Сомневаюсь в целебных свойствах этого лекарства; но мое состояние безусловно меня беспокоит. Боюсь, чтобы со мной не случилось того же, что было с Жюлем де Гонкур. Какие жалкие, исковерканные люди все эти писатели!
Читал в одной газете, что Тео получил назначение в Италию. Что это значит? Почтенный Тюрган, которого я встретил в поезде, говорил мне, что он был плох недели две тому назад. Я узнал от Гарриса, что мой друг Труба хотел поступить с г-жой Санд так же, как он пытался было поступить с вами, то есть удержать письма. Жалкий человек! Вчера я много думал о вас, читая отрывки из брошюры Дюма. Ибо никто, кроме вас, принцесса, не может его читать. Никогда я не забуду, как вы талантливо изложили по пунктам предисловие к «Принцессе Жорж». Только к чему писать такие пошлости! Какая у него цель?
По части литературных развлечений я часто посещаю зверинец с дикими зверями, который находится в сотне шагов от моего окна.
Лежа в постели, я слышу, как рычит лев; это очень приятно. Шут из этого предприятия сказал мне вчера, указывая на медведя: «Он двадцать девять лет состоит в учреждении». Я нахожу, что это недурно сказано — в учреждении.
Прощайте, дорогая и обожаемая принцесса; в первых числах августа, приблизительно около десятого, я надеюсь целовать ваши ручки и просить вас принять уверение в том, что я по-прежнему ваш старый почитатель.
Говорил я вам, что окончил книжку, которую можно было бы назвать «Верх безумия»?
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, понедельник, 18 августа [1872]
Мне переслали ваше письмо из Круассе в Баньер-де-Люшон, а между тем я вернулся третьего дня сюда. Вот причина моего эпистолярного запоздания. Теперь потолкуем. Прежде всего, дорогая г-жа де Женетт, — вернее, дорогой друг, вы правы, когда думаете, что я вас не забываю. Я очень много и чрезвычайно интенсивно о вас думаю. Не связаны вы разве с лучшим, что было у меня в прошлом? Воспоминание о вас приводит мне на память лишь хорошее.
Ввиду того, что вы собираетесь зимой в Париж, сообщите мне заранее, когда поедете, и я тотчас же приеду к вам. Нам будет о чем поговорить, и я прочту вам все, что написал с незапамятных времен как мы расстались.
У меня сейчас такое отвращение ко всему, что я не хочу печататься. К чему? Зачем? Собираюсь начать книгу, которая займет у меня несколько лет. Когда окончу ее и если настанут более благоприятные времена, я опубликую ее вместе со «Святым Антонием». Это история тех двух стариков-переписчиков, своего рода критическая энциклопедия в форме фарса. Вы, несомненно, имеете о ней представление. Для нее мне придется изучить множество незнакомых предметов: химию, медицину, агрономию. В настоящее время я изучаю медицину. Надо, однако, быть сумасшедшим и трижды неистовым, чтобы взяться за подобную книжицу! Тем хуже, смилуйся боже! И если она окажется шедевром (в особенности, если это будет шедевр), она не будет иметь того успеха, который имеет «Мужчина-женщина». {Граф Анри-Амедей Лелорнь д'Идевиль опубликовал книгу (1872) под заглавием «Мужчина, который убивает, и мужчина, который прощает», с предисловием-письмом к Александру Дюма-сыну. Дюма ответил книгой «Мужчина-женщина, ответ д'Идевилю». Книга эта разошлась в 1872 г. в 37 изданиях.} Ах, я прямо смакую эту заразу. Она внушает отвращение к адюльтеру. Какая плоская пошлость, какое грязное невежество! А Жирарден-то что рот раскрыл! А г-жа***, которая привыкла раскрывать кое-что другое, та тоже принимает участие в концерте! Нет ничего комичнее всех этих рогоносцев, позолотивших свои рога и выставивших их напоказ народу. Простите, однако, мне кажется, что мой язык становится грубым.
Как вам нравятся три шутника, которые облаяли Тьера? Комично, по-моему; я завидую этим господам, хотелось бы мне побывать в их шкуре. Им должно быть очень весело. Быть может, они просто дураки? Это другой вопрос.
Во время моего пребывания в Люшоне (где я исполнял обязанности дуэньи при своей племяннице, ввиду того что муж не мог ее туда сопровождать) я читал — угадайте что? — Пиго-Лебрена и Поль де Кока! Это чтение повергло меня в ужасную печаль. Что же такое литературная слава! Прав был Вольтер — жизнь пустая шутка, слишком пустая и не очень-то веселая. Я сыт ею по горло, с позволения сказать.
Мой Тео совсем плох, бедняга. Еще один!
Прощайте, бодритесь, сколько возможно. Очень мило с вашей стороны, что вы подали мне надежду увидеть вас нынешней зимой. Не обманете меня, а? А пока что пишите иногда.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, понедельник, 5 час. [26 августа 1872]
Милочка моя!
Прежде всего я должен тебя поцеловать (ибо ужасно по тебе соскучился), засим думаю сообщить тебе немало вещей. Во-первых, завтра утром садовник отправит тебе по железной дороге корзину. Но посылка будет неважная, так как твой сад не очень изобилен, что не мешает, однако, ворам проявлять свое корыстолюбие: они перелезают ночью через забор и ломают решетки, к ужасу м-ль Жюли.
Во-вторых, — только что у меня был Лапорт и пригласил к завтраку в будущий четверг вместе с Рауль-Дювалем.
Нынче утром меня навестил Филипп.
Получил от г-жи Брен письмо, полное жалоб. Ее сын очень болен. Она везет его на Боннские воды и, по-видимому, в большой тревоге, вернее — в отчаянье. Ей пришлось раздобыть денег. Она не знает, как ей быть с журналом, и боится потерять место. Есть люди, быть может, более достойные сожаления, чем мы с тобой, барынька моя.
Кстати о несчастьях. Я не рассказывал тебе, что Фейдо исповедался передо мной: у него их действительно сверх меры, и я считаю, что он очень выдержан. Мне до глубины души жаль его, беднягу!
Я начал заниматься медициной. Фортен {Доктор Фортен — сосед Флобера по Круассе.} ссудил меня книгами. Что касается химии, которую я понимаю гораздо меньше — вернее, совсем не понимаю, то я ее отложил. Надо совсем взбеситься, быть трижды помешанным, чтобы взяться за подобную книгу. Впрочем, да будет с нами милость божья!
Не знаю, что тебе посоветовать после Геродота. Лучше всего прочесть теперь Эсхила в переводе Леконт де Лиля, затем Фукидида и Демосфена в переводах и как можно больше Плутарха.
В качестве руководства по истории советую тебе, чтобы разобраться в фактах, почитать Терльуоля (по-английски), он у меня есть.
(Хвалю тебя за то, что ты убедила своего мужа съездить в Эльбёф. Всегда надо быть джентльменом! вплоть до момента, когда приходится бить по морде.)
Начал принимать холодные ванны, но мне кажется, что они слишком холодны. Поэтому я приму немного.
Какое бессвязное письмо, в нем полное отсутствие какого бы то ни было литературного кокетства. Не презирай меня за это, моя Каро, и люби всегда своего старика.
БАРОНЕССЕ ЛЕПИК
Из моей уединенной обители, сентября 24-го дня
(месяц, именовавшийся у греков боэдромионом)
Беру в руки перо, чтобы написать вам, и, собравшись с мыслями, в тиши кабинета, позволяю себе,
о прекрасная Дама!
возжечь у ваших ног несколько зерен чистого фимиама.
Я думал про себя: она отправилась в новые Афины с питомцами Марса! Их ляжки затянуты в блестящую лазурь, а на мне сельские одежды! Меч сверкает у них сбоку; а у меня одни лишь перья! Султаны украшают их головы; моя же — едва покрыта волосами!..
Ибо заботы, учение похитили у меня этот венок молодости, этот лес, который удаляет с нашего чела рука всесокрушающего Времени.
Так, о прекрасная дама, извивалась в моей груди черная зависть!
Но ваше послание, слава богам, явилось ко мне, точно живительный ветерок, точно истый бальзам!
Отчего же нет у меня уверенности в том, что вы в ближайшее время поселитесь среди наших нив и навсегда останетесь на наших берегах! Ваше присутствие смягчило бы суровость приближающихся бурь.
Что же касается политического горизонта, то ваши опасения, быть может, чрезмерны. Надо надеяться, что наш великий национальный историк завершит на миг эру революций! Да закроются навсегда двери Януса! Таково желание моего сердца, друга чувств и кроткого веселья.
Ах! Если бы смертные бежали от пышных дворцов и треволнений Форума и прислушались бы к бесхитростному голосу природы — в сей юдоли царили бы согласие, танцы пастушек, объятия под листвой! И тут, и там... со всех сторон! Но я увлекся.
А ваша маменька все еще отдается Талии? Очень хорошо! И намерена безбоязненно встретиться лицом к лицу с гласностью в доме Мольера? Я понимаю ее, но не лучше ли будет (в интересах ее усиленных трудов в области драмы), если я сам отнесу и передам плод ее музы собственной особе директора сего учреждения? Итак, едва прибыв в столицу, совершить туалет, позвать слугу, послать его на площадь за пошлой колесницей, влезть в этот экипаж, проехать все улицы, остановиться перед «Французским театром» и, наконец, найти нужного нам человека — все это будет для меня минутным делом.
Засим, сударыня, остаюсь ваш недостойный раб
Прюдом.
NB. Невероятный росчерк.
Г-ЖЕ МОРИС ШЛЕЗИНГЕР
Круассе, суббота [5 октября 1872]
Мой старый друг, моя старая любовь!
Не могу без волнения видеть ваш почерк. Вот почему нынче утром я с жадностью вскрыл конверт вашего письма.
Думал найти в нем извещение о вашем приезде. Увы, нет! Когда же это будет? В будущем году? Мне так хотелось бы принять вас у себя дома, уложить вас в комнате моей матери!
Не ради своего здоровья я был в Люшоне, а для лечения племянницы, так как мужа ее задержали в Дьеппе дела. Возвратился оттуда в начале августа. Весь сентябрь месяц провел в Париже. Поеду туда на две недели в декабре, чтобы заказать бюст матери, а затем вернусь сюда и останусь как можно дольше. Париж уже не Париж, все мои друзья умерли; из оставшихся — одни мало значат для меня, другие так изменились, что стали неузнаваемыми. Здесь меня, по крайней мере, ничто не раздражает, ничто не огорчает непосредственно.
Дух общества вызывает во мне такое отвращение, что я избегаю его. Продолжаю писать, но не хочу печататься, хотя бы до лучшего времени. Мне подарили собаку; гуляю с ней, гляжу на солнечные блики, играющие на желтеющей листве, и как старик мечтаю о прошлом, потому что я старик. Будущее не сулит мне больше мечтаний, зато прошедшие дни представляются словно окутанные золотой дымкой. На этом сияющем фоне, откуда дорогие тени простирают ко мне руки, чудеснее всех выделяется ваше лицо! — Да, ваше. О, бедный Трувить!
При разделе Довиль {Г-жа Флобер владела близ Дозиля фермой.} достался мне. Но я должен продать его, чтобы иметь ренту.
Как поживает ваш сын? Счастлив ли он? Будем изредка писать друг другу хотя бы одно слово, чтобы знать, что мы еще живы.
Прощайте, ваш вечно.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, суббота, 5 октября 1872
О, нет! Затяните, прошу вас, ваше пребывание в Париже недельки на две, так как я не смогу отлучиться отсюда во вторую половину ноября. Мне невозможно быть в Париже раньше 1 декабря. Зачем вам спешить обратно в ужасный Вильнокс? Какая святыня вас туда тянет? Мы так давно не виделись! Мне нужно сказать вам массу вещей; я надеюсь посвятить вам не только несколько часов, а рассчитываю нанести несколько очень длинных визитов.
Во всех ваших письмах я вижу вас такой же гордой и мужественной — вернее, стойкой, как всегда, и это такая редкость в наше время всеобщей слабости! Вот вы не то что другие! (Фраза, подходящая к драме, но оценка правильная.) Не знаю, насколько вы изменились физически, но в моральном отношении вы по-прежнему изумительны, ручаюсь.
У меня в настоящий момент довольно хорошее душевное состояние, оттого что я задумал вещь, в которой хочу излить свою злобу. Да, наконец-то, я избавлюсь от того, что меня душит. Я изрыгну на современников отвращение, которое они мне внушают, даже если разорвется от этого вся моя грудь; это будет широко и сильно. Я не могу в письме познакомить вас с планом такой книжицы, но я прочту вам его после «Святого Антония». Ибо обещаю вам прорычать мое последнее разглагольствование. Если вы не сможете подняться ко мне, дорогая моя больная бедняжка, то приютите меня у себя, и там, закрыв плотно двери, мы займемся свирепой литературой, как двое ископаемых, каковыми мы являемся. Выражение не очень вежливое по отношению к даме, но вы понимаете, что я хочу сказать.
В ожидании этого дня, который будет великим для меня днем, я предаюсь «Истории лечебных теорий» и чтению «Трактатов по воспитанию»; однако довольно обо мне! Поговорим об о. Гиацинте. Смешно! Печаль о праведных, радость за свободомыслящих! Шутовство! Шутовство! Бедняга! Он сам не знает, что себе готовит! А еще обвиняют священников в том, что они защищают свои интересы! Этот брак, должно быть, повергнет нашего друга Плесси в пучину мечтаний. Есть слухи, будто монсеньор Бауэр также собирается вступить в другой брак. Черт возьми, неужели это возможно? Пожалуй, на такой из ряду вон выходящий поступок его натолкнуло ношение сапог, так как во время осады он ходил в сапогах. Почему заправленные в сапоги штаны роковым образом связаны с умственной распущенностью? Как может опойка влиять на мозг? Не понимаю.
Как вам нравятся лурдские паломники и те, кто их оскорбляет? О бедное, бедное человечество!
Мне подарили борзую собаку. Я гуляю с ней и гляжу на солнечные блики, рассыпанные по желтеющей листве, обдумываю будущие книги и перебираю в памяти прошлое, потому что я уже старик. О будущем мечтать не приходится, а былые дни начинают потихоньку колебаться в сияющей дымке. На этом фоне выделяется несколько любимых лиц, дорогие призраки протягивают мне руки. Скверная мечтательность, ее надо отталкивать, хоть она и услаждает.
Прощайте! Нет! До скорого свидания.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, суббота, 6 час. [19 октября 1872]
Какой дождь, милочка! Какая сырость! Какая грязь! Что за гнилая погода!
Несмотря на любовь к Круассе, я нахожу, что в здешнем климате мало очарования. Вот почему я более чем когда-либо погружаюсь в тишину кабинета, и единственным развлечением мне служит созерцание моего зевающего пса.
В ночь после твоего отъезда он меня измучил: с девяти до двух часов утра он не переставая выл. Я приписал это желанию снова тебя увидеть и, наконец, спустился, чтобы утешить его и заставить замолчать. Что же с ним случилось? Картина: он был заперт в уборной! Виктория заперла дверь, не заметив его. Если бы, по несчастию, крышка от отверстия была бы поднята, мой бедный песик упал бы в бездну. Печальный конец для такого красивого господина!
Остальные мои друзья, Тургенев и д'Омуа, не пишут мне. Я начинаю злиться. Но что поделаешь? Я получил еще одно письмецо из Рабоданж. Оно от г-жи Лепик, и такое милое, что невозможно высказать.
Хорошая вещь — остроумие! И редкая! Вот почему Старик любит свою девочку. Как жаль, что она не всегда с ним!
Нынче утром прибыли три медальона от Карье-Беллёза. Я повесил тот, что останется у меня, в маленькой гостиной, над зеркалом. Кушая в одиночестве, я представлю себе, что он был когда-то здесь. Воспоминание о твоей бабушке также никогда не покидает меня. Я строю планы, как украсить дом внутри. Вот о чем я, в сущности, мечтаю, когда не обдумываю «Бувара и Пекюше».
Завтра обедаю у г-жи Лапьерр. Надеюсь, там будет не столь бесцветно, как в прошлый раз. Твое сегодняшнее письмо меня развлекло. Ты наживешь себе мою болезнь — вернее, мою невыносливость, дорогая моя Каро. Этот признак вкуса нисколько не способствует счастью.
Два крепких поцелуя от твоей старой
Нянюшки.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Понедельник ночью [28 октября 1872]
Как хорошо, что вы написали мне, принцесса. Вы подумали, что мне должно быть грустно. Это верно. Ах, слишком много покойников, слишком много покойников, удар за ударом! Я никогда особенно не дорожил жизнью, и нити, привязывающие меня к ней, обрываются одна за другой. Скоро не останется ни одной. Бедный, дорогой Тео! Он был лучшим из всей банды! Большой ученый, большой поэт, большое сердце. Он очень вас любил, принцесса, и вы правы, сожалея о нем. Он умер от отвращения к современной жизни; 4 сентября сразило его. Этот день, действительно, самый гнусный в истории Франции, освятил порядок вещей, при котором людям, подобным Тео, делать нечего. От самого четверга я непрестанно думаю о нем и чувствую себя подавленным и в то же время взбешенным. Он был самым старым из близких мне друзей; я уважал его, как большого мастера, и любил, как брата. Я не жалею о нем, я ему завидую.
Катулл прислал мне телеграмму в письме, которое я получил через полтора дня после события, а так как в Париже имеют обыкновение спешить с похоронами и кончать с ними в течение суток, я подумал, что церемония будет в четверг и я опоздаю.
Мне было бы неприятно, если бы похороны были не по католическому обряду, так как добрейший Тео был, в сущности, католиком, как испанец XII века. В таких случаях следует уважать принципы покойного; надо по мере возможности продолжать его идею. Вот почему, если бы мне пришлось говорить надгробную речь над прахом Тео, я сказал бы, что послужило причиной его смерти. Я возражал бы от его имени против лавочников и мошенников. Он умер от затаенного гнева. Таким образом, я излил бы частицу его гнева. Речь Дюма показалась мне только приличной; в ней не чувствуется одухотворенности.
Г-жа Санд прислала мне утром очень хорошее письмо по поводу нашего друга и с множеством советов, относящихся ко мне. Сознаюсь вам, между нами, что ее вечное благословение, ее благоразумие, если хотите, действует мне иногда на нервы. Отвечу ей, изругав демократию, и отведу душу.
Все еще жду Тургенева, который откладывает свой приезд с одной недели на другую, так как страдает от приступов подагры.
В Париже думаю быть не ранее начала декабря. Холодно, сыро, противно, тоскливо как внутри, так и снаружи.
Берегите себя! Оставайтесь мужественной, такой, какая вы есть. Будьте всегда «нашей принцессой», как говорил бедный Тео, и верьте в глубокую преданность вашего
Г. Флобера.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Круассе] Понедельник ночью, 28 октября 1872
Нет, дорогой мой старик, я не болен. Я не присутствовал на похоронах нашего Тео по вине Катулла, который, вместо того чтобы послать мне телеграмму по телеграфу, отправил ее в письме, и я получил ее спустя полтора дня после похорон. Как в Париже спешат с этой церемонией; я думал, что она имела место в четверг, а не в пятницу. Вот почему я остался дома.
Ах, о нем я не жалею; напротив, я глубоко завидую ему! Почему я не гнию вместо него! Столько удовольствия имеешь в этом гнусном мире (гнусный — самое точное слово), что лучше как можно скорее убраться.
4 сентября освятило порядок вещей, который нас не касается. Мы — лишние. Нас ненавидят и презирают, — вот в чем истина. Ну и прощайте!
Однако, прежде чем околеть, или, вернее — в ожидании этого, я хочу излить желчь, которой полон; и вот я приготовлю рвоту. Она будет обильной и горькой, ручаюсь.
Бедный, бедный, дорогой Тео! От этого он и умер (от отвращения к современной заразе!). Он был большой ученый и большой поэт! Да, милостивый государь, и почище, чем молодой Альфред де Мюссе! Даже если бы написал одно лишь «Логово змеи». Но он был совершенно безвестным автором. Пьер Корнель, тот известен!
С четверга я только о нем и думаю, чувствую себя подавленным и в то же время взбешенным. Прощай, мужайся. Крепко целую.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Понедельник ночью, 28 октября 1872
Вы угадали, дорогой маэстро, что горе мое усугубилось, и написали мне хорошее, очень нежное письмо. Благодарю вас; целую еще крепче обычного.
Несмотря на то, что смерть Тео не была неожиданной, она тем не менее глубоко меня потрясла. Ушел последний из близких мне друзей. Он завершил список. Кого я увижу теперь, если поеду в Париж? С кем поговорю об интересующих меня вещах? Я знаю мыслителей (по меньшей мере людей, которых так именуют); но где он, художник?
Я говорю вам, что он умер от «современной падали»; это выражение повторял он мне зимою несколько раз, оно принадлежит ему: «Я умираю из-за Коммуны и т. д.»
4 сентября освятило такой порядок вещей, в котором людям, подобным ему, нечего делать в этом мире. Нельзя требовать яблок от апельсинного дерева. Создатели предметов роскоши — лишние в обществе, где царит плебс. Как мне жаль его! Мне совершенно недостает его и Буйле, и ничто их не заменит. К тому же он был добрым и, что бы ни говорили, простым человеком! Позже признают (если когда-нибудь вздумают поинтересоваться литературой), что он был большой поэт. Пока он совершенно безвестный автор. Пьер Корнель, тот известен!
У него было два предмета ненависти: в молодости он ненавидел лавочников, — это дало ему талант; в зрелом возрасте он ненавидел проходимцев, — это его убило. Он умер от затаенного гнева, от мучительной боли, что не может сказать всего, что думает. Его угнетали Жирарден, Фульд, Даллоз, Третья республика. Говорю вам это, потому что видел отвратительные вещи и, возможно, являюсь единственным человеком, с которым он был вполне откровенен. У него недоставало того, что считается в жизни самым важным как для себя, так и для других, — характера. Ему причинило огромное огорчение то обстоятельство, что он не попал в Академию. Какая слабость! И как мало нужно себя уважать! Стремление к каким-либо почестям кажется мне, впрочем, признаком непонятной скромности.
Я не был на его похоронах по вине Катулла, слишком поздно пославшего мне телеграмму. Было много народу. По обыкновению, собралась куча негодяев и шутов, желающих создать себе рекламу, а сегодня, в понедельник, день театрального фельетона, вероятно, появились в газетах статьи; много будет копий. В конечном итоге, я не жалею его, я ему завидую. Жизнь, откровенно говоря, невеселая штука.
Нет, я не верю в возможность счастья, разве только — покоя. Вот почему я сторонюсь всего, что меня раздражает. Поездка в Париж для меня теперь трудное дело. Стоит мне всколыхнуть тину, как поднимается осадок и мутит все. Малейшая беседа с кем бы то ни было выводит меня из себя, потому что все кажутся мне идиотами. Чувство справедливости непрерывно возмущается во мне. Говорят только о политике, и как! Где найти проблеск мысли? За что ухватиться? Чем увлечься?
Между тем, я вовсе не считаю себя чудовищным эгоистом. Мое я настолько рассеивается в книгах, что я по целым дням не ощущаю его. Бывают у меня, правда, скверные минуты, но я подбадриваю себя следующим соображением: «По крайней мере никто мне не надоедает», и затем снова чувствую себя молодцом. Короче говоря, мне кажется, я иду естественным путем, а раз так, значит я прав.
Что касается того, чтобы жить с женщиной, жениться, как вы мне советуете, — это кажется мне фантастикой. Почему? Сам не знаю, но это так. Объясните. Женщина никогда не включалась в мое существование; а засим — я недостаточно богат, а засим... засим я слишком стар... к тому же, я слишком честен, чтобы навязать навсегда свою особу другому человеку. Есть во мне нечто от духовного лица, чего никто не знает. Поговорим об этом лучше лично, чем в письме.
Увижусь с вами в Париже в декабре, но в Париже всегда кто-нибудь да помешает. Желаю вам триста представлений «Мадмуазель де ля Кентини». Но вам предстоит много неприятностей с «Одеоном». В этой лавочке я жестоко настрадался прошлой зимою. Каждый раз, когда я приступал к действию, мне приходилось каяться. Поэтому довольно! Довольно! «Скрывай свою жизнь», изречение Эпиктета. Все мои честолюбивые мечты в данный момент сводятся к тому, чтобы избегать неприятностей; таким образом я уверен, что не буду причинять их другим, а это уже очень много.
Работаю, как исступленный, читаю книги по медицине, метафизике, политике, всего понемногу. Ибо я предпринял труд большого размаха, который отнимет у меня много времени, а такая перспектива мне нравится.
С месяц как я каждую неделю ожидаю Тургенева. Его задерживает подагра.
ТУРГЕНЕВУ
Среда вечером
Как мне жаль вас, бедный, дорогой друг. Мне незачем было узнавать о вашей болезни, чтобы затосковать. Я подавлен смертью моего старого Тео. За последние три года умирают один за другим все мои друзья! Я не знаю теперь в мире ни одного человека, с кем можно было бы побеседовать, кроме вас. Поэтому вы должны лечиться и не покидать меня, как другие.
Тео умер, отравленный современной падалью. Людям, которые, подобно ему, являются исключительно художниками, нечего делать в обществе, где господствует плебс. Вот что я ответил вчера в письме Жорж Санд, которая очень добра, но слишком добра, слишком любит благословлять, слишком демократична и слишком евангелична.
Я — вроде вас, хоть и не страдаю от подагры; жизнь мне отчаянно надоела. Вольтер назвал ее пустой шуткой. Я считаю ее слишком пустой и недостаточно веселой, стараюсь провести ее как только могу: читаю часов девять-десять в день; ничего, немного развлечения иногда не помешало бы мне. Но чем развлечься?
Ваше посещение, на которое я рассчитывал, было бы очаровательным развлечением, больше того, в некотором роде счастьем и несомненно единственным счастливым событием за весь год! Крах! Вы страдаете у себя на кровати, как грешная душа.
Увидимся в Париже в начале декабря. Пока что присылайте мне весточки о себе и, если будете в состоянии, приезжайте. Вы всегда будете дорогим гостем у вашего Г. Флобера. Целую вас.
Г-ЖЕ ГЮСТАВ ДЕ МОПАССАН
Круассе, 30 октября 1872
Дорогая моя Лаура!
Мне не удается ответить как следует на твое письмо от 10-го, так как в данный момент я перегружен работой и у меня не хватает времени для обстоятельной беседы с тобой.
Я лишен возможности навестить тебя в Этрета ранее будущей весны. Очень жалею, что ты не подаешь мне примера, приехав сюда, в Круассе.
Твой сын {Ги де Мопассан.} прав, что любит меня, ибо я питаю к нему истинную дружбу. Он умен, образован, обаятелен, к тому же он — твой сын и племянник моего бедного Альфреда..
Первое произведение, которое я отдам в печать, будет носить имя твоего брата, потому что мысленно я всегда посвящал «Святого Антония» Альфреду Ле Пуатвену.
Я говорил с ним о своей книге за полгода до его смерти. Наконец-то я покончил с этим произведением, проработав над ним в несколько приемов двадцать пять лет! А так как он отсутствует, мне хотелось бы прочитать рукопись тебе, моя дорогая Лаура. Впрочем, я не знаю, когда опубликую произведение; момент сейчас далеко не благоприятный.
Прощай, дорогой старый друг. Прости за лаконизм и верь, что я твой искренно.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, суббота, 6 часов вечера. 9 ноября 1872
Моя милочка!
Старый по-прежнему невесел. Он точно Макбет, «он убил сон». Отчего? Как ни странно, у Фортена такое же состояние, как у меня. Уж не виноват ли воздух Круассе? Я не могу сомкнуть глаз до пяти часов утра. Поэтому весь день нервничаю и грущу.
Среди своих печальных дум я вспоминаю о проклятых деньгах. Мои расходы пугают меня! Затраты на сидр приводят меня в ужас... В течение одной лишь недели я уплатил за него более пятисот франков из тысячи франков, присланных мне Эрнестом две недели тому назад; осталось у меня двести. Поэтому можешь ему передать, пусть присылает мне тысячу, когда захочет.
С нетерпением жду вторника, чтобы узнать, состоится ли поездка в Данциг, и в связи с этим, когда ты приедешь сюда. У меня большое желание пока что нанести тебе в будущую субботу маленький визит.
Получил нынче утром прелестное письмо от милого Тургенева.
Продолжаю читать и делать заметки к «Бувару и Пекюше», образ которых все больше и больше вырисовывается передо мной. Но какую же я предпринял работу! Нечто подавляющее!
Спешу окончить письмо, а то пароход уйдет. Итак, скоренько два крепких поцелуя от
Нянюшки.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Понедельник, 11 часов вечера
[25 ноября 1872]
Почтальон принес мне в 5 часов две ваших книги. Хочу сейчас же взяться за чтение «Нанон», так как мне очень любопытно узнать, что это такое.
Не беспокойтесь, о вашем старом трубадуре (который, откровенно говоря, обратился в глупое животное), я надеюсь поправиться. В моей жизни не раз бывали мрачные минуты, но они проходили. Все. изживается, и скука, как все остальное.
Я неправильно выразился: я вовсе не хотел сказать, что презираю «женское чувство»; но я никогда не смотрел на женщину с материальной точки зрения, а это совсем другое. Я любил более, чем кто бы то ни было, — самонадеянная фраза, означающая «так, как всякий иной», или, быть может, больше, чем первый встречный. Мне знакомы все виды нежности, «сердечные грозы» «пролили» на меня свои «ливни». Но потом мое одиночество усугубилось благодаря случайности, обстоятельствам, и вот теперь я один, совершенно один.
У меня слишком мало доходов, чтобы жениться, даже на то, чтобы шесть месяцев в году жить в Париже: таким образом, я лишен возможности изменить что-либо в моем существовании.
Неужели я вам не говорил, что в июне месяце окончил «Святого Антония»? Теперь я задумал вещь более значительную, с претензией на комизм к тому же. Слишком долго рассказывать о ней в письме. Поговорим при свидании.
Прощайте, дорогой, обожаемый маэстро, с нежнейшим приветствием
ваш старик.
Как всегда, вввозмущен, вроде св. Поликарпа!
Известно ли вам во всеобщей истории, включая историю Ботокюдов, нечто более глупое, чем правая Национального собрания? Этим господам, видите ли, не нравится простое и бессодержательное слово «республика», а Тьера они считают слишком передовым!!! О глубина!.. Проблема! Мечты!
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Суббота [ноябрь 1872]
Что я поделываю? Принцесса! Ничего хорошего. Одиночество, литературные разочарования, отвращение к современникам, натянутые донельзя нервы, тревога за будущее и стукнувшие пятьдесят лет — вот итог моей жизни. Невесело мне — вот все, что я могу сказать.
Хотел было в конце декабря поехать на несколько дней в Париж, а затем вернуться сюда; во было бы слишком грустно возвращаться одному в этот дом. Я предпочитаю подождать еще шесть недель и вернуться сюда лишь в мае. Не могу утешиться после смерти бедного Тео! Теперь, когда Буйле и Тео ушли навсегда, мне больше не для кого писать. Я чувствую, что обратился в Ископаемое, в существо, которому нечего делать на свете. Поговорим лучше о вас, принцесса. Вы как будто не изменились и по-прежнему полны мужества; оставайтесь такою. Меланхолия — худший из пороков как для себя, так и для других.
Как подвигается ваше переселение на Беррийскую улицу? Довольны ли вы им?
Тургенев, которого я поджидая каждую неделю в течение двух месяцев, заявил мне, что не приедет; он прикован к постели подагрой. Он собирался было поехать в Сомюр на крестины своей внучки, но вместо того два дня «выл от боли». Бедняга, судя по письмам, в жалком состоянии.
Г-жа Санд — в Ножане. На прошлой неделе она прислала мне две свои книги: «Нанон» и «Франсию»; я с удовольствием их прочел. Она изо всех сил старается поднять мое моральное состояние и настойчиво приглашает к себе. Но я в настоящий момент слишком глупое и скучное животное. Было бы жестокостью навязывать свое общество людям, которых я люблю. Получил от Юдифи Катулл Мендес чрезвычайно милое письмо; она, кажется, очень грустит.
Я слышал, что ее мать (Эрнеста Гризи) терпела ужасную нужду, пожалуй, это верно. Принимали ли вы у себя в Сен-Грасьене новобрачных? Зрелище чужого счастья иногда радует, а иной раз огорчает, зависит от обстоятельств.
Целую ваши руки, принцесса. Ваш.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, 27 ноября 1872]
Дорогой маэстро!
Ночь и день провел я с вами. Окончил «Нанон» в 4 часа утра, а «Франсию» — в 3 часа пополудни. Все это еще не улеглось у меня в голове. Попробую сосредоточить свои мысли, чтобы поговорить с вами об этих прекрасных книжках. Они подействовали на меня благотворно. Спасибо вам, мой хороший друг, дорогой маэстро. Да, на меня словно повеяло струей чистого воздуха, и, умиленный вначале, я почувствовал затем приток новых сил.
В «Нанон» меня прежде всего очаровал стиль, ряд простых и метких оборотов, вплетающихся в ткань и составляющих ее основу, вроде: «Сумма показалась мне грандиозной, поэтому я нашел, что животное прекрасно». А после я уже ни на что не обращал внимания, увлекшись, как самый обыкновенный читатель. (Не думаю, чтобы самый обыкновенный читатель мог восхищаться так, как я.) Жизнь монахов, возникновение отношений между Эмильеном и Нанон, страх, вызванный разбойниками, и, наконец, заключение под стражу отца Фрюктюё, — отнюдь не шаблонно, хотя могло быть таким. А страница 113-я, что за страница! И как трудно было сохранить чувство меры! «С этого дня все казалось мне счастьем и радостно стало жить на свете!»
Скала Фад — прелестная идиллия. Так и хочется пожить жизнью этих славных трех людей.
По-моему, интерес немного ослабевает, когда Нанон задумывает разбогатеть. Она становится слишком сильной, слишком умной. Кроме того, мне не нравится эпизод с ворами. Возвращение Эмильена с ампутированной рукой снова растрогало меня, а образ старой графини Франквиль, на последней странице, заставил пролить слезу.
У меня возникают следующие сомнения: Эмильен, по-видимому, большой знаток политической философии. Разве в то время встречались люди с такими возвышенными воззрениями? То же относится и к приору; зато в других местах, особенно в середине книги, он очарователен. Но как все это кстати, как живо, увлекательно, прелестно! Что вы за существо!!! Какая мощь!
Лобызаю вас в обе щеки и перехожу к «Франсии». Тут другой стиль, но он нисколько не хуже. Прежде всего я чрезвычайно восхищен вашим Додором. Впервые создан правдивый образ парижского гамена; он не слишком великодушен, не слишком беспутен и не слишком водевилен. Диалог с сестрой, когда он соглашается, чтобы она сделалась содержанкой, написан блестяще. А г-жа де Тьевр с кашемировой шалью, в которую она кутает жирные плечи, разве это не настоящий тип эпохи Реставрации! А дядюшка, который хочет перебить у племянника гризетку? А Антуан, добродушный толстый жестяник, такой вежливый в театре! Русский — безыскусственный простак, такого не легко создать.
Когда Франсия вонзает ему кинжал в сердце, я сперва нахмурился, испугавшись, как бы эта классическая месть не исказила прелестный характер девушки. Ничего подобного! Я ошибся, это бессознательное убийство завершает образ вашей героини.
Поражает меня в вашей книге то, что она умна и очень правдива. Целиком раскрыта эпоха.
Благодарю вас от всего сердца, чтение обеих ваших книг дало мне отдохновение. Значит, не все еще умерло? Значит, существуют еще прекрасные и хорошие люди?
ЖОРЖ САНД
[Круассе] Среда [4 декабря 1872]
Дорогой маэстро! Мне запомнилась одна фраза в вашем последнем письме: «Если бы публика обладала вкусом, то издатель также имел бы его... или публика заставила бы издателя его иметь». Нет, это невыполнимое требование! У них имеются свои литературные понятия, поверьте, точно так же у гг. театральных директоров. И те и другие считают себя знатоками, их эстетика в соединении с их меркантилизмом составляет очень милое целое.
По мнению издателей, последняя книга всегда хуже предшествовавшей. Пусть меня повесят, если это неправда! Почему Леви гораздо больше восхищается Понсаром и Октавом Фейе, чем Дюма-отцом и вами? Леви академичен. Я дал ему заработать больше, чем Кювилье-Флёри, не так ли? А проведите-ка параллель между нами двумя, и вы увидите, как он к вам отнесется. Вам небезызвестно, что он не захотел продать более 1 200 экземпляров «Последних песен», остальные 800 валяются на чердаке у моей племянницы на улице Клиши. Это очень неумно с моей стороны, согласен; но, признаться, меня его поступок просто взбесил. Мне кажется, что человек, заработавший на мне некоторую сумму денег, мог бы отнестись с большим уважением к моим сочинениям. {Имеется в виду, вероятно, предисловие Флобера к. «Последним песням» Буйле.}
Ввиду того, что я не желаю больше разговаривать с вышеупомянутым Мишелем, моим заместителем по делу о ликвидации наших взаимоотношений будет мой племянник. Я уплачу за напечатание «Последних песен» и затем избавлюсь от всяческих сношений с ним.
К чему печататься в такое отвратительное время? Неужели ради заработка? Смешно! Как будто деньги служат или могут служить вознаграждением за труд! Это будет возможно, когда уничтожат спекуляцию, не раньше. К тому же, как измерить труд, как оценить затраченные силы? Остается лишь коммерческая стоимость произведения. Следует уничтожить всякое посредничество между производителем и покупателем, а тем не менее вопрос этот по сути неразрешим. Ибо я пишу (я имею в виду писателя, уважающего себя) не для читателя сегодняшнего дня, а для всех читателей, какие представятся, пока жив язык. Значит, мой товар не может ограничиваться исключительно нынешним потребителем, так как он вовсе не рассчитан только на моих современников. Таким образом, мой труд не поддается ни определению, ни оплате.
К чему же печататься? Чтобы тебя поняли, рукоплескали тебе? Но ведь вы, даже вы, великая Жорж Санд, и то сознаетесь в своем одиночестве.
Разве проявляется в настоящее время хотя бы чисто внешнее внимание к произведениям искусства, не говоря уже о восторгах или просто симпатии? Разве критик прочитывает книгу, о которой ему надо дать отчет?
Быть может, лет через десять никто не сумеет сделать и пары башмаков, до того невероятно все глупеют! Все это я говорю, чтобы объяснить вам, почему до наступления лучших времен (в которые я не верю) «Святой Антоний» пролежит на нижней полке шкафа.
Если я вздумаю его опубликовать, то предпочту, чтобы одновременно с ним вышла другая книга, совершенно в ином духе. Я как раз пишу вещь, которая очень подойдет к нему. Из этого следует, что самое разумное — сидеть спокойно.
Отчего Дюкенель {Директор театра «Одеон». Речь идет о разрешении поставить на сцене «Мадмуазель де ля Кентини» Жорж Санд.} не идет к генералу Ладмиро, Жюлю Симону, Тьеру? Мне кажется, что это его дело — хлопотать. Какая прекрасная вещь — Цензура! Будьте покойны, она всегда будет существовать, ибо всегда существовала. Разве наш друг Александр Дюма-сын, во имя приятного парадокса, не расхвалил свои благодеяния в предисловии к «Даме с камелиями»?
А вы еще хотите, чтобы я не грустил? Представляю себе, какие гнусные вещи мы увидим в ближайшее время благодаря дурацкому упорству правых. Добрые нормандцы, самый консервативный народ в мире, обнаруживают весьма большое тяготение к левым.
Если бы теперь спросили у буржуазии, она сделала бы дядюшку Тьера королем Франции. Не будь Тьера — она бросилась бы в объятия Гамбетты, и я боюсь, как бы это не случилось очень скоро.
Утешаюсь при мысли, что в будущий четверг мне исполнится пятьдесят один год. Если вы не предполагаете быть в Париже в феврале месяце, я навещу вас в конце января, до своего возвращения в парк Монсо; даю себе обещание.
Принцесса спрашивала меня в письме, в Ножане ли вы. Она собирается вам писать.
Моя племянница Каролина в восторге от «Нанон», которую я дал ей прочесть. Больше всего ее поразила «юность» книги. По-моему, ее суждение правильно. Вот это — книжица, так же как и «Франсия», которая хоть и проще, но, быть может, еще более удачное и безупречное произведение.
Прочел на этой неделе «Знаменитого доктора Матеуса» Эркмана-Шатриана. Какая безнадежность! Уж очень плебейская душа у обоих этих чудаков.
Прощайте, дорогой и добрый маэстро. Ваш старый трубадур целует вас.
Я все думаю о Тео и не могу утешиться после этой утраты.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, 12 декабря 1872]
Дорогой и добрый маэстро!
Не беспокойтесь относительно Леви, не будем больше о нем говорить. Он не стоит и минуты нашего внимания. Он глубоко уязвил меня в самое чувствительное место, воспоминание о моем бедном Буйле. Это неисправимо. Я не христианин, и лицемерие прощения для меня невозможно. Мне остается только не бывать у него, вот и все. Я не желаю больше его видеть. Аминь.
Не принимайте всерьез моего преувеличенного irae! {Гнева (лат.).} Не подумайте, что я рассчитываю на «потомство, которое отомстит за равнодушие моих современников». Я хотел лишь просто сказать: раз не обращаешься к толпе, совершенно справедливо не получать от нее оплаты. Это из политической экономии. Поэтому я утверждаю, что произведение искусства (достойное этого названия и добросовестно выполненное) — неоценимо, не имеет коммерческой стоимости, не может быть оплачено. Вывод: если у художника нет ренты, он должен околеть от голода! Считается, что писатель, не получающий пенсиона сильных мира сего, гораздо более свободен, благороднее. Всякое социальное благородство состоит ныне в том, чтобы быть равным лавочнику. Какой прогресс! Вы мне говорите: «Будем логичны»; это-то и трудно!
Я совершенно не уверен в том, что напишу хорошие вещи и что книга, о которой я сейчас мечтаю, будет хороша; но кто же мешает мне взяться за нее. Думаю, что идея книги по меньшей мере оригинальна; и затем я надеюсь изрыгнуть в нее желчь, которая меня душит, то есть высказать несколько истин и таким образом очиститься и стать более олимпийским, какового качества мне совершенно недостает! Ах, хотелось бы мне полюбоваться собою!
Еще одна утрата: в прошлый понедельник похоронил дядюшку Пуше. Жизнь этого старика была прекрасна, и я оплакивал его.
Сегодня мне исполнилось пятьдесят один год; поэтому мне очень хочется вас расцеловать, что я и делаю с большой нежностью, раз вы так меня любите.
ЖОРЖ САНД
[Париж] Вечером, понедельник 3 февраля 1873
Дорогой маэстро!
Получается так, как будто я вас забыл и не хочу приехать в Ножан. Ничего подобного нет, но в течение всего месяца стоит мне выйти на воздух, как я схватываю грипп, причем каждый раз все более сильный. Я безобразно кашляю и пачкаю неимоверное количество носовых платков. Когда это кончится?
Решил не переступать порога до полного выздоровления, а пока все еще жду, когда соблаговолят собраться члены комитета по постановке памятника Буйле. Около двух месяцев я не могу добиться, чтобы шесть руанских жителей собрались вместе в городе Руане. Вот каковы друзья! Им все трудно, самое ничтожное предприятие стоит невероятных усилий.
Читаю в настоящее время книги по химии (в которой ничего не смыслю) и медицину Распайля, не считая «Современного огородничества» Грессена и «Агрономии» Гаспарена. Кстати, не может ли Морис оказать мне любезность и собрать для меня свои впечатления по агрономии, чтобы я знал, в чем он ошибался и что привело его к этим ошибкам?
Каких только сведений мне не надо для предпринятой мной книги? Я приехал этой зимой в Париж с намерением приобрести их; но если будет продолжаться мой ужасный насморк, пребывание здесь окажется напрасным. Уж не ждет ли меня участь каноника из Пуатье, о котором рассказывает Монтень, каноника, тридцать лет не выходившего из своей комнаты «ввиду мучительной меланхолии», но совершенно здорового, «если не считать насморка, подействовавшего на желудок». Я хочу этим сказать, что почти ни с кем не встречаюсь. Впрочем, где найти знакомых? Война вырыла пропасти.
Я не достал вашей статьи о Баденге, рассчитываю прочесть ее, когда буду у вас.
Кстати о чтении: проглотил недавно гнусного Жозефа де Местра всего целиком. Вот уж надоели нам с этим господином. А современные социалисты, начиная с сен-симонистов и кончая Огюстом Контом, еще так восхваляли его. Франция опьянена властью, что ни говорите. Я нашел у Распайля прекрасную мысль: врачам следовало бы быть судьями, чтобы принуждать, и т. д.
Ваш романтический и либеральный бездарный старик нежно вас целует.
Г-ЖЕ ГЮСТАВ ДЕ МОПАССАН
Париж, 23 февраля 1873
Ты предвосхитила мое намерение, дорогая Лаура, ибо я уже целый месяц как собираюсь написать тебе объяснение в любви по адресу твоего сына. Ты и представить себе не можешь, каким очаровательным, умным, добродушным, разумным и остроумным — словом, каким симпатичным (говоря по-современному) я его считаю. Несмотря на разницу лет, я вижу в нем «друга», к тому же он так напоминает мне беднягу Альфреда! Иногда я даже пугаюсь, особенно когда он наклоняет голову, читая стихи. Что это был за человек! Он остался в моей памяти неповторимым. Я не могу дня прожить, чтобы не думать о нем. Впрочем, прошлое, покойники (мои покойники) преследуют меня. Не признак ли это старости? Пожалуй.
Когда же мы побудем вместе? Когда сумеешь побеседовать о «мальчике»? Неужели ты не можешь собраться и приехать с обоими сыновьями на несколько дней в Круассе? У меня теперь много свободного места, и я завидую твоей ясности духа, дорогая моя Лаура, ибо сам становлюсь очень мрачным. Мое время и жизнь ужасно тяготят меня. У меня такое отвращение ко всему, а особенно к воинствующей литературе, что я отказался печататься. Плохо стало жить людям со вкусом.
Несмотря на это, надо поощрять любовь твоего сына к стихам, потому что это благородная страсть, потому что литература является утешением от многих невзгод, и к тому же он, может быть, талантлив: как знать? Он слишком мало создал до сих пор, поэтому я еще не могу позволить себе предсказать его поэтическую судьбу: а впрочем, кому дано право решать чью-либо будущность?
Мне кажется, что наш юноша любит немного послоняться без дела и не слишком усидчив в работе. Я хотел бы, чтобы он начал писать длинное произведение, пусть даже никуда негодное. То, что он показал мне до сих, ничуть не хуже того, что печатают парнасцы... Со временем он станет более самобытным, начнет видеть и чувствовать по-своему (а в этом все); что же касается результата успеха, не все ли равно! Главное в этом мире — парить душой в высшей сфере, подальше от буржуазной и демократической грязи. Культ Искусства внушает гордость; не надо бояться избытка. Такова моя мораль.
Прощай, дорогая Лаура — вернее, до свиданья, ибо мы в ближайшее время встретимся. Мне кажется, это нам необходимо. В ожидании этого удовлетворения братски тебя целую.
ЖОРЖ САНД
[Париж, вторник 11 марта 1873]
Дорогой маэстро!
В том, что я не у вас, виноват великий Тургенев. Я собирался ехать в Ножан, когда он сказал мне: «Подождите, я поеду с вами в начале апреля». Это было две недели тому назад. Завтра увижусь с ним у г-жи Виардо и попрошу его поторопиться, потому что начинаю терять терпение. Испытываю потребность видеть вас, расцеловать и разговаривать с вами. Право.
Снова чувствую себя бодрым. Что было со мной последние четыре месяца? Что смущало в глубине моего «я»? Не знаю. Одно верно — я был очень болен, не сознавая этого. Но теперь мне лучше. С 1 января право на «Госпожу Бовари» и «Саламбо» утверждено за мной, и я могу их продать. Ничего не предпринимаю, так как предпочитаю лучше обойтись без денег, чем портить себе нервы. Таков ваш старый трубадур!
Читаю всякого рода труды и делаю заметки для большой своей книги, которая займет у меня пять-шесть лет, а я еще обдумываю две или три других. Надолго есть что обдумывать, а это главное.
Искусство продолжает находиться в состоянии «маразма», как говорит Прюдом, и для людей со вкусом нет больше места в этом мире. Надо подобно носорогу уединиться и ждать, когда околеешь.
ЖОРЖ САНД
Париж [23 апреля 1873]
Только пять дней как мы расстались, а я уже соскучился по вас, как дурак. Я соскучился по Авроре и по всем домашним, вплоть до Фаде. Да, это так; как хорошо чувствуешь себя у вас! Какие вы все хорошие и остроумные!
Почему нельзя жить вместе? Почему так плохо устроена жизнь! Морис, по-моему, — олицетворение человеческого счастья. Чего ему недостает? Уверен, что никто так не завидует ему, как я.
Оба ваших друга — Тургенев и Ротозей — философствовали на эту тему по дороге из Ножана {Флобер отправился с Тургеневым в Ножан 12 апреля и пробыл там несколько дней.} в Гатору, приятно покачиваясь в вашей карете, запряженной парой быстро мчавшихся добрых коней. Да здравствуют лашатровские почтальоны! Но остаток пути мы провели очень неприятно благодаря соседству в вагоне. Я утешился крепкими напитками, так как у милейшего москвича дорожная фляга была наполнена превосходной водкой. У нас обоих было немного грустно на сердце. Мы не разговаривали и не спали.
Здесь нас снова ждала бародетьеновская {Бародет — мэр Лиона, радикал, был избран депутатом от департамента Сены, побив правительственного депутата Ремюза.} глупость, распустившаяся пышным цветом.
У подножия этого произведения три дня как подвизается Штопфель! Вот еще ядовитый наркоз! О, боже мой, боже мой! Какая тоска жить в такое время! Вы не можете себе представить, какой поток безумия кипит вокруг! Как умно с вашей стороны жить вдали от Парижа!
Я снова вернулся к чтению и через неделю начну экскурсии по окрестностям, чтобы найти подходящую деревушку — кадр для моих двух старичков. После этого, числа 12-го или 15-го, я вернусь в свой домик на берегу волн. Мне очень бы хотелось поехать, наконец, этим летом в Сен-Жерве, поправить физиономию и подкрепить нервы. В течение десяти лет я всякий раз нахожу предлог избавиться от этого. Пора, однако, навести на себя красоту, не потому что я собираюсь пленять кого бы то ни было своими физическими прелестями, а просто потому, что сам себе не нравлюсь, когда смотрю на себя в зеркало. Надо больше следить за собой, когда стареешь.
Вечером увижусь с г-жой Виардо. Пойду пораньше, будем беседовать о вас.
Когда мы увидимся теперь? Как далеко Ножан от Круассе!
Вам, дорогой и добрый маэстро, вся моя любовь.
Гюстав Флобер.
Или, по прозвищу, досточтимый отец
варнавитского ордена. Ротозей, духовник
разочарованных дам.
ЖОРЖ САНД
[Круассе, между 25-м и 31 мая 1873]
Дорогой маэстро!
Ротозею следовало бы побыстрее поблагодарить вас за присланную вами последнюю книжку; но досточтимый работает как 18 000 негров: вот извинение. Это не помешало ему прочесть «Впечатления и воспоминания». Я знал их частично, так как читал в «Тан».
Вот что было для меня ново и произвело сильное впечатление: 1) первый фрагмент; 2) второй — прелестная страница про императрицу; очень правильно. Как верно вы говорите о пролетариях! Будем надеяться, что их царство минует так же, как миновало царство буржуазии; по тем же причинам, в наказание за ту же глупость, за тот же эгоизм.
«Ответ другу» я знаю, так как он был адресован мне.
«Диалог с Делакруа» поучителен; любопытны две странички — его мнение о папаше Энгре.
Я не совсем согласен с вашей пунктуацией, то есть лично я преувеличиваю в этой области и шокирую вас; и само собою разумеется, у меня не хватает достаточно убедительных доводов для защиты своего мнения. Я зажигаю и т. д. — весь этот длинный отрывок очаровал меня.
В «Мыслях школьного учителя» меня восхитили ваши педагогические способности, дорогой маэстро; тут много очень красивых азбучных фраз.
Спасибо за все, что вы говорите о моем бедном Буйле.
Обожаю вашего «Пьера Бонен». Я знаю такого сорта людей, а так как эти страницы посвящены Тургеневу, то уместно будет спросить: читали вы «Несчастную»? Я нахожу эту вещь просто возвышенной. «Скиф» — настоящий колосс.
Я сейчас занимаюсь менее возвышенной литературой. Далеко от того! Я обрабатываю и перерабатываю «Слабый пол». {Пьеса Флобера.} В неделю написал первый акт. Правда, дни мои длятся долго. Так, на прошлой неделе один из дней продолжался восемнадцать часов, а между тем Ротозей свеж, как юная девушка, не чувствует ни усталости, ни головной боли. Словом, я надеюсь избавиться от этой работы через три недели. А там — что бог даст.
Забавно будет, если причуды Карвало будут иметь успех.
Боюсь, что Морису улыбнется индейка с трюфелями, так как мне хочется заменить трех богословских добродетелей ликом Христа, появляющегося в солнечном диске. Как вы полагаете? Когда внесена будет эта поправка, отделано александрийское избиение и почищен символизм фантастических зверей, «Святой Антоний» будет окончательно готов, и я примусь за своих двух стариков, которых отложил ради пьесы.
Что за скверная штука писать так, чтобы подходило для сцены! Приходится щедро ставить вопросительные знаки, делать остановки, повторения, опускать слова, если хочешь, чтобы было движение, — все это само по себе очень уродливо.
Быть может, я попаду пальцем в небо, но мне кажется, что я создам живую вещь, которую легко будет сыграть. Увидим.
Прощайте, дорогой и добрый маэстро, поцелуйте за меня всех своих.
Ваш старый толстый Ротозей, друг Дудки.
Обратите внимание на имя! Это изумительная история, но чтобы рассказать ее, нужна большая выдержка.
ТУРГЕНЕВУ
Круассе, близ Руана, суббота [31 мая 1873]
Я не удержался, дорогой друг. Я раскрыл вашу книгу, несмотря на свои доблестные обеты, и проглотил ее.
Какой вы необъятный, мой милый! Я говорю не о «Степном короле Лире», о вещи, которую знал, но о «Стук... стук... стук...» и особенно о «Несчастной». Не знаю, были ли вы когда-либо большим поэтом и большим психологом. Это чудо, шедевр. Какое искусство! Сколько творческого лукавства скрывается под кажущимся простодушием.
Вот что засело у меня теперь в голове. В «Стук... стук... стук...» Теглев — фатальный человек, позер и в то же время он наивен! Его письмо! Его изумительный альбомчик! И когда его разыскивают в тумане! Холод пронизывает вас до костей. Как все это видишь! Вернее — как чувствуешь! Все время над вами висит тайна, становится почти страшно. А затем все совершенно естественно объясняется и делается легче. Меньше всего мне понравилась первая повесть. {Видимо, это «Странная история», открывающая сборник, о котором идет речь.} Вторая картина, пейзаж во время дождя, все же написана очень мощно; но мне кажется, все следовало бы удлинить. Не слишком ли это кратко? Быть может, я говорю глупость. Но я совершенно уверен в обратном, утверждая, что «Несчастная» — произведение первого ранга. Молодой человек, который сходится с девушкой и боится себя скомпрометировать, еврей и его семья, и особенно она, ваша Несчастная, привели меня в восторг. Я радостно вскрикивал, сидя в кресле. Как полезно восхищаться!
Описание характера игры Сусанны на фортепиано, портрет ее отца — старого дворянина и т. д. и т. д. Что вам сказать? Вы меня потрясли, — вот и все. Такие вещи не поддаются анализу. Следующую фразу (подождите, я возьму книгу) на странице 269: «Я глядела на огни, забегавшие в комнатах господского дома. Я следила за ними, я прислушивалась к новым незнакомым голосам, меня занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, светлое тоже перебегало по моей душе»... — я считаю редкостной по красоте и правдивости. А какое искусство, с точки зрения интересности, в том, что вы не даете никаких деталей об ее отношениях со вторым любовником, который был, само собой разумеется, единственным. Благодаря тому, что последняя страница рукописи оторвана, образ девушки в воспоминании читателя остается чистым. Но все подавляет описание похорон, детей, которых поднимают над трупом, и финальная пьянка. Грандиозно, дорогой друг, грандиозно!
А я сейчас занят не столь возвышенной литературой. Работаю над «Слабым полом». Мне осталось писать месяц или три недели, не больше. Правда, дни у меня длинные, и я тружусь без отдыха, как одержимый. Где вы сейчас? Пришлите мне весточку о госпоже Виардо.
Крепко обнимаю. Любящий вас
Гюстав Флобер.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе, 20 июня 1873
Дорогой друг!
Прошу вас оказать мне следующую услугу: уезжая из Парижа, Карвало обещал мне приехать в Круассе и прослушать «Слабый пол», как только я объявлю ему об окончании пьесы. Я написал ему уже два письма и до сих пор не получил никакого ответа. Таинственно!
. Сделайте же мне одолжение, зайдите в дирекцию театра «Водевиль» и спросите у него смиренно, что означает его упорное молчание. Вы меня весьма этим обяжете, потому что неопределенность положения не дает мне возможности ни двинуться с места, ни приняться за другую работу.
Жду вашего ответа и с благодарностью остаюсь весь ваш...
Прочтите в последней книге Тургенева «Странная история» повесть, озаглавленную «Несчастная». Это редкий шедевр.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, суббота, 2 часа [21 июня 1873]
«Пиши мне сюда»! Куда это сюда? Я должен догадаться, что ты в отеле Фраскати. Мы «легкомысленны, весьма легкомысленны!»
Ну-с, и я путешествую, моя милочка. Катаюсь на пароходе! Тоже развлекаюсь! Был вчера в Ла Буйль!!! И эта маленькая экскурсия показалась мне восхитительной.
Шарпантье приехал вчера в 11½ часов. После завтрака мы принялись за дела и решили следующее: он публикует в виде приложения вызов к следователю, обвинение Пинара, защитительную речь Сенара и решение суда. {Речь идет о материалах судебного процесса «Госпожи Бовари», которые были напечатаны в приложении к новому изданию романа.} Больше ничего. Ни слова критики. Так, по-моему, достойнее! Кстати, я воспользовался случаем и запродал ему «Саламбо», которая появится зимой.
Вышеупомянутый Шарпантье не переставая ласкал Джулио и Путцель. Мне думается, что вид Круассе, поистине восхитительный вчера, не повредил мне в его мнении, и сейчас, уезжая, он с жаром благодарил меня за «гостеприимство».
Ввиду невероятной жары, мы сели в три часа на пароход и отправились в Буйль, откуда возвратились в половине восьмого. Мы вместе любовались берегами Сены.
После обеда читали «Слабый пол»; он посмеялся, а по поводу третьего акта сделал точно такое же замечание, как и г-жа Комманвиль! Причем так ясно объяснил свою мысль, что я понял теперь, чего недостает. Он не сомневается в большом успехе. Да будет так!
Вчера я снова написал Карвало, что ожидаю его.
Вот и все, милочка. Рассчитываю увидеть вас во вторник, в полдень. Пользуйтесь хорошей погодой.
Твой старый дядюшка.
ЭДМОНУ ДЕ ГОНКУР
Круассе, среда 25 [июня 1873]
Дорогой друг!
Весь воскресный день я провел с вашей книгой о Гаварни — вернее, вы оба были со мною. Мне казалось, что я слушаю вашего бедного брата в продолжение всего чтения; это было для меня одновременно очарованием и наваждением. Но будем говорить так, как будто я беспристрастный читатель.
Итак, я нахожу, что книга сделана очень хорошо и занимательно. Остается определить, в чем заключается ее занимательность. Лично я вижу ее в следующем.
С первых же страниц меня пленил исторический колорит, который вы сумели придать первым годам Гаварни. Какой странный человек! И странная у него жизнь! Как далек от нас этот мир! Каждый абзац навевает мечты. Вы чрезвычайно искусно вплели все эти нотки. Присущее ему растворяется в том, что исходит от вас. Под кажущимся простодушием таится умелая композиция.
Простите, однако! Маленькая поправка! Как случилось, что вы ничего не сказали о Камилле Рожье, который, кажется, долго прожил с Гаварни, или, по меньшей мере, был с ним близко знаком.
Есть изумительный отрывок. Он начинается с 92-й страницы. После «Исповеди» Руссо я не запомню книги, в которой был бы такой сложный и правдивый тип. Отмечаю также главу 1-ю, выделяющуюся на общем фоне: балы-маскарады. Но, повторяю, какая странная жизнь! Какие они все молодые! И как развлекались в то время! Мне кажется, что люди нынешнего, нашего поколения совершенно не знают удовольствий. Мы более степенны и мрачны.
Напомните мне, чтобы я попросил у вас точно указать номер «Прессы», где Гаварни называют безнравственным. Мне понадобится это указание.
Его пребывание в Англии, о котором я совершенно не знал, весьма интересно. Мне нравятся некоторые высказывания его, между прочим о Прудоне. Эту строку следовало бы поместить на обложке книги этого величайшего из шутников, который был далеко не последним мимолетным увлечением нашего друга Бёва.
Конец потрясающ, великолепен (стр. 383), и книга вплоть до последнего слова, до надгробной надписи, совершенно захватывает.
В итоге, старина, вы создали исключительное во всех отношениях произведение; я нахожу его неоценимым с точки зрения психологии и истории.
Чем разрешитесь теперь? Что вынашиваете?
Где будете летом? Я уже давно не имел известий от принцессы.
В конце недели жду Карвало, чтобы прочесть ему «Слабый пол», написанный... извините за выражение!
Я покончил (так, по крайней мере, я надеюсь) с драматическим искусством, которое мне весьма мало нравится, и ныне снова углубился в чтение для будущей моей книги, разделяя свои досуги между Грессеном («Стрижка плодовых деревьев») и Гарнье («Свойства души»), не считая остального.
Все это помогает коротать время, а это главное.
Да будет вам легко на душе, старинушка, верьте, что я люблю и целую вас.
ЖОРЖ САНД
[Круассе] воскресенье [20 июля 1873]
Я не похож на г-на де Виньи и не люблю «звуков рога в лесах». Вот уже два часа, как какой-то болван, расположившись на острове против меня, изводит меня своим инструментом. Этот негодяй портит мне солнце и лишает удовольствия наслаждаться летом. Ибо сейчас стоит превосходная погода, а я лопаюсь от злости. Между тем, дорогой маэстро, мне очень хочется побеседовать с вами.
И прежде всего приветствую семидесятилетнюю годовщину, в которую вы вступаете более бодрой, чем иной в двадцатилетнюю! Что за геркулесовский у вас темперамент! Купание в ледяной речке изумляет меня, оно доказывает силу и является признаком «запаса здоровья», что успокоительно действует на ваших друзей. Живите долго! Берегите себя ради ваших дорогих внучек, ради милого Мориса, ради меня, ради всех. Я добавил бы еще — ради литературы, если бы не боялся вашего великолепного презрения.
Ну вот, опять охотничий рог! Это какое-то безумие. Я готов бежать за сельским стражником.
Я не разделяю вашего презрения, и мне совершенно незнакомо «удовольствие от безделья», как вы выражаетесь. Я способен кричать от скуки, если не держу в руках книги или не обдумываю будущего произведения. Жизнь мне кажется тогда лишь терпимой, когда ее обкрадывают. Или же надо предаваться беспорядочным удовольствиям... и то еще!
Итак, я покончил со «Слабым полом», постановка которого осуществится — так, по крайней мере, обещал Карвало — в январе, если «Дядя Сам» Сарду будет возвращен из цензуры; в противном случае, мою пьесу поставят в ноябре.
Оттого ли, что я привык за шесть недель смотреть на все по-театральному, думать диалогами, или по иной причине, но я принялся строить другую пьесу, под заглавием «Кандидат». Написанный мною план занимает двадцать страниц. Но мне некому его показать. Увы! Придется спрятать его в ящик и вновь взяться за свою книжку. Читаю «Историю медицины» Даремберга, которая меня очень занимает, и оканчиваю очерк по изучению «Свойств внимания» синьора Гарнье, произведение весьма глупое. Вот мои занятия.
Он, по-видимому, угомонился. Можно вздохнуть!
Не знаю, говорят ли в Ножане о шахе {Торжественный прием шаха персидского в Париже пробудил некоторые надежды в монархических кругах. Падкое до зрелищ досужее население шумно приветствовало восточного монарха, и это было воспринято как выражение известных политических симпатий.} так же много, как в наших краях. Энтузиазм зашел далеко. Еще немного — и его провозгласили бы императором. Его пребывание в Париже оказало настолько монархическое влияние на коммерческий класс, на лавочников и мастеровых, что вы и представить себе не можете; а господа клерикалы чувствуют себя очень хорошо, даже отлично.
По другую сторону горизонта — ужасы, творящиеся в Испании. {Речь идет о восстании карлистов (сторонников Дон Карлоса и его наследников — претендентов на престол) против Республики, провозглашенной в 1873 году после отречения короля Амедея I.} Таким образом, человечество в целом по-прежнему обворожительно.
ТУРГЕНЕВУ
[Круассе] Суббота, 2 августа [1873]
Снова я, хороший мой!
Хочу вам сказать, что прочел «Вешние воды» и перечел «Степного дворянина». {«Степной дворянин» — так названы переводчиком рассказы «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова», вошедшие в «Записки охотника».} Второй его части я не знал. «Вешние воды» не потрясли меня так, как «Несчастная»; но я был взволнован, прослезился, как-то неопределенно расслаблен. Ах, эта история может случиться с каждым из нас! Краснеешь за себя. Что за человек мой друг Тургенев! Что за человек! Описание кондитерской прелестно, прелестно! И утренняя прогулка вдвоем, когда они разговаривают на скамье. Панталеоне и его пудель, Эней! А конец, нежный, жалкий конец? Ах, вот это настоящий любовный роман! Вы хорошо знаете жизнь, мой друг, и умеете рассказать то, что знаете, а это более редкий случай.
Я хотел бы быть учителем риторики, чтобы разъяснять ваши книги. Заметьте — я не сумел бы их разъяснить. Ничего не значит; я думаю, что мог бы втолковать даже идиоту некоторые образцы мастерства, которые приводят меня в изумление. Например: контраст между двумя женщинами в «Вешних водах» и их окружением. Чтобы оценить ваше последнее произведение, я нахожу только одно, очень глупое слово: «очаровательно». Но вложите в него подлинный его смысл — смысл этот глубок. Оно пробуждает в сердце любовь: улыбаешься и хочется плакать.
Начало «Степного дворянина» очень забавно. Эта бессмысленная ярость прекрасно определяет характер. Как все хорошие книги, повесть выигрывает при вторичном чтении.
Итак, жду вас к 10-му сентября. Вдвоем мы не соскучимся.
Привет друзьям. А вам, дорогой старина, я выражаю самые нежные чувства.
Гюстав Флобер.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Понедельник вечером, 4 августа [1873]
Давненько мы с вами не беседовали, не правда ли, дорогая г-жа Роже? Меня грызет совесть. Ваше последнее письмо было такое милое, такое хорошее! Извинением мне служит чрезмерное количество работы. Ввиду того, что я настроился на драматургический лад, то, покончив со «Слабым полом», я привился за сценарий большой политической комедии, озаглавленной «Кандидат».
Если когда-нибудь я напишу ее и она появится на сцене, то я не сомневаюсь в том, что буду избит народом, сослан правительством, проклят духовенством и тому подобное. Дальше некуда идти, ручаюсь вам! Идея этой пьесы занимала меня в течение целого месяца, и я набросал план в тридцать страниц, что не помешало мне прочитать колоссальное количество книг для моего романа. Знаете, сколько томов я проглотил с 20 сентября прошлого года? 194! И из каждого делал выписки; кроме того написал комедию и набросал план другой. Далеко не лентяем провел я год.
Кстати о книгах; раздобудьте сейчас же «Несчастную» и «Вешние воды» гиганта Тургенева, останетесь мне благодарны.
В будущую субботу у меня назначено свидание с Карвало; тогда я узнаю (надеюсь, по крайней мере, узнать), когда поставят мою пьесу. Это будет в ноябре или в январе. Надо вам приноровить (к этому случаю) свой приезд в Париж и пробыть там как можно дольше, чтобы почаще видеться, как в доброе старое время.
Быть может, вам прядется по моей вине присутствовать, грубо выражаясь, на провале. Энтузиазм Карвало меня беспокоит. Когда заранее так уверен в победе, то получаешь обычно трепку. Не верю я людям, которые «понимают толк в театре». Однако они, быть может, не всегда ошибаются. А, впрочем, куда ни шло! Я сделал то, что должен был сделать, написал вещь легкомысленную, но не постыдную.
Как много я думаю о вас, о вашем доме, вашем саде, обо всем, с тех пор как вернулся из маленького своего путешествия в Вильнокс. И я вас уверяю, что вы ошибаетесь. Если Курций не бросился дважды в яму, то только потому, что умер после первого же прыжка. Не так обстоит дело со мной (но вы не помните, что сравнивали меня с Курциями и Дециями), ибо я-то способен повторно принести жертву.
Летом у меня не было никаких неприятностей. Моя племянница Каролина провела здесь шесть недель, и ее милое общество благотворно подействовало на меня, ведь обычная моя жизнь так одинока и угрюма! Завтра уезжаю на несколько дней в Дьепп, откуда в Париж за книгами, затем в Сен-Грасьен и, наконец, в окрестности Рамбуйле — поискать пейзаж, среди которого я мог бы поместить моих двух старичков. Я уже обшарил (безуспешно) другие окрестности Парижа. Засим я вернусь сюда лицедействовать на подмостках «Водевиля»...
По этому поводу два анекдота: Конинг, {Конинг — директор театра «Водевиль».} изумительный Конинг, тот самый, которому Дежазе, будучи 71 году от роду, писала: «Твоя маленькая женка ждет тебя на улице Вандом», auctore {Создатель (лат.).} Банвиля, — итак, г-н Конинг собрался в Круассе, чтобы предложить мне сотрудничество не в качестве любовника Дежазе (на это я неспособен), а в смысле заполучения авторских прав на пьесу добрейшего Флобера. Какой-то руанский приятель отговорил его от этого предприятия. Жаль. Я бы устроил ему прием!.. Держи карман!
А вот и другая история. Ангел, по имени Эжени Дош, является в мою скромную обитель, желая получить роль, а ввиду того, что таковая у меня для нее имеется, я готов все сделать, чтобы Карвало принял ее. Что же я получаю на следующий день! О, боже, идеальную фотографическую карточку, изображающую вышеупомянутую особу: восточная поза, глаза с поволокой, приподнятые ноздри и эгретка на токе! А внизу надпись: «Ваша!» Ах, великая вещь — комическое! Вы-то чувствуете это, дорогая, вот почему я позволяю себе такие легкомысленные подробности.
ЖОРЖУ ШАРПАНТЬЕ
Воскресенье 14 сентября [1873]
Дорогой друг!
Расон прислал мне нынче утром два пакета с корректурами; просмотрев их, я тотчас же отсылаю их ему обратно.
Вам надо бы подготовить маленькую историческую справку, которая должна быть помещена перед обвинительной речью Пинара и защитой Сенара.
Разве уж так необходима такая справка? Не проще ли написать: «Восьмая палата...» и т. д. (число см. в «Судебной газете»), а затем, без всяких вступлений, поместить произведение синьора Пинара?
Следовало бы, однако, совершенно ясно указать, что «Парижское обозрение» печатало меня с сокращениями (декабрьские номера)!
Я целый час провел в поисках повестки, вызывавшей меня в суд. Она у меня имеется, я в этом уверен. Но где она? Сделаю третью и последнюю попытку.
Надо в речах Пинара и Сенара сделать ссылки на страницы книги, по которым сразу можно будет найти инкриминируемые в «Обозрении» места. Их необходимо отпечатать более мелким шрифтом внизу страницы.
Я не стал вносить исправлений в титул, но мне кажется, что обозначение «новое издание» для вас недостаточно. В интересах продажи следовало бы, пожалуй, сделать что-нибудь более внушительное.
А что если бы выпустить первые сто экземпляров в другой обложке, отличной от обычной обложки вашей Библиотеки и более бросающейся в глаза? Как вы думаете?
Прошу вас, мой друг, передать мое нижайшее почтение г-же Шарпантье и верить, что я весь ваш.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, среда, 6 час. вечера, 24 сентября 1873
Моя милочка!
Не скрою от тебя, что москвич надоел мне своими вечными опаздываниями и упорным молчанием, ибо я не имею от него никаких известий. Словом, я не стану откладывать своего визита в Дьепп дольше, чем до конца будущей недели. И так я целых два месяца провел, не видя своей милой девочки; это слишком глупо.
Не скрою от тебя также, что мне совсем не мешает проветриться, хотя бы на один день, ибо с самого возвращения сюда я работал, как безумный. Довожу до твоего сведения, что я окончил первый акт «Кандидата» в прошлое воскресенье в половине четвертого утра! Теперь я спешу покончить с кучей скучнейших книг! Меня тошнит от кропотливых трудов гг. иезуитов. А я пичкаюсь ими, набиваюсь до остервенения. Хочу отделаться от них на этой неделе, отправив м-ль Кардиналь, {Владелица библиотеки в Париже.} и приняться в будущее воскресенье или понедельник за второй акт.
Если я буду продолжать в таком же темпе, то, вероятно, окончу к январю, а возможно, и раньше! Надо летом начать, наконец, «Бувара и Пекюше».
Как хорошо было вчера! Я также, милостивая государыня, любовался природой и охотно отправился бы... сам не знаю куда... ну просто погулять и насладиться прекрасной погодой. Но, обойдя террасу, я вернулся к себе в кабинет, чтобы сделать выписки из книги аббата Сенак, священника ролленского коллежа «Христианство». Так-то!..
Прощай, котик. Мне почему-то кажется, что ты очень деятельно и не очень умно проводишь время. Прости за вопрос, что ты читаешь? Что делаешь? По-моему, ты слишком мало пользуешься мирным спокойствием полей, чтобы сосредоточиться в тиши кабинета.
А живопись? Как обстоит с ней дело?
Нянюшка.
ЭРНЕСТУ ФЕЙДО
[Круассе, сентябрь 1873]
Почему тебя так возмущают паломничества? Всеобщая глупость вовсе не такая уж удивительная вещь. Коль скоро люди порядка думают, что амулеты предохраняют от пожара, а правая считает старичка Тьера красным, — так же как это было по отношению к Ламартину и Кавеньяку, — склони голову. Подчинись и иди к исповеди; ты подашь пример и внушишь массам чувство нравственности.
Что касается твоих «Мемуаров барышни», то ты не понял моей критики. Я отнюдь не говорил, что там слишком много шутовства, а сказал, что ничего нет, кроме него. Большая разница. Все может сойти, но надо это «все» преподнести под каким-нибудь соусом, создать обстановку.
«Святым Антонием» я совершенно не интересуюсь. Сейчас эта книга перестала для меня существовать. Когда ее опубликую? Не знаю.
Целиком ушел в чтение назидательных книг, напихиваюсь до тошноты трудами монсеньора Дюпанлу, а также произведениями современных иезуитов, не считая остального; и все это ввиду книги, которую я, наконец, начну писать будущим летом. По вечерам, отдыха ради, я сочиняю большую политическую комедию и только что окончил первое действие. Но ни одно правительство не разрешит ее играть, ибо, будучи человеком справедливым, я все партии валю в д...!
Явлюсь в Париж к премьере Сарду. Затем возвращусь туда, когда начнутся собственные мои репетиции, срока не знаю.
Единственное мое общество — это великолепная борзая, которая спит у меня на диване и зевает перед камином. Так, миляга, и течет жизнь твоего старика, который тебя целует.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе, сентябрь 1873]
Мне кажется, что я вам очень давно не писал; я даже соскучился, не видя так долго вашего почерка. Ваш друг чудовищно работает целый месяц, ибо написал первый акт комедии и проглотил, не более не менее, как двадцать книг. Карвало остался, видимо, очень доволен сценарием «Кандидата» (это заглавие он находит превосходным, поэтому он просил о нем молчать). Итак, возвратившись сюда, я принялся за дело, желая освободиться к будущей весне от драматургии, чтобы начать писать своих старичков. Подготовительную работу к ним я веду после обеда (пьесой занимаюсь по вечерам), и из всех скучнейших вещей, прочитанных мною, я не знаю ничего хуже произведений их преподобий, отцов иезуитов. Это в полном смысле слова бездарность; и даже вызывает желание вернуться к Гольбаху.
Прочел также три тома монсеньора Дюпанлу о Воспитании. Он хвастает, что во дворе маленькой семинарии в Париже устроил аутодафе «основных трудов романтиков»; здесь встречается также не лишенная пикантности параллель между Вольтером и Руссо.
У отца Гагарина я нашел полезный отзыв о г-не Жюле Симоне. Похвала, разумеется, существует для того, чтобы легче было ругать; ничего не значит! Добрый патер восхищается Симоном, он ослеплен... его стилем! Это лишь доказывает, что ложные направления умов всегда живут в согласии. Почему отвратительный и ненавистный «мосье де Местр» восхваляется и рекомендуется сен-симонистами и Огюстом Контом, чьи доктрины так чужды этому зловещему шутнику? Все дело в общности темпераментов.
Я неспокоен насчет отношения цензуры к «Слабому полу». Хоть я не оскорбляю ни религии, ни нравов, ни монархии, ни республики, однако дурашливый нрав старичка генерала, который в конце концов женится на кокотке, может не понравиться кой-кому из господ военных, являющихся ныне нашими всемогущими судьями. Итак, не знакомы ли вы с генералом Ладмиро? И не знаете ли, каким способом, в случае необходимости, можно будет умилостивить этого воина в пользу Талии? Моя комедия пойдет после пьесы Сарду, по-видимому, в конце января.
Будет ли у нас через четыре месяца Генрих V? Не думаю (хотя это такая глупость, что может случиться); объединение, видимо, провалилось, и мы в силу самих обстоятельств останемся при Республике. Это ли не смехотворно! Нежелательная форма правления, одно название которой чуть ли не под запретом, продолжает существовать вопреки всему. У нас имеется президент республики, но все возмущаются, когда говорят, что у нас Республика, — а в книгах еще издеваются над «тщетными» богословскими спорами Византии!
Я не согласен, сударыня, с вашей недооценкой «Антихриста». Лично я нахожу эту книгу прекрасной и, зная эпоху, так как специально изучал ее, могу вас уверить, что эрудиция автора книжки весьма солидна. Это — подлинная история. Мне не нравятся некоторые современные выражения, они портят колорит. Зачем, например, говорить, что Нерон одевался «жокеем»? Получается неверный образ. Как жаль, что Ренан в юношеские годы так много читал Фенелона! К кельтицизму прибавился квиетизм, недостает отточенности.
Известно ли вам, что Александр Дюма-сын оповещает потомство, будто некий Гёте «не принадлежал к числу великих людей»? То же открытие сделал прошлым летом Барбэ д'Оревильи. К этому случаю очень подходят слова Вольтера: «Никогда не переведутся олухи на белом свете!»
Леви внушил мне такое же отвращение к издателям, какое могут внушить некоторые женщины по отношению ко всем остальным. До лучших времен я останусь под сенью своего шатра и буду по-прежнему плевать в потолок (сравнение не столь благородное, зато верное) без надежд на будущее. Я хотел бы посетить угрюмые берега лишь после того, как изрыгну желчь, которая меня душит, то есть не раньше, чем напишу подготовляемую мной книгу. Она требует прочтения невероятного количества трудов, а при мысли об осуществлении ее и при взгляде на план у меня голова идет кругом. Но она может получиться забавной. В настоящий момент я предпринимаю экскурсию на грядки г-на Роже, ввиду того, что изучаю садоводство и земледелие, в теории, само собой разумеется. Новостей у меня — никаких. Шесть недель я болел сильнейшим гриппом, который схватил на премьере «Эринний», где встретился с Леконт де Лилем. Увидев его, я вспомнил Севрскую улицу. Прошлое поглощает меня — это признак старости.
Жизнь моя проходит в чтении и составлении заметок. Вот и все примерно. По воскресеньям меня довольно регулярно навещает Тургенев, а недели через две я намерен съездить к г-же Санд. Она превосходная женщина, но слишком много в ней ангельского и благословляющего. Когда становишься поклонником Милосердия, забываешь о Справедливости. А вы заметили, что эта бедная Справедливость предана такому забвению, что даже имя ее не упоминается?
Кстати о справедливости: я уплатил недавно из собственного кармана синьору Леви три тысячи франков за «Последние песни», а вышеупомянутый сын Иакова получил орден!
Ты победил, еврейский бог!
Вам это покажется ребячеством, но я перестал украшать себя звездой. Я больше не ношу ордена Почетного легиона и просил одного из наших общих знакомых пригласить меня к обеду вместе с Жюлем Симоном, дабы отругать по этому поводу его превосходительство, и это осуществится; я всегда сдерживаю данные себе обещания.
В последнем вашем письмеце вы отзывались о Париже с некоторым сожалением; почему бы вам не приезжать туда почаще, коль скоро он возвращает вас к жизни? Пожалуй, если хорошенько поискать, можно было бы составить из эмигрантов небольшое, но приятное общество. Ведь все мы — эмигранты, остатки былых времен. О себе я не говорю, ибо я настоящее ископаемое, «музейная редкость», как писал мой соотечественник Сент-Аман.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, воскресенье [5 октября 1873]
Мой москвич покинул меня сегодня утром, ввиду того что вечером он на обеде у Виардо; там будет (тайна) жених!
Ты совсем его обворожила, моя милочка! Он несколько раз принимался говорить о моей «прелестной племяннице», «очаровательной племяннице», «обворожительной женщине» и т. д. и т. д. — словом, москвич тебя обожает! И я этому очень рад, ибо он чудесный человек. Чего только он не знает, ты не можешь себе вообразить! Он повторял мне наизусть отрывки из трагедий Вольтера и Люса де Лансиваль! Он знает, мне кажется, все литературы самым основательным образом, и как скромен при этом! Как добродушен, как безобиден! С тех пор как я назвал его в письме «мягкой грушей», его иначе не называют у Виардо! Еще один образец моей гениальности в придумывании прозвищ. В пятницу я возил его в Жюмьеж; но все остальное время мы безостановочно говорили; у меня, признаться, даже грудь заболела! Ах, вот уж действительно провел три дня артистически!
Я прочел ему «Слабый пол», «Феерию» и первый акт «Кандидата» со сценарием. Больше всего понравился ему «Кандидат»; в успехе «Слабого пола» он не сомневается. Что касается «Феерии», то он сделал несколько критических замечаний, которыми я воспользуюсь. Домашний очаг вызвал у него восторженное рычание! Он утверждает, что это превосходит все остальное, но «Кандидат», по его мнению, будет замечательной пьесой! Его суждение очень меня ободрило, и я завтра же снова примусь за работу.
Итак, я отправляюсь в Невиль в конце будущей недели, то есть приблизительно недельки через две. Оттуда надеюсь проехать в Париж ради «Дяди Сама». До сих пор не имею никаких известий от Карвало! Тетка Санд написала мне письмо и поблагодарила за биографию Ротозея, которая очень ее насмешила.
Нынче утром ко мне неожиданно приехали гости — Ги де Мопассан и Луи Ле Пуатвен. {Художник, кузен Мопассана, сын Альфреда Ле Пуатвена.} В четверг я был в больнице, но Ахилл вернется лишь 10-го, так что мне придется снова поехать туда через неделю. Мне очень жалко бедняжку Жюли, до чего она боится операции и больницы. {Жюли страдала помутнением глазного хрусталика.} Итак, ты в настоящей деревне, милая моя Каро, среди добрых поселян, в своем поместьи. Пожалуй, будешь там расточать благодеяния! поучать неимущих! просвещать детей! и проч. и проч. Словом, будешь играть роль владелицы замка; ангела тех сельских мест!
«Госпожа Комманвиль или Мадонна из Писси», романс! Слова г-на Амедея Ашара, музыка г-на Мадуле, виньетка г-на Мелотта. Продается в пользу бедных».
Совершенно не представляю себе, чем ты занимаешься в своей усадьбе. Захватила ли ты хоть ящик с красками, чтобы отдаться артистическим упражнениям? Осенней порой листья так красивы, что их стоит нарисовать. Правда, в Писси нет видов. Ничего не значит, ты несомненно найдешь какой-нибудь приличный уголок.
Москвич смотрел твое панно и нашел, что у тебя есть чувство красок.
Прощай, дорогая моя бедняжка.
Два крепких поцелуя от
Нянюшки.
ЖОРЖ САНД
Круассе, четверг [30 октября 1873]
Как бы ни сложились обстоятельства, католицизму будет нанесен тяжкий удар, и будь я набожен, я бы не переставая твердил перед распятием: «Боже, сохрани республику!»
Между тем монархии боятся и как таковой, и вследствие реакции, которую она повлечет за собою. Общественное мнение решительно против нее. Рапорты гг. префектов тревожны; армия делится на бонапартистов и республиканцев, крупные парижские коммерсанты высказались против Генриха V. Вот сведения, вывезенные мною из Парижа, где я провел десять дней. Словом, дорогой маэстро, теперь я верю, что их пересилят. Аминь!
Советую вам прочесть брошюрки Кателино и Сегюра. Любопытно! Сущность ясна, эти люди воображают, что живут в XII веке.
Что касается Ротозея, то Карвало потребовал от него изменений, которые он отказался сделать (вы ведь знаете, что Ротозей бывает иногда несговорчив!). Вышеупомянутый Карвало признал в конце концов, что нельзя ничего изменять в «Слабом поле», иначе будет искажена основная идея пьесы. Но он требует, чтобы сперва был поставлен «Кандидат», который еще не окончен и от которого он в восторге, что совершенно естественно. А потом, когда пьеса будет окончена, просмотрена и исправлена, он, пожалуй, откажется от нее! Короче говоря, после «Дяди Сама» будет поставлен «Кандидат», если я его к тому времени закончу, а если нет, — «Слабый пол».
В конечном счете мне наплевать, — так мне хочется снова приняться за свой роман; работы над ним хватит на несколько лет. К тому же театральный стиль начинает мне надоедать. Эти коротенькие фразы, эта беспрерывная игра раздражают меня как сельтерская вода: сначала она как будто приятна, но потом появляется привкус тухлой воды. Итак, до января месяца усердно займусь диалогами, а там — до свиданья, перейду к более серьезным вещам.
Я рад, что немного развлек вас биографией Ротозея. Но я считаю ее гибридной, а характер Ротозея не выявленным. Такому тонкому руководителю не подобает испытывать столько литературных затруднений. Слишком много археологии. Она присуща иному сорту духовных лиц. Быть может, недостает переходной ступени. Такова моя скромная критика.
В одном из театральных вестников сообщалось о вашем пребывании в Париже; я был обманут в своей радости, дорогой, обожаемый маэстро! Целую.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, вторник, 2 часа, 4 ноября 1873
Праздник святого Карла и святой Каролины.
Так вот, я в восторге, ибо в качестве вольнодумца вовсе не хочу, чтобы сжигали церкви и убивали священников, как это намеревались сделать в Бургундии по словам реймского мэра, передававшего об этом мне лично, и на юге, как уверяла меня г-жа Эспинас. Восток как будто бы поднялся на защиту дядюшки Тьера, Прованс — на защиту Гамбетты, армия стреляла в своих и т. д. и т. д. Словом, положение плачевное, ужасно! Впрочем, через шесть недель Палата низложила бы синьора Шамбора, что было бы легко сделать с помощью подкрепления, полученного левой в лице четырнадцати ультрарадикальных депутатов, которых должны были избрать.
Не знаю, где почерпал твой муж сведения, когда уверял меня, что деловой мир требует Генриха V. По приезде в. Париж я узнал, что председатель коммерческого суда, старший нотариус и один из членов правления банка, г-н Андре, ходили к Мак-Магону с официальным заявлением протеста против монархии, и все, кого бы я ни видел, — в страхе перед этой перспективой.
Нужно же быть невеждой в области истории, чтобы верить в силу того или иного человека, чтобы ждать мессию, спасителя! Да здравствует бог и долой богов! Разве можно идти наперекор целому народу! Отмести восемьдесят лет демократического развития и вернуться к жалованным грамотам!
Комичнее всего гнев сторонников Шамбора против этого господина! Люди до того глупы в этом смысле, что не знают толком самого принципа божественного права, который собираются защищать. И, ратуя за него, сами же его опровергают! Сознаюсь, у меня с души скатилось бремя. Ничего! Внук св. Людовика — честный человек, он избавил нас от множества бед.
Теперь они хотят поставить во главе государства Жуанвиля! Но это старая песня. Хватит!
И довольно политики, не правда ли?
Я окончу 3-й акт завтра, а может быть, и нынче ночью. Барин лег спать в 4 часа, после того как беспрерывно горланил «в тиши кабинета» с 9 часов вечера. Думаю закончить 4-й акт в конце месяца, а 5-й — к рождеству. А там — будь, что будет! Я не склонен больше писать для театра. Это хорошо для тех, кто не любит стиль сам по себе.
В субботу меня навестили Ги де Мопассан и Луи Ле Пуатвен. В воскресенье Гильбер принес бюст. Я нахожу, что он очень хорош, как скульптурное произведение, но мне не нравятся глаза и кончик носа. Нашу милую старушку можно узнать только отчасти; однако профиль, особенно при хорошем освещении, очень похож.
Засим, дорогая моя бедняжка, мне пора приступить к «моему туалету», а после засесть «за любовную сцену». Затем барин примет ванну, пообедает и снова примется всю ночь горланить! Ставлю на вид прекрасной даме Комманвиль, что за последнее время послания ее весьма кратки!
Целую ее очень крепко.
ПРИНЦЕССЕ МАТИЛЬДЕ
Круассе, среда [12 ноября 1873]
Я все откладывал свое письмо к вам, принцесса, чтобы порадоваться вместе с вами исходу событий.
Между тем, наши власти никак не могут решиться дать нам твердое, или хотя бы до некоторой степени твердое, правительство. Важно избавить нас от кошмара монархии! Слава богу, мы от него избавились! Итак, осанна! Что касается вас лично, то я в восхищении, так как клерикалы (как учит нас история) первым долгом занялись бы массовыми высылками, и вы могли попасть в число сосланных. Они так глупы и подлы, что я заранее боялся за вас.
С тех пор как я покинул дорогой Сен-Грасьен, где провел лучшие три дня за весь год, я работал как бешеный над своей политической комедией, которую надеюсь окончить через какой-нибудь месяц.
Итак, в середине декабря я возвращусь в Париж, и мы будем видеться чаще. Мне не терпится поскорей отойти от драматургии. Эта лихорадочная и спешная работа натягивает нервы точно скрипичные струны; иногда я боюсь, как бы не лопнул инструмент.
Когда я уезжал из Парижа, то пожар «Оперы» приходил к концу, а бедняга Фейдо умирал. Я не был (вопреки газетным сообщениям) на его погребении, потому что сыт по горло похоронами. Мое присутствие никому бы не доставило удовольствия, и я остался дома. Об этом друге я жалею менее, чем о ком-либо из тех, кого утратил за последние четыре года. Но все же он был мне другом! Я знал его как очень умного, приятного и чистого человека; и потом — еще одним меньше! Нет ничего глупее такого рода рассуждений в духе Прюдома, и я прошу у вас прощения.
Чем можно, однако, объяснить, что они появляются сами собой? Впрочем, если бы нужно было говорить одни лишь умные вещи, то почти нечего было бы сказать.
Когда вы вернетесь в Париж? Вероятно, скоро? Я побывал на Аркольской улице у принца, но не застал его.
Целую ваши руки, принцесса, вернее, моя дорогая принцесса (в стиле Бланшара, кажется; ничего, он прав). И остаюсь весь ваш.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Париж, понедельник вечером, 15 декабря 1873
Милая моя Каро!
Радуюсь при мысли, что через неделю недалеко будет то время, когда я снова увижу тебя и расцелую твою добрую, хорошенькую рожицу. Как только ты получишь мое письмо, будь любезна послать мне телеграмму: во-первых, как прошел переезд, и, во-вторых, день и час вашего возвращения. Но до тех пор я жду ответа на мою телеграмму, посланную в четверг, и письмо, отправленное в пятницу.
Ничего нового. «Водевиль» по-прежнему со мною очень любезен. Я знаю от своего «ученика» Ги де Мопассана, товарища одного из акционеров или участников этого предприятия, что эти господа возлагают большие надежды на пьесу. Они отделались от Барьера, который хотел стать мне поперек дороги.
Сегодня рукопись принята окончательно, и осталось переписать роли. Через неделю г-жа Вьё будет на подмостках. Вот, моя милочка, еще одна история: я запродал Шарпантье «Святого Антония» на очень выгодных условиях! Сейчас тебе объясню.
Перевод вышеупомянутой книжицы для русского журнала даст мне около 3000 франков! Это любезность москвича. Кроме того, у меня имеются и еще разные «фокусы» в запасе. Словом, я, кажется, становлюсь практичным!!! Только бы мне не обратиться в идиота, что зачастую является последствием практичности! Однако ввиду того, что папаша Гюго через месяц выпускает роман в трех томах под заглавием «Девяносто третий год», нам придется повременить ради успеха книги. Тем не менее, печатать ее начнут тотчас же. Как видишь, дорогая моя, я не сплю!
Сейчас я больше всего озабочен поисками любовника (для роли Жюльена), дело это не легкое; нынешние молодые актеры ничего не понимают в поэзии и страсти. В мое время их можно было загребать лопатами.
Нынче утром завтракал у г-жи Карвало, а завтра пойду ее смотреть в «Жене посла».
Любящая тебя
Нянюшка.
Очень холодно; ветер сворачивает скулы.
ЖОРЖ САНД
[Париж, 30 декабря 1873]
У меня выдалась спокойная минутка, и я пользуюсь ею, чтобы побеседовать с вами, дорогой и добрый маэстро. Но прежде всего расцелуйте за меня всех своих и примите мои лучшие пожелания к новому году.
Итак, вот что происходит с вашим о. Ротозеем.
Ротозей очень занят, но духом ясен (или доверчив?) и чрезвычайно спокоен, что всех приводит в изумление. Да, это так. Никакого возмущения! Никакого кипения! Репетиции «Кандидата» начались. Пьеса пойдет на подмостках в начале февраля. У Карвало довольный вид. Тем не менее он настоял, чтобы я слил два действия в одно; поэтому первый акт получился непомерно длинным.
Я выполнил работу в два дня — Ротозей был поистине прекрасен. Он спал всего лишь семь часов с четверга утром (первый день рождества) по субботу и чувствует себя от этого только лучше.
Знаете ли, что я собираюсь делать в довершение своего священнического облика? Стать крестным отцом. Г-жа Шарпантье, от восторга перед «Святым Антонием», просит меня назвать Антонием ребенка, которого собирается родить. Я отказался наречь этого юного христианина именем столь беспокойного человека, но должен был принять предложенную мне честь.
Представляете ли вы себе мою старческую физиономию возле купели рядом с младенцем, кормилицей и родителями? О, цивилизация, вот какие ты выкидываешь штуки! Вот каковы требования светского воспитания!
В воскресенье я был на гражданских похоронах Франсуа-Виктора Гюго. Какая толпа! И ни одного возгласа, полнейший порядок! Подобные дни неблагоприятны для католицизма. Бедный папаша Гюго (я не мог удержаться, чтобы не поцеловать его) был разбит, но держался очень стоически.
Как вам нравится «Фигаро», который упрекнул его за то, что он был на похоронах сына в мягкой шляпе?
Что касается политики, то тут полное спокойствие. Процесс Базена отошел в область истории. Ничто так не рисует современную деморализацию, как милость, пожалованная этому негодяю. Впрочем, право на милость (если исходить из богословия) есть отказ в правосудии. По какому праву человек может помешать выполнению закона?
Бонапартистам следовало бы отступиться от него; а они, наоборот, рьяно защищали его в своей ненависти к 4 сентября. Почему все партии сохраняют обычно солидарность с негодяями, которые их эксплуатируют? Потому что все партии гнусны, глупы, несправедливы, слепы. Пример: история г-на Азора (что за имя!). Он обокрал духовенство, и что же! Клерикалы считают себя обиженными.
Кстати о церкви: я прочел целиком (чего никогда не делал) «Очерк о равнодушии» Ламеннэ. Теперь я основательно познакомился с величайшими шутниками, оказавшими разрушительное влияние на XIX столетие. Когда мы определяем критерий уверенности как нечто обыденное, иначе говоря — нечто вошедшее в моду и обиход, разве это не значит, что мы прокладываем дорогу всеобщему избирательному праву, которое, по-моему, является позором человеческого разума?
Прочел также «Христианку» аббата Ботена. Любопытная книжка для романиста. От нее веет его эпохой, современным ему Парижем. Чтобы очиститься от грязи, проглотил книгу Гарсена де Тасси об индусской литературе. Там, по крайней мере, можно вздохнуть свободней.
Как видите, ваш о. Ротозей еще не отупел окончательно от театра. Впрочем, я не могу пожаловаться: в «Водевиле» все вежливы и аккуратны. Какое отличие от «Одеона»!
Наш друг Шенневьер является теперь нашим начальством, так как театры находятся в его ведении. Артистический мир в восторге.
С москвичом вижусь каждое воскресенье. Он здоров, а я все больше его люблю.
Гранки «Святого Антония» будут в конце января.
Прощайте, дорогой маэстро. Когда же мы увидимся? Ножан далеко! А я эту зиму буду очень занят!
ЖОРЖ САНД
Суббота вечером, 7 февраля 1874
Наконец-то урвал для себя минутку, дорогой маэстро; побеседуем же немного.
От Тургенева я знаю, что вы очень хорошо себя чувствуете. Это главное. А я расскажу вам о превосходном отце Ротозее.
Вчера я подписал к печати последние листы «Святого Антония». Но упомянутая книга выйдет в свет не ранее 1 апреля (первоапрельской шуткой?) из-за переводов. Конечно, я о ней больше не думаю. «Святой Антоний» отошел для меня в область воспоминаний. Не скрою от вас, однако, что мною овладела печаль, когда я рассматривал первую корректуру. Не легко расставаться со старым приятелем.
Что касается «Кандидата», то его будут играть, кажется, числа 20-го или 25-го сего месяца. Ввиду того, что эта пьеса стоила мне очень мало усилий и я не придаю ей особенного значения, я довольно спокойно отношусь к результатам.
В течение нескольких дней я волновался и беспокоился вследствие отъезда Карвало. Но его заместитель Кормон преисполнен усердия. Пока что мне остается только хвалить его, как, впрочем, и всех остальных. Народ в «Водевиле» очаровательный; ваш старый трубадур, которого вы представляете себе взволнованным и разъяренным, кроток, как ягненок, даже добродушен. Сперва я сделал все изменения, какие они от меня требовали, затем они восстановили первоначальный текст. Но я сам убрал длинноты, и получилось очень хорошо. Делануа и Сен-Жермен великолепно держатся и играют как ангелы. Кажется, будет удачно.
Одно досадно мне: цензура испортила роль мальчишки легитимиста, и таким образом пьеса, задуманная в строго беспристрастном духе, теперь как будто льстит реакционерам: это меня огорчает безмерно. Ибо я не хочу потворствовать каким бы то ни было политическим страстям, питая, как вам известно, ненависть ко всякому догматизму, всяким партиям.
Итак, милейший Александр Дюма вынырнул! Вот он и в Академии! Я нахожу его весьма скромным. Приходится быть скромным, дабы проникнуться к себе самому почтением за почести.
ЖОРЖ САНД
Париж, суббота вечером [28 февраля 1874]
Дорогой маэстро!
Премьера «Кандидата» назначена в будущую пятницу, но возможно, что она состоится в субботу или, пожалуй, в понедельник 9-го. Она была отложена из-за нездоровья Делануа и «Дяди Сама», так как надо было дождаться, чтобы сбор с вышеупомянутого «Сама» стал ниже 1500 франков. Мне кажется, что моя пьеса будет очень хорошо сыграна, вот и все; а об остальном не имею никакого понятия и чрезвычайно спокойно отношусь к результатам. Это равнодушие меня удивляет. Если бы не то, что разные люди изводят меня просьбами о местах, я бы совершенно забыл, что мне предстоит скоро появиться на подмостках и отдать себя, несмотря на свой преклонный возраст, в жертву насмешкам толпы. Что это, стоицизм или усталость?
У меня был и еще продолжается грипп; в результате сего ваш Ротозей испытывает общее утомление и сильнейшую (вернее, глубокую) тоску. Покашливая и отхаркиваясь у своего камелька, я мысленно перебираю воспоминания молодости. Думаю о всех своих покойниках и погружаюсь в мрачную тоску. Результат ли это моей чрезмерной деятельности за последние восемь месяцев или же совершенного отсутствия женского элемента в моей жизни? Но я никогда еще не чувствовал себя таким покинутым, таким опустошенным и разбитым. То, что вы рассказали мне (в последнем письме) о ваших дорогих малютках, тронуло меня до глубины души. Почему я лишен этого? Ведь во мне было заложено столько нежности! Но человек не властен над своей судьбой, он может только покоряться ей. Я был трусом в молодости, боялся жизни! За все надо расплачиваться.
Поговорим о чем-нибудь другом. Это будет веселей.
Его величество государь император всея Руси отнюдь не любит Муз. Цензура «северного самодержца» окончательно запретила издание перевода «Святого Антония», и в прошлое воскресенье я получил гранки из Санкт-Петербурга обратно; французское издание также будет запрещено. Для меня это большая денежная потеря.
Немного недоставало, чтобы французская цензура не допустила моей пьесы. Друг Шенневьер оказал мне большую поддержку. Если бы не он, пьеса не была бы поставлена. Ротозей не нравится Временному правительству. До чего смешна эта наивная ненависть власти, любого правительства к Искусству!
Читаю теперь книги по гигиене. Ох, как комично! Какой апломб у всех этих докторов! Сколько нахальства! И какие они ослы в большинстве случаев! Недавно я прочел «Поэтическую Галлию» синьора Маршанжи (врага Беранже). Книжка эта вызвала у меня взрывы хохота.
Чтобы окунуться в настоящую литературу, я перечитал величайшего, пресвятого, несравненного Аристофана. Вот это действительно человек! Каким же должен быть мир, где создаются подобные творения!
ЖОРЖ САНД
Париж, четверг, час [12 марта 1874]
Вот провал, так уж провал! {Первое представление пьесы Флобера «Кандидат» состоялось 11 марта 1874 года.} Те, кто хотят мне польстить, утверждают, будто бы пьеса восстановит свою репутацию, представ перед настоящей публикой; но я ничему не верю. Я знаю лучше, чем кто бы то ни было, недостатки своей пьесы. Если бы Карвало не надоедал мне до одури в течение двух месяцев со своими поправками, которые я выбросил, я, пожалуй, кое-что переделал бы и изменил, и тогда, возможно, конечный исход был бы иной. Но мне все так опротивело, что я ни за какие миллионы не согласился бы изменить и строчки. Короче говоря, я провалился.
Надо к тому же сознаться, что публика в зале была отвратительная, одни щеголи да биржевики, которые даже не понимают истинного смысла слов. Поэтические образы были восприняты как шутки. Поэт говорил: «Ведь я человек 1830 года, я выучился читать по «Эрнани» и хотел бы быть Лара». По этому поводу — взрыв иронического смеха и т. д.
А затем публику обмануло заглавие. Она ожидала увидеть «Рабага»! {«Рабага» — политическая комедия В. Сарду (1872).} Консерваторы рассердились на то, что я не задел республиканцев, а коммунарам хотелось бы, чтобы я выругал легитимистов.
Актеры играли превосходно, между прочим и Сен-Жермен. Делануа, который вывозит на себе всю пьесу, страшно огорчен, и я не знаю, как его утешить. Что касается Ротозея — он спокоен, очень спокоен. Он прекрасно пообедал до представления и еще лучше поужинал после него. Меню: два десятка остендских устриц, бутылка замороженного шампанского, три ломтика ростбифа, салат из трюфелей, кофе с ликером. Ротозея поддерживают религия и желудок!
Сознаюсь, мне было бы приятно заработать немного денег, но ввиду того, что мой провал не затрагивает ни искусства, ни чувства, я к нему глубоко равнодушен.
Я говорю про себя: «Ну что ж, вот и кончено!» и испытываю как бы облегчение.
Хуже всего это сплетни относительно билетов! Заметьте, у меня было двенадцать мест в оркестре и одна ложа! (У «Фигаро» было восемнадцать мест в оркестре и три ложи.) Я даже не видел начальника клаки. Можно подумать, что администрация «Водевиля» позаботилась о моем провале. Ее мечта осуществилась.
Я не роздал и четвертой части нужных мне мест, и мне пришлось купить много билетов для людей, которые красноречиво бранили меня в коридорах. Возгласы «браво» нескольких преданных друзей были немедленно заглушены шиканьем. Когда по окончании произнесли мою фамилию, раздались аплодисменты (относившиеся к человеку, а не к произведению), но их сопровождали два резких свистка с галерки. Вот вам правда.
Сегодняшняя утренняя «Пти пресс» вежлива; большего я не могу от нее требовать.
Прощайте, дорогой и добрый маэстро, не жалейте меня, так как я совсем не считаю, что меня надо жалеть.
P. S. Мой слуга сострил, подавая мне нынче утром ваше письмо; зная ваш почерк, он сказал мне, вздыхая: «Ах, самой лучшей не было вчера вечером!» — и я того же мнения.
ЖОРЖ САНД
[Париж] Среда [8 апреля 1874]
Спасибо за ваше длинное письмо по поводу «Кандидата». Вот какие критические замечания я добавляю к вашим: надо было, во-первых, опустить занавес после избирательного собрания и половину третьего акта перенести в начало четвертого; во-вторых, выбросить анонимное письмо, которое использовано дважды, так как Руслен узнает от Арабеллы, что у его жены есть любовник; в-третьих — изменить порядок сцен четвертого акта, то есть начать с назначения свидания г-жой Руслен Жюльену и сделать Руслена немного более ревнивым. Заботы об избрании отвлекают его от желания поймать на месте преступления свою жену. Эксплуататоры недостаточно разработаны. Следовало бы, чтобы их было десятеро, а не трое. Затем он отдает свою дочь. Вот тут-то и должен быть конец. И как раз в тот момент, когда он начинает замечать подлость, его выбирают в кандидаты. Мечта его осуществляется, но он не испытывает никакой радости. Таким образом, нравоучение развертывалось бы постепенно.
Что ни говорите, сюжет, по-моему, хорош; но он мне не удался. Ни один из критиков не показал мне, в чем моя ошибка. Сам-то я знаю, и это меня утешает. Как вам нравится Ла Руна, который заклинает меня «во имя нашей старой дружбы» не печатать пьесу, — настолько он ее считает «глупой и плохо написанной»? Засим следует параллель между мной и Гондине.
Одна из самых комических вещей настоящего времени — это тайна театра. Можно подумать, что театральное искусство переходит границы человеческого разумения и представляет собой тайну, доступную лишь тем, кто пишет, как кучера фиакров. Вопрос непосредственного успеха первенствует над всем остальным. Это школа деморализации. Если бы дирекция поддержала мою пьесу, она давала бы такие же сборы, как и всякая другая. Разве она стала бы от этого лучше?
С «Искушением» дело обстоит неплохо. Первый тираж в две тысячи экземпляров разошелся полностью. Завтра выйдет второй. В нескольких мелких газетах меня обругали, человека два-три похвалили. В конечном счете — ничего серьезного еще не появилось и вряд ли появится. Ренан (по его словам) больше не пишет в «Дебатах», а Тэн занят переездом в Аннеси. Синьор Вильмессан и Бюлоз питают ко мне отвращение и сделают все возможное, чтобы доставить мне неприятность. Вильмессан корит меня за то, что я «не дал пруссакам себя убить». От всего этого тошнит!
А вы еще хотите, чтобы я не замечал глупости людской и лишил себя удовольствия ее изобразить! Да ведь комическое — это единственное утешение для добродетели! Впрочем, есть способ принять его в возвышенном смысле. Вот это-то я и постараюсь сделать в повести о моих двух старичках. Не бойтесь, что это будет слишком реалистично! Напротив, я боюсь, что это окажется невозможным, потому что я хочу довести свою идею до крайнего преувеличения. Эта маленькая работа, к которой я приступлю через полтора месяца, отнимет у меня четыре или пять лет.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Париж, 1 мая 1874
Какое прелестное письмецо! И как оно меня тронуло! Я отвергаю только первую строчку: «Вы меня забыли!» Сознайтесь, что вы сами в это не верите! Что-то внутри вас должно настойчиво твердить вам, что я думаю о вас... беспрестанно, да, ежедневно! И я проклинаю мысль, что вы живете так далеко, в Вильноксе! Как будто близ Парижа нет садов! Как жаль — вернее, как горестно, что нельзя почаще быть вместе! Я бы подолгу навещал вас, вы бы слушали мои речи, а я читал бы ответ в ваших глазах. Научите меня философски относиться к вещам, хотя бы в данном случае, — ведь вы такой стоик.
Мне это было бы необходимо (будь я менее горд), чтобы вынести отзывы всех критиков, рыгающих в мою сторону. Симфония полная. Ни одна газета не отказалась от своей миссии. Сегодня черед добрейшего Сен-Рене Тайандье. Прочтите его разглагольствование; есть над чем посмеяться, бог мой! До чего они глупы! Какие ослы! И ведь я чувствую, что под этим кроется ненависть ко мне лично. За что? Кому я причинил зло? Все можно объяснить одним словом: я стесняю и не столько стесняю своим пером, как своим характером, своим одиночеством (подлинным и систематическим), которое является признаком пренебрежения.
В «Общественном благе» была обо мне исступленная статья. Какой-то юноша, о чьем существовании я не имею понятия, некий Дрюмон, просто поставил меня выше Гёте — оценка, доказывающая больше восторженность, чем ум. За исключением этого отзыва (я не считаю нескольких благосклонных строк)' пресса обычно меня срамит и высмеивает. Сен-Виктор (преданный Леви) даже не подтвердил получения моей книги, и я знаю, что он ругает меня вовсю. Папаша Гюго (милейший человек, с ним я часто встречаюсь) написал мне «прекрасное» письмо и сказал при свидании несколько комплиментов. Все парнасцы в восторге, многие музыканты также. Почему музыканты больше, чем художники? Загадка!
Ваш друг, отец Дидон, как говорят, в числе моих поклонников. То же самое относится к профессорам богословского факультета в Страсбурге. Что же касается материальных успехов, то они велики, и Шарпантье потирает себе руки. Но критика жалка, гнусна, глупа и ничтожна! Я прочел два хороших английских отзыва. Жду немецких. В понедельник в «Национале» должен появиться отзыв Банвиля. Ренан сказал мне, что напишет после всех. Довольно болтать об этих пустяках.
«Девяносто третий год» папаши Гюго кажется мне выше его последних романов; мне очень нравится половина первого тома, поход в лесу, высадка маркиза, варфоломеевская резня, а также все пейзажи; но что за пряничные у него герои! Все они разговаривают как актеры! У этого гения нет дара создавать подлинных людей. Будь у Гюго этот дар, он превзошел бы Шекспира.
Недели через две я возвращаюсь в свою хижину и примусь тогда за своих «Двух писцов». В настоящее время все дни провожу в библиотеке. На будущей неделе отправляюсь в Кламар вскрывать трупы. Да, милостивая государыня, вот куда заводит меня любовь к литературе! Как видите, я далеко от здравых идей, к которым меня призывает Тайандье. Говорил я вам, что поеду этим летом в Сен-Мориц для успокоения нервов (так как я здорово устал)? Делаю это по совету доктора Арди, который называет меня старой истеричной бабой. «Доктор, — ответил я ему, — вы правы».
Крепко целую ваши руки, всегда ваш.
ЖОРЖ САНД
Круассе, вторник 26 мая [1874]
Добрый, дорогой маэстро!
Итак, я вернулся в свое одиночество. Но я недолго пробуду здесь, так как через какой-нибудь месяц отправляюсь недели на три на Риги освежиться, отдохнуть, настроить свою нервную систему! Давно уже я не проветривался; чувствую себя усталым и испытываю потребность отдохнуть. После этого примусь за свою большую книжицу, которая потребует от меня по меньшей мере четырех лет работы. Это-то и хорошо!
«Слабый пол», принятый Карвало для «Водевиля», возвращен мне обратно тем же «Водевилем», и именно Перреном, который находит, что пьеса скабрезна и неприлична: «Поместить на сцене «Французского театра» колыбель и кормилицу! Подумайте!» Итак, я отнес пьесу Дюкенелю, но он, разумеется, еще не дал мне никакого ответа. Как далеко простирается развращающее влияние театра! Руанские буржуа, включая моего брата, говорили со мной о провале «Кандидата» шепотом (sic!) и с таким сокрушенным видом, как будто бы я находился под судом по обвинению в подделке денег. Потерпеть неудачу — преступление: а успех — критерий Добра. Мне это кажется предельно гротескным.
Объясните мне также, почему иным при падении подстилают матрацы, а другим подставляют шипы? Ах, странная штука — свет, и желание построить свою жизнь, согласуясь с его мнением, представляется мне химерой.
Добрейший Тургенев, должно быть, теперь в Санкт-Петербурге; он прислал мне из Берлина благоприятный отзыв о «Святом Антонии». Не статья обрадовала меня, а он сам. Я часто виделся с ним прошлую зиму и люблю его все больше и больше.
Бывал я также у папаши Гюго; очаровательный старик (когда не занимается политикой).
Разве падение министерства Брольи не доставило вам удовольствия? Я лично был чрезвычайно доволен! Но что дальше? Я еще достаточно молод, чтобы надеяться, что будущая Палата принесет нам перемену к лучшему. Тем не менее?
Ах, черт возьми! Как мне хочется вас видеть и долго беседовать с вами! Как плохо устроен мир. Почему нельзя жить с теми, кого любишь. Телемское аббатство — прекрасная мечта, но только мечта!
Крепко поцелуйте за меня дорогих крошек. Весь ваш.
Преподобный отец Ротозей.
Больше чем когда-либо Ротозей! Я чувствую себя поглупевшим, размякшим, изнуренным, расслабленным старцем — словом, я спокоен и умерен, что является последней степенью упадочности.
ЭМИЛЮ ЗОЛЯ
Круассе, близ Руана, 3 июня [1874]
Я прочитал «Покорение Плассана», прочитал залпом, как проглатывают рюмку дорогого вина, затем подумал над книгой и теперь, мой дорогой друг, могу прилично ее обсудить. Я боялся, как бы после «Чрева Парижа» вы не углубились в систему, в одностороннее. Однако этого не случилось! Вы молодец! И ваша последняя книга здорово сделана!
Быть может, в ней недостает выпуклости, центральной сцены (вещь, которой никогда не бывает в реальной жизни), возможно, что у вас слишком много диалогов в побочных сценах! Вот и все возражения, какие у меня возникли после тщательного исследования. Но какая наблюдательность! Какая глубина! Какая хватка!
Особенно поражает меня общий тон книги, свирепая страстность под добродушной внешностью. Сильно, старина, очень сильно, сочно и полно здоровья.
Какой курьезный тип буржуа этот Муре с его любопытством, скупостью, безропотностью (стр. 183—184) и самоуничижением! Аббат Фожа зловещ и велик — настоящий духовник! Как прекрасно руководит он женщиной, как искусно овладевает именно этой, играя сперва на ее любви к ближнему, а затем грубо обходясь с нею!
Что касается ее (Марты), то она вам необыкновенно удалась; я даже выразить не могу, с каким искусством вы развиваете ее характер — вернее, ее болезнь. Особенное внимание я обратил на страницы 194, 215 и 227, 261, 264, 267. Ее истерия, ее заключительное признание (стр. 350 и сл.) чудесны. Как хорошо показано разложение этой супружеской четы! Какое отрешение от всего у жены, и в то же время ее «я», вся ее сущность! Это разложение указывает на глубокое знание человеческой природы.
Я забыл сказать о Трушах, — очаровательных негодяях, а аббат Бувель с его трусостью и чувствительностью — просто прелесть.
Провинциальная жизнь, заглядывающие к соседу сады, чета Палоков, Растуаль, игра в ракетки — безукоризненны, безукоризненны.
У вас встречаются превосходные детали, некоторые слова — настоящая находка: стр. 17-я «...тонзура вроде шрама»; 18-я: «Я предпочел бы, чтобы он посещал женщин»; 89-я: «Муре битком набил печь», и т. д.
А кружок молодежи! Какая правдивая выдумка. Я отметил на полях еще много других мест.
Детали в описании Олимпией наружности брата, шея, как у индюка, мамаша попа, готовая стать для него сводницей (152) и ее сундук! (338).
Суровость попа, отвергающего носовые платки своей несчастной любовницы, потому что от них «пахнет женщиной». Церковная утварь с именем г-на Делангра... и вся фраза — настоящий перл.
Но венец произведения, подавляющий все в целом, — это конец его. Я не знаю ничего более захватывающего, чем развязка. Посещение своего дяди Мартой, возвращение Муре и надзор за домом! Становится страшно, как будто читаешь фантастические сказки, и этот эффект достигается чрезмерным реализмом, силой правды! Читатель испытывает головокружение, как сам Муре.
Бесчувственность буржуа, рассевшихся в кресла и любующихся пожаром, очаровательна, а заключительный абзац полон величия: появление сутаны аббата Сержа у изголовия умирающей матери, означающее утешение или возмездие!
Впрочем, одно замечание у меня есть. Читатель (не обладающий памятью) не знает, какое чувство руководит действиями Ругона и дядюшки Маккара. Достаточно двух фраз, чтобы это пояснить. Но все это пустяки! Вещь удачная, и я благодарю вас за доставленное мне удовольствие.
Спите спокойно, это настоящее произведение.
Сохраните для меня все глупости, какие оно внушит. Меня интересуют такого рода документы.
Крепко жму вашу руку и остаюсь весь ваш (в чем вы, надеюсь, не сомневаетесь).
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе, 17 июня 1874]
И мне также это отвратительное лето действует на нервы! Все части моей старой машины трещат от боли. Я чувствую глубокую усталость и печаль. Отчего?
Завтра снова отправляюсь путешествовать в поисках за местожительством для моих старичков. Мне нужно какое-нибудь нелепое местечко в красивой местности, где была бы возможность делать геологические или археологические раскопки. Итак, завтра переночую в Алансоне, затем объеду все окрестности, вплоть до Кана. Ах, что за книжица! Она уже заранее истощает все мои силы, я чувствую себя подавленным трудностями этого произведения, ради которого я прочел двести девяносто четыре тома, использовав в них все существенное! А между тем ничего еще не сделано.
Возвратившись на будущей неделе из Нижней Нормандии, я соберу свои пожитки, чтобы отправиться «на поля Гельвеции», вернее, в горы. Я не поеду в Сен-Мориц и не буду лечиться на водах. Мне хочется подышать чистым воздухом Риги — вот и все. Предполагают, что менее сильное давление воздуха понизит у меня давление крови. Такова теория. Верно лишь то, что я нуждаюсь в отдыхе.
Рекомендую вам книгу Геккеля «Об естественном зарождении». Эта книга изобилует фактами и идеями. Она самая содержательная из всех, какие мне известны.
Мое мнение о Шопенгауэре совершенно сходится с вашим. И подумать только, что достаточно писать плохие книги, чтобы прослыть серьезным человеком!
Люблю вас за то, что вы любите Лукреция. Что за человек, а? Не правда ли, он иногда напоминает лорда Байрона? Член Французской академии г-н де Саси объявил мне, что никогда не читал ни Лукреция (sic!), ни Петрония. «Бог мой, ну да, я придерживаюсь Вергилия, дорогой г-н Флобер». О, Франция! Хотя это и наша родина, однако нельзя не сознаться в ее убожестве! Я захлебываюсь в потоках глупости, покрывающей ее, наводняющем ее кретинизме, в который она постепенно погружается. Я испытываю ужас современников Ноя при виде беспрерывно прибывающей в море воды. Величайшие «славословы» вроде папаши Гюго, и те начинают сомневаться. Мне хотелось бы исчезнуть из этого мира лет на пятьсот, а затем возвратиться, чтобы посмотреть, «что делается». Быть может, это окажется занятным.
Целую ваши руки. Напишу вам оттуда, с родины орлов. В связи с орлами, как красивы бонапартисты! Какие господа! Какие прекрасные нравы!
ТУРГЕНЕВУ
Четверг, 2 июля 1874
Кальтбад, Риги. Швейцария
И мне жарко, но у меня то преимущество, или же, наоборот, отсутствие оного перед вами, что я скучаю самым невероятным образом. Приехал я сюда из послушания, так как мне сказали, что чистый горный воздух сведет с меня красноту и успокоит нервы. Да будет так. Но до сих пор я ощущаю лишь отчаянную скуку вследствие одиночества и безделья; к тому же я не любитель Природы: «ее чудеса» волнуют меня меньше, нежели «прелести» Искусства. Она меня подавляет, не внушая никаких «великих мыслей». Мне хочется сказать ей про себя: «Ты прекрасна; я только что вышел из твоих недр, через несколько минут я вернусь в твое лоно, оставь меня в покое, я жажду иных развлечений». Впрочем, Альпы несоразмерны с нашей личностью, они слишком высоки, чтобы оказаться нам полезными. Вот уже третий раз они оказывают на меня неприятное действие и, я надеюсь, последний.
К тому же мои спутники, дорогой мой, все эти господа иностранцы, населяющие отель! Все они — немцы да англичане, с палками и биноклями. Вчера от избытка человеколюбия и потребности излить чувства я чуть было не облобызал трех телят, которых увидел на пастбище. Начало моего путешествия было неудачно, так как в Люцерне мне пришлось вырвать себе зуб у местного зубодера. За неделю до отъезда в Швейцарию я совершил маленькое путешествие в Орн и Кальвадос и нашел, наконец, место, где поселю своих двух старичков. Хочется поскорей засесть за книжку, которая заранее внушает мне ужасный страх.
Вы говорите мне в вашем письме, что «Святой Антоний» не встретил сочувствия у широкой публики. Я знал это заранее, но мне казалось, что избранные глубже поймут меня. Если бы не Дрюмон и Пеллетан, у меня не было бы ни одного благоприятного отзыва. Не видно отзывов и из Германии. Тем хуже! И бог с ними; сделанного не вернешь, к тому же коль скоро это произведение нравится вам — мне больше ничего не нужно. Со времени «Саламбо» крупный успех меня покинул. Единственно, что осталось у меня на душе, это неудача «Воспитания чувств»; удивляюсь, как могли не понять эту книгу.
Виделся в прошлый четверг с милейшим Золя, который сообщил мне о вас (так как ваше письмо от 27-го я получил на следующий день в Париже). За исключением вас и меня никто не говорил с ним о «Покорении Плассана», не было ни одного отзыва — ни за, ни против. Тяжелые времена настали для Муз. Впрочем, Париж показался мне больше обычного глупым и пошлым. Как ни далеки мы с вами от политики, это не мешает нам страдать от отвращения, хотя бы чисто физического.
Ах, милый мой старинушка Тургенев, как мне хочется, чтобы скорей наступила осень и вы приехали бы ко мне в Круассе недельки на две! Вы привезете с собой работу, и я покажу вам первые страницы «Б. и П.», которые, надеюсь, будут к тому времени готовы, и потом я послушаю вас.
Где вы сейчас — в России или в Карлсбаде? Замечательно было бы вернуться во Францию через Риги. Борюсь с желанием сесть на пароход и, перевалив через Сен-Готард, отправиться в Венецию на остаток месяца. Там, по крайней мере, я повеселился бы.
Моя племянница в настоящее время, должно быть, уехала в Стокгольм; она рассчитывает возвратиться в Дьепп в конце июля.
Чтобы чем-нибудь занять время, попробую обдумать два сюжета, пока еще весьма туманных. Но я себя знаю, я ничего здесь не сделаю. Надо было бы быть двадцатипятилетним юношей и гулять здесь с возлюбленной. Шале, отражающиеся в озере, — настоящие убежища для страсти. Как хорошо было бы прижимать к своему сердцу любимую на краю пропасти, как хорошо было бы излить свои чувства, лежа на траве, под шум водопадов, с голубизной в сердце и над головой! Но все это не для нас, старина, да никогда и не было в моем обычае.
Повторяю, жара ужасная, горы, покрытые на вершинах снегом, ослепительны. Феб мечет стрелы. Господа путешественники обедают и пьют, запершись у себя в комнатах. Количество поглощаемых в Гельвеции пищи и питья ужасающе. Всюду буфеты и «ресторации». Слуги Р... отличаются безупречной выправкой: с 9 часов утра — в черных фраках; а так как их очень много, то у вас создается впечатление, что вас обслуживает целая куча нотариусов или толпа приглашенных на похороны; начинаешь думать о собственном погребении, — весело.
Пишите мне чаще и больше; ваши письма будут для меня «каплей влаги в пустыне».
Около 15-го я думаю покинуть Швейцарию; несколько дней пробуду в Париже.
Прощайте, дорогой и великий друг, целую вас изо всех сил.
Ваш.
ЖОРЖ САНД
Кальтбад, Риги, пятница 3 июля 1874
Разве вы действительно были на прошлой неделе в Париже, дорогой маэстро? Я был там проездом в Швейцарию и прочел в одной «газетке», что вы смотрели «Двух сироток», гуляли в Булонском лесу, обедали у Маньи и т. д.; все это доказывает, что благодаря свободе печати мы не вольны в своих поступках. Из этого следует, что о. Ротозей сердит на вас за то, что вы не осведомили его о своем пребывании в «новых Афинах». Мне показалось, что люди там стали еще глупее и пошлее, чем обычно. Политика окончательно поглупела! Мне прожужжали уши возвратом Империи. Я не верю в него! А впрочем?.. Значит, придется эмигрировать. Но как и куда?
Итак, вы приезжали из-за пьесы? Мне жаль, что вам надо иметь дело с Дюкенелем! Он вернул мне рукопись «Слабого пола» через дирекцию театров, без единого объяснения, а в конверте министерства было письмо от помощника директора. Ну и письмо! Я вам его покажу. Образец наглости! Таких писем не пишут даже мальчишке из Карпентра, представляющего свой водевиль в театр Бомарше.
Это та самая пьеса «Слабый пол», которая в прошлом году привела в восторг Карвало! Теперь все от нее отказываются, потому что Перрен считает неприличным показывать на сцене «Французской комедии» «кормилицу и колыбель». Не знаю, что с ней делать; я отнес ее в театр Клюни.
Ах, хорошо сделал бедняга Буйле, что умер. Но я нахожу, что «Одеон» мог бы проявить больше внимания к его посмертным произведениям.
Хоть я и не верю в какой-то гольбаховский заговор, тем не менее нахожу, что меня за последнее время что-то уж чересчур втаптывают в грязь; а между тем кой к кому относятся так снисходительно!
Американец Гаррис убеждал меня на днях, что Сен-Симон плохо писал. Тут меня прорвало, и я так его отделал, что впредь он не станет в моем присутствии изрыгать свои глупости. Это было за столом у принцессы; от моей резкости всем стало не по себе.
Как видите, ваш Ротозей по-прежнему не выносит шуток над тем, что ему дорого. Он не успокоился, напротив.
Только что прочел «Естественное зарождение» Геккеля; хорошая книжка, хорошая книжка. Мне кажется, что дарвинизм изложен в ней яснее, чем у самого Дарвина.
Милейший Тургенев прислал о себе весточку из недр Скифии. Он нашел справку, которая ему нужна для будущей его книги. Тон его письма легкомысленный, из чего я заключаю, что он здоров. В Париж он вернется через месяц.
Две недели тому назад я побывал в Нижней Нормандии и нашел там, наконец, подходящее место для моих двух старичков. Оно находится между долинами Орны и Ожи. Придется съездить туда еще несколько раз.
Итак, с сентября месяца я засяду за эту трудную работу. Она меня пугает, и я заранее подавлен ею.
Ввиду того, что вам знакома Швейцария, мне незачем о ней говорить; к тому же вы будете меня презирать, если я скажу вам, что до смерти здесь скучаю. Я приехал сюда из послушания, так как мне предписали эту поездку, чтобы свести красноту с лица и успокоить нервы. Сомневаюсь в успешности лечения; во всяком случае, оно нагоняет на меня смертельную тоску. Я не любитель природы, и мне непонятны места, не имеющие истории. Я отдал бы все ледники в мире за один Ватиканский музей. Вот где можно помечтать.
Так или иначе недели через три я снова засяду за свой зеленый стол в скромном убежище, которое вы, как мне кажется, не хотите больше навещать!
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Конкарно, 3 октября 1875
Вот уже две недели, как я здесь, и хотя не испытываю радостного веселья, все же понемногу успокаиваюсь. Хуже всего то, что я чувствую себя смертельно больным. Чтобы заниматься искусством, нужна полная беззаботность, а у меня ее нет. Я не христианин и не стоик. Мне скоро пятьдесят четыре года. В этом возрасте нельзя перестроить свою жизнь, нельзя изменить своих привычек. Будущее не сулит мне ничего хорошего, прошлое снедает меня. Я только и думаю, что об истекших днях, о людях, которые ушли безвозвратно. Признак старости и упадка. Что касается литературы, то я не верю более в себя, я чувствую, что опустошен, а это отнюдь не утешительное открытие. «Бувар и Пекюше» слишком трудный сюжет, я отказываюсь от него, ищу другой роман, но ничего не могу придумать. Пока что примусь за «Легенду о св. Юлиане Странноприимце», единственно чтобы чем-нибудь заняться, посмотреть, могу ли я еще придумать хотя бы одну фразу, в чем я весьма сомневаюсь. Эта повесть будет очень короткой, каких-нибудь тридцать страниц. Засим, если ничего не придумаю и буду себя чувствовать лучше, то возьмусь снова за «Бувара и Пекюше».
Я встаю в 9 часов, ложусь в 10, объедаюсь омарами, отдыхаю после обеда у себя на кровати и гуляю на берегу моря, перебирая мысленно воспоминания. Иногда мой спутник Жорж Пуше вскрывает в моем присутствии рыбу или моллюска. Сегодня он сделал при мне вскрытие гремучей змеи. Счастлив, кто занимается наукой. Она не изменяет своим поклонникам, как литература.
При других обстоятельствах эта местность очаровала бы меня, но природа не всегда располагает к созерцанию ее. Она углубляет в нас чувство нашего ничтожества и бессилия. Мои соседи по столу счастливые смертные — это местные мелкие буржуа, занимающиеся ловлей сардин; они говорят исключительно об охоте и сардинах и проводят ежедневно не менее шести часов в кафе. Разговоры их непередаваемы. Что за пропасть — глупость людская.
ЖОРЖ САНД
Париж, 11 декабря 1875
Чувствую себя немного лучше и хочу воспользоваться этим, чтобы написать вам, дорогой, обожаемый и добрый маэстро!
Знаете ли, я оставил свой большой роман ради маленького средневекового пустячка, страниц на тридцать, не более. Это вводит меня в среду более приличную, нежели современное общество, и хорошо на меня действует. Затем я ищу сюжет для современного романа, но колеблюсь между несколькими зародившимися у меня идеями. Хочется написать нечто сжатое и сильное. Нити для ожерелья (то есть главного) у меня еще не хватает.
Внешне жизнь моя не изменилась: встречаю и принимаю у себя все тех же людей. Неизменные посетители мои по воскресеньям — прежде всего великий Тургенев, еще более милый, чем всегда, Золя, Альфонс Доде и Гонкур. Вы никогда не говорили со мной о первых двух. Какого вы мнения об их книгах?
Ничего не читаю за исключением Шекспира, которого пересматриваю от начала до конца. Это подбадривает и вливает в легкие свежий воздух, как будто находишься на высокой горе. Все кажется посредственным в сравнении с этим чудодейственным молодцом.
Я еще не виделся с Виктором Гюго, так как очень мало выхожу из дому. Однако сегодня вечером, пожалуй, решусь натянуть сапоги и пойти засвидетельствовать ему свое почтение. Лично он бесконечно мне нравится, но его свита!.. Боже упаси!..
Сенатские выборы служат развлечением для той публики, к какой принадлежу и я. Должно быть, в кулуарах Собрания происходили невероятно смешные и гнусные диалоги. Удел XIX века — видеть гибель всех верований. Аминь! Я их не оплакиваю.
На сцене «Одеона» предполагается выступление живого медведя. Вот все, что мне известно из области литературы.
ЖОРЖ САНД
[Париж, декабрь 1875, после 20-го]
Ваше милое письмо от 18-го, такое матерински нежное, заставило меня очень призадуматься. Я перечел его по меньшей мере десять раз, но, признаться, не уверен, понял ли его. Словом, что должен я, по-вашему, сделать? Уточните свои указания.
Я постоянно делаю все возможное, чтобы расширить свой ум, и работаю искренне, от всего сердца. Остальное зависит не от меня.
Я не «убиваюсь» удовольствия ради, поверьте мне, но я не могу изменить своих взглядов! Что касается «отсутствия убеждений», увы, я от них задыхаюсь! Я лопнуть готов от сдержанного гнева и негодования. Но в моем идеальном представлении об Искусстве художник должен скрывать свои чувства и обнаруживать свое присутствие в произведении в той же мере, в какой бог проявляется в природе. Человек — ничто, произведение — все! Такую дисциплину, которая может исходить из ложной точки зрения, соблюсти не легко. Для меня это нечто вроде вечной жертвы хорошему вкусу. Мне было бы очень приятно говорить то, что я думаю, и помочь синьору Гюставу Флоберу словами, но какое значение имеет вышеупомянутый синьор?
Я, как и вы, маэстро, думаю, что Искусство не только критика или сатира; поэтому-то я умышленно никогда не пробовал заниматься ни той, ни другой. Я всегда силился вникнуть в душу вещей и останавливался на самых общих понятиях, нарочно избегая случайного и драматического. Не нужно чудовищ, не нужно героев!
Вы говорите: «Мне незачем давать тебе литературные советы, незачем высказывать суждений о писателях, твоих друзьях и проч.» Ну нет, извините! Я требую от вас советов и жду ваших суждений. Кому же давать их, кому высказывать, как не вам?
По поводу моих друзей вы добавляете «моя школа». Да я ведь порчу себе характер, стараясь не иметь школы! Я a priori все их отвергаю. Люди, с которыми я часто встречаюсь и на кого вы указываете, стремятся как раз к тому, что я презираю, и весьма мало интересуются тем, что меня волнует. Я лично считаю технические детали, местные условия, наконец, исторически точную сторону вещей делом второстепенным. Я превыше всего ставлю красоту; мои же сотоварищи не очень ищут ее. Их не трогает то, что мучит меня, вызывая восхищение или ужас. Некоторые фразы, от которых я млею, кажутся им самыми обыденными. Гонкур очень счастлив, если подхватит на улице словечко, которое: может вклеить в книгу, а я считаю себя удовлетворенным, если напишу страницу без ассонансов и повторений. Я отдам все тексты под рисунками Гаварни за некоторые мастерские выражения или расположение слов вроде «Царственный, торжественный, точно брачное одеяние, мрак», — у Виктора Гюго или: «Пороки Александра были чрезмерны, как и его добродетели. Он был ужасен в гневе. Гнев делал его жестоким», — у президента Монтескьё.
Словом, чтобы хорошо писать, я стараюсь хорошенько думать. Но цель моя, не скрою, — хорошо писать.
Мне недостает «вполне установившегося и широкого взгляда на жизнь». Окружающий меня, как и других, мрак не рассеешь метафизикой. Слова «религия» и «католицизм», с одной стороны, «прогресс», «братство», «демократия» — с другой, не отвечают современным духовным запросам. Новый догмат равенства; выдвинутый радикалами, опровергнут путем опыта физиологией и историей. Я не вижу способа установить ныне новый принцип, равно как и сохранить старые. Поэтому я ищу, но не нахожу идеи, от которой зависит все остальное.
Пока что я повторяю про себя сказанное мне как-то Литре: «Ах, друг мой, человек — смесь чего-то непонятного, а земля весьма низменная планета».
Меня поддерживает лишь одна надежда, что скоро я отсюда уйду и не попаду на другую, быть может, еще худшую. «Я предпочел бы не умирать», как сказал Марат. Нет, нет, довольно мучений!
Пишу маленький пустячок, который каждая мать сможет дать прочесть дочери. Всего будет страниц тридцать. Работы хватит на два месяца. Таково теперь мое вдохновение. Как только оно (произведеньице, а не вдохновение) будет напечатано, я вам пошлю его.
ЖОРЖ САНД
Понедельник вечер [3 апреля 1876]
Получил сегодня утром вашу книгу, дорогой маэстро. У меня есть еще две или три других, которые мне давно уже одолжили; я их отправлю и начну читать вашу в конце недели во время маленького двухнедельного путешествия в Пон-л'Эвек и Гонфлер, куда я должен съездить для «Истории простой души»; этот пустячок в настоящее время «на рельсах», как сказал бы г-н Прюдом.
Я очень доволен, что «Жак» {Альфонса Доде.} понравился вам. Не правда ли, прелестная книга? Если бы вы были знакомы с автором, вы полюбили бы его еще больше, чем его произведение. Я сказал ему, чтобы он прислал вам «Рислера» и «Тартарена». Заранее уверен, что вы меня поблагодарите за обе эти книжки.
Я не разделяю строгости Тургенева в отношении «Жака», а также огромного его восхищения «Ругоном». {«Его превосходительство Эжен Ругон» Золя.} В одном случае — очарование, в другом — сила. Но ни в том, ни в другом нет прежде всего того, что для меня является целью Искусства, а именно — Красоты. Я помню, как билось мое сердце, какое сильное я испытывал наслаждение, созерцая одну из стен Акрополя, совершенно голую стену (ту, что находится налево, когда поднимаешься к Пропилеям). Так вот! Я спрашиваю себя, не может ли книга, независимо от ее содержания, оказывать такое же действие? Нет ли в точном подборе материала, в редкостности составных частей, в чисто внешнем лоске, в общей гармонии, нет ли здесь какого-то существенного свойства, своего рода божественной силы, чего-то вечного, как принцип? (Я говорю с платоновской точки зрения.) Почему, например, имеется необходимая связь между точным словом и словом музыкальным? Почему получается стих всякий раз, когда мысль чересчур сжата? Очевидно, закон чисел управляет чувствами и образами, и то, что представляется внешним, находится просто-напросто внутри. Если я буду долго продолжать в таком духе, то окончательно попаду пальцем в небо, ибо, с другой стороны, Искусство должно быть простодушным. Или, вернее, Искусство таково, каким его можно сделать: мы не свободны. Каждый идет по своему пути, наперекор собственной воле. Словом, у вашего Ротозея нет ни единой уравновешенной мысли в башке.
Как трудно, однако, понять друг друга! Вот два человека, которых я очень люблю и считаю настоящими художниками: Тургенев и Золя. Это нисколько не мешает им не восторгаться прозой Шатобриана и еще меньше восторгаться прозой Готье. Фразы, которые меня восхищают, им кажутся пустыми. Кто ошибается? И как понравиться публике, когда близкие от вас далеки? Все это очень меня печалит. Не смейтесь!
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, 19 июня 1876
Итак, я возвратился в старый дом, который покинул в прошлом году полумертвый от отчаянья! Дела не блестящи, но, в общем, сносны. Я вновь воспрянул духом, мне хочется писать. Надеюсь пожить спокойно более или менее длительный срок. Не следует просить у богов большего! Да будет так! Сказать вам правду, мой дорогой старый друг, я наслаждаюсь, как мелкий буржуа, что я у себя, на своих креслах, среди своих книг, в своем кабинете, в виду своего сада. Солнце сияет, птицы воркуют, точно влюбленные, лодки бесшумно скользят по гладкой реке, и повесть моя подвигается! По всей вероятности, через два месяца я ее окончу.
«История простой души» не более как рассказ о незаметной жизни бедной крестьянской девушки, богомольной и мистически настроенной, преданной без всякой экзальтации и нежной, как свежий хлеб. Она последовательно любит мужчину, детей своей хозяйки, племянника, старика, за которым она ухаживает, затем попугая. Когда попугай погибает, она заказывает его чучело и, умирая, смешивает попугая со святым духом. Здесь нет никакой иронии, как вы предполагаете, наоборот — все это очень печально и очень серьезно. Я хочу разжалобить, вызвать слезы у чувствительных душ, имея сам чувствительную душу. Увы! Да, в прошлую субботу на похоронах Жорж Санд я разрыдался, целуя маленькую Аврору, а затем — увидев гроб моего старого друга.
Газеты сказали не всю правду. Дело в том, что г-жа Санд не приняла священника и умерла без всякого покаяния. Но г-жа Клезенжер шика ради телеграфировала бургскому епископу, прося разрешение хоронить ее по христианскому обряду. Епископ поспешил дать удовлетворительный ответ. Морис, как местный мэр, побоялся скандала. Но я подозреваю, что доктор Фавр и добрейший Александр Дюма усиленно способствовали этой гнусности или соблюдению приличия. Что касается невестки, то она держалась в стороне, больше всех чтя память бедной умершей. Друзья остались у ворот кладбища; только Дюма и принц Наполеон вошли в церковь. Остальное вам известно.
Я ехал в обществе принца, который держал себя все время с безукоризненным тактом и простотой. С нами был Ренан. Я возвратился в Париж, разбитый телом и душой после двух ночей, проведенных в вагоне. На следующий день по приезде в Круассе я узнал о смерти самого старого из моих товарищей по школе и коллежу (Эрнеста Лемарье, сына одного руанского адвоката); вот и все!
На похоронах Жорж Санд было множество народа. Пятнадцать человек приехало из Парижа. Шел проливной дождь. Толпа крестьян бормотала молитвы, перебирая четки. Похоже было на главу из какого-нибудь ее романа. Я был очень удивлен отсутствием г-жи де Плесси. Что с нею? Я не люблю торжественного и безвозвратного, поэтому не присутствовал на ее прощальном спектакле. Этой зимой, после вашего отъезда, я один раз был у нее, но не застал дома.
Читали вы «Философские диалоги» Ренана? Я лично ставлю их очень высоко и нахожу прекрасными. Знаете ли вы «Fioretti» святого Франциска? Говорю о них, так как занялся этим поучительным чтением. Вследствие этого считаю, что, продолжая в таком духе, я заслужу себе местечко среди просвещенных умов церкви. Я буду одним из столпов храма. После святого Антония — святой Юлиан; а засим святой Иоанн Креститель; не вылезаю из святых. В отношении последнего постараюсь обойтись без «поучений». История Иродиады, как я ее понимаю, не имеет никакого отношения к религии. В ней меня прельщают официальные манеры Ирода (который был подлинным префектом) и яростная фигура Иродиады, своего рода Клеопатры и де Ментенон. Расовый вопрос господствует над всем. Увидите, впрочем.
Скажите о себе. Напишите мне длинное, очень длинное письмо.
ТУРГЕНЕВУ
Круассе, воскресенье вечером, 25 июня 1876
Как я набросился вчера утром на ваше письмо, увидев ваш почерк, мой дорогой старый друг! Я уже сильно соскучился без вас! Итак, расцеловавшись, побеседуем.
Мне досадно, что вы расстроены из-за денежных дел и опасений за свое здоровье. Будем надеяться, что вы ошибаетесь и подагра оставит вас в покое.
Смерть бедной тетушки Санд причинила мне бесконечное горе. Я ревел на ее похоронах, как теленок, и дважды принимался плакать: первый раз, когда поцеловал ее внучку Аврору (чьи глаза в тот день так напоминали ее глаза, будто она воскресла), а во второй — когда мимо меня пронесли ее гроб. Там происходили хорошенькие вещи! Чтобы не оскорблять «общественное мнение», вечное, ненавистное что скажут, ее отнесли в церковь. Я расскажу вам подробно про эту низость.
У меня было очень тяжело на сердце! И положительно хотелось убить Адриана Маркса. Один вид его мешал мне обедать вечером в Шатору. О, тирания «Фигаро»! Что за общественная зараза! Меня душит злоба при мысли об этих молодцах.
Мои спутники, Ренан и принц Наполеон, были очаровательны, а последний проявил безукоризненный такт и приличие; он с самого начала лучше нас обоих ясно понял все. Вы правы, что горюете о нашем друге; она очень вас любила и называла не иначе, как «милый Тургенев». Но зачем ее жалеть? Она была одаренной, и она навсегда останется очень крупной фигурой.
Деревенский люд окружил ее могилу, и все плакали навзрыд. На маленьком деревенском кладбище грязь была по щиколотку. Шел теплый дождь. Ее похороны напоминали главу из какой-нибудь ее книги.
Спустя двое суток я возвратился к себе в Круассе, где чувствую себя удивительно хорошо! Совсем по-новому наслаждаюсь зеленью, деревьями и тишиной! Снова ввел в употребление холодную воду (свирепая гидротерапия!) и работаю как бешеный.
«История простой души» будет, вероятно, окончена в конце августа, после чего я примусь за «Иродиаду»! Но как это трудно, дьявольски трудно! Чем дальше, тем больше я это замечаю. Мне кажется, что французская проза может достичь красоты, какую трудно себе вообразить. Не находите ли вы, что наши друзья мало интересуются Красотой. А между тем это главное в жизни!
Ну, а вы? Работаете? Как подвигается «Святой Юлиан»? Скажу вам невероятно глупую вещь, но мне хочется видеть это напечатанным по-русски! Не говоря уже о том, что перевод, сделанный вами, «польстит гордыне сердца моего» — единственное сходство мое с Агамемноном.
Вы еще не прочли новой книги Ренана, когда уехали из Парижа. Я считаю ее очаровательной, именно очаровательной. Согласны вы со мной? Впрочем, я совершенно не знаю, что творится на белом свете, так как за последние две недели не прочел ни единой газеты. Фромантен прислал мне свою книжку о «старых мастерах». Ввиду того, что я весьма мало знаком с голландской живописью, она не имеет для меня такого интереса, как для вас. Талантливо, но слишком длинно, слишком длинно! Мне кажется, что на вышеупомянутого Фромантена большое влияние оказывает Тэн. Ах, чуть было не забыл! Поэт Малларме (автор «Фавна») одарил меня книгой, которую издает, — это «Ватек», восточная сказка, написанная одним англичанином на французском языке в конце прошлого столетия. Забавно!
Меня обуревают мечты (и желания), когда я думаю, что этот листок бумаги попадет к вам, в ваш дом, которого я никогда не узнаю! И мне досадно, что я не имею ясного представления об окружающей вас обстановке.
Если у вас жарко, то и здесь не холодно. Провожу дни при спущенных жалюзи исключительно в обществе самого себя. Во время обеда развлекаюсь, глядя на своего верного Эмиля и левретку.
Моя племянница, которой я передам ваш привет, уезжает с мужем в конце месяца на Боннские воды, а я до сентября никуда не двинусь отсюда, а потом поеду на премьеру Доде. Но к тому времени вы давным-давно вернетесь.
Вам доставит удовольствие узнать, что дела моего племянника принимают, по-видимому, хороший оборот.
Хоть немного проясняется горизонт.
Да, дорогой старик, постараемся наперекор всему держаться на поверхности воды. Лечитесь, работайте и возвращайтесь скорей.
Целую вас крепко и нежно.
Ваш.
Пишите, хорошо?
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Круассе] Пятница, 6 часов [14 июля 1876]
Кошечка!
Как я рад за тебя, что милая Флавия сейчас так близко от тебя! Будете проводить приятные часы взаимных откровенных излияний.
У меня сохранилось смутное воспоминание о Шиноне. Судя по твоим словам, это, должно быть, очень приятная местность. Очень хорошо с твоей стороны, что ты защищала великого старца, патриарха французской литературы за триста лет, несравненного добряка, именуемого Рабле. Ах, эти буржуа, в том числе и буржуазки!
Их глупость простирается иногда до человекоубийства. Вчера в Дьепдалле вытащили из воды человека, который не успел еще захлебнуться. Г-н X *** заботливо велел повесить утопленника за ноги для того, чтобы тот изрыгнул воду; это в один миг доконало его.
Еще смерть: умер ребенок Маргариты; она возвратилась вчера в отчаяньи, так же как и муж ее...
Нечего и говорить, с каким огромным нетерпением я ожидал в воскресенье почтальона! Ввиду того, что знаменитое собрание состоится завтра в 10 часов, Эрнест, кажется, преисполнен благоразумия. Как бы то ни было, он должен тотчас же отправиться на Боннские воды. По-моему, он более чем когда-либо в этом нуждается.
Завтра поеду в Руан смотреть на чучела попугаев и повидаюсь с мэром, так как подписка на памятник Буйле возобновилась.
Ничего нового.
Тружусь и избегаю всех людей, —
Не на балах творят всего скорей.
Камилл Дусе.
Чтобы написать полторы страницы, я перечеркиваю двенадцать! У г-на Бюффона доходило до четырнадцати!
Еще месяц таких упражнений, а затем я снова примусь за них для «Иродиады»!
Когда вы отбываете в Лондон?
Поменьше экзальтации! Не забывай
Твоей старой любящей Нянюшки, которая целует тебя.
(Путцель здорова и не расстается со мной). А «Простая душа» настолько же безмятежна, насколько «Святой Юлиан» кипуч; боюсь, что ты разочаруешься, — ведь ты особа, любящая пышность.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
[Круассе] Ночь на 23 [июля 1876]
Ваше письмо меня обрадовало, молодой человек!
Но я бы рекомендовал вам, в интересах литературы, умерить свой пыл.
Берегитесь! Все зависит от намеченной цели. Человек, посвятивший себя искусству, не имеет права жить, как другие.
То, что вы говорите мне о синьоре Катулле, нимало меня не удивляет. Тот же самый Мендес писал мне третьего дня, чтобы я дал ему бесплатно фрагменты из «Замка сердец» и за деньги неизданные повести, которые я только что окончил. Я ответил, что все это невозможно, и это правда. Вчера я снова написал ему письмо, далеко не мягкое, ибо возмущен и зол страшно за статью о Ренане. Самым грубым образом нападают на человека, а попутно высмеивают Вертело. Впрочем, вы ее, вероятно, читали? Какого вы о ней мнения? Короче говоря, я написал Катуллу, во-первых, что прошу его вычеркнуть мое имя из списка сотрудников, а во-вторых — не присылать мне больше его газетки. Я не хочу больше иметь ничего общего с этими ничтожными господами. Теплая компания, дорогой друг мой, и я рекомендую вам поступить по-моему и просто-напросто бросить их. Катулл, вероятно, будет отвечать мне, но решение мое твердо, мое почтение! Я не могу простить низкой демократической зависти.
Грызня критиков по поводу Оффенбаха доходит до пределов комизма. Несносная вещь эта шутка, выдуманная Фиорантино в 1850 году и продолжающаяся до сих пор! Прибавьте к этому, чтобы составить трио, Литре, господина, утверждающего, что мы произошли от обезьяны, и колбасу в мясопуст у Сент-Бёва. О, глупость!
Что до меня, то я с остервенением работаю, ни с кем не вижусь, не читаю газет и горланю в тиши кабинета, как бесноватый. Провожу весь день и почти всю ночь, согнувшись за письменным столом, и регулярно любуюсь зарей. До обеда, часов в семь, резвлюсь в буржуазных волнах Сены. Не перестаю курить, у меня от этого даже какое-то повреждение во рту; тем не менее здоров, как бык. Кстати, о здоровье — вы положительно не выглядите больным. Тем лучше! Не думайте больше об этом.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, четверг [17 августа 1876]
Вчера в час ночи я закончил «Простую душу» и переписываю ее. Только сейчас почувствовал я, до чего утомился; дышу тяжело, точно вол после усиленной пахоты! И какая невыносимая жара! Не понимаю, как только вы можете переносить ее в Пиренеях. Со времени моего пребывания в Назарете я не помню подобной температуры. Говорят, в Руане у всех лица желтые-прежелтые!
Твое последнее письмо, детка, не дышало уже столь полным удовлетворением, как предыдущие. Когда ты говоришь, что приедешь в Круассе только ради меня, я уже предвижу беспокойство по поводу того, что скажут! Опять! Это слишком малодушно для передовой женщины! Что общего могут иметь наши соседи с побережья с разумным существом? Я лично чем дальше, тем больше проникаюсь полным и невыразимым презрением к обывателям, не говоря уже об обывательницах. Блохи Джулио кажутся мне столь же необходимыми в жизни, как три четверти рода человеческого.
Последняя новость: завтра у меня будет «этот превосходный г-н Бодри» (так всегда величал его Альфред). Он останется до воскресенья вечером; затем 25-го Тургенев приедет послушать мою повесть. Я списываю ее в двух экземплярах, дабы дать ему с собой. Благодаря лени милейшего москвича «Святой Юлиан» появится на русском языке лишь в ноябре. Я рассчитывал на 1 400 франков, но получение их откладывается. А Тургенева обворовал его управляющий на 150 000 франков, что составляет большую часть его состояния, о чем он объявил мне с невообразимой простотой, без малейшего негодования по отношению к этому мерзавцу, — как истый джентльмен.
Я не думал, что вы должны были (как я безупречно правильно пишу!), что вы должны были вернуться сюда между 1-м и 5 сентября, не позднее. Если вы несколько продлите ваше отсутствие, вы недолго пробудете здесь без меня, так как я намереваюсь выехать отсюда 1-го. Короче говоря, надеюсь, мы не будем находиться в разлуке свыше недели, или, скорее, вы не пробудете здесь, не повидавшись со мною, более недели. Мне казалось, что ты собиралась ехать в Байонну.
Если тропическая жара будет продолжаться, я не знаю, как быть с едой. Здесь уже нет больше ничего! Кочан цветной капусты, полный гусениц, стоит 30 су; то же самое и салат, «прямо не подступись». Я в восхищении от этого выражения, употребляемого в одно слово Сен-Мартеном и Эмилем, единственными двумя лицами, с которыми я еще разговариваю и которых считаю не глупее некоторых порядочных господ.
Теперь, когда я покончил с Фелисите, появляется Иродиада, и я вижу (так же ясно, как Сену, сверкающую на солнце) поверхность Мертвого моря. Ирод с женою стоят на балконе, откуда открывается вид на золоченые черепицы храма... Не дождусь минуты, когда засяду писать, и надеюсь этой осенью работать с свирепым усердием. Поэтому мне хочется начать зимний сезон возможно позднее. Меня очень огорчает, что, едва я вернусь сюда, вы покинете Старика. О, нет! нет! Не правда ли?
Поверишь ли? Я часто думаю о де Ф***. Как это глупо! Но гораздо чаще я думаю о своей бедной крошке и крепко ее целую.
Нянюшка, или последний из отцов церкви.
Моему племяннику
Важное соображение: ввиду того, что Боннские воды отнюдь не веселое местопребывание, рекомендую вам остаться там на этот раз как можно дольше, чтобы не пришлось туда возвращаться.
Жалею вас, ибо сам испытал величайшую скуку на курортах. И бывал, там не ради себя! Подумайте о моральной красоте этого, и оно поможет вам бодро переносить страдания!
Табль д' от, а? Колокол! И все остальное! Это совместное животное существование как-то поглощает нас. Такова мечта современности, мой милый! Демократия! Равенство!
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе] Среда, 27 сентября 1876
Когда я писал вам? Кажется, уже очень давно. Я запоздал, но это не значит, что забыл вас. Вот моя жизнь: с начала июня до конца прошлого месяца я неистово работал, и моя «Простая душа» закончена и переписана для России. Я провел несколько дней в Сен-Грасьене, потом в Париже, где посетил бывшую Императорскую библиотеку и присутствовал на премьере «Фромона». {Инсценировка «Фромона младшего и Рислера старшего» А. Доде в сотрудничестве с драматургом Бело.} Изменения, введенные Бело в эту историю (по-моему, весьма гнусные), создали успех пьесе. Таков зритель!
На следующий день я возвратился сюда, и вслед за мною приехал Тургенев. Так как он непоседа, то через двое суток уехал, и за это время я отправил Флавия Иосифа, который оказался типичным мещанином, то есть пошлой личностью.
История Иродиады с приближением момента, когда придется начать ее писать, внушает мне библейский страх. Я опасаюсь вновь поддаться впечатлению, произведенному «Саламбо», так как мои персонажи принадлежат к той же расе и отчасти к той же среде. Надеюсь, однако, что упрек, который не преминут бросить по моему адресу, будет несправедлив. После этого я займусь своими славными ребятами.
Дабы скорее двинуть «Иродиаду», я постараюсь остаться здесь возможно дольше. Последуйте моему примеру и не возвращайтесь в Париж до нового года.
Читали вы послание епископа Монпелье по поводу кражи просфоры? По стилю и забавности оно бесподобно. Рекомендую вам «Арсенал набожности» Поля Парфе. Прямо головокружительная штука. Прочтите. Вы вдоволь посмеетесь.
Как вы поживаете? Что поделываете? Напишите мне длинное письмо в доказательство того, что прощаете мне мою небрежность.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе, 25 октября 1876
Спасибо за вашу статью, {«Гюстав Флобер» Ги де Вальмона (Мопассана) в «Литературной республике», 22 октября 1876 г.} дорогой друг. Вы проявили ко мне сыновью нежность. Моя племянница в восторге от вашего произведения. Она находит, что это лучшее, что когда-либо писали об ее дяде. Я думаю то же, но не смею это высказать. Только насчет талмуда, {Мопассан писал: «Он (Флобер) знает талмуд — как раввин, евангелие — как христианский священник, библию — как протестант и коран — как дервиш».} — уж слишком, я не настолько силен в нем.
Следует ли выразить благодарность Катуллу за то, что он ее напечатал? Как по-вашему?
Через недельку (наконец-то!) я приступаю к своей «Иродиаде». Заметки окончены, и сейчас я разбираюсь в плане. Самое большое затруднение в данном случае — по возможности обойтись без необходимых объяснений.
Не далее как вчера я был в Водрейле и говорил о вас с Рауль-Дювалем. Фамилия господинчика, который собирается писать о театре, — Ноель, или, скорее, Нугель. Лицо неизвестное и, по всей вероятности, не продержится. Я просил Рауль-Дюваля пригласить вас на пробу, то есть заказать вам два-три отзыва о книгах. Он согласился. Так что, лишь только откроется сессия Палаты, я пришлю вам рекомендательное письмо для него. Решено. В моей рекомендации меня сильно поддержала г-жа Лапьерр. Всюду женщины, поросенок ты мой!
Так как я знаком с г-м Бегик и дядюшкой Дюруи (если бы наш друг Рауль-Дюваль недостаточно горячо отнесся), мне будет нетрудно поговорить с ними этой зимой, когда буду там. Но я не сомневаюсь в доброжелательстве Рауль-Дюваля.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе, вторник [октябрь 1876]
Ввиду открытия сессии Р. Дюваль, должно быть, уже в Париже. Все же повремените до пятницы, так как возможно, что он проведет два дня праздника всех святых в Водрейле.
Если вы явитесь к нему пораньше утром, часов в 8—9, вы его, вероятно, застанете.
Если вас откажутся принять, сошлитесь на меня.
Я не запечатал конверта, но, дабы пощадить вашу скромность, предлагаю заклеить его поскорее и сообщить мне, как вас приняли.
Если бы вы предложили ему от себя выполнить ту или иную работу, вы избавили бы его от размышлений, и дело, пожалуй, пошло бы быстрей.
Пока еще никто не занимался историей современной критики: это богатый материал. Взять, например, Планша, Жанена, Тео и других, одних только умерших, и проанализировать их идеи, их поэтику, или же изучить вопрос об «Искусстве для Искусства», или феерии. Совершенно не изучено, не было даже попытки изучить громадное творчество Жорж Санд. Можно было бы сделать прекрасное сопоставление с творчеством Дюма, — романа приключений и романа идейного.
Словом, дорогой мой, если вы попадете в «Насьон», хорошо было бы для начала дать что-нибудь, что привлекло бы внимание.
Может быть, какую-нибудь сногсшибательную небылицу — словом, придумайте!
Спасибо за присылку «Происшествий». Целую вас.
Ваш расслабленный старик.
Тургенев написал мне три дня назад, что возвратится в Париж дней через десять. Я не писал Катуллу, но прошу вас передать ему от меня благодарность.
ТУРГЕНЕВУ
Круассе, суббота
Я уже начал беспокоиться о вас, старина, я опасался, не заболели ли вы, дорогой мой.
Что до меня — живем помаленьку. За исключением суток, проведенных в В.... у М.... в конце прошлой недели, я отсюда не двигался со времени вашего отъезда. Мои заметки для «Иродиады» закончены, и я работаю над планом, так как связался с небольшим произведением, представляющим неудобство в смысле необходимости давать объяснения, в которых нуждается французский читатель. Дать ясную и живую картину при наличии столь сложных элементов представляет громадные трудности. Но если не трудности, что было бы увлекательного?
Читаете ли вы фельетоны о драме милейшего Золя? Рекомендую вам, как очень любопытную вещь, фельетон от прошлого воскресенья. На мой взгляд, теории его ограничены и в конце концов начинают меня раздражать.
А с точки зрения успеха, пожалуй, «Западня» его провалится. Публика, расположенная было к нему, отойдет и больше не вернется. Вот куда ведет страсть к предвзятым мнениям и системам. Пусть проходимцы говорят языком проходимцев — сделайте одолжение, но для чего автору перенимать их речь? А он думает, что это очень удачно, не замечая, что этим шиком он ослабляет самое впечатление, которое хочет произвести.
Чтобы быстрее двигаться вперед со своей работой, мне очень хочется остаться в Круассе как можно дольше, до нового года, возможно, даже до конца января. Таким образом, мне, быть может, удастся закончить к концу февраля. Ведь если я хочу напечатать один том в начале мая, необходимо первым долгом закончить поскорее «Иродиаду», дабы перевод мог появиться у вас в августе. Что слышно с переводом «Простой души»? А «Святой Антоний»? Когда я увижу его?
Племянница моя поправилась и просит, равно как и супруг ее, передать вам дружеский привет.
Молодой Ги де Мопассан поместил в «Литературной республике» статью обо мне, которая меня смущает. Это истая статья фанатически преданного сторонника, но в конце имеется недурная строчка о нас обоих.
Нынешней зимой будет дано представление знаменитой пьесы. И готовится еще другая — лучшая: одни только мужчины.
Что же вам еще сказать? Ничего, пожалуй, разве только, что я вас люблю, мой дорогой, славный, но это вам уже известно.
Целую вас. Ваш старик.
А как ваш нефрит? Является ли он следствием подагры? Или это новое удовольствие? Нет, надеюсь? Берегите себя.
Думаю приступить к работе через недельку. В данный момент у меня отвратительная тревога, боязнь, доходящая до желания заказать молебен за удачный исход предприятия!
ТУРГЕНЕВУ
Круассе, суббота 8 ноября 1876
Моя племянница прислала мне плачевное описание вашей дорогой и могучей личности. Вчерашнее же ваше письмо меня также не обрадовало, но все же успокоило. В конце концов (по крайней мере в данный момент), вы не страдаете! Ах, старый друг! как я жалею вас за ваши вечные мучения из-за этой собачьей подагры. В состоянии ли вы немного работать, читать, грезить о чем-либо из области литературы?
Я совершенно согласен с вашим мнением о «Набобе»! Нескладная вещь. Дело не только в том, чтобы видеть, необходимо обработать и соединить то, что видел. Реальное, по-моему, должно лишь служить трамплином. Наши же друзья убеждены, что оно само по себе является основой всего государства! Подобный материализм возмущает меня, и почти каждый понедельник у меня делается приступ раздражения при чтении фельетонов милейшего Золя. За реалистами следуют натуралисты и импрессионисты. Какой прогресс! Сборище балагуров, желающих уверить себя и нас в небылице, будто они открыли Средиземное море.
Я, дорогой мой, тружусь, корплю над работой и заработался, как истый негр.
Что из этого выйдет? Ах! Вот в чем загвоздка!
Временами я чувствую себя раздавленным под тяжестью этой работы, которая может оказаться неудачной. И если это случится, то во всяком случае не наполовину. Пока что дело идет неплохо. Но продолжение? Мне нужно еще массу прочитать! И видоизменить множество одинаковых мест.
Короче говоря, недели через две я сделаю приблизительно треть работы. Еще три года усиленного труда. В настоящее время я копаюсь с Б. и П. {Б. и П. — «Бувар и Пекюше».} в кельтской археологии. Недурна шутка.
А чувствую я себя очаровательно; но совершенно не сплю; совершенно. Поэтому к вечеру у меня появляются невероятные боли в области затылка.
Нынче утром я убедился, прочитав «Общественное благо», что, пожалуй, у нас будет образован кабинет. Баярд не отступает. Я опасаюсь переворота снизу; или же, что добрый народ в конце концов пожалеет о падении Империи и станет требовать ее восстановления. Тогда — De profundis. {Бездна (лат.).}
Здесь, в Круассе, непрерывные дожди; люди утопают. Но так как я не выхожу из дому, мне наплевать. Да к тому же, ведь у меня имеется ваш халат!!! Дважды в день я благословляю вас за этот подарок: утром, поднимаясь с постели, и вечером около 5—6 часов, когда облекаюсь в него, чтобы «посумерничать» на диване.
Пожалуй, нет надежды увидеть вас у моих пенат до нового года.
Я намереваюсь как раз в это время быть в Париже. Целую вас, дорогой старинушка.
Ваш.
ТУРГЕНЕВУ
Четверг, 14 декабря [1876]
Я уже не знал, чем объяснить ваше молчание, дружище! И я попросил мою племянницу (она сейчас в Париже) пойти к вам узнать, уж не помер ли мой Тургенев.
Вы кажетесь мне вялым и печальным. Отчего? Быть может, вопрос в деньгах? Так как же я-то? А я работаю не меньше, наоборот, даже больше, чем когда-либо. Если я буду продолжать в том же духе, то закончу «Иродиаду» к концу февраля. Ко дню нового года я надеюсь одолеть половину. Что из этого выйдет? Не знаю. Во всяком случае, это представляется в виде неистового горланства, ибо в общей сложности существует лишь одно: Горланство. Напыщенность. Гипербола. Будем неистовы!
Я, как и вы, прочел недавно несколько отрывков из «Западни». Они мне не понравились. Золя становится вычурным в обратном смысле. Он думает, что существуют сильно действующие слова, подобно тому, как Катос и Маделон думали, что существуют слова благородные. Система вводит его в заблуждение. Его принципы ограничивают его ум. Прочтите его понедельничные фельетоны, и вы увидите: воображает, что открыл тайну «натурализма»! Ну, а поэзия и стиль — эти два вечных элемента — о них он никогда не упоминает! Спросите также нашего друга Гонкура. Если он будет откровенен, то признается вам, что до Бальзака французской литературы не существовало. Вот куда ведет излишнее умничанье и опасение стать шаблонным.
Читали ли вы в декабрьском номере Бюлозовской газеты статью Ренана, которую я считаю несравненной по оригинальности и моральному уровню? В том же номере — болтовня гражданина Монтегю. Отрицая совершенно мои произведения (не говоря о «Саламбо»), он сравнивает меня с Мольером и Сервантесом. Я не отличаюсь скромностью; тем не менее даже один «в тиши своего кабинета» я покраснел от стыда. Я не встречал еще глупости, доходящей до подобного отвращения.
Вообще же, я не читаю никаких газет. Только в прошлое воскресенье я случайно узнал о смене министерства, что мне, впрочем, совершенно безразлично.
В отношении войны я желал бы: 1) полного уничтожения Турции и 2) чтобы встречный удар не коснулся нас, нас — французов. Отказ Пруссии принять участие в Выставке кажется мне жалким. Мелко! Мелко!
P. S. Теперь, дорогой мой, ответьте мне определенно: могут ли мои три повести появиться на русском языке в апреле будущего года? («Иродиада» может быть окончена в феврале.) В случае благоприятного ответа я мог бы напечатать их отдельным томом в начале мая. Безденежье заставляет меня сильно желать этого. В противном случае придется отсрочить до зимы, что было бы очень досадно.
Чтобы скорее успеть, я, очень возможно, останусь здесь до конца января. Но какой праздник для меня, когда я буду с вами! Я прямо не дождусь этой минуты.
Ну-ка! Стряхните с себя вашу лень! Напишите мне! Я человек добродетельный и заслуживаю внимания.
Ваш Г. Флобер нежно вас целует.
Что за история с этим Жермини, арестованным за мужеложство! Вот утешительный анекдотик, из таких, которые помогают сносить тяжесть существования.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Париж] Понедельник утром, 2 апреля 1877
Когда я о вас вспоминаю, а это бывает очень часто, то испытываю угрызения совести. Может показаться, что я невнимателен к вам, было бы гораздо удобнее для нашей переписки, если бы вы жили здесь! Во-первых, я никогда еще не чувствовал себя настолько занятым и обалделым, как сейчас: это оттого, что мне нужно ужасно много прочитать до конца мая, когда я хочу возвратиться в Круассе и снова засесть за «Бувара и Пекюше». Во-вторых, я правлю гранки своей книги, которая появится 20-го или 25-го этого месяца. Газеты «Монитёр» и «Общественное благо» также занимают меня. В-третьих, молодые люди, печатающие свои произведения для того, чтобы я их читал, как будто составили против меня заговор. На той неделе я прочел не более и не менее как шесть томов помимо своей личной работы; и в-четвертых, «обязательства перед обществом», сударыня! Но уж на них-то мне наплевать! И тут я пускаю в ход свое писательское воображение. Чего только я не придумываю, чтобы не делать визитов и отказываться от званых обедов. Много раз я пользовался трауром, который якобы ношу по случаю смерти своего зятя. Но теперь надо придумать что-нибудь другое. Все равно! Светские люди безжалостны к тем, кто работает.
Руанский муниципальный совет, перед которым вновь встал вопрос о фонтане в память Буйле, опять начинает раздражать мне нервы. Что за идиоты, что за завистники! Надеюсь, однако, довести дело до конца, да и они еще не покончили со мной, ибо ваш друг своего не упустит.
Читали вы «Девицу Элизу»? {Э. де Гонкура.} Эта вещь худосочна, и «Западня» рядом с ней настоящий шедевр; ибо, в конечном счете, в этих длинных, грязных страницах чувствуется подлинная сила и несомненный темперамент. После этих двух книг я, пожалуй, окажусь автором, который пишет для молодых девиц, обучающихся в пансионах. Меня упрекнут в том, что я слишком приличен, и отошлют к предшествовавшим моим трудам.
Третьего дня я прочел одну из таких вещей и нахожу ее очень сильной: «Новь» Тургенева. Вот это человек! Книга выйдет из печати через месяц.
Завтра я приглашен на гражданское бракосочетание г-жи Гюго с Локруа; разумеется, пойду. Папаша Гюго все более и более меня очаровывает, и я вопреки всему обожаю этого замечательного старика. Он бесконечно надоедает мне с Французской академией. Но я не так глуп! Нет, нет!
Что вам еще сказать? Я поглощен комбинациями второй главы — о науках, делаю выписки из книг по физиологии и терапевтике, рассматривая их с точки зрения комического. Затем надо сделать их понятными и облечь в пластическую форму. Мне кажется, что никто еще не пытался вскрыть комическую сторону тех или иных идей. Возможно, что я и пойду ко дну, — зато если вынырну, то земной шар окажется недостойным моего пребывания на нем. Короче говоря, чтобы как-то перенести нашу собачью жизнь, необходимо иметь своего конька! Я так мало спал в эту зиму и так много пил кофе, что меня стало беспокоить сердцебиение и появилась дрожь. Благодаря тому, что я совершенно отказался от кофе и стал принимать бромистый калий, все постепенно прошло, и я снова чувствую себя бодрым.
А вы, мой бедный, милый друг, как вы переносите долгие дни болезни? Как вы терпеливы, как я преклоняюсь перед вами!
Как бы мне хотелось немного облегчить ваши страдания! Г-жа Гюйон иногда говорит мне о вас. Я пока не видел***; она мало меня занимает, я нахожу, что она мещанка, к тому же у меня нет времени ходить к ней в гости. Я еще не был у г-жи Виардо и ни разу не ходил в театр. Лишь бы меня не беспокоили в моей конуре — вот все, о чем я прошу господа бога. Будущая книга немного наполнит мою мошну, так как мне очень дорого платят. Если бы я мог каждый год представлять по такой книжке, то был бы вполне обеспечен. Более чем когда-либо мне хочется написать «Битву при Фермопилах»! Еще одна мечта, идущая вразрез с другими!
Ну, прощайте, думайте обо мне.
Маленький анекдот в заключение: третьего дня, провожая меня домой после похорон г-жи Андре, Александр Дюма в разговоре по поводу г-жи Санд проронил следующее милое замечание: «Вот уж неверный друг!» — Почему?— «Ну да! Как она с нами поступила! Какая скаредность!» — Как? — «Она нам ничего не отказала в своем завещании!!!» Очевидно, Дюма обманулся, потому что он унаследовал от Дидье, от г-жи Вилло, от доктора Демарке. У меня вот никогда не было подобных друзей! О природа!
МОРИСУ САНД
[Сен-Грасьен] Среда, 29 августа [1877]
Спасибо за добрую память обо мне, мой дорогой Морис. Будущую зиму вы, надеюсь, будете в Пасси, и мы сможем от времени до времени как следует поболтать. Я рассчитываю даже, что дам возможность лицезреть за вашим столом мою особу тому из ваших друзей, чьим «кумиром» являюсь!
Вы пишете о вашей дорогой и знаменитой матушке! Не знаю, думает ли о ней кто-нибудь столько, сколько я, не считая, разумеется, вас? Как я ее оплакиваю! Как она мне нужна!
Я начал писать «Простую душу» исключительно ради нее, с единственной целью ей понравиться. Она умерла, когда я дошел лишь до середины моего произведения.
Такова судьба всех наших мечтаний.
По-прежнему я живу без развлечений. Чтобы забыться от бремени своего существования, работаю как можно упорнее.
Лучшей поддержкой для меня служит возмущение, которое вызывает во мне глупость буржуа! Сведенная нынче в конечном итоге к великой партии порядка, она доходит до головокружительных пределов! Бывало ли в истории нечто более нелепое, чем 16 мая? Найдется ли где-нибудь идиот, подобный современному Баярду? {Президент республики Мак-Магон.}
Три дня как я в Париже — вернее, в Сен-Грасьене; послезавтра покидаю принцессу, а недели через две съезжу в Нижнюю Нормандию по литературному делу. Когда мы увидимся, подробно расскажу вам, если это вас интересует, о страшной книжице, которую собираюсь произвести на свет. Мне предстоит не менее трех-четырех лет работы над нею!
Не оставляйте меня так долго без известий о себе. Окиньте за меня долгим взглядом маленький уголок священной земли.
Привет вашей любезной супруге, поцелуйте дорогих крошек! Весь ваш, мой милый Морис.
Ваш старик.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
[Париж] Четверг [6 сентября 1877]
Милый котик!
Меня очень радует тон твоего последнего письма (от вторника), которое я прочел по возвращении из Сен-Грасьена. Я, быть может, вернусь туда, но не останусь больше там ночевать. Я ли становлюсь необщительным, или другие поглупели? Не знаю. Но «светское» общество в настоящее время стало для меня невыносимым! Отсутствие справедливости выводит меня из себя! К тому же отсутствие вкуса. Недостаток литературы и научного духа!
Я намерен уехать отсюда в конце недели (будущей), после воскресенья.
Возвратившись в Круассе, я опять уеду в места, которые посетил ранее для «Бувара и Пекюше». Я хотел бы снова быть у себя дома, расположиться за письменным столом и начать писать. Вот в чем правда. Шарпантье, с которым я еще не виделся, предполагает (со слов одного из его служащих) выпустить новый тираж «Трех повестей» и «Святого Антония»! А это мне чрезвычайно льстит.
Коль скоро ты занимаешься легким чтением, даже Февалем, я рекомендую тебе прочесть «Любовные приключения Филиппа» Октава Фейе. Прочти, чтобы я мог вместе с тобой рычать! Вот изысканная книга! В ней имеется все, что угодно; она «очаровательна».
Мне досадно, что умер папаша Тьер. Боюсь, как бы многие буржуа из страха перед Гамбеттой не стали голосовать за этого болвана Марешеля. Префект Нижней Сены, наш божественный Лимбург, запретил в Гавре лекцию на тему «Геологические очертания земли». И после этого хотят, чтобы я не возмущался!..
Я видел молодого Ги; он возвратился из Швейцарии. Воды Луеша благотворно подействовали на его «волосяную систему».
Г-жа Ренье просила меня в письме написать предисловие к ее роману, который будет издавать Шарпантье. Я отклонил эту честь. Если она рассердится — тем хуже. Такого рода рекомендации публике попахивают Дюма! Спасибо. Ей бы следовало настолько меня знать, чтобы не обращаться ко мне с подобной просьбой... Она поручила мне напомнить тебе твое обещание и передать наилучшие пожелания г-ну и г-же Комманвиль.
Мне снова начинают надоедать с Французской Академией! На сей раз это исходит от Ожье! Но я не так глуп, у меня «принципы».
Прощай, бедная, милая детка. Продолжай гулять и будь здорова.
Твоя старая
Нянюшка.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе [18 сентября 1877]
Хочу сказать вам «добрый день» (то есть поцеловать ваши руки, щеки и лоб) перед тем, как ехать в места, где вы родились; ибо завтра отправляюсь в путь для «Бувара и Пекюше» на Сеез, это — первый этап, причем я проеду Аржентан, где до некоторой степени и моя родина, так как прадед г. Флерио (товарищ Ларошжаклена) оттуда родом. И подумать только, что я не воспользовался таким родством, чтобы «создать» себе положение в благородном квартале! Я больше горжусь своей прародительницей, дикаркой из племени натчезов или ирокезов (сам не знаю).
Ну-с, я также видел похороны дядюшки Тьера, они были великолепны, уверяю вас! На меня произвела большое впечатление эта подлинно национальная демонстрация. Я не любил этого короля Прюдомов; что из того! По сравнению с окружающими он был гигантом; притом он обладал редкой добродетелью — патриотизмом. Более чем кто-либо он был истинным представителем Франции. Этим объясняется огромное впечатление от его смерти.
Нравится вам путешествие на юг нашего Баярда? Не смешно ли? Ну и провал! Этот воин, прославившийся благодаря невероятной трепке, какую ему задали, точно так же как другие становятся знаменитыми благодаря своим победам, просто комичен!
Я видел в столице, что умеренные взбешены; и действительно — охрана нравственности достигла апогея глупости. Пример — процесс Гамбетты. В Гавре запретили лекцию по геологии! В Дьеппе — лекцию о Рабле! Это преступление! Вот почему я и желаю нашему префекту Лимбургу двадцать пять лет ссылки в Каледонию, на предмет изучения формации земли и французской литературы.
Ни одно политическое событие не волновало меня так, как выборы. Это один из важнейших вопросов и не такой уж ясный, как полагают.
Умоляю вас прочитать «Любовные приключения Филиппа» Октава Фейе, чтобы мы могли вместе повыть. Как мягка критика с такими вот, и как хорошо в этом мире быть посредственностью!
Нет, я не знаю «шуточки» Жюля Гонкура. Где это?
У вас грустный тон в последнем письме, дорогая корреспондентка. Разве вам хуже? Неужели вы действительно больше не приедете зимою в Париж?
Постарайтесь, чтобы через две недели я получил хорошее, то есть очень длинное письмо.
P. S. Вы окажете мне огромную услугу, если сообщите какие-нибудь сведения относительно герцога Ангулемского. Мои старички пишут его историю! Хорошенький сюжет!
ЭДМОНУ ДЕ ГОНКУР
Круассе, вторник [9 октября 1877]
Вот я и снова в своей хижине; вернулся в среду и думаю приняться за работу, несмотря на то, что отупел от политики.
Как ни скептически отношусь я к ней, все же нахожу, что это уж чересчур! Нравственный порядок (в провинции по крайней мере) доходит до фантастической нелепости. Наш префект запрещает публичные лекции о Рабле и о геологии! Почему? «Наше население» (стиль «Руанской газеты») втайне возмущено. Но лучше всего — это дядюшка Бодри (из Института), он дошел до пароксизма мак-магонской ярости (буквально) — таким я его застал. Вот до чего довели людей умеренных. Человеческая глупость настолько подавляет меня в данное время, что я кажусь самому себе мухой, на спине у которой Гималаи. Нужды нет! Постараюсь излить желчь в своей книге. Эта надежда успокаивает меня.
На всех вокзалах, где мне приходилось останавливаться, я видел на первом месте ваши произведения, так же как и произведения Золя.
Меня очень интересует ваш труд о политике Людовика XV. Это один из наименее известных участков истории Франции. Но мне непонятно, каким образом черпаете вы это из монографий о дамах этой эпохи?
А история с клоуном, или, вернее, роман о клоунах? Думаете ли вы о нем?
Судя по тону вашего письма, вы, кажется, в хорошем настроении? Тургенев как будто недоволен. Не знаю, отчего. Между тем он себя хорошо чувствует в данный момент.
Я рассчитываю быть в Париже к новому году. Тогда мы вернемся к нашим воскресеньям и философским обедам; потребность в них дает себя знать.
Пока что целую вас. Пишите время от времени о себе.
Желаю успешной работы и хорошего настроения, поскольку это возможно.
Всецело ваш.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе] Суббота вечером, 10 ноября 1877
Я подумал было, что вы меня немного забыли, когда получил ваше милое письмо, доказывающее обратное. Толщина пакета обрадовала меня, но не все, оказывается, от вас, ибо две трети занимает послание Гонкура. Так вот! Я предпочитаю ваши письма! Не об этом написали бы вы из Рима! Что за смешная мания — острить там, где это совершенно неуместно! И желать отличиться, пустить пыль в глаза, вместо того чтобы глупо, по-мещански восхищаться! Вот до чего доводит страсть к оригинальничанью, злоупотребление литературой.
Сегодня — вернее, утром, с большим облегчением вздохнул. Уф! Наконец-то окончил противную главу о науках. Анатомия, физиология, практическая медицина (в том числе метод Распайля), гигиена и геология — все вместе взятое занимает тридцать страниц, куда входят диалоги, маленькие сценки и второстепенные персонажи! С трудным делом покончено. Но я не сделал еще и трети. Работы по меньшей мере на три года хватит. Ни одна вещь не тревожила меня до такой степени. Какая получится книжица, если только я не испорчу все дело. Пусть ее не поймут, меня это мало трогает; только бы она понравилась мне самому, вам и еще небольшому количеству людей. Мне было бы очень приятно прочесть вам кое-какие места, вот почему я считаю, что вы несправедливы, мой старый друг, когда говорите: «Мы едва ли увидимся за два месяца больше чем на час». Два года тому назад, когда вы были в Париже, я ни разу не упустил случая подняться по лесенке вашего дома. Я, конечно, понимаю, что в Париже вам грустно и до смерти скучно. Случается, и на меня он производит такое же действие. Я нахожу все больше и больше удовольствия сидеть в своем гнездышке, и всякая перемена и беспокойство мне ненавистны.
Итак, «наш Спаситель» и министры остаются на местах! Это упорство изумительно; но от дураков можно всего ожидать, и я так же мало уверен в будущем, как наши добрые республиканцы. Тем не менее мне жаль, с точки зрения комизма, что папаша Гюго не подвергся преследованию за последнюю свою книжицу. {«Папа».} Я лично нахожу ее превосходной. Какое изложение! И что за весельчак старик!
Произведение Пуйе-Кертье (так называемого Геркулеса из Мартенвиля) меня очень позабавило. Будем надеяться, что вышеупомянутый руанец — наш последний спаситель, и после него не будет Мессий, короче говоря, у нас не остается больше никаких надежд. Тогда наступит эра науки! Но мы еще далеки от нее, ибо не отошли от воплощения представлений, символов и самой бессодержательной метафизики!
Знаете, ведь я с нетерпением жду сквернословия Пинара. Устройте, ради бога, чтобы я получил эту манну небесную.
Читали ли вы «Этапы одного обращения» добрейшего Феваля, который как будто уже впадает в детство? Доставьте себе это удовольствие. И он еще выставляет свою кандидатуру в Академию. Грезит, что отворятся перед ним двери Института, жаждет добиться чести восседать между Камиллом Дусе и Камиллом Руссе. Ах, как все это комично!
Я знаком лишь с пятью или шестью фельетонами «Набоба», а потому ничего не могу вам сказать о нем. Боюсь, что вещь написана слишком поспешно, но сюжет весьма богатый. Ваша история о Рошаид-Дагда меня заинтересовала. Будь я помоложе и побогаче, я снова поехал бы на Восток для изучения современного Востока, Востока Суэцкого перешейка. Большой труд на эту тему — моя давнишняя мечта. Я хотел бы изобразить культурного человека, обращающегося в варвара, и варвара, ставшего культурным, дать картину контраста между двумя мирами, которые в конечном итоге смешиваются. Но уже слишком поздно, то же самое и с моей «Битвой при Фермопилах». Когда я ее напишу? А «Господин префект» и многое другое!
Надежда всегда ободряет, говорит Мартен. Стремление дает жизненную энергию.
Ваше описание осени очаровало меня; я, как и вы, люблю желтеющие листья, веянье ветерка, теплое и печальное, как воспоминание о минувшей любви, все томление поздней осени, так похожее на наши. Мне хотелось бы погулять по лесу, но всякая прогулка выбивает меня из колеи, и, обойдя два-три раза террасу, я снова со стоном склоняюсь над своим письменным столом. В пять часов я зажигаю лампу — и так все время.
Пишите мне длинные письма, вроде последнего; они доставляют удовольствие и подкрепляют.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Круассе, воскресенье 3 часа, 9 декабря 1877
Туман застилает стекла окон белой пеленой будто известковым отваром. Ни малейшего шума, ни вздоха. Джулио спит на ковре, а я только что закончил заметки по кельтской археологии. Уф! В пять часов приму ванну, надо успокоить барина и дать ему возможность уснуть. В будущую среду, в день моего рождения, к обеду приедет Валерий. {Лапорт.} Он явится с двухчасовым пароходом, и мы вместе поработаем весь день и весь вечер. Он оказывает мне большую помощь в распределении заметок, которые будут фигурировать во втором томе «Бувара и Пекюше». Ну и донимают же меня эти два дурня! Какая работа! Временами я чувствую себя как бы раздавленным под тяжестью этой книги! Вряд ли мне удастся за три недели сделать то, что я наметил себе. Ничего! Я все же буду в Париже к новому году, чтобы обнять мою бедную девочку.
Твое письмо, полученное мною нынче утром, очень обрадовало меня. Ты, кажется, в лучшем настроении. Подумай! На одной неделе «Опера», «Комическая опера» и Консерватория! Вот это жизнь!..
В один из ближайших дней — когда, точно не знаю, — я поеду в Руан отвезти в библиотеку книги и кстати посещу больницу. Зайду также к ангелу, г-же Лапьерр, о которой я ничего не слышал со дня нашего отъезда. Впрочем, ангелы меня мало интересуют.
Есть ли у тебя какие-нибудь сведения о моем ученике? Чудный паренек!
Каждое утро я разворачиваю «Общественное благо» в надежде на отставку Баярда! Он крепко держится! Я в конце концов начинаю находить его величественным. Но подобное величие неприятно.
Прощай, милая Каро, целую тебя крепко.
Твоя старая Нянюшка.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Париж, суббота вечером [12 или 19 января 1878]
Давненько я не писал вам, мой дорогой старый друг! Почему вы не приезжаете в Париж? Ваша невестка говорила сегодня моей племяннице, что вы, быть может, приедете сюда. Будем надеяться, а?
Я работаю в пропорциях, которые дерзаю назвать «гигантскими»; в течение трех месяцев, с 3 октября по 27 декабря, я взял себе отпуск на полдня, а с тех пор, как нахожусь здесь, все время читаю и делаю заметки. Моя ужасная книжица — это какая-то пропасть, которая расширяется подо мною на каждом шагу. Я сейчас подошел к кельтицизму, к исторической критике и к «Истории герцога Ангулемского»! Две главы, которые мне необходимо немедленно написать, — самые трудные. Когда же я с ними справлюсь?
Читая массу трудов о Реставрации, я нашел, что 16 мая является как бы кратким повторением той эпохи: то же заблуждение, та же глупость. Мы вышли из этого неожиданным образом, а теперь пребываем в надежде. Господа бонапартисты становятся республиканцами (sic!). От всего этого можно лопнуть со смеху.
Но мы были на волосок от резни — ни более ни менее. Я иногда хожу завтракать к моему другу Барду и узнаю от него хорошие вещи. Он обещал мне дать заметки, касающиеся недоброжелательной критики магистратуры. Хорошая тема. История Пинара, непристойного автора, истинная правда, и я всегда вздыхаю по его стихам.
Позавчера отец Дидон справлялся у меня о вас. Он любезный и даже очень любезный человек. Но он священник. А и настолько отдалился от сектантов, что книга моего друга Робена о «Воспитании» мне очень не понравилась. Французские позитивисты хвастаются: они не позитивисты! Они склоняются к глупому материализму, к Гольбаху! Какая разница между ними и каким-нибудь Гербертом Спенсером! Вот это человек. Насколько люди прежде были слишком большими математиками, настолько же сейчас они станут слишком большими физиологами. Эти молодцы отрицают целую сторону человеческой природы, сторону наиболее плодотворную и самую значительную. Все равно! Теория эволюции оказала нам великую услугу! Применительно к истории она уничтожила социальные мечты. Поэтому заметьте, что больше нет социалистов, кроме ископаемого Луи Блана.
На литературном горизонте — ничего. Ах! Да, конечно! Рекомендую вам перевод с испанского Хозе-Мария де Эредиа: «Подлинная история открытия Новой Испании». Эта книга — прямо роскошь.
Я не хожу, и, вероятно, всю зиму ни разу не пойду в театр, настолько мне нужны мои вечера. Чтобы избежать званых обедов, я ежедневно придумываю наглые небылицы.
Однако в будущую пятницу я буду обедать у Шарпантье с Гамбеттой.
Папаша Гюго по-прежнему обаятелен и слишком гостеприимен.
Мне нарассказали про нашего Баярда хороших анекдотов, но бедный старик становится трогательным. Что-то в нем напоминает Карла X и Макбета.
Я скорблю об Эммануиле. {Виктор-Эммануил II Савойский, король Италии (умер в 1878).} Будь у него немного больше образования, это был бы Генрих IV, — не находите ли вы? Ни об одном короле не сожалели так, как о нем. Он был хитрый, могущественный и справедливый.
ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЮ
Париж [февраль 1878]
Спасибо за посылку, дорогой друг. Это будет моим парижским экземпляром; in-octavo находится в Круассе. {«Варварские поэмы».}
Я перечитал в новом издании мои любимые стихи с подобающим им горланством, и это на меня хорошо подействовало.
Коппе сказал мне, что твоя «Фредегонда» подвигается вперед. Заранее пугаюсь при мысли о том, какой восторг овладеет мною в день премьеры. Когда она состоится? А мы никогда не видимся, как глупо!
Нам придется, однако, в ближайшее время провести вместе полдня. У нас будет о чем поговорить. Я теперь очень расстроен, но до скорого свиданья.
Твой старый друг, который тебя любит и восхищается тобою.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Париж, пятница вечером, 1 марта 1878
Что со мною? Да решительно ничего. Продолжаю свою повседневную работу. Вот уже два месяца, как я не написал ни единой строчки, но я читал, читал до потери зрения. Мне пришлось перечесть «Всеобщую историю французской революции», не говоря об остальном. Считайте в среднем два тома в день. Все это для отрывка, который я буду писать; он зависит от раздела одной из глав — ее можно было бы назвать: «Историческая критика»; раздел составит не больше десяти страниц. Через шесть недель надеюсь закончить четвертую главу, после чего у меня останется всего шесть!
Бывают дни, когда я чувствую себя совершенно разбитым, затем я снова ободряюсь.
Поветрие кулинарных развлечений охватило столицу. Все тянутся на званые обеды. Сколько я ни придумываю самых чудовищных уверток, чтобы избавиться от этого беспокойства, оно все же тяготеет надо мной, и это приводит меня в бешенство. Чтобы иметь больше свободного времени, пришлось (пока) бросить друзей. Я был лишь один раз у папаши Гюго, а из дам ни одной не нанес визита. Мое французское рыцарство побеждено литературой. Из-за неотесанности и эгоизма (экономия времени) я не присутствовал на похоронах бедной мамаши Гюйон. Вот уже скоро три года, как я не видел Сильваниры; при моем последнем посещении она была увлечена Кювилье-Флёри — тоже хорош гусь! Я только что прочел, как раз сегодня, его «Революционные портреты», — похоже на претенциозного Сарсэ. Сколько здравого смысла! И какое изящество!
Гамбетта (раз уж вы спрашиваете мое мнение об упомянутом выше господине) показался мне на первый взгляд забавным, потом благоразумным, затем приятным и, наконец, очаровательным (выражение не слишком сильное); мы беседовали с глазу на глаз в течение двадцати минут и знаем друг друга, как будто видались сто раз. Больше всего мне в нем нравится, что он не лишен оригинальности и кажется мне человечным. Моя племянница рисует и пишет красками до одури. Через два-три года у нее будет настоящий талант. Но я не хочу, чтобы она выставляла свои произведения, предпочитая, чтобы она начала с серьезной работы.
Недавно имел о вас сведения через отца Дидона. Мне уж было показалось немного слишком продолжительным отсутствие писем. Радуюсь при мысли увидеться с вами этим летом; только не надо приезжать в июне месяце, так как я уезжаю отсюда в конце мая. Кто вам мешает ускорить свой приезд хотя бы на две недели? Ну, сделайте это! Будьте же милой! Париж пугает вас, я это понимаю. Вид мест, где испытал страдания, растравляет раны. Я в течение нескольких лет отворачивался от Восточной улицы, так ужасно томился на этой улице. В сущности, я нисколько не сожалею о своей молодости (а вы?), но это отнюдь не значит, что мне не хотелось бы помолодеть.
Ну-с, а смерть папы? {Пий IX.} Вот событие, которое произвело мало впечатления! Церковь уж не занимает того места, какое занимала когда-то, а папа уж не святой отец. Церковь состоит теперь из небольшого количества светских лиц. Академия наук — вот вселенский собор, и уход из жизни такого человека, как Клод Бернар, поважнее, нежели исчезновение какого-нибудь старого вельможи, вроде Пия IX. Толпа прекрасно сознавала это на его похоронах (Клода Бернара). Я был там. Было благоговейно и очень красиво.
Что вы скажете о столетней годовщине Вольтера, ознаменованием которой руководил Менье, торговец шоколадом? Ирония не покидает бедного, великого человека; почести и оскорбления преследуют его так же настойчиво, как при жизни! А, впрочем, я говорю глупость! Почему, в сущности, торговец шоколадом менее достоин его понимать, чем всякий другой господин? А война? А бахвальство коварного Альбиона, не имеющее ни малейшего успеха? Фарс! Фарс! «Все наши призвания одно фарисейство», как говорил папаша Монтень. Ничего! Вероятно, под влиянием моей старой нормандской крови я возмущен Англией еще со времени войны на Востоке, возмущен до того, что готов сделаться пруссаком! Что ей, наконец, нужно? Кто ее трогает? Претензия защищать исламизм чудовищна по существу и выводит меня из себя. Я требую во имя человечества, чтобы растолкли черный камень и пыль от него пустили по ветру, чтобы разрушили Мекку и осквернили могилу Магомета. Вот средство расстроить ряды фанатиков.
Анахарсис Клоотс говорил: «Я сторонник партии негодования». Не находите ли вы, что я начинаю на него походить? Впрочем, он был чудаком, и я питаю к нему слабость. Когда его гильотинировали, он захотел умереть после своих товарищей, «чтобы иметь время констатировать некоторые принципы». Какие принципы? Не имею никакого понятия, но я преклоняюсь перед этой фантазией.
Примите много нежных слов от старого друга.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Париж, понедельник [27 мая 1878]
Вещи уложены, и послезавтра я надеюсь вновь водвориться в Круассе, засесть за свой письменный стол и писать пятую главу.
Париж начинает вызывать во мне сильнейшее отвращение. Когда я живу там в течение нескольких месяцев, мне кажется, что все мое существо уходит через тысячу отверстий и распыляется по улице. Моя личность улетучивается, как бы надтреснутая от соприкосновения с другими людьми, я чувствую, что глупею; к тому же одна мысль о Выставке утомляет меня. Я был там два раза. Общий вид с вершины Трокадеро поистине великолепный. Он вызывает мечты о будущих Вавилонах. Из деталей забавнее всего мне показался японский скотный двор. Нужно тратить ежедневно по четыре часа в течение трех месяцев, чтобы познакомиться со всеми этими огромными скопищами продуктов цивилизации. У меня не хватает времени, будем заниматься своим делом.
Я приглашен на празднование в память столетия Вольтера, но не пойду из экономии времени. Это празднование просто комично. Представляете себе единение светских дам и торговок? Враги Вольтера обречены на то, чтобы всегда быть смешными; еще одна милость, дарованная богом великому человеку. О нем действительно можно сказать, что он бессмертен. Как только он нужен, его используют целиком. Короче говоря, гг. клерикалы и гг. монархисты окончательно потеряли голову.
Как вам нравится Сарду, который считает, что у Тьера гениальность грека и аттический ум? Это правдоподобно в мире, где Сарду считается Аристофаном.
Кстати о театре; я за всю зиму был только один раз на премьере в «Пале-Руаяле» и смотрел «Бутон Розы». {Э. Золя.} Жалкая вещь, чего автор и не подозревает. Мой друг Золя хочет основать школу. Его опьянил успех; оказывается, неудачи легче переносить, чем удачу. Апломб Золя в отношении критики объясняется его непостижимым невежеством. Мне кажется, что никто не любит больше Искусство, Искусство как таковое. Где они, те, кто находит удовольствие в смаковании красивой фразы? Это аристократическое наслаждение отошло в область археологии.
Читали вы «Калибана» Ренана? Там имеются прелестные места, но нет достаточно основы.
Что вы поделываете, дорогой друг? Что читаете? О чем думаете? Когда увидимся? Во имя собственного достоинства не запускайте свое здоровье! Посчастливится ли мне больше будущей зимой? Приедете ли вы в Париж?
Провел на прошлой неделе пять дней в Шенонсо, у г-жи Пелуз. В 1577 году там устраивали попойки, украшавшиеся присутствием голых женщин; мне хочется их описать. Наконец-то придумал сюжет для романа «Царствование Наполеона III»! Кажется, я его чувствую. Пока он будет озаглавлен «Парижская семья». Но мне надо сперва отделаться от моих старичков. Надеюсь к встрече нового года окончить половину этой объемистой книжицы.
Ну, прощайте, постарайтесь примириться с этим мерзким существованием и пишите мне длинные-предлинные послания. Они доставят мне большое удовольствие.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе, вторник вечером [9 июля 1878]
Хотя май месяц будущего года еще очень далек от настоящего, я мечтаю о нем, так как тогда надеюсь увидать вас. В конце текущего месяца я думаю одолеть первую половину своей противной книжицы. Иные дни я чувствую себя раздавленным тяжестью этой громады и все же продолжаю — одно утомление вытесняет другое. Самая концепция книги вызывает у меня сомнение. Сейчас уж не время об этом размышлять; тем хуже! Все равно! Я часто задаю себе вопрос, зачем тратить столько лет на эту книгу и не лучше ли написать что-нибудь другое. Но тут же отвечаю себе, что у меня не было свободы выбора: и это совершенно верно. Наконец мое остервенение к этой работе доходит до того состояния, которое доктор Трела называет «помешательством с проблесками рассудка».
Вы мне писали, что г-жа X ***, по-вашему, очень плоха. Таково и мое мнение, так что я даже больше не навещаю ее. Зачем? В мои годы не следует делать ничего лишнего, равно как и читать «новинки». Вот почему я бросил на двадцатой странице роман моего друга Клодена. {«Причуды Диомеда»} Откуда берется физическая сила писать подобные вещи? Какой стиль. Ой! ой! ой! Мои глаза также начинают уставать, а я меньше чем когда-либо берегу их.
Мариюса Топена я совершенно не знаю, так же как и роман Ришпена. Что касается книги о почерках аббата Мишона, которого я знавал в бытность мою когда-то в Константинополе, то мне она кажется написанной человеком несерьезным. Он находит, что моя подпись, «точно вырубленная саблей», похожа на подпись Колло д'Эрбуа и Фукье-Тенвиля, вы заметили? Можно ли говорить подобные глупости? И это называют наукой! Нет, благодарю вас!
Банвиль прислал мне сегодня утром новое издание своих «Акробатических од». Его заметки снова позабавили меня. Они отражают немного нашу минувшую молодость, нас, стариков-романтиков. Кстати, о романтиках. Знаете ли, я в полном восторге от речи папаши Гюго в столетнюю годовщину Вольтера. Это прямо образец величайшего в мире красноречия. Какой человек!
Говорил ли я вам, что он донимает меня Французской Академией (он и некоторые другие друзья, среди них Саси)? Но ваш друг не столь глуп и не очень-то скромен. Разделять честь с Камиллом Дусе, Камиллом Руссе, Мезьером, Шампаньи и Каро, ах! Нет, благодарю покорно. Rohan ie suys. Такова уж сущность моего характера.
Тэн — легковерный человек и становится несколько смешным. Его несправедливо отвергли, но сам он не должен был являться под «эгидой реакции». Что касается его книги, то тут что-то не так. Если бы Учредительное собрание состояло из одного сброда и грубой черни, его постигла бы участь Коммуны 70-го года. Он не лжет, но и не говорит всей правды, что равносильно лжи. Неистовая боязнь лишиться доходов после «наших бедствий» немного притупила у него чувство критики. Мало быть умным. Лишенные характерности произведения искусства всегда будут посредственными, что бы вы ни делали.
Честность — первое условие эстетики. Ну, а Анри Мартен — сущий идиот. Я прочитал нынче зимой его исторические сцены о Фронде, в жанре Вите, такого же низкого качества. Являться отражением солнца — очень хорошо, но быть отражением такой плошки, как Вите, значит расцениваться дешевле свечей за 36 су.
Ах! Бедная литература, где твой викарий? Кто нынче любит Искусство? Никто. (Это мое глубокое убеждение.) Даже наиболее способные думают лишь о себе, о своем успехе, о своих изданиях, о рекламе! Если бы вы знали, как часто я испытываю отвращение к своим собратьям! Я имею в виду наилучших.
Ну, прощайте. Пишите мне длинные письма, если можете. Вы доставите большое удовольствие вашему другу.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе, 15 августа 1878
Поручение Лажье исполнено. Я послал свое письмо в Париж, не зная загородного адреса Золя. А Лажье передайте, что она дура. Она могла бы, кажется, побеспокоить себя и написать мне. Все же научите ее, что ей надо говорить.
В вашем последнем послании вы ничего не говорите о вашей бедной маме. Мне хотелось бы знать, что с ней. Проведет ли она все лето в Париже? А вы сами поедете в сентябре в Этрета? Возможно, что с 10-го по 25-е я буду украшать столицу своим присутствием, и мы сумеем немного побыть вместе. Но не говорите никому ни слова об этом плане.
«Бувар и Пекюше» продолжают идти своим скромным путем. Сейчас я подготовляю политическую главу. Я уже собрал почти все заметки: в течение месяца я только этим и занимаюсь и надеюсь недельки через две приняться писать. Ну и книжища!
По-моему, надеяться, что найдется читатель на мое произведение, просто безумие! Однако,
Что ты ни говори, а все же много чести
В своей округе быть всегда на первом месте.
Как вы находите эту строфу, дорогой мой? Кто автор? Декорд! Он читал их на прошлой неделе в Руанской Академии. Прошу вас хорошенько вдуматься в них, затем продекламировать с подобающим пафосом, и вы получите удовольствие на добрых четверть часа!
Теперь поговорим о вас.
Вы жалуетесь на «однообразие» женского пола. Против этого есть очень простое средство: не пользоваться им. «Нет разнообразия в событиях». Это реалистическое сетование, а впрочем, почем вы знаете? Их следует рассмотреть поближе. Верили ли вы когда-либо в существование вещей? Разве все не есть иллюзия? Верно только одно: «относительность», то есть способ, каким мы воспринимаем предметы. «Пороки пошлы», а ведь все пошло! «Нет достаточного количества выражений!» Ищите и обрящете!
Короче говоря, дорогой друг, вы как будто плохо настроены, и ваша тоска меня удручает, так как вы могли бы приятнее использовать время. Нужно, слышите ли, молодой человек, нужно больше работать. Я начинаю думать, что вы несколько трусливы. Слишком много бл... Слишком много развлечений! Слишком много гимнастики! Да, сударь! Культурный человек вовсе не должен так много двигаться, как полагают господа врачи. Вы рождены писать стихи и пишите их! «Все прочее — суета сует», начиная с ваших развлечений и кончая здоровьем: вбейте это себе в голову. Впрочем, ваше призвание великолепно будет сочетаться с вашим здоровьем. Это замечание глубоко философское, или, вернее, очень гигиеничное.
Вы живете в адской атмосфере, я это знаю и от всей души сочувствую вам. Но все время с 5 часов вечера до 10 часов утра может быть посвящено музе, пожалуй, лучшей из развратных женщин. Полноте, дорогой юноша. Ободритесь! Зачем поддаваться печали? Надо представлять себя сильным человеком — это верный способ стать таковым. Побольше гордости, черт возьми! «Мальчик» был храбрее. «Вам недостает только принципов»... Что бы ни говорили, они нужны: надо только знать, какие. Для художника существует лишь один — всем пожертвовать ради Искусства. Жизнь должна рассматриваться исключительно как средство, и первое лицо, кем не должен интересоваться художник, — это он сам.
Что с «Сельской Венерой»? А как роман, от плана которого я пришел в восторг?
Если хотите развлечься, прочтите «Диомеда», сочинение моего друга Гюстава Клодена, и не читайте того, что я только что прочел сегодня: «Политика, извлеченная из св. Писания» Боссюэ. Орел из Мо — положительно гусыня, на. мой взгляд.
Итак, повторяю, дорогой Ги: не поддавайтесь тоске. Это порок. Сначала затрачиваешь драгоценные силы на печальные переживания. Привыкаешь к этой печали, а когда острое горе минует, остается какая-то тупость. Тогда приходят сожаления, но уже поздно. Верьте опыту шейха, которому не чужда ни одна причуда.
Нежно целую вас. Ваш старик.
От наших друзей нет никаких известий.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Париж, вторник утром [10 сентября 1878]
Милочка моя!
Кончено! Квартира очищена, и на дверях висит табличка с надписью «сдается». Я объяснился с Полем {Швейцар.} и обещал ему подарок, если он добьется от будущего жильца 3000 франков. Эта перспектива как будто преисполнила его усердием... Де Фиен сожалеет о вашем отъезде. Он был чрезвычайно любезен. Мне очень трудно было добиться свидания с ним, потому что он «завален делами, у него колики, ему надо идти к обедне».
Можешь меня поблагодарить. Дело сделано хорошо. Шарпантье разочаровал меня в том отношении, что сейчас не собирается переиздавать мои сочинения. Но роскошное издание «Святого Юлиана» решено выпустить нынешней зимой.
Еще одна история. Прежде чем нести Феерию в «Философское обозрение», я в последний раз попытаюсь дать ее в театр. Директор «Гетэ» Вейншенк обещал мне прочитать ее, как только я извлеку рукопись из рук нашего «симпатичного министра», {Барду, министра народного просвещения.} порхающей и неуловимой личности.
Сегодня, в 3 часа, у меня свидание с Лемерром по поводу стихов Буйле и «Саламбо». Как видишь, я весь ушел «в дела», — провались они к черту! Ибо от них только тупеешь и унижаешься.
Но через несколько дней я вернусь в свое старое убежище, энергично примусь за «Бувара и Пекюше» и буду побуждать свою дорогую девочку заниматься живописью, ибо нет ничего выше Искусства!
Я отложил, чтобы показать тебе гнусную (но справедливую) статью, появившуюся вчера в «Происшествиях» и направленную против Максима Дю Кана. Она меня навела на философские размышления, и мне захотелось отслужить благодарственный молебен за то, что небо внушило мне любовь к чистому Искусству. Копание в так называемых серьезных вещах приводит в конечном счете к преступлению. Ибо из-за «Истории Коммуны» Дю Кана человека приговорили недавно к каторжным работам; ужасная история. {Быв. чиновник Морского министерства Матиллон принял участие в Коммуне, но избег ареста. Между тем Дю Кан назвал его в своей «Истории Коммуны» одним из организаторов пожаров на улице Руаяль и разгрома министерства. Матиллон потребовал суда над собою и был осужден. Отчет о судебном заседании, помещенный в «Происшествиях», заканчивался словами: «Теперь М. Дю Кан удовлетворен?»} Предпочитаю, чтобы она осталась на его совести, а не на моей. Я весь вчерашний день чувствовал себя больным из-за нее. Мой старый друг приобрел сейчас печальную репутацию, на нем лежит настоящее пятно! Если бы вместо шумихи он любил стиль, с ним бы этого не случилось...
Целую тебя, твой старик.
АЛЬФОНСУ ДОДЕ
Круассе, 3 января [1879]
Благодарю вас за прекрасное письмо, дорогой друг. Оно меня очаровало, обрадовало и тронуло!
Я пережил за эти три месяца невероятные волнения и ужасные неприятности, которые и сейчас еще не кончились. Тяжелая у меня жизнь и, если бы я не был вынослив, как вол, то сто раз уже издох бы.
Чтобы забыться, я неистово работаю. Но книга, которую я пишу, мало увлекательна; итак, повсюду напряженность и страдания. Вот истинное положение вещей!
Вам, вероятно, известно, что мой брат оказал мне любезность, предоставив за меня рукопись Даллозу. Сей Даллоз не удостоил меня ответа, и я определенно знаю, что он не читал рукописи. Он положился на своего секретаря, который заявил ему, что произведение «слишком скучное», чтобы его печатать (sic!).
Как видите, ваш старый друг осыпан почестями и доходами. Благодаря всему этому я в данный момент не могу ехать в Париж. Буду там не раньше конца февраля.
А как вы? Как ваш роман?
Упреки по поводу Золя, по-моему, нелепы. Я не согласен с его теориями. Что же касается его критики, она была весьма мягкой. Скандал, вызываемый ею, лишнее доказательство современного лицемерия. Как! Неужели никто не имеет права сказать, что Фейе и Шербюлье нельзя считать великими людьми! Все это до тошноты противно.
Нежно целую вас, дорогой Доде. Ваш.
«Вечно молодой, все тот же», точь-в-точь как Лаферьер, из которого песок сыпался. Но я не... развлекался, как он!
Привет г-же Доде, малютку целую.
ЖОРЖУ ШАРПАНТЬЕ
Круассе, воскресенье [16 февраля 1879]
Дорогой друг!
Я отнюдь не несправедлив, потому что вовсе не сержусь на вас и никогда не сердился. Считаю только, что вы должны были сказать мне без обиняков, что дело для вас неподходяще. Я обратился бы в другое место. А засим не будем больше об этом говорить и поцелуемся.
Я хотел поместить в конце «Святого Юлиана» оконницу из Руанского собора. Нужно было дать в красках гравюру, имеющуюся в книге Ланглуа. Иллюстрация эта понравилась мне потому именно, что она, собственно, не иллюстрация, а исторический документ. Сравнивая изображение с текстом, каждый говорил бы про себя: «Ничего не понимаю! Каким образом он извлек одно из другого?»
Вообще говоря, я терпеть не могу иллюстраций, особенно когда дело касается моих произведений, и пока я жив, их не будет. Dixi. {Я сказал (лат.).} То же самое относится к моему портрету, мое упрямство чуть было не рассорило меня с Лемерром. Тем хуже. У меня свои принципы. Potius mori quam foedari. {Лучше умереть, чем быть обесславленным (лат.).}
«Бовари» мне надоела. Меня пилят с этой книгой, ибо все, что я сделал после, не существует. Если бы я не нуждался, я не допустил бы нового издания. Но нужда заставляет. Итак, издавайте, милый! Деньги мне сюда посылать не надо. Отдадите, когда буду в Париже. Маленькое замечание: вы говорите — тысяча франков за две тысячи экземпляров, это составляет по десяти су за экземпляр. Мне кажется, вы платили мне по двадцать и даже тридцать су за экземпляр; но возможно, что я ошибаюсь.
Еще одно дело: 10 августа истекает срок моего договора с Леви. Я вновь приобретаю право на «Воспитание чувств». Мне хотелось бы извлечь из этого какую-нибудь материальную пользу.
Мне не безызвестно, что сделали для меня за последнее время друзья. Поблагодарите от моего имени г-жу Шарпантье и примите половину благодарности на свой счет. Я узнал от племянницы, что она чувствует себя лучше. Поцелуйте от меня ее и крошек, и пусть она вернет вам поцелуй.
Мне еще долго нельзя выходить. Вещь была очень серьезная. Не могу писать, так как в голове пустота; зато лопаюсь от чтения (метафизики и спиритизма).
Г-ЖЕ ОГЮСТ САБАТЬЕ
[Круассе] Воскресенье [февраль 1879]
Вот! Как мило: «Наполовину моя племянница»! Вы не могли придумать ничего более приятного для меня. Пожалуй, даже на три четверти племянница.
Ваше милое письмо увлажнило глаза вашего «дяди Постава», к тому же оно подтвердило одну мою морально-эстетическую теорию: сердце не отделимо от рассудка; у тех, кто отделяет одно от другого, нет ни того, ни другого!
Напрасно вы думаете, что меня не интересуют детали, касающиеся вашего ребенка. Я обожаю детей и создан быть прекрасным отцом. Но судьба и литература судили иначе!.. Одно из огорчений моей старости — это что нет возле меня маленького существа, которое можно было бы любить и ласкать. Чмокните за меня ваше дитя.
Моя ходуля заживает, но я еще долго буду хромать. Были очень серьезные повреждения в области кровообращения. Что касается перелома берцовой кости, то это пустяки. Ваш муж прав, что любит меня, ибо я с своей стороны тоже очень его люблю: он славный и образованный человек, а это большая редкость, нечто вроде белой вороны.
Это письмецо бессвязно и глупо, потому что я чувствую себя очень слабым и в голове у меня пустота. Но это не мешает мне расцеловать ваши щечки, по-дедовски.
Когда вы приедете летом в Кевильи, надо будет нам почаще встречаться и всласть наговориться.
Ж.-К. ГЮИСМАНСУ
[Круассе, февраль-март 1879]
Теперь, мой государь, давайте объяснимся.
Не будь вы моим другом (то есть, если бы я не относился к вам с уважением) и ваша книга показалась бы мне посредственной, я просто отделался бы пошлым комплиментом. Но я нахожу, что она написана очень, даже очень талантливо и что это из ряда вон выходящее, очень сильное произведение.
Теперь изложу вам свою основную мысль.
Посвящение, где вы расхваливаете меня за «Воспитание чувств», осветило мне как план, так и недостатки вашего романа, в коих при первоначальном чтении я не отдавал себе отчета. «Сестрам Ватар», как и моему «Воспитанию чувств», недостает фальши, свойственной перспективе! Нет нарастания действия. Читатель до конца книги остается под впечатлением, полученным им с самого начала. Искусство — это не действительность. Что бы ты ни делал, необходимо производить выбор из представляемых ею элементов. Вот в чем состоит идеал вопреки учению Школы. Отсюда следует, что необходимо тщательно выбирать. Описания превосходны, характеры хорошо уловлены. Повсюду хочется сказать: «Вот это правильно!» — и вашему ловко преподнесенному вымыслу верят. Больше всего поразила меня психология: анализы сделаны мастерски. Разверните же полностью в следующей книге вашу прирожденную и неотъемлемую способность.
Основа вашего стиля, самый характер его, весьма уверены. И я считаю, что вы лишь из скромности не верите этому. Для чего же было стараться усиливать его решительными и часто грубыми выражениями? Почему вы, говоря от автора, выражаетесь языком своих персонажей? Поймите, что этим вы ослабляете язык ваших персонажей. В том, что я не понимаю выражения, употребляемого парижским оборванцем, нет греха. Вы находите такое выражение типичным, необходимым, — приветствую это и только обвиняю себя в невежестве. Но коль скоро писатель лично пользуется множеством слов, не значащихся ни в одном лексиконе, я имею право возмутиться им. Ибо вы меня оскорбляете, вы портите мне удовольствие. Что означают maboule, poivrots, hibines, godinette, du tape a I'oeil и др.? Зачем говорить «хлам» вместо «старое платье» или «одежда».
Я случайно напал, перечитывая ваше произведение (стр. 2 и 6), на «Полноте, Каролина». Многие другие так же хороши и также являются образцами высокого стиля. Кто бы сказал, что это создано тем же человеком, который только что написал так много ненужных выражений на арго?
Сколько эстетики чувствуется в мысли, приведенной на 152 стр., что «грусть левкоев, сохнущих в горшке, захватила его больше, чем солнечная улыбка роз» и т. д.
Почему же? Ни левкои, ни розы, как таковые, не интересны. Интересен лишь прием, каким они описаны: «Ганг не более поэтичен, чем Биевра, но Биевра не превосходит Ганга. Берегитесь, как бы мы не дошли, точно в эпоху классической трагедии, до аристократических сюжетов и вычурных выражений. Начнут признавать, что вульгарные выражения благотворно влияют на стиль, точь-в-точь как когда-то его приукрашали изысканными выражениями. Риторика вновь появилась, но это все же только риторика. Мне досадно смотреть на то, что такой оригинальный человек, как вы, портите свое произведение подобным ребячеством. Будьте же более гордым, черт возьми, и не руководствуйтесь рецептами!
В заключение мне остается только восхищаться содержанием книжицы и тем, как оно передано. Ни малейшего шаблона, всюду проявляется стиль и часто — глубина содержания.
Папаша Ватар — прямо находка. Я не говорю уже об обеих сестрах, столь различных между собою, причем противоположность характеров отнюдь не резкая. Развязка прекрасная, почти величественная.
Вот и все, что мне хотелось сказать вам, дорогой друг. Моя откровенность доказывает вам, насколько я интересуюсь вами.
Искренне преданный вам.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Пятница, 3 часа [14 марта 1879]
Дорогая девочка!
Долой колебания. Принимаю вторую комбинацию. Я прекрасно могу жить в Париже, не имея там квартиры. Предоставь мне где-либо в уголке кровать: вот все, что требуется. А когда у меня будет немного денег, я позволю себе непродолжительный отдых. При наличии дома в Круассе и получаемых регулярно 6000 франков, плюс то, что мне удастся подработать, существование мое будет обеспечено.
У меня полное основание предполагать, что мне будет предложена пенсия, и я приму ее, несмотря на то, что для меня это до мозга костей унизительно (поэтому я хотел бы, чтобы это оставалось полной тайной). Будем надеяться, что пресса не станет вмешиваться! Совесть мучает меня по поводу этой пенсии (которой я, что ни говори, совершенно не заслуживаю!).
То, что я плохо защищал свои интересы, не является поводом, чтобы родина кормила меня! Дабы рассеять эти сомнения и жить со спокойной совестью, я придумал способ, который сообщу тебе, а ты, как честный человек — вещь более редкая, чем честная женщина, — одобришь, я уверен. Дорогое дитя мое! Бедная моя крошка!
Если все выйдет так, как я полагаю, я смогу спокойно ждать смерти.
Когда ты через две недели приедешь сюда, мы исчерпаем до конца некоторые мелкие вопросы второстепенного порядка. Самый же главный уже решен, не правда ли?
В общем, я предпочитаю самое жалкое, самое одинокое и самое печальное существование заботе о деньгах. Я готов отказаться от всего, лишь бы иметь покой, то есть свободу мысли.
Будем надеяться на твои успехи в живописи. Ты представляешь себе мою радость, нашу радость, в случае твоего успеха в Салоне! Судя по тому, как ценится сейчас живопись, ты сможешь зарабатывать много денег. Но лучший способ заработать их — это писать, не имея в виду заработка. Материальный успех должен явиться результатом, но не целью. Иначе теряешь голову, лишаешься даже здравого смысла. Главное хорошо выполнять, а там будь, что будет! Ага! У меня тоже есть «принципы». У меня их даже слишком много, к счастью.
Я очень рад, что портрет о. Дидона подвигается. Уверена ли ты теперь, что успеешь к 28-му?
Прощай, дорогая Каро. Пиши мне как можно чаще.
Твоя старая Нянюшка.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе [конец апреля 1879]
Итак, милый друг, сейчас как раз подходящий случай сказать, как у Лорен-Пиша:
Подождем,
Не прибавляя:
Пока несут калеку под дождем, —
хотя рифма здесь хороша.
Спасибо за письмо. Оно доставило мне всяческое удовольствие. Бедненький вы мой, как мне, однако, жаль вас за то, что вам некогда работать! Как будто хороший стих не полезнее во сто крат для народного образования, чем весь этот серьезный вздор, отнимающий у вас время! Простую вещь трудно вбить в мозги.
Да, я читал брошюру Золя. {«Французская республика и литература».} Замечательно! Когда он даст мне определение натурализма, я, быть может, стану натуралистом. А пока что — не понимаю!
А Энник-то прочитал у Капуцинов лекцию о натурализме!!! О, бог мой! бог мой!
«Современная жизнь» кажется мне еще глупее «Парижской жизни». Как... художественно! Не правда ли? А рисунки, не имеющие никакого отношения к тексту! А критика Бержера! Я возмущен, что на обложке стоит мое имя, но надеюсь, что это... недолго просуществует.
Одно меня порадовало: похороны Вильмессана. Какая пышность! Но он уже забыт. Народ неблагодарен.
Увидимся с вами не ранее 20 мая. Я хочу до отъезда в Париж покончить с магнетизмом, то есть написать полглавы. Но поеду ли я в Париж? Откровенно говоря, ничто кроме вас, дорогой мой Ги, не привлекает меня там.
Я по-прежнему не испытываю чрезмерной веселости. Целую вас со всей нежностью, на какую способно сердце вашего старика.
Разве Гюисманса оскорбило мое письмо?
Прочтите же «Переписку» Берлиоза. Вот человек! Как он ненавидел буржуа! Почище Бальзака!
ЭД'МОНУ ДЕ ГОНКУР
Четверг, 1 мая [1879]
Дорогой друг!
Я в восторге от вашей книжицы. {«Братья Земгано».}
На первых страницах мне удалось выискать кое-какие придирки к мелочам, вроде «и с», «на них» и т. п., а потом... к черту все! — полное увлечение. Несколько раз я сдерживал рыдания, а этой ночью меня мучили кошмары (sic!).
То, что не допущена смерть Нелло, — прямо превосходный прием; именно поэтому читатель ожидает его смерти.
Я снова пережил все свои ощущения перелома, боль в пятке и страх перед костылями. Словом, дорогой друг, ваших двух братьев не то, что любят, — их боготворят.
Никто, пожалуй, лучше моего не знает подоплеки вашей книжки. Она написана сильно, стремительно, колоритно, очень художественно и, слава богу, безо всякой театральности.
Так и представляешь себе ваши персонажи: папашу Бескапе, его жену, собаку и т. д. Талоше одушевляет меня. Томпкинс — чудный образ. Короче говоря, никаких грубых подробностей, и сатира — в целом. Однако я не одобряю самый замысел предисловия. Зачем было обращаться непосредственно к публике? Она недостойна наших признаний. «Скрывай свою жизнь», — говорит Эпиктет.
Теперь о другом. Тургенев, надувший меня всего четыре раза за неделю, нынче утром объявил мне о своем визите на воскресенье. Затем я рассчитываю на ваше посещение, дабы на свободе, без свидетелей, побалакать о вашей книге. Хотите ли вы приехать до или после шествия Золя — Шарпантье — Доде? Сговоритесь с названными синьорами.
За недостатком обслуживающего персонала я не имею возможности принять более трех гостей сразу.
Ответ будет быстрый, не правда ли? Еще раз браво, брависсимо, дорогой друг, и нежный поцелуй.
Ваш.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
[Круассе, ноябрь 1879]
Я должен немедленно поблагодарить вас, ибо вы только что оказали мне благодеяние. Старинные стихи, которые вы мне прислали, до того меня растрогали, что я ревел над ними, как теленок, и слезы эти успокоили меня. От души благодарю вас. Наконец-то Лемерр печатает полный сборник стихотворений нашего друга. Есть ли у вас какие-либо стихи? Хотите, чтобы они не пропали?
Вы не поняли смысла моего негодования: я не удивляюсь людям, ищущим объяснение непонятного, но удивляюсь тем, коим кажется, что они постигли объяснение, тем, кто носится с богом или безбожием в кармане. Ну да! Всяческий догматизм меня раздражает. Короче говоря, и материализм и спиритуализм кажутся мне одинаковой наглостью.
Прочитав за последнее время немалое количество книг по католицизму, я остановился на философии Лефевра («последнем слове науки»). Всем им место на свалке. Таково мое мнение. Все невежды, все шарлатаны, все идиоты, — они всегда видят лишь одну сторону прошлого. Я перечел (третий раз в жизни) всего Спинозу. Этот «атеист», по-моему, был самым набожным человеком, ибо он признавал лишь одного бога. Но попытайтесь растолковать это господам церковнослужителям и ученикам Кузена!
То, что вы говорите о моей племяннице, очень мило с вашей стороны. Она, правда, моя ученица, и я горжусь этим: ибо женщина не мещанка и не кокотка — редкость.
Я недоволен Сен-Рене Тайандье за его исторические нелепости по поводу «Святого Антония».
Целую вас без всякой церемонии.
Г-ЖЕ ТЕННАН
Круассе, вторник вечером [16 декабря 1879]
Спасибо за письмо, дорогая моя, милая Гертруда. Долли была бы не права, упрекая меня. Я глубоко огорчен, что меня нет в Париже, раз вы там (моя добрая воля здесь не при чем, будьте уверены!).
Но приезжайте опять туда весной, в конце марта, или в середине апреля: в это время я буду весь к вашим услугам. Первый том моего адского романа будет окончен, второй займет не более шести месяцев, и я буду считать произведение оконченным. (Что это именно, трудно объяснить в нескольких словах.)
Подзаголовок будет следующий: «О недостатке метода в науках». Короче говоря, цель моя — сделать обзор всех современных идей. Женщины занимают там мало места, а любовь и вовсе никакого. Ваш американец был очень плохо осведомлен. Я думаю, что публика в этом не много поймет.
Те, кто читают книги, чтобы узнать, выйдет ли баронесса за виконта, будут разочарованы; но я пишу для кое-кого, обладающего утонченным вкусом. Быть может, получится большая глупость, если только это не окажется чем-то очень сильным. Я сам ничего не знаю! И меня гложет сомнение, удручает усталость.
За этот год (1879) я провел лишь два месяца в Париже. Так что никто меньше меня не в курсе новостей и любопытных событий столицы. Каролина осведомит вас о них лучше, чем ее дядя. Знакомы ли ваши дочери с музеем Клюни и с музеем Карнавале? А с коллекцией медалей в Библиотеке на улице Ришелье? Обязательная прогулка для приезжих — это поездка на лодке по клоакам! Но погода не особенно благоприятная. Что же касается театров, я совершенно не в курсе того, что там происходит, так как уже несколько лет моей ноги не было ни в одном зрелищном зале. Я не провинциал, а дикарь.
Вы, вероятно, не особенно развлекались на лекции г-на Каро? Это весьма посредственный человек. Что до моего друга Сарры Бернар и Коклена — все зависит от того, в чем они будут выступать.
Моя племянница пишет, что ваша вторая дочь очень похорошела, а старшая становится все остроумнее. Я отношусь к ним с искренней нежностью. А к вам тем более!
Напишите мне, когда у вас не. будет более интересного дела, дорогая Гертруда!
Всей душой и всецело ваш.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
Круассе [25 января 1880]
По-моему, вы заблуждаетесь, мой дорогой друг, и я писал вам около нового года. Во всяком случае, я ждал от вас известий с некоторой тревогой. Впрочем, не следует сердиться на меня, если я и виноват. Подумайте только: ведь мне приходится в среднем писать по три письма ежедневно и прочитывать два-три тома за неделю, помимо того, что мне необходимо прочесть для своей работы. Так что сейчас я завален делом: у меня не хватает ни зрения, ни времени. Я вынужден отвечать молодым людям, посылающим мне свои произведения, что я сейчас не в состоянии уделять им время, и это, несомненно, создает вокруг меня много недоброжелателей.
Знаете ли вы, какое количество томов мне пришлось поглотить ради моих двух старичков! Больше 1500! Моя папка с заметками достигла восьми пальцев толщины. И все это — почти что ничего. Но такое изобилие материала позволило мне не быть педантичным, это наверное.
Наконец я приступаю к последней главе! Когда она будет закончена (к концу апреля или мая), я отправлюсь в Париж для работы над вторым томом, который потребует не больше шести месяцев. Она на три четверти закончена и будет состоять почти исключительно из одних цитат. После этого я дам отдохнуть своему бедному мозгу, который уже не в силах терпеть.
Прочтите-ка «Войну и мир» Толстого, {«Война и мир» Толстого в трех томах была послана Флоберу Тургеневым около 1 января 1880 г. В пространном письме к Толстому (12 января 1880 г.) Тургенев цитирует замечания Флобера о романе: «Благодарю вас за то, что вы помогли мне прочесть роман Толстого. Это перворазрядная вещь! Какой художник! И какой психолог! Первые два тома возвышенны, но в третьем он летит кубарем вниз. Он повторяется и философствует! В конечном счете виден барин, автор, русский, а до того была лишь природа и человечество. Мне кажется, иногда он создает вещи в шекспировском духе. У меня были возгласы восхищения во время чтения... а оно длилось долго! Да, это сильно, очень сильно!»} — три объемистых тома у Ашетт. Это первостепенный роман, хотя последний том не совсем удачен.
Я не страдал от холода, но сжигал по восемнадцати вязанок дров, помимо мешка кокса, в день. Я провел два с половиной месяца в абсолютном одиночестве, подобно медведю в берлоге, и в общем очень хорошо, несмотря на то, что не виделся ни с кем; мне не приходилось выслушивать глупостей! Нетерпимость к людской глупости превратилась у меня в болезнь; и это еще слабо сказано. Почти все смертные обладают даром раздражать меня, и я могу свободно дышать лишь в пустыне. Однако ссоры между бонапартистами забавны.
Коллежи для девиц Камилла Сэ не кажутся мне более нелепыми, чем монастыри, а бракоразводный вопрос порядком изводит меня. Мне нравится решение Робена: «Да, люди, вступившие в брак, должны вечно жить вместе в виде возмездия за глупость, которую они совершили, поженившись». Это несправедливо, но задорно.
«Замок сердец» начал печататься во вчерашнем номере.
ЭМИЛЮ ЗОЛЯ
Круассе, воскресенье [15 февраля 1880]
Дорогой Золя!
Вчера до половины двенадцатого сидел за вашей «Нана». Я не спал всю ночь и до сих пор не могу прийти в себя.
Если бы нужно было отметить в ней все необычайное и сильное, то пришлось бы комментировать каждую страницу. Характеры отличаются удивительной правдивостью. Естественные слова изобилуют. Смерть Нана в конце достойна Микеланджело.
Книга, мой друг, изумительна!
Вот страницы, которые я отметил (в пылу энтузиазма и во время первого чтения):
(82, 87) Некоторая слабость, или, вернее, растянутость. (205) Миньон с сыновьями! непередаваемо хорошо! 33, 45, 46, 51, 52, 75, 105, 108, 126, 130, 134, 141, 146, 156, 173, 192 (очаровательно), 195 (idem) {Там же (лат.).} Видение г-жи д'Англар! 237, 256.
А ночь, проведенная на улице, менее оригинальна; правда, сообразуясь с планом, нельзя было избежать этого, чтобы привести к «ляжем», которое превосходно.
Все, что относится к Фонтану, сделано прекрасно.
(295) Вся X глава.
(377) «Иди же, иди!»
(NB.) (401) «Между Гавром и Трувилем» — невозможно! Поставьте Гонфлёр.
(415) Величественно, эпично, возвышенно!
(427) Отеческие чувства всех этих господ — очаровательно.
(459) Самоубийство Жоржа и его мать, приходящая тут же, отнюдь не носят мелодраматического характера (хотя многие найдут именно это), так как все это является следствием характеров и искусно скомбинированных событий.
(483) Очень сильно, очень сильно!
(489—90) Как это правдиво и выпукло!
(500)
(504) Ничего не может быть выше.
XIV. Выше всего! Ей-богу! бесподобно!
Правда, вы смогли бы сэкономить на грубых словах; возможно, что табльдот трибадок «возмущает стыдливость», — само собой! Ну, так что ж! В конце концов, к черту идиотов! Во всяком случае, это ново и смело сделано.
Слова Миньона «какой инструмент» определяют весь его характер; они приводят меня в восторг.
Нана почти сверхъестественна, при всей своей реальности.
Dixi.
Целую вас.
Ваш старик.
Скажите Шарпантье, чтобы он мне прислал один экземпляр, потому что свой я не хочу одалживать.
Молодой Шарпантье, должно быть, доволен. Премилый успех как будто?
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе, 19 [16] февраля 1880
Дорогой дружище!
Итак, это правда? Я думал сперва, что это шутка! Оказывается, нет. Ну, признаться, хороши они в Этампе. Уж не окажемся ли мы в зависимости от всех судилищ французской территории, включая колонии? Как могло случиться, что стихи, напечатанные когда-то в ныне существующей парижской газете, преследуются теперь, переизданные провинциальной газетой, причем ты, может быть, и не давал согласия на их перепечатку и даже, по всей вероятности, не знал о самом существовании газеты? К чему нас принуждают? Что писать? Как печататься? В каком же Глупове мы живем?
Привлечен к ответственности {Преследование Мопассана судебными органами Этампа было прекращено.} за «оскорбление нравов и общественной морали» — два милых синонима, составляющих два главных пункта обвинения. У меня, когда я предстал перед восьмой судебной палатой за «Госпожу Бовари», был еще третий пункт: «За оскорбление религии». Процесс этот создал мне огромную рекламу, и ему я приписываю три четверти своего успеха.
Словом, ничего не понимаю! Может быть, ты жертва личной мести? Здесь кроется нечто необъяснимое. Быть может, им платят за то, чтобы обесценить Республику, заставляя обливать ее потоками презрения и делая ее смешной? Так мне кажется.
Когда вас преследуют за политическую статью — это еще куда ни шло; хотя я и сомневаюсь, чтобы какое бы то ни было учреждение могло указать мне на практическую необходимость такого преследования. Но за стихи, за литературное произведение! Нет, это уж слишком...
Тебе скажут, что в твоих статьях непристойные тенденции! Если придерживаться теории тенденций, то можно гильотинировать барана за то, что он мечтал о говядине. Следовало бы окончательно договориться относительно вопроса о морали в государстве. Что красиво, то и морально, — вот и все, больше ничего.
Поэзия, как солнце, золотит навоз. Тем хуже для тех, кто этого не видит. Ты безукоризненно разработал обыденный сюжет и заслуживаешь всяческой похвалы, а вовсе не штрафа и тюрьмы...
«Сила писателя, — говорит Лабрюйер, — заключается в уменьи хорошо определять и хорошо описывать». Ты хорошо определяешь и хорошо описываешь. Чего им еще нужно? Но сюжет, — возразит Прюдом, — сюжет, милостивый государь! Двое любовников! Прачка! Берег реки. Надо было взять игривый тон, разработать сюжет более деликатно, более тонко, заклеймить мимоходом с помощью изящного приема, а в конце вывести почтенного священника или доброго доктора, читающего целую лекцию об опасностях любви. Одним словом, ваш рассказ наталкивает на соединение полов. Ах!
Во-первых, вообще никто никого не наталкивает, а даже если бы так и было, то в наш век ненормальных склонностей совсем неплохо проповедовать культ женщины. Твои бедные любовники неповинны даже в адюльтере! Оба они свободны, «ничем не связаны». Как бы ты ни защищался, партия порядка всегда найдет аргументы. Смирись!
А ты выдай ему на предмет изъятия всех классиков, греческих и римских, начиная с Аристофана и кончая добрым Горацием и нежным Вергилием. Засим из иностранцев — Шекспира, Гёте, Байрона, Сервантеса, у нас Рабле, «от которого берет начало французская литература», согласно указанию Шатобриана, чей шедевр описывает кровосмешение; а затем Мольера (смотри яростные выпады Боссюэ); великого Корнеля — у него в «Теодоре» говорится о проституции; и дядюшку Лафонтена, и Вольтера, и Жан Жака, и т. д. и волшебные сказки Перро! О чем идет речь в «Золотом осле»? Где происходит четвертое действие пьесы «Король забавляется»?
Вслед за этим придется изъять книги по истории, так как они засоряют воображение.
Меня душит негодование.
(Кто будет удивлен? Наш друг Барду! Тот самый Барду, который пришел в такой восторг при чтении пьесы, что захотел с тобой познакомиться и вскоре устроил у себя в министерстве. Хорошо относится правосудие к тем, кому он покровительствует!)
А этот превосходный «Вольтер» (не человек, а газета), мило подтрунивавший на днях надо мною за то, что я склонен верить в ненависть к литературе! Именно «Вольтер»-то и ошибается! Я более чем когда-либо верю в бессознательную ненависть к стилю. У тех, кто хорошо пишет, есть два врага: 1) публика, которую стиль заставляет думать, побуждает к работе; и 2) правительство, которое чувствует в нас силу, между тем как власть не терпит никакой другой власти.
Правительства могут сменять друг друга — монархия, империя, республика, не все ли равно! Но официальная эстетика остается неизменной. В силу своего положения агенты его — чиновники и судьи — пользуются монополией суждения о стиле (смотри мотивировку моего оправдания). Они знают, как следует писать, их красноречие непоколебимо, и они обладают средством убедить вас в чем угодно.
Человек возносится к Олимпу, лицо его лучезарно, сердце исполнено надежды, он устремлен к прекрасному, божественному, почти уже достиг легких облаков — и вдруг лапа надсмотрщика за каторжниками швыряет его в помойную яму! Вы беседовали с музами, а вас принимают за растлителя малолетних девочек! Ты можешь благоухать водами Пермесса, тебя все равно смешают с развратниками, наводняющими общественные писсуары!
И тебя посадят, мой дорогой дружок, на одну скамью с ворами, какой-нибудь субъект будет читать твои стихи (с ошибками в просодии) и перечитывать их, напирая именно на определенные слова, чтобы придать им коварный смысл. Некоторые из них он повторит несколько раз, как гражданин Пинар: «Ляжка, господа, ляжка», и т. д.
В то время как твой защитник будет знаками сдерживать тебя, — одно слово может тебя погубить, — ты будешь смутно чувствовать за своей спиною всю жандармерию, всю армию, всю общественную силу, которые будут тяготеть над твоим мозгом неизмеримым бременем; тогда к твоему сердцу подступит ненависть, о какой ты даже не подозреваешь, тебе придет мысль о мщении, но гордость тотчас же остановит тебя.
Но, повторяю, это невозможно. Ты не будешь привлечен к ответственности, тебя не осудят. Это недоразумение, ошибка, я просто не знаю. Хранитель печатей вступится за тебя!
Прошли красные денечки де Виллеля.
Впрочем, как знать? У земли есть границы, но глупость людская беспредельна.
Целую, твой старик.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
Круассе [Апрель 1880]
Дорогой друг!
Получил письмо от Бодри, но он не отвечает ни на один из моих вопросов. (Я даже спрашиваю себя, не сошел ли я с ума.) Вместо того он дает мне советы и учит искусству писать: «Зачем вы вдаетесь в ботанику, которой не знаете. Вы обрекаете себя на кучу невольных ошибок, которые от этого ничуть не становятся менее смешными. По-настоящему комичными такого рода идеи бывают только в том случае, когда они преднамеренны; если же автор невольно впадает в комизм, то это хоть и смешно, но уж по-иному», и т. д.
Вкуси все остроумие его иронии. Тонкая насмешка, не правда ли? Он ставит мне в укор, что я туберозы поместил в разряд лилейных, а между тем я до хрипоты доказывал ему, что так классифицирует их Жан Жак Руссо; далее он поучает: «У розы завязь скрыта под лепестками», то есть повторяет ту же самую фразу, какую я пишу ему в письме.
Я ответил, что прошу у него прощения и взываю к его снисходительности. Пустяки. Думать, что я a priori не способен воспользоваться чужими сведениями, и считать меня в такой мере шарлатаном, чтобы смешить публику за мой счет, — смело. Крез так и делает: он, как мне кажется, обременен психологией, а я вновь сажусь на своего конька: «ненависть к литературе». Вы прочли 1500 томов, чтобы написать одну книгу. Это для них ничего не значит. Раз вы умеете писать, значит вы несерьезны, и ваши друзья обращаются с вами, как с мальчишкой. Я не скрою, что считаю ее зловредной.
Доберусь до конца сам. Пусть даже мне придется просидеть над этим десять лет, ибо я взбешен. Постарайся, однако, выискать мне среди твоих знакомых профессоров ботаника; это сберегло бы мне много времени.
Целую тебя. Твой старик, находящийся в совершенно неописуемом состоянии.
Г-ЖЕ РОЖЕ ДЕ ЖЕНЕТТ
18 апреля 1880
Я нахожу, что вы очень суровы к «Нана». Грязно — сколько вам угодно, но талантливо. Почему все так строго отнеслись к этой книге, а к «Разводу» Дюма проявили такую снисходительность? По характеру стиля и по духу скорей уж эта книга пошла и низкопробна.
Я нахожу, что в «Нана» имеются изумительные места: Бсрднав, Миньон и т. д. и эпический конец. Пускай у этого колосса грязные ноги, он все-таки колосс. Он оскорбляет много щекотливых чувств, но это ничего.
Надо уметь восхищаться тем, чего не любишь. Лично мой роман будет грешить избытком вещей противоположного характера. Сладострастию там уделено столько же места, как в учебнике математики. И никакой драмы, никакой интриги, неинтересная среда. Последняя глава вертится (если только глава может вертеться) вокруг педагогики и принципов морали, и это должно быть забавным.
Если бы я знал хотя одного человека, который захотел бы при таких данных писать книгу, то послал бы его в Шарантон. Да будет воля божия, однако.
Я льстил себя надеждой окончить первый том в текущем месяце, но он будет окончен не раньше конца июня, а второй — в октябре месяце. А между тем я тороплюсь, не даю себе отдыха, чтобы не потерять ни одной минуты, и чувствую себя усталым до мозга костей.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
[Круассе, 25 апреля 1880]
Ты прав, что любишь меня, молодой человек, потому что твой старик тебя обожает. Я немедленно прочел твою книжку, которая, впрочем, на три четверти мне знакома раньше. Мы еще раз просмотрим ее вместе. Особенно мне нравится в ней то, что она индивидуальна. Никакого щегольства. Никакой позы. В ней не чувствуется ни парнасец, ни реалист (или импрессионист, или натуралист).
Посвящение всколыхнуло во мне целый рой воспоминаний: о твоем дяде Альфреде, о твоей бабушке, матери, и старику стало грустно на душе, и на глазах у него навернулись слезы.
Собери для меня все, что появится в печати относительно «Пышки» и твоего тома стихов.
Мне надоели панегирики Дюранти. Разве он будет преемником «барона Тэйлора»?
Когда ты приедешь в Круассе, напомни мне, чтобы я тебе показал статью этого превосходного Дюранти по поводу «Бовари». Такие вещи надо хранить.
Сарра Бернар оказывается «выразительницей социальной идеи». Смотри во вчерашней «Современной жизни» статью Фурко. Где же предел глупости и ее бредням?
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
[Круассе, около 25 апреля 1880]
Нет. Этого недостаточно. Хотя уже лучше. Анемоны (из семейства лютиковых) не имеют чашечки, очень хорошо. Но почему Жан Жак Руссо (в своей ботанике) сказал: «У большинства» лилейных ее нет. Ввиду того что вышеупомянутый Руссо не ученый, а только любитель «природы», он, может быть, ошибся. Как и почему?
Короче говоря, мне нужно исключение из правила. У меня уже есть исключение у некоторых лютиковых, но мне еще нужно исключение в исключении — хитрость, внушенная мне «большинством» женевского гражданина.
Само собою разумеется, что мне не важна принадлежность к какому-нибудь семейству, лишь бы растение было обыкновенное.
Скажу тебе, что я думаю относительно произведений твоих коллег. Эннику не удался хороший сюжет. Сеар говорит о вещах, в которых абсолютно ничего не смыслит: об испорченности Империи, как, впрочем, все, кто трактует этот сюжет, начиная с папаши Гюго. Истина значительно сильнее и проще.
«Пышка» подавляет весь том; заглавие его нелепо. {«Вечера в Медане» — сборник рассказов Золя, Мопассана, Гюисманса, Сеара, Энника, Алексиса.}
Ровно через две недели я буду укладываться.
Позаймись моей ботаникой и ответь мне как можно скорее.
ПЛЕМЯННИЦЕ КАРОЛИНЕ
Воскресенье, 2 мая 1880
Ах, мой бедный котик, «карьера в искусстве» полна разочарований. Тебе дали плохое место в Салоне, а Бержера по-прежнему предоставляет мне еще худшее место в своей скверной газетке. В сегодняшнем номере он резко обрывает одну из сцен ради статьи о спорте. Вот так с тобой всегда обходятся; обратное представляет исключение, а эти господа только и понахватались громких слов.
Несмотря на мой стоицизм, я нахожу, что ты зря оставляешь это дело. Разве нет возможности переменить место через посредство знаменитого Эредия, Бюрти или моего ученика? Как только тебя не уморили твои пятницы? И в довершение г-жа ***, которая хочет приехать на вернисаж. К чему? Я, правда, не понимаю наших современников. Париж внушает мне отвращение своим безумием. Через неделю я буду там; так вот это меня совсем не радует. Напротив. Я думаю, что самой большой радостью было бы расцеловать по приезде мою Каро.
Сейчас 9 часов. Барин встал в 7½. Барин больше не спит. Хотелось бы в будущую субботу дойти до конца предпоследней сцены. Поэтому я не должен терять ни минуты. Между тем нынче вечером — обед у Пеннетье.
Ги прислал мне мою ботаническую справку: я был прав! Г. Бодри сел в лужу! Справка дана профессором ботаники из Ботанического сада; а прав я был потому, что эстетика есть истина и что на известной ступени интеллектуального развития (при наличии системы) нельзя ошибаться. Действительность отнюдь не склоняется перед идеалом, а лишь утверждает его. Мне пришлось совершить ради «Бувара и Пекюше» три поездки в различные места, чтобы найти для них кадр и подходящую к действию среду. Ха, ха. Я торжествую. Вот это успех! И он мне льстит...
Прежде чем приступить (подразумевается к туалету), я хочу предупредить Шарпантье, что на будущей неделе попрошу у него счета и с той же оказией я скажу ему несколько прочувствованных слов по поводу его обзора.
Прощай, милый котик, жду от тебя письма в середине недели, затем пошлю тебе уведомление о своем приезде. Надеюсь, не нужно больше никаких распоряжений относительно разгромождения квартиры. Очистила ли ты нижние полки библиотеки? Целую тебя крепко.
Старик.
ГИ ДЕ МОПАССАНУ
[Круассе, 3 мая 1880]
Сделано, письмо Банвилю будет в Париже нынче вечером. Принеси мне на будущей неделе список идиотов, которые строчат так называемые литературные отзывы в газетах. Тогда мы выставим свои «батареи». Но помни старое изречение доброго Горация: Oderunt poetas. {Поэтов ненавидят (лат.).}
А затем Выставка!.. Господа!! Она мне уже надоела. Меня заранее тошнит от нее. Я авансом ругаюсь от скуки. Вчера направил молодому Шарпантье передовицу, посвященную коринфянам по поводу низших искусств; она не будет фигурировать на базаре, именуемом «Современной жизнью». В последнем номере они прервали на середине сцену, чтобы напечатать статью о спорте, и вместо рисунка, изображающего декорацию, поместили вид на Пон-Нёф. Захватывающая действительность. Если издательство Шарпантье не уплатит мне немедленно долг и не преподнесет кругленькую сумму за феерию, «Бувар и Пекюше» пойдет в другое место. Меня выводит из себя, что всем этим мелочам и глупостям придается такое сугубое значение, да еще с каким педантизмом! Будем осмеивать изящное!
Восемь изданий «Вечеров в Медане»? «Три повести» вышли только в четырех. Мне становится завидно..
Увидимся в начале будущей недели.
КОММЕНТАРИИ
Письма Флобера, составившие содержание пятого тома настоящего издания, представляют собою источник исключительной ценности для знакомства с жизнью, творчеством и литературным окружением писателя. В спорах с Жорж Санд по различным вопросам литературы и политики Флобер неоднократно замечал, что по отношению к нему нельзя говорить об отсутствии убеждений, что он, напротив, задыхается от невозможности публично высказать свои взгляды. Письма Флобера — яркое свидетельство напряженной духовной жизни, широты интеллектуальных интересов, которые были так характерны для неутомимого труженика слова. Переписка была для Флобера не столько отдыхом от «ужасов стиля», от писательской работы, сколько органической потребностью в общении, в дружеской солидарности; очень часто его письма служили как бы продолжением работы над тем или иным произведением — «Госпожой Бовари», «Воспитанием чувств» и т. д. Так, например, по письмам периода создания романа «Госпожа Бовари» можно с большой точностью проследить творческую историю этого замечательного произведения. Восторженный, щедрый на дружбу и негодующий, посылающий проклятия и ликующий, исполненный глубочайшего пессимизма и нигилизма, обуреваемый жаждой красоты и жизненной правды, — таким встает Гюстав Флобер со страниц своих писем, тот самый Флобер, которого нередко упрекали в олимпийском бесстрастии!
Письма Флобера были настоящим «романом о себе». В них он предстает перед нами со всеми своими взлетами и падениями, слабостями и заблуждениями. Блестящая по форме, трогательная своей откровенностью, богатая мыслями, чувствами и настроениями, переписка Флобера — литературный памятник немалого общественно-культурного значения; в целом переписка Флобера воспринимается как весьма интересное идейно-художественное явление, стоящее, можно сказать, в одном ряду с другими замечательными созданиями его таланта.
В этом издании воспроизведена небольшая часть из богатого эпистолярного наследия французского писателя.
КОРРЕСПОНДЕНТЫ ФЛОБЕРА
Барбес Арман (1809—1870) — французский революционер, мелкобуржуазный демократ, член тайных республиканских обществ в 30-е годы, участник Февральской революции 1848 года. Флобер интересовался Барбесом как одним из «людей 48 года» в связи с подготовкой романа «Воспитание чувств».
Бодлер Шарль (1822—1867) — французский поэт, автор сборника стихов «Цветы зла» (1857) и других произведений. Флобер положительно расценил появление «Цветов зла» Бодлера — человека, до некоторой степени ему близкого.
Обоим литераторам было присуще презрение к мещанству, отрицательное отношение к буржуазной цивилизации, оба они высоко ставили искусство, противопоставляя его бессодержательному и бесцветному бытию «лавочников». «...Больше всего в вашей книге мне нравится, что в ней на первом плане стоит Искусство», — писал Флобер Бодлеру по поводу его сборника стихов. В лице Шарля Бодлера Флобер встретил вдумчивого ценителя его романа «Госпожа Бовари». Статья Бодлера о романе доставила Флоберу, по его признаниям, величайшее удовольствие: «Вы проникли в тайну произведения, точно у нас с вами одни и те же мысли. Вы основательно поняли и прочувствовали его» (из письма Бодлеру 21 октября 1857 г.).
Боске Амели (1825—1884) — французская писательница, автор книг «Благовоспитанная женщина», «Роман работницы» и др. Флобер находился в большой дружбе с писательницей, хотя ее романы вызывали у Флобера критическое отношение. Так, например, он находил роман «Благовоспитанная женщина» «совершенно неудачной книгой»; он критикует «Роман работницы» за резкое несоответствие между героем (первым любовником) — персонажем условным и героиней — персонажем правдивым, упрекает автора за некоторые шаблонные места в книге, хотя и считает это произведение гораздо более полноценным, чем роман Боске «Мадмуазель де Вардон». Вместе с тем Флобер резко выступал против демократических симпатий писательницы — автора «Романа работницы» (см. стр. 270).
Буйле Луи — «Монсеньор» (1822—1869) — французский поэт-парнасец, интимный друг Флобера. В течение многих лет, вплоть до кончины своей, Буйле навещал Флобера по воскресеньям; друзья обсуждали написанное, делились планами и замыслами...
Флобер очень высоко расценивал творчество Буйле — поэта и драматурга, которого он считал истинным собратом по перу, самым близким себе человеком. Он с величайшим сочувствием следил за творчеством Буйле-поэта, автора поэм «Меленис», «Ископаемые» и сборника «Гирлянды и астрагалы», и за деятельностью Буйле-драматурга, создателя драм «Госпожа де Монтарси» (1856), «Елена Пейрон» (1858), «Заговор д'Амбуаза» (1866). Флобер принимал самое живое участие в сценической судьбе драм Буйле. Общими были для литераторов творческие радости и огорчения. Когда «Французская комедия» отказалась принять к постановке «Госпожу де Монтарси», Флобер писал «старому бедняге» (Буйле): «Вот уже два дня как я непрестанно о тебе думаю, и твое горе не выходит у меня из головы». (Письмо от 30 сентября 1855.) Он всячески ободряет своего друга, взывает к его стойкости и требует, чтобы он не падал духом и сочинил бы уже этой зимой романтическую трагедию в трех актах с очень простым действием, с двумя — тремя театральными эффектами, «написанную здоровенными стихами, какие тебе так легко даются» (там же). В письме Луизе Коле от 6 апреля 1853 года Флобер с возмущением рассказывал о поступке Ламартина: Буйле послал Ламартину свою поэму «Меленис», примерно в то же время один из учеников Буйле послал ему же том отвратительных стихов, но восхваляющих «вышеупомянутого великого человека». Ламартин прислал «мальчишке» великолепное письмо, Буйле же не ответил ни слова. Поведение Ламартина лишь укрепляло Флобера в его презрительном отношении к певцу «чахоточной лирики» и вообще к «ламартинистам», то есть к представителям искусства, по его мнению, претенциозного, напыщенно-сентиментального.
Укажем еще на один примечательный штрих, характеризующий умонастроение обоих литераторов, резко отвергавших политику, искусство, мораль, философию приверженцев Второй империи: оба очи не хотели идти на поклон в лагерь реакции, выслуживаться перед ней. Зная о материальной необеспеченности Буйле, Флобер писал другу, что можно, пожалуй, выхлопотать для него пенсию, но, замечает он, «зато тебе пришлось бы расплачиваться продуктами своего ремесла, то есть кантатами, эпиталамами и т. д. Нет, нет...» — заключал Флобер, отводя такую возможность. {Получив место библиотекаря в Руане, Буйле лишь в последние годы жизни смог оставить преподавание латинского языка — занятие, вынужденное обстоятельствами, тягостное для него.}
Флобера и Буйле связывали чувства любви и глубокого уважения. Буйле постоянно помогал Флоберу своими советами и замечаниями. «Единственный поверенный моих тайн, мой единственный друг, единственный слушатель моих излияний» — таким человеком в глазах Флобера был Луи Буйле, обладавший, по его словам, тонким и безупречным «литературным чутьем».
Смерть Буйле потрясла Флобера; то была, по признанию писателя, непоправимая для него утрата. {«.. Здесь, в Круассе, — писал Флобер Гонкуру в июне 1870 года, — меня преследует его призрак, я нахожу его за каждым кустом в саду, на диване в моем кабинете, вплоть до моей одежды, в моих шлафроках, которые он надевал».} Флобер издал посмертный сборник стихов Буйле «Последние песни» (1870), сопроводил его своим предисловием, деятельно следил за дальнейшей судьбой пьес Буйле. В 1871 году Флобер написал письмо Руанскому муниципальному совету; он выразил свое глубокое возмущение тем, что большинством тринадцати голосов против одиннадцати было отклонено предложение воздвигнуть в Руане на общественный счет, по подписке, фонтан, украшенный бюстом Буйле. Памятник, по мысли его инициаторов, должен был внушать мысль о человеке, который «в наш алчный век всю свою жизнь посвятил поклонению литературе...»
Гонкур Жюль (1830—1870), Гонкур Эдмон (1822—1896) — французские писатели, с которыми Флобер вел переписку и поддерживал личную связь, начиная, примерно, с 1859 года. Флобер благожелательно встречал романы писателей «Сестра Филомена», «Рене Мопрен», «Жермини Ласертё» и др. Конкретные замечания, которые делает Флобер в связи с «Сестрой Филоменой» и другими произведениями, нередко представляют собою определенный литературно-эстетический интерес и помогают понять как те или иные особенности творчества братьев Гонкуров, так и взгляды самого Флобера на проблемы сюжета, типического в искусстве и пр. Флобер с большой теплотой и симпатией относился к Жюлю и Эдмону Гонкурам.
В «Дневнике» Гонкуров имеется немало заметок, посвященных Флоберу; из дневниковых записей вырисовывается колоритный облик писателя, его взгляды на различные вопросы писательского творчества, его манера работы. Флобер часто встречался с Гонкурами в Отейле, как и Гонкуры навещали автора «Саламбо» в Круассе и в Париже во время приездов его в столицу. Общим местом встреч Флобера с довольно ограниченным кругом литераторов с начала шестидесятых годов были «обеды Маньи» (их посещали Гонкуры, Тургенев, Золя и др.) и «обеды пяти» (Флобер, Золя, Эдмон Гонкур, Доде, Тургенев), проводившиеся в семидесятые годы. В «Дневнике» приводятся записи встреч писателей, описания литературных дискуссий, в которых деятельное участие принимал и Флобер.
Готье Теофиль, или «Тео» (1811—1872) — друг Флобера, о котором он часто упоминает в своих письмах к другим корреспондентам. Судебное преследование «Госпожи Бовари», сочувствие Готье сблизили писателей. Правда, в письмах периода 1852—1853 годов встречались резко отрицательные суждения Флобера о произведениях Готье, но в последующие годы нарастает сближение между литераторами. Готье был близок Флоберу своей ненавистью старого романтика к мещанству, к миру «бакалейщиков», обостренным вниманием к вопросам художественной формы. Стремление Флобера быть «объективным», его выпады против демократии перекликались в некоторой мере с аполитичностью и консерватизмом Готье. Несомненно, что и интерес Готье к жанру исторического романа вызывал симпатии у автора «Саламбо».
Вместе с тем следует учитывать, что Флобер был большой и яркой творческой индивидуальностью; в нем жил неугасимый инстинкт художника-реалиста, заставлявший писателя вновь и вновь обращаться к современности, пытливо ее изучать, в нем виден большой сатирический талант, с таким блеском заявивший о себе в «Госпоже Бовари» и в «Воспитании чувств»; во Флобере, наконец, никогда не умирала глубокая тревога за судьбы Франции и судьбы искусства, с годами она становилась все более острой. Видя моменты общности в мировоззрении Флобера и Готье, нельзя не отмечать и значительных расхождений между ними.
Гюисманс Жорис-Карл (1848—1907) — французский писатель-натуралист, автор романов «Марта», «Сестры Ватар», «Наоборот» и др. Письмо к Гюисмансу характеризует отношение Флобера к натурализму.
Доде Альфонс (1840—1897) — французский писатель, автор известных романов: «Фромон младший и Рислер старший», «Набоб», «Бессмертный», создатель образа Тартарена, участник «обедов пяти». В письме к Жорж Санд в 1875 году Флобер упоминает Доде в ряду других писателей, о которых он говорит: «...неизменные посетители мои по воскресеньям...» Флобер благожелательно относился к произведениям Доде, подчеркивая свою симпатию к автору, и рекомендовал его книги вниманию Жорж Санд. Правда, автор «Госпожи Бовари» не прошел мимо некоторых натуралистических тенденций в творчестве Доде, говоря в одном из писем Тургеневу: «Дело не только в том, чтобы видеть, необходимо обработать и соединить то, что видел...» (Письмо Тургеневу от 8 ноября 13/6 года).
Дю Кан Максим (1822—1894) — французский писатель, с которым одно время (вторая половина сороковых — начало пятидесятых годов) Флобер был связан узами большой дружбы. Постепенно между друзьями возникли расхождения во взглядах на жизнь и на литературу. Флобер с иронией следил за деятельностью Дю Кана, осуждал его карьеризм, буржуазно-деляческую предприимчивость, его взгляд на литературу как на средство личного преуспевания... В одном из писем к Буйле в период работы над романом «Госпожа Бовари» Флобер заметил, что люди, подобные Дю Кану, являются для него и его друга идейными противниками. Дю Кан напечатал «Госпожу Бовари» в журнале «Парижское обозрение» с купюрами, что вызвало глубокое возмущение Флобера. Романы Дю Кана, журнальные его статьи и стихи (сборник стихотворений «Современные песни») рассматривались Флобером как проявление буржуазной пошлости.
От Флобера не укрылся и факт заимствований, которые сделал Дю Кан из его юношеской повести «Ноябрь» для своей «Посмертной книги, или мемуаров самоубийцы». Уже после смерти Флобера Дю Каи выступил с воспоминаниями об авторе «Саламбо», вызвавшими протест Мопассана своим оскорбительным снисходительным тоном Дю Кан выпустил два тома «Литературных воспоминаний», значение и достоверность которых подвергаются сомнению со стороны французских литературоведов. Политическая физиономия Дю Кана достаточно хорошо обрисовывается уже одним тем фактом, что он явился автором «исследования», посвященного истории Парижской Коммуны, проникнутого животной ненавистью к французскому пролетариату. {Это «исследование» Дю Кана послужило причиной осуждения одного из участников Коммуны на каторжные работы — «ужасная история», потрясшая Флобера.}
Дюплан Жюль — брат нотариуса Флобера; человек, пользовавшийся большим дружеским расположением Флобера и Буйле.
Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница. Начало личного знакомства с Жорж Санд и переписки с нею относится к 1863 году. Более десяти лет, вплоть до смерти писательницы, Флобер и Жорж Санд обменивались письмами и, случалось, навещали друг друга.
Не так часто дружба объединяет столь разных во многих отношениях людей, какими были Флобер и Жорж Санд. Между писателями шла полемика по многим вопросам искусства, приходили в столкновение их различные взгляды на мир. Флобер в своих письмах к Жорж Санд развивал излюбленные мысли о литературе объективной, неличной, о праве литератора на выражение собственных убеждений, об отношении к социальному прогрессу, к идеалам социализма и т. д. (см., например, письма к Жорж Санд, написанные в декабре 1866 года).
В письмах к друзьям Флобер иногда посмеивался над демократическими тенденциями в воззрениях Жорж Санд, над ее «социалистическим коньком», но этот критицизм совмещался у него с чувством искренней дружеской привязанности. Письма к автору «Консуэло», в которых Флобер с такой широтой и свободой исповедуется в своих взглядах, настроениях и склонностях, могли быть адресованы человеку, мнением которого дорожат. Таким человеком для Флобера и была Жорж Санд.
Жорж Санд охотно делилась с Флобером воспоминаниями о 1848 годе, (в период работы писателя над романом «Воспитание чувств»), стремясь внушить ему более сочувственное отношение к людям того времени. Исполненная чувств симпатии, внимания и заботы о своем друге из Круассе, писательница вместе с тем не могла понять его литературных терзаний. Размеренная, плавная, методичная работа Жорж Санд над своими произведениями была резким контрастом мучительно медленной работе Флобера, что, разумеется, хорошо сознавал и он сам. «Вы, наверное, не знаете, — писал он Жорж Санд, — что значит просидеть целый день, подперев обеими руками голову, чтобы выжать из своего несчастного мозга одно какое-нибудь слово. У вас мысль течет широким неиссякаемым потоком. У меня же она льется тоненькой струйкой. Мне нужно много поработать над Искусством; тогда лишь я добиваюсь каскада».
Флобер тяжело переживал кончину «дорогого маэстро» — Жорж Санд; через год после ее смерти автор «Простой души» писал Морису Санд (сыну Жорж Санд): «Не знаю, думает ли о ней кто-нибудь столько, сколько я, не считая, разумеется вас? Как я ее оплакиваю! Как она мне нужна. Я начал писать «Простую душу» исключительно ради нее, с единственной целью ей понравиться. Она умерла, когда я дошел лишь до середины моего произведения».
Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель. Знакомство Флобера с Золя началось в 1869 году, с присылки романа «Мадлена Фера». Письма Флобера, адресованные Золя, содержат оценки его произведений. Отношение автора «Госпожи Бовари» к создателю «Ругон-Маккаров» было довольно сложным. Флобер высоко ценил Золя за резкость и силу отображения жизненных конфликтов в его романах, отмечал его наблюдательность, восхищался правдой тех или иных характеров, созданных писателем. Так, уже в 1868 году, в письме к племяннице Каролине, Флобер подчеркивает, что «Тереза Ракэн» — «замечательная книжка, что бы ни говорили». Он с грустью пишет Тургеневу, что литераторы хранят молчание по поводу «Покорения Плассана» — книги, исполненной, по его мнению, свирепой силы, сочности и здоровья. Он защищает от несправедливых нападок роман Золя «Нана», находя в нем черты подлинной эпичности, и т. д. Вместе с тем Флобер резко ополчается в своих письмах к друзьям против теоретических взглядов Золя, против его попыток создать натуралистическую школу в литературе. Он обвиняет автора «Ругон-Маккаров», что тот в своих статьях никогда не упоминает о двух вечных элементах искусства — поэзии и стиле; в пылу полемики он доходит даже до утверждения, что «апломб Золя в отношении критики объясняется его непостижимым невежеством».
Расхождения Флобера с Золя-теоретиком и критическое отношение к натуралистическим тенденциям в его произведениях не мешали автору «Воспитания чувств» по достоинству ценить темперамент Золя, силу его таланта. Флобер писал, что он очень любит двух людей и считает их настоящими художниками — Тургенева и Золя. Золя был частым посетителем Флобера.
Золя разделял по отношению к «отшельнику из Круаосе» чувство глубокого восхищения и искренней дружбы. После смерти Флобера Золя многое сделал, чтобы популяризировать его творчество, он с восторгом писал о художественных достоинствах его книг. Еще при жизни писателя, в 1878 году, Золя растрогал Флобера высокой оценкой романа «Госпожа Бовари», заявив в своей статье о солидарности с основными принципами его реализма.
Каролина (1846—1924) — племянница Флобера, дочь его сестры Каролины Амар.
Клоке Жюль (1790—1883) —доктор, автор трудов по хирургии и анатомии; друг семьи Флоберов.
Коле Луиза — «Муза» (1808—1876) — французская писательница, Флобер познакомился с нею в 1846 году. Интимная связь Флобера с Луизой Коле длилась несколько лет; она закончилась разрывом между ними в период работы Флобера над романом «Госпожа Бовари» (в начале 1855 года).
Огромное количество писем Флобера к Луизе Коле представляет весьма ценную часть эпистолярного наследия писателя. По письмам Флобера к «богине романтиков», как называли Луизу Коле, можно воссоздать не только творческую историю «Госпожи Бовари», но и получить широкое представление о проблемах, волновавших писателя.
Корменен Луи (1798—1868) — французский журналист и театральный критик, с которым Флобера связывала дружба в течение двадцати пяти лет.
Корню Гортензия — молочная сестра Наполеона III.
Лепарфе Филипп — сын Леони, подруги жизни Буйле, усыновленный последним.
Ле Пуатвен Альфред (1816—1848) — поэт-романтик, друг юности Флобера. Несомненно очень большое влияние, которое оказал Ле Пуатвен на Флобера в области социально-философских и эстетических воззрений. Мопассан заметил: «Пренебрегая женщинами, Флобер жил в постоянном возбуждении творческой мысли, в каком-то поэтическом экстазе, который поддерживался ежедневным общением с человеком, бывшим его лучшим другом и первым руководителем, любившим его той братской любовью, которую встречаешь только раз в жизни, — Альфредом Ле Пуатвен».
Лепик — баронесса, дочь префекта одного из департаментов.
Леруайе де Шантпи (1800—1889) — французская писательница, автор романов «Сесиль», «Анжелика Лажье» и др. Флобер не был лично знаком с писательницей. В письмах Флобера к Леруайе де Шантпи нередко поднимаются вопросы религиозно-философского характера (его корреспондентка была ревностной католичкой).
Лорен-Пшиа (1823—1886) — редактировал «Парижское обозрение», в котором печатался роман Флобера «Госпожа Бовари».
Марикур Рене де — французский писатель, автор книги «Две дороги».
Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк, автор трудов «История Франции», «История французской революции» и др. За свои демократические и антиклерикальные взгляды лишился права преподавания в университете.
Матильда, принцесса (1820—1898) —дочь Жерома Бонапарта и Фредерики, принцессы Вюртембергской. Ее салон в Париже в числе других писателей посещал Флобер.
Мопассан Ги де (1850—1893). Мопассан был сыном Лауры Ле Пуатвен, сестры Альфреда Ле Пуатвен, друга Флобера. Флобер дружил и с сестрой своего друга — Лаурой Ле Пуатвен. Флобер называл Мопассана своим учеником и питал к нему глубокую сердечную привязанность; он был критиком и чутким руководителем юного Мопассана в его литературных занятиях. Флобер не только деятельно способствовал формированию писательского таланта Мопассана, но и проявлял постоянную заботу о его литературных успехах, старался облегчить ему доступ в редакции журналов и газет.
Автор «Госпожи Бовари» призывал Мопассана настойчиво вырабатывать в себе талант, то есть «долгое терпение». Он учил своего молодого друга неустанному труду и терпению, наблюдательности, вниманию к языку, к образным средствам литературы. Мопассан проходил под руководством Флобера суровую школу взыскательного писательского труда. Впоследствии Мопассан с чувством глубочайшего уважения и любви к памяти учителя и друга вспоминал о советах Флобера, всем сердцем стремившегося передать ему богатый опыт художника-реалиста, свое возвышенное представление о профессии литератора. Отношения между двумя писателями с достаточной ясностью обнаруживают себя в словах Флобера, обращенных к Мопассану. «Ты прав, — писал он ему, — что любишь меня, молодой человек, потому что твой старик тебя обожает».
Флобер проницательно почувствовал в молодом Мопассане большой и яркий талант; автор блестящих романов и огромного количества великолепных новелл, Мопассан занял место в ряду самых выдающихся писателей Франции, составляющих ее славу и ее гордость.
Мопассан Лаура — мать Ги де Мопассана.
Сабатье Аполлония (по прозвищу «председательница») — в ее доме собирались писатели и художники: Бодлер, Готье, Флобер, Гонкуры и другие.
Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804—1869) — французский критик и писатель; автор серии статей, посвященных «Саламбо». Представляет интерес ответ Флобера на критические статьи Сент-Бёва (см. стр. 214—223).
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). Начало знакомства Флобера с Тургеневым относится к весне 1863 года. Флобер и Тургенев с возрастающим чувством симпатии тянулись друг к другу; их знакомство выросло в глубокую, задушевную дружбу, связывавшую их до конца жизни Флобера.
В письмах Флобера 60-х и 70-х годов встречаются восторженные отзывы о произведениях Тургенева («Вешние воды», «Новь» и др.). Работая над «Искушением св. Антония», «Тремя повестями», пьесами «Слабый пол» и «Кандидат», книгой «Бувар и Пекюше», Флобер внимательно прислушивался к советам Тургенева. Тургенев пытался, хотя и безуспешно, опубликовать в России перевод «Искушения св. Антония». В 1877 году в «Вестнике Европы» Тургенев напечатал переведенные им новеллы: «Легенду о св. Юлиане Странноприимце» и «Иродиаду».
Гонкуры рассказывали, с каким восторгом был встречен Тургенев, впервые появившийся на «обедах Маньи» Тургенев, по словам писателей, рассказывал много интересного о русской литературе. Во время встреч с «москвичом», как называл Флобер Тургенева, писатели затрагивали разнообразные вопросы литературной и общественно-политической жизни. В семидесятые годы Тургенев стал постоянным посетителем «воскресников» Флобера и литературных «обедов пяти», гостил в Круассе, совершал поездки с Флобером к Жорж Санд. Флобер неоднократно горячо рекомендует близким людям произведения Тургенева. Он обращает внимание Мопассана на повесть «Несчастная», которую называет «редким шедевром». В письме к племяннице Каролине он с восторгом отзывается о «Вешних водах» «гиганта Тургенева». В своих письмах к Тургеневу Флобер выражает восхищение его творчеством, писательской манерой, одновременно пылкой и сдержанной, по его определению. Он поражается соединению в произведениях «москвича» «иронии, наблюдательности и колорита», его умению одухотворить пейзажи Огромное впечатление от произведений русского писателя Флобер резюмировал в лаконичной фразе: «Видишь и мечтаешь». Познакомившись с романом «Накануне», Флобер выразил свое восхищение книгой: «Прелестна история Елены; мне нравится эта фигура, так же как и Шубин и остальные». В «Первой любви» он отметил жизненность образа Зиночки и вообще высокое искусство русского романиста создавать женские образы: они, по его мнению, идеальны и в то же время соответствуют действительности. В отзывах Флобера о произведениях Тургенева обращают на себя внимание верные и меткие наблюдения над особенностями творческой манеры писателя, замечания о глубине и живости выведенных им характеров, о проницательности психологических наблюдений в «Степном короле Лире», «Вешних водах». В письмах к Тургеневу Флобер жаловался на равнодушие так называемого общества к литературе, на мрачное состояние общественных дел во Франции, особенно в связи с франко-прусской войной. Он даже пишет племяннице Каролине, что собирается, при первой возможности, спросить у Тургенева, «как стать русским» (письмо от 1 февраля 1871 года)
В свою очередь, Тургенев очень высоко оценивал произведения своего французского друга. В глазах автора «Записок охотника» «Госпожа Бовари», бесспорно, самое замечательное произведение современной ему литературы во Франции. У Тургенева была полная осведомленность о ходе творческой работы Флобера. Со своей стороны он незамедлительно посылал Флоберу французские переводы своих произведений, как только они выходили в свет Он старался держать Флобера в курсе русских откликов на его книги. Так, он сообщал из Бадена в январе 1870 года о появлении статьи в «Русском вестнике», посвященной «Воспитанию чувств».
Тургенев приобщил Флобера к совершенно новому для него миру русской жизни и литературы. Незадолго до смерти Флобера Тургенев познакомил его с одним из величайших созданий русской литературы — эпопеей Толстого «Война и мир». Флобер выразил свое глубокое восхищение гениальным творением Толстого.
Тургенев был потрясен известием о смерти Флобера, которое застало его в России. В письме к Золя, написанном из Спасского, Тургенев, говоря о своем горе, подчеркивает, что Флобер был для него человеком, которого он любил более всех на свете.
Тэн Ипполит (1828—1893) — французский историк, философ-позитивист и критик, автор книг «История английской литературы», «Происхождение современной Франции», «Философия искусства» и др.
Фейдо Эрнест (1821—1873) — французский писатель, друг Флобера, автор романов «Фанни», «Даниэль» и др.
Флобер Ахилл — брат Гюстава Флобера, хирург.
Шарль-Эдмон — журналист, редактор газеты «Пресса».
Шевалье Эрнест (1820—1882) — друг детства и юности Флобера; к нему написано первое письмо Флобера. В 1845 году, после окончания юридического факультета, Шевалье занял должность помощника прокурора на Корсике. В 1847 году дружба между ним и Флобером была прервана: школьный товарищ автора «Госпожи Бовари» стал мещански «добропорядочной» личностью.
Шлезингер Морис — издатель «Музыкальной газеты»; его жена, г-жа Шлезингер, предмет юношеской любви Флобера, послужила прототипом образа Марии Арну в романе «Воспитание чувств».


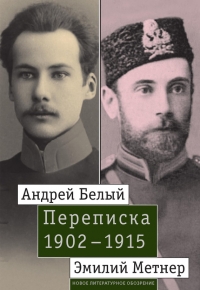
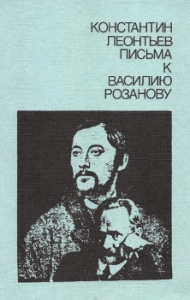
Комментарии к книге «Письма (1835-1880)», Гюстав Флобер
Всего 0 комментариев