Дмитрий Сергеевич Мережковский Письма
Д. В. ФИЛОСОФОВУ[1] 21 апреля 1912 г
[…] Началась опять возня с Павлом:[2] Гитри[3] вытягивает его от Пикара[4] и передает Бернштейну, и больно усердствует. Не знаю, придет ли это к чему-нибудь, но Блок твердо уверен, что Гитри хочет играть пьесу осенью, и что мое присутствие сейчас здесь необходимо. […]
Ф. Д. БАТЮШКОВУ[5] 29 августа 1912 г
г. Ямбург
С.-Петерб. Губерн. — Верино
Глубокоуважаемый Федор Дмитриевич,
[…] 18 сентября меня будут судить за «Павла». Я почти уверен, осудят, но. надеюсь, не сейчас посадят. Хотелось бы раньше кончить «Александра I». А на него тоже точат зубы […]
Ф. Д. БАТЮШКОВУ 27 апреля — 10 мая 1914 г. Paris XVI 11 bis, Av. Mer'ce'de's
Глубокоуважаемый Федор Дмитриевич,
я написал пьесу из современной русской жизни.[6] Она вполне понятна, проста и, кажется, абсолютно цензурна. Мне бы хотелось познакомить с ней Вас. Н. А. Котляревского[7] и В. А. Теляковского.[8] Я возвращаюсь 5 мая в Петербург (выезжаю отсюда из Парижа 3 мая). Надеюсь, что застану Вас в Петербурге? Но застану ли Н. А. и Вл. Арк.? Если пьеса понравится и будет пропущена, очень хотелось бы включить ее в репертуар будущего года. Сообщите об этом, пожалуйста, Нестору Александровичу, если он еще в Петербурге.
Что пьеса З. Н. Гиппиус?[9] Мы об ней не имеем никаких известий.
Не знаю, хороша ли моя пьеса, но из того, что я ее написал. Вы видите, что я все-таки стараюсь и не забываю Л.—Т.—К.[10] До скорого свидания.
Искренне преданный Вам Д. Мережковский.
В. П. ТЕЛЯКОВСКОМУ 11 мая 1914 г. С. Петербург, Сергиевская, 83
Глубокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
должно быть, Вам не переслали моего письма из Парижа. Это тем более досадно, что я одновременно с Вами находился в Париже и мы могли бы переговорить лично.
В моем письме я сообщал Вам, что написал пьесу из современной жизни, которую хотел бы представить на Ваше рассмотрение, а также спрашивал, какова судьба «Зеленого кольца». Судьбу эту я узнал только теперь, по приезде в Петербург. Признаться, я был очень удивлен, ознакомившись с содержанием протокола. Пьеса признана М. Ком.[11] «выдающейся по таланту», «захватывающей», полной «ароматом поэзии», «подкупающей манерой письма и прелестью живого языка», словом, исключительным явлением в русской драматической литературе за последние годы и проч. и проч.(заимствую эти выражения из самого протокола) и все-таки отвергнута, как произведение «ложь на моральные законы», «безнравственное».
Обвинение в «безнравственности» очень тяжелое обвинение и будучи обращено к писателю, который признан талантливым, одаренным свыше, становится едва ли не самым тяжелым из всех обвинений. Обвинять его в безнравственности значит обвинять его в бессовестном, преступном злоупотреблении своим талантом. Для того, чтобы поддерживать такое обвинение нужны веские факты, неопровержимые доводы.
Не только ни одного драматического положения, ни одного чувства и ни одной мысли, высказываемой действующими лицами, но даже ни одного слова, ни намека, уличающего пьесу в «безнравственности» не найдено комитетом и не приведено в протоколе. Все обвинение построено на психологических догадках, интуициях, проникающие в тайные намерения автора, на подозрениях.
Вообще с подозрениями бороться трудно, а иногда невозможно, ибо они по самой природе своей неуловимы, неопределенны, уклончивы и не столько зависят от внешней объективной действительности, от очевидных фактов, подлежащих доказательству или опровержению, сколько от внутреннего психологического состояния самого подозревающего, от самовнушений, в которых возникают призраки. Тут ничего не поделаешь логикой желаний, очевидности: тут белое может казаться черным и самый невинный — преступник, ибо у страха глаза велики. Когда человек боится увидеть призрак, то и полотенце, висящее в полутемной комнате, кажется ему привидением.
Такая именно психология страха, психология подозрения, не считающаяся ни с какой логикой, господствует в протоколе М. Комитета.
Два обстоятельства возбуждают в нем страх: фантастические подозрения, подозрительность; первое то, что молодежь «Зеленого кольца» занимается среди множества других теоретических вопросов и вопросами пола. Такими же вопросами занималось пресловутое общество «Огарков». Вывод не высказывается прямо, но подозревается и влечет за собой другой более общий вывод о безнравственности всей пьесы и самого автора. Такова «логика» страха: полотенце белое и привидение тоже бело — значит полотенце есть привидение. Но стоит приглядеться и вглядеться в пугающую белизну, чтобы увидеть, что полотенце есть полотенце, а не привидение.
В самом деле, то, что «зеленая» молодежь занимается теоретическими вопросами пола нежелательно, ненормально; но нравственная ответственность за это падает не на молодежь, а на исторические, культурные, общественные условия, в которые она поставлена. Это во-первых, а во-вторых: и в теоретических занятиях вопросами пола [4 строки неразборчиво].
NB.
Вот добрая, пусть детски-беспомощная, но добрая, святая воля к чистоте, к целомудренности, к воздержанию, к высшему нравственному идеалу в области пола так же, как и во всех других областях жизни, «Зеленое кольцо» для того и возникло, во всех видах и проявлениях. В этом смысле, они диаметральная противоположность, антипод «Огарков».
— Мне 23 года. Я уже был нечистый… — говорит Борис, старший из этих молодых людей.
— «Это ничего, — отвечает 16-летний Сережа. — А если вы так влюбитесь, что захотите жениться, что ж худого?»
И в самом деле, что ж тут худого? Чистый брак, основанный на чистой любви… — вот [вывод] к которому привели их теоретические занятия вопросами пола. Но ведь это и есть высший идеал христианской нравственности. «Я был нечистый», — говорит Борис с мукой, с болью, с раскаянием и ужасом.
Он ищет спасения от этой «нечистости» своей в оздоровляющей нравственной чистоте «Зеленого кольца». Жажда чистоты, жажда целомудрия и есть главное чувство, одушевляющее их всех. Эти дети могут заблуждаться теоретически, но что воля у них добрая и чистая видно по любви Сережи к Русе, одному из эпизодов пьесы, проникнутому «ароматом поэзии», как выражается протокол Московского Комитета. Это детски-нежная, святая, драматически-восторженная, идеальная любовь. Надо потерять всякое нравственное чувство, чтобы заподозрить в ней что-то нечистое. Такова жизненная, практическая мера того добра, очищения и оздоровления, которую дает «Зеленое кольцо». О какой же тут «грязи» может быть речь. Надо иметь самому грязное, старчески-развратное воображение, чтобы увидеть в этом «грязь».
NB. Протокол употребляет непонятное выражение «грязь вопросов» («грязь» связана с целым рядом вопросов, которое они — гляди [Зеленое кольцо] задает). Какая же может быть «грязь» в вопросах, т. е. в отвлеченных мыслях и теориях.
Фиктивный брак дяди Мики с Финочкой, которым кончается пьеса, есть единственный конкретный «факт» или, вернее, подобие опять-таки и «привидение» факта, на который опирается протокол в своем криминале. Но этот брак не оправдывается, а осуждается самим дядей Микой, как нелепая детская выдумка.
Если же он на него все-таки соглашается, то только явно иронически и потому, что надеется, что сами дети поймут его реальную невозможность и ненужность. Да он и не соглашается вовсе. Вопрос о фиктивном браке так и остается открытым. Сделан намек на глубокое, чистое и нежное чувство, может быть, даже начало влюбленности дяди Мики в Финочку.
Если этому чувству суждено развиться, то мнимый брак сделается истинным. Но это лежит уже за пределами пьесы, и не в задачах автора рассказывать всю дальнейшую судьбу своих героев. Он только изображает данную трагическую коллизию действующего лица.
Во всяком случае, ссылками на то, что молодежь занимается вопросами пола, как на улику безнравственности и ни на чем не основано.
Не менее произвольна ссылка и на другую сторону пьесы — на сочувствие автора к детям, в трагическом столкновении «отцов и детей». Совершенно непонятно, почему нравственно необходимо и обязательно сочувствовать «отцам», а не «детям». Физиологическое рассуждение, в которое пускается Л. Т. К. о несовершенном строении мозга у лиц, не достигших чувственного возраста (какого именно?) переносит вопрос о нравственности или безнравственности действующих лиц пьесы, так и самого автора на такую почву, на которой едва ли возможно признать компетенцию Л. Т. К. Стоит ознакомиться с историческими документами различных эпох и народов, чтобы убеждаться в том, что умственная зрелость наступает у разных поколений в разные годы. Как бы, впрочем, не решали вопрос об отношении физиологического возраста к умственной зрелости не следует забывать, что человеческая жизнь в своих глубочайших основах строится не только умом, но и сердцем. Великое сердце 17-летнего подростка Жанны д'Арк спасло Францию и малолетние сыновья знаменитого героя 12-го года, генерала Н. Н. Раевского,[12] участвовали в Отечественной войне и в славных подвигах отца своего. Неужели это это все «безнравственно», потому что противоречит «физиологии».
М. Комитет предчувствует опасность, которою угрожает отстаиваемой им мысли: «если не обратитесь и не станете как дети, не можете войти в царствие Божие».[13]
Комитет устраняет этот грозный для него текст и утверждает, что евангельские проповеди выше детства, как божественного начала жизни, относится к невинным, тогда как подростки «зеленого Кольца» порочны.
Но мы уже видели, что обвинение это фантастично и призрачно. Нет, святые слова о детстве как о вратах в Царстве Божие остаются в данном случае во всей своей грозной силе и могли бы послужить эпиграфом к пьесе.
«Если пьеса не мистификация, не парадокс очень талантливого человека, то это ложь на человеческую природу, на физические, психологические и, пожалуй, моральные законы», замечает протокол. Тут какое-то вопиющее противоречие: талантливо, художественно и вместе с тем лживо, безнравственно. Казалось бы одно из двух: или художественно и правдиво или лживо и нехудожественно.
Не могу кстати удержаться, чтобы не выразить моего удивления по поводу слова «мистификация», которое позволил себе Моск. Комитет в выше приведенном заключении протокола. Что такое «мистификация»? Сознательный обман. Комитет допускает возможность, чтобы автор, представляя свою пьесу на заседание Дирекции, сознательно желал ввести ее в обман.
Я хорошо помню, Влад. Аркад., Ваше первое впечатление от пьесы: она показалась Вам достойной внимания, как произведение художественное, и никакой «безнравственности» Вы не усмотрели в пьесе. Полагаю, что этого впечатления Вы не изменили и теперь, после отзыва Моск. Комитета.
Какой же практический вывод из настоящего положения. Кажется, возможны два выхода. Первый: принять, ту часть заключения <о пьесе> «Зеленое кольцо», которая признает в ней выдающееся художественное произведение, а другую часть, в которой доказывается «безнравственность» пьесы, отбросить как не входящую в компетенцию Л. Т. Комитета. [неразборчиво 4 строки] Второй вывод: отдать пьесу на вторичное рассмотрение Петербургского комитета, разумеется, без моего участия и присутствия в заседании, на котором пьеса будет рассматриваться.
Во всяком случае, отвергать художественное произведение, признанное «выдающимся по таланту» при настоящей скудости драматической литературы было бы слишком несправедливо и я уверен, что Вы этого не сделаете.
Мне хотелось бы переговорить обо всем с Вами лично, когда Вы приедете в Петербург.
Прилагаю копию с двух писем Ф. Д. Батюшкова о «Зеленом Кольце», а также мою пьесу «Будет радость», которую может быть Вы удосужите прочесть.
Искренне преданный Вам Д. Мережковский.
11 мая 1914 г.
В. А. ТЕЛЯКОВСКОМУ 3 февраля 1915 г.[14]
Глубокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
постановка моей пьесы «Будет радость» в Художественном Театре отложена, по моей просьбе (в виду войны) на будущий сезон. Так как я еще не заключал договора со Станиславским, то имею возможность предложить Вам постановку пьесы в будущем году на сцене Александрийского театра, с тем, чтобы постановка той же пьесы в Москве была оставлена за Художественным театром.
В случае Вашего принципиального согласия я пошлю пьесу на одобрение Московского Лит. — Театр. Комитета.
Ввиду необходимости заключать договор с Художественным театром, хотелось бы знать Ваше мнение по этому вопросу.
Постановка «Зеленого кольца», кажется, идет хорошо, и я этому очень радуюсь не только за автора, но и за Александрийский театр: это за долгое время первая литературная постановка новой пьесы.[15]
Искренне преданный Вам Д. Мережковский
Г. С. САРКИСОВУ 1916 г
[…] Рахмановой сообщите, пожалуйста, Ваш адрес, чтобы она могла Вам доставить пьесу.[16] Пьесу пришлите, если можно, с артельщиком, если не вернет дня через три, а то сами привезите.
В. И. Немировичу-Данченко также сообщите Ваш адрес, если это возможно. Я может быть потелефонирую ему. Я ему предлагаю инсценировку «Петра» на будущий сезон.[17] […]
Н. В. ДРИЗЕНУ[18] 2 июля 1916 г
[…] Посылаю Вам мою пьесу.[19] Если бы Вы успели посмотреть ее до вторника, то очень прошу, сообщите мне об этом, т. к. я буду еще здесь, в городе, до этого дня. […]
Н. В. ДРИЗЕНУ 14 июля 1916 г
Глубокоуважаемый Николай Васильевич, меня беспокоит судьба «Романтиков». Я посылал за пьесой в цензуру в назначенный день, но ее не отдали. […]
Н. В. ДРИЗЕНУ 28 июля 1916 г
Глубокоуважаемый Николай Васильевич, спасибо за письмо и хлопоты. Слава Богу, что все-таки пьеса прошла, хотя исключения цензурные очень обидные по своей неосновательности и произвольности. Мелкие, но грубые…
Одно исключение особенно грубое и ненужное это последние слова Митеньки, которыми пьеса кончается[20] (на стр. 135). У меня большая просьба к Вам: нельзя ли ходатайствовать, чтобы позволили сохранить эти слова, исключив из них, если уж это непременно нужно, то, за что они и запрещены, вероятно? Выписываю, подчеркнув красным карандашом то, что можно бы выпустить, сохранив остальное:
Мит. — Нет, не за наше здоровье, а за здоровье Мих. Кубанина. Пей, гуляй, православный народ! Кричи все: виват свобода, братство и равенство! Виват, Михаил Кубанин!
Нельзя ли также восстановить условные исключения (потому что — «непонятно»): на стр. 134. «Это притча о нем, о М. Куб.» Притча насчет медовых сот в львиной челюсти. Нельзя ли растолковать, что тут нет ничего преступного и понять довольно легко: Кубанин сначала Дьякову казался жестоким, злым (лютым львом), а вот в конце концов оказался-таки добрым — по крайней мере сделал нечаянно добро Дьякову (доброе — кроткое — сладкое — «мед в челюсти львиной»). Вот почему эта «притча о нем, о М. Куб.».
Остальные исключения принимаю с покорностью, хотя с большой грустью, которую Вы, очевидно, разделяете.
Об этих двух восстановлениях очень прошу — особенно о последних словах Митеньки. Иначе всю сцену придется выкидывать, а она важна в сценическом отношении.
Но если просьба моя хлопотлива или трудно ее исполнить, то делать нечего — и эти два исключения тоже принимаю.
Буду ждать ответа. Еще раз большое спасибо за все Ваше хлопоты.
Искренне преданный Вам, Д. Мережковский.
Д. В. ФИЛОСОФОВУ 6 января 1917 г
Сегодня получили твою телеграмму от 5 января. Татьяна[21] пишет тебе каждый день — уже 7 писем, — ответы написала с подробнейшими отчетами, поэтому тебе и не пишем. […]. Сытин[22] приехал и часто бывает. Все мечтает о газете («Дело»). Много любопытного рассказывает о Горьком. Они разошлись, по-видимому, окончательно и бесповоротно.
Зина хотела бы на два дня остановиться в Москве, чтобы взглянуть на «Зеленое кольцо». Да и мне бы надо для «Романтиков». Но боюсь, как бы не простудиться, трепыхаясь по репетициям и знакомым. […]
Д. В. ФИЛОСОФОВУ 20 января 1917 г
[…] «Романтики» идут в Москве 30-го,[23] но я их, должно быть, так и не увижу. Разрываюсь между репетициями и знакомыми. […].
ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА И ОБРАЩЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЭЛЛСУ [Впервые: Последние новости (Париж). 1920. 3 декабря. № 189. С. 2.]
Мистер Уэллс,
Ваш давний поклонник, привыкший видеть в вас редчайшее соединение математически точного ума с гениальной силой воображения, я радостно ждал того, что вы скажете, и горестно был поражен тем, что вы сказали о моей несчастной родине.
«Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Вы не отказали мне в этой милости, подобно Аврааму; но капнули на язык мой, чтобы прохладить его, свинцом расплавленным.
Сейчас не только мы, русские, но и все обитатели планеты Земли, разделились на два стана: за и против большевиков. Вы примкнули к первому. И сколько бы вы ни уверяли, что вы — не коммунист, не марксист, не большевик, вам не поверят, потому что между двумя станами нет середины: кто не против большевиков, тот за них.
Что вы видели в той стране, которую мы, русские, уже не называем «Россией», — нам любопытно знать; но еще любопытнее, — чего вы для нее хотите. Наблюдения ваши могут быть сомнительны, но воля ваша несомненна: вы хотите для России большевизма.
Вы утверждаете, что «сейчас не может быть в России никакого правительства иного, кроме Советского». Что это значит? То ли, что всякий народ достоин своего правительства, как всякое дитя — своей матери? Вы увидели дитя в руках гориллы — и решили, что оно достойно матери. Но остерегитесь, мистер Уэллс: может быть, горилла украла дитя человеческое. Вы вглядывались в лицо России шестнадцать дней; а я — пятьдесят лет. Россия вам — чужая; мне — мать. Поверьте, я сумел бы отличить лицо матери от лица гориллы.
Если бы всегда всякий народ был достоин своего правительства, то не совершилась бы ни одна революция. Но достоинство народов — величина непостоянная: сегодня — достоин, завтра — нет. И если правительство скверное, то надо желать, чтобы завтра наступило как можно скорее. Вы считаете коммунизм нелепостью. Отчего же вы не хотите, чтобы коммунистическое правительство в России было свергнуто?
Некоторый человек попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставивши его едва живым. Священник и левит прошли мимо: оба решили, что этот человек достоин своей участи. Не так ли вы решили, что русский народ достоин своего правительства?
Я получил недавно письмо из России, от близкого мне человека, учительницы в советской школе. Вот несколько слов из него:
«В Москве был такой случай (факт): дети зарезали товарища (10 лет и 11 лет), закопали, мясо его ели, и на суде десятилетний зачинщик не проявил раскаяния, а говорил, что „мясо на вкус ничего, только потом пахнет“. Это рассказывали в Комиссариате Народного Просвещения».
Голодный мальчик, съевший своего товарища, не мог его не есть, так же, как Россия не может сейчас не иметь Советского правительства. Не находите ли вы, мистер Уэллс, что эти две истины одинаково неоспоримы и неутешительны?
Во всяком случае, смею вас уверить — в этом, впрочем, вы, может быть, когда-нибудь уверитесь по собственному опыту, — что примирение с большевизмом, которое вы нам советуете, — «сначала на вкус ничего, а потом пахнет».
Вы полагаете, что довольно одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства.
Я одно время и сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит — «спасение» Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись.
Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою «спасает» Горький? Ценою оподления, — о, не грубого, внешнего, а внутреннего, тонкого, почти неисследимого. Он, может быть, сам не сознает, как оподляет людей. Делает это с «невинностью».
Я многое мог бы рассказать о «спасенных» Горьким, но боюсь повредить оставшимся в руках «спасителя».
Скажу только о себе. Кажется, он не забыл мне книги моей «Грядущий Хам». Когда я имел слабость или глупость написать ему, что умираю от голода, он ничего не ответил, только велел сказать через одного из своих подручных, что выкинет мне собачью подачку — «красноармейский паек». Чтобы остаться в живых, я должен был принимать такие подачки от других большевиков, но не захотел принять от Горького.
Он окружил себя придворным штатом льстецов и прихлебателей, а всех остальных — даже не отталкивает, а только роняет, — и люди падают в черную яму голода и холода. Он знает, что куском хлеба, вязанкою дров с голодными и замерзающими можно сделать все, что угодно, — и делает.
Ленин — самодержец, Горький — первосвященник. У Ленина власть над телами, у Горького — над душами.
«Всемирная литература», основанная Горьким, «величественное» издательство, восхищает вас, как светоч просвещения небывалого. Я сам работал в этом издательстве и знаю, что это — сплошное невежество и бесстыдная спекуляция. Главный агент Горького, Гржебин, скупил за гроши всю русскую литературу, из-под полы, как мешочник; одному писателю платил даже не деньгами, а мерзлым картофелем.
Вас умиляют, а меня ужасают основанные Горьким «Дом наук» и «Дом искусств» — две братских могилы, в которых великие русские ученые, художники, писатели, сваленные в кучу, как тела недобитых буржуев, умирают в агонии медленной. Уж лучше бы их сразу убили — приставили бы к стенке и расстреляли.
Горький — «благодетель» наш. Но не я один, а все русские писатели, художники, ученые, когда снимут веревку с их шеи, скажут вместе со мною: будь они прокляты, благодеяния Горького!
Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех большевиков — хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души.
В Москве изобрели новую смертную казнь: сажают человека в мешок, наполненный вшами. В такой мешок посадил Горький душу России.
Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького. Слышу голос его сквозь ваш, когда вы утверждаете, что большевики так же не виноваты в том, что произошло и сейчас происходит в России, «как австралийское правительство». Ну, еще бы! Не большевики, а австралийское правительство довело Россию до «подобного мира», обрушило пятнадцатимиллионный фронт и похоронило нас под развалинами; не большевики, а австралийское правительство закричало на всю Россию и продолжает кричать на весь мир: «Грабь награбленное!»; не большевики, а австралийское правительство затопило Россию в грязи и в крови чрезвычаек; не большевики, а австралийское правительство гонит на Европу красные полчища пулеметным огнем в спину и голодом. Но обо всем этом хотелось бы мне поговорить с мистером Уэллсом, а не с Горьким.
Я с вами согласен: душить целый народ мертвою петлею, окружить чумной дом часовыми и ждать, пока в нем вымрут все — безбожно и отвратительно. Надо было сразу убить Красного Диавола. А теперь не поздно ли? Но и теперь не надо убелять его; не надо говорить, что, если в чумном доме вымрут все, то в этом будут виноваты часовые, окружавшие дом, а не чума.
В одном вы правы, и честь вам и слава за то, что вы это первый сказали. Силоамская башня на Россию обрушилась не потому, что она виновнее всех остальных народов; если не покаетесь, все так погибнете.
А в заключение, позвольте, мистер Уэллс, напомнить вам: вас же самих.
Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не диаволы, а ваши «марсиане». Сейчас не только в России, но и на всей земле происходит то, что вы так гениально предсказали в «Борьбе миров». На Россию спустились марсиане открыто, а тайно подпольно кишат уже везде.
Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих, а то, что они существа иного мира, их тела — не наши, их души — не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною чуждостью.
Вы, мистер Уэллс, их знаете лучше, чем кто-либо. Вы знаете, что торжество марсиан — гибель не только моего и вашего отечества, но и всей планеты Земли.
Так неужели же вы — с ними против нас?
ГЕРГАРТУ ГАУПТМАНУ Открытое письмо Д. Мережковского [Впервые: Общее дело. 1921. 13 августа. № 392. С. 2.]
Великий писатель немецкого народа,
Гергарт Гауптман,
Прочитав ваш ответ на призыв Максима Горького, я почувствовал необходимость вам написать.
Вы говорите, что призыв миллионов русских людей, гибнущих от голода, услышит Германия, услышат все народы «не только ушами, но и сердцем». К сердцу вашему обращаюсь, г. Гауптман: как могли вы поверить в искренность Горького?
Сейчас отделяет Россию от всего человечества такая же бездна, как тот мир от этого. Все, что сейчас происходит в России, так неимоверно, что этого никто из вас, иностранцев, не побывавших «на том свете» не только понять, но и вообразить себе не может. Вот чем я объясню, что такой великий сердцевед, как вы, не понял, что Горький — не друг, а враг, тайный, хитрый, лицемерный, но злейший враг русского народа.
Неужели забыли вы слова его из недавнего гимна «величайшему, планетарному герою человечества», Ленину? «Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать большевизм почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых», т. е. убийству русского народа.
Когда же он лгал, тогда или теперь? И можно ли верить человеку, который так лжет?
Но для того, чтобы вам объяснить все положение дел, я должен начать немного издалека.
Смысл того, что сейчас происходит в России, так необъятен, что уже никакие меры исторические, политические, социальные, нравственные не вмещаются. Чтобы вместить этот смысл, нужна иная мера, большая, религиозная. Не потому ли мы гибнем так бессмысленно, что глубочайший религиозный смысл происходящего, религиозная точка опоры, небесная твердь нами потеряна? И, пока мы ее не найдем, — не спасемся.
Но раньше, чем думать о религиозном смысле происходящего, надо подумать о простом смысле жизненном.
Прежде всего надо сказать правду: гибель этих миллионов не больше пугает нас, чем все остальное, что было и есть в России. Вообще, нас, русских, уже ничем испугать нельзя. Чаша до края полна: сколько не лей в нее, только через край переливается. Да, нас уже нельзя испугать ничем: самое страшное для нас уже позади. В первый же день Октябрьского переворота мы знали все, что будет, т. е. конечно, не знали, а чувствовали смутно, как тяжесть бреда; но, как ни смутно было это чувство, ни один золотник навалившейся тяжести не пропадал для нас: душа мерила ее с такою же точностью, как стрелка весов мерит тяжесть того, что на весы положено.
То, что русские убийцы начали, другие кончили. Петлю на шею России закинул Ленин, а другие народы затянули.
«Каин, где Авель, брат твой?» — «Не знаю; разве я сторож брату моему?» Если так отвечают они на вопрос о России доныне, то, кажется, скоро ответят уже не так.
Не тот или другой народ, а все народы, все человечество в русской трагедии оказалось бессовестным, — вот что самое страшное.
И еще надо правду сказать: не свергнув советской власти, ничем нельзя помочь миллионам гибнущих людей, так же, как удавленному петлею ничем нельзя помочь, не вынув шеи из петли. Можно только соблюсти приличия.
Когда Распятый на кресте сказал: «жажду», то воины, напитавши уксусом губку и положивши на трость, поднесли к устам Его.
Приличия соблюдут, поднесут губку с уксусом. Приедет Горький и прольет еще несколько бесстыжих слез, выскажет еще несколько «планетарных» пошлостей и все слезы, все эти пошлости будут «повсемирно объэкранены». Все будет сделано, чтобы скрыть правду.
Но поздно: правды не скроют. А правда та, что не только эти миллионы русских людей гибнут от голода, но весь русский народ с ними. Да, весь. Совершается злодейство, от начала мира небывалое: великий народ убивает кучка злодеев и все остальные народы умывают руки или помогают убийцам.
Теперь именно делается выбор между русским народом и его убийцами. «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам». Они сказали: «Варавву, а Иисуса распни: Кровь Его на нас и на детях наших». Как сказали так и будет.
Можно с ума сойти от ужаса, ведь мы все и сходим с ума. Но пока еще не сошли, пока последний луч сознания брезжит, надо сознавать с ясностью то, что мы сознаем иногда слишком смутно, надо твердо помнить то, что мы иногда забываем: нельзя спасти жертвы, не вырвав ножа из рук убийцы. А голод и есть нож в руках большевиков. Голод нужен им, как нож убийце. Голодом только и держится. Убивают, растлевают, и властвуют голодом. Прикармливают своих, а всех остальных держат на границе голодной смерти. Голодом вести их, как ведут быка железным кольцом, продетым сквозь ноздри, — вот и вся тайна их власти, какая нехитрая! И вот почему от голода, как от орудия власти, никогда они не откажутся.
И еще надо помнить: окаянный, окаянный до конца. Чтобы поверить в их исправление, «эволюцию», нужно в самом деле сойти с ума, как сошла с ума и Европа.
Но как же не видите вы, г. Гауптман, из-за бесстыжих слез, из-за «планетарных» пошлостей Горького спокойной и хитрой усмешки Ленина. Миллионов погибших людей не пожалел — не пожалеет и этих гибнущих. Весь вопрос в том, нужна ли ему эта гибель. Кажется нужна сейчас только угроза, ужас гибели, как орудие шантажа всемирного: «А ну-ка, посмейте не дать хлеба голодным». Закинул удочку и ждет, не клюнет ли рыба. Знает, что если и дадут, то очень мало, как раз только, чтобы снова подкормить своих, а над остальными властвовать голодом, вести быка на железном кольце. И насчет гарантий не беспокоится, — обещает, что угодно: не страшны ему никакие гарантии, ведь все равно их исполнить нельзя.
А если эта игра не удастся, то есть и другая в запас. — Россию голодную на сытую Европу кинуть: «победи или подыхай!» Но это — уже игра последняя.
Будем же помнить, что последняя. Недаром царство зверя сделалось мрачно. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно».
Для России пятая чаша — последняя, но не для мира. Всего семь чаш гнева Божьего — новая война всемирная, а седьмая — конец, чаша тех дней, когда «начнут говорить горам: подите на нас! И холмам: покройте нас!»
Неужели же, неужели не опомнится человечество и не скажет вместе с русским народом: «Научи меня, Господи, оправданиям твоим».
Простите, г. Гауптман, если слова мои слишком резки. Я осмеливаюсь высказать вам все это, потому что верю в великое сердце великого художника.
Висбаден,
1 августа 1921 г.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФРИТЬОФУ НАНСЕНУ [Впервые: Общее дело. 1921. 16 октября. № 456. С. 2.]
Г-н Нансен!
Я узнал, что вы прочли «Страшное письмо» русских матерей. Я понял по тем словам, которые вы говорили после прочтения письма, что оно не показалось вам страшным. Вы знали и без него, что русские дети умирают от голода. Вы хотите накормить их во имя «человеколюбия», оставляя в стороне «политику». Но я настоятельно прошу вас обратить внимание, что русские матери, в своем, подписанном кровью, обращении к миру не просят подвезти продовольствие их умирающим детям. Они просят «увезти их из ада», «вырвать из рук палачей». И они, «чтобы не навлечь гнева палачей», даже не смеют подписать своих имен. Скажите, г-н Нансен, не потому ли письмо не привлекло вашего внимания, что вы нашли его слишком «политическим»? Не показалось ли вам, что матери, называя «палачами» тех, с кем вы миролюбиво договариваетесь и кому исхлопатываете — из человеколюбия — в Европе кредит, — вмешиваются в «политику»? Или, может быть, любовь ваша к человечеству сильнее неразумной любви этих женщин к своим детям? И ваше знание России, русской сегодняшней жизни, глубже чем у них?
Я не сомневаюсь нисколько, что вы искренно уверены в своем человеколюбии и в своей аполитичности, в правоте всего, что вы говорите и делаете. Но именно эта ваша уверенность в себе, позволяющая вам с такою легкостью брать на себя дела величайшей ответственности, приводит меня в изумление. Эта ваша уверенность мне, как психологу, кажется непонятной и даже неестественной. Никакие факты, — ни жизнь, ни смерть, — ничто не рождает в вас мысли, — так ли верен ваш выбор? А выбор ваш сделан, и пора сказать это с полной ясностью: ваш выбор — с убийцами, против убиваемых, — во имя человеколюбия, с палачами русского народа, против русского народа, — во имя России.
«Дети не виноваты, что Ленин сидит в Кремле», говорите вы, г. Нансен. Но спрашиваю вас, как человека, а не как политика: если бы перед вами вместо вашего собеседника стала одна из этих матерей, подписавшихся под письмом к «миру» своей кровью, — что бы вы ей сказали? Осмелились бы вы попрекнуть ее за то, что вмешивается она в политику, называя «палачами» тех, чьим ходатаем вы сделались перед миром? Осмелились бы вы обещать, глядя ей в глаза, что везете хлеб ребенку ее, всем детям и довезете, и провезете этот хлеб мимо телохранителей, единственно нужных советскому правительству? Нет, глядя в глаза русской матери, вы бы не сказали всего того, что вы говорите Европе, г. Нансен. Вы бы не посмели. Может быть, тогда, на минуту, в вас пробудилось бы сознание тяжелой ответственности вашей.
И еще другое ответственное дело вы подняли — приняли назначение вас «комиссаром» русских изгнанников. И тут вы с уверенностью, мне непонятною, решаете, что не они, а вы — судья русских дел. Мы не выбирали вас, г. Нансен. Если бы нас спросили — мы, быть может, не выбрали бы ходатая по делам «правительства», от которого мы спасаемся. Но мы бесправны и должны терпеть того, кого нам назначат. Назначили бы Кашена — и его мы стерпели бы. Однако судить нас, в целях защиты большевистского правительства, мы не хотим вам позволить.
Вы говорите, что мы «ненавидим» большевиков за то, что они отняли у нас «отечество и состояние». О потере отечества говорить не будем. Вы его не теряли, а кто не терял его, тот нас не поймет. Но верьте, что даже эта потеря не может вызвать той беспредельной, той, если угодно, нечеловеческой ненависти, какую мы чувствуем к этим человекоубийцам. И какую, конечно, чувствовали бы и вы, г. Нансен, не будучи русским, но зная их так, как знаем мы.
Что касается «потери состояния», то и здесь, г. Нансен, только ваша неосведомленность в делах русских изгнанников могла вам подсказать ваши слова. Громадное большинство изгнанной русской интеллигенции — люди труда и никакими «капиталами» не обладали. И лучше бы вам было не говорить о том, что мы озлоблены на большевиков — из-за потери «состояния».
Нет, г. Нансен. Вы открыли северный полюс, но сердце человека, сердца людей, закрыты для вас. Вы не отличаете сердца человеческого от сердца звериного. Вы не видите.
Но, не видя, вы — делаете. Не видя, — вы говорите, что видите. И я напомню вам страшное слово:
«Некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
ОБРАЩЕНИЕ К ПАПЕ [Впервые: Последние новости. 1922. 10 мая. № 633. С. 2.]
Святейший Отец,
Имя того, с Кем говорили мытари и грешники, Кто никому не возбранял приходить к Нему, да послужит оправданием смелости моего обращения к Вам, Его Наместнику.
Я только скромный служитель слова и христианин. Очевидец и участник неслыханных страданий христианского народа, к которому принадлежу, близкий свидетель действий тех, кто, называя себя представителями этого народа, убивают его, — я покинул мою родину лишь с целью посвятить все слабые силы мои раскрытию правды, исканию справедливости у людей, не забывших Бога.
Я не один: за мною кровь мучимых и расстреливаемых; трупы, гниющие без погребения; ограбленные, поруганные храмы; безумие матерей, поедающих детей своих. И со мною все, еще не погибшие, погибающие, хранящие надежду на спасение — если не себя, то мира.
С ними вместе, перед лицом Бога Живого, я свидетельствую: те, кто ныне говорят от имени России и называют себя русской властью, — не от имени России говорят: они обманщики, и не власть они русская, — но убийцы. Измученные народы Европы жаждут мира и слепо идут на обман. Но пусть помнят они, что так же и теми же обманщиками обмануть русский народ. Когда они говорят «мир», то наступает всегубительство.
Священнослужители Западной Церкви на святой земле Италии пожимают рукой, касавшейся Божественной Жертвы, окровавленную руку человекоубийц. Знают ли они, что творят?
Знают ли, что в это же самое время в России громятся и грабятся храмы, расстреливается безоружный народ, собравшийся для защиты церквей и пастырей, что награбленные священные сосуды переливаются в слитки и переправляются за границу, для пропаганды, или же продаются, как уже проданы пуды их в Турцию?
Знают ли эти священнослужители, что разговаривают и соглашаются со всемирными насильниками, которые, достигнув власти, поругают и чужие храмы так же, как свои?
Святой Отец! в эту минуту, роковую не только для христиан востока, но и для всего христианского человечества, мы взываем к Вам с верой, надеждой, любовью.
Воссоединение Церквей было издавна молитвою и воздыханием самых вещих, русских людей, предвидевших катастрофу, нас уже постигшую и грозящую всему миру. Церковь Вселенская, — «да будет един пастырь и едино стадо», — наша надежда, наша вера, наша любовь.
Но воссоединение есть великий подвиг любви и жертвы для обеих церквей одинаково. А где любовь, там дух Господень; «где дух Господень, там свобода». Может ли дело любви совершиться руками людей, проповедующих всемирное братоубийство, «гражданскую войну», как единственный метод социального действия?
Может ли дело свободы совершиться руками величайших насильников, которые когда либо существовали за память человечества?
Нет лучшего способа оттолкнуть не только восточную церковь но и весь русский народ от церкви западной, заставить возненавидеть «воссоединение церквей», как новое орудие порабощения, — нет лучшего способа, чем союз Римского Престола со злейшими врагами русского народа, его палачами, и убийцами. Все мы, любящие Россию, не сомневаемся, что неминуемо — близок день, когда ненавистное иго будет свергнуто. Но освобожденная Россия никогда не простит тех, кто хотел воспользоваться временной слабостью ее для того, чтобы наложить на нее тягчайшую цепь. Нет, этого никогда не простит Россия ни в нынешнем поколении, ни в будущем. Если это неимоверное дело совершится, подписан будет конкордат Римского Престола с международною шайкою разбойников, которая называет себя «русскою советскою властью», то святое дело воссоединения церквей будет навсегда погублено.
И не только совесть наша, христиан востока, но и совесть всего христианского человечества, рано или поздно, возмутится против этого темного дела, ибо, воистину нет дела более темного, чем превращение церкви Господней в орудие Духа Тьмы.
Но да не будет! Пусть власти мирские, давно уже отрекшиеся от Бога, признают власть богопротивников, поклоняются Зверю и скажут: «Кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним». Пусть! Мы верим, что не попустит Господь ужаса из ужасов: чтобы Наместник Христа благословил царство Антихриста.
ВОКРУГ «ТАЙНЫ» С. Р. МИНЦЛОВА Письма в редакцию [Впервые: Последние новости. 1925. 26 февраля. № 1485. С. 2.]
I
На заседании Приходского Совета при русской Церкви в Париже, 19 февраля 1925 года, была принята резолюция, выражающая возмущение по поводу рассказа г. Минцлова «Тайна», напечатанного в «Последних новостях» 8 февраля. В этой резолюции признается нежелательным дальнейшее пребывание сотрудника «Последних новостей» И. П. Демидова в числе членов Совета.
По этому поводу мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить: происшедшее дóлжно судить исключительно с религиозной точки зрения, вне всяких политических категорий, так как обвинение в соблазне верующих есть тягчайшее осуждение для христианина.
Дух христианства — прежде всего дух свободы. Имея в себе непоколебимую твердыню догмата, христианский дух допускает все степени приближения к себе, все искания, все сомнения, все исследования. Путь же, на который встал Приходской Совет в своей резолюции, есть скользкий и роковой путь, ведущий к искажению христианства. Предполагать, что большинство верующих, живущих в современной атмосфере неверия, равнодушия или даже прямо антирелигиозного отношения к миру, не подвергаются постоянно неизмеримо большим соблазнам, нежели столкновение с вопросом, поднятым в рассказе «Тайна», не впервые уже встававшим перед христианской совестью (от народных легенд до философски-богословских исканий), — было бы лицемерием, невежеством или крайней наивностью.
В виду кровавой борьбы, происходящей в России, перед Русской Церковью на чужбине стоит особо великая и святая задача твердо держать знамя той свободы и веротерпимости, которые завещаны Самим Основателем христианства.
Религиозно смущенные и встревоженные постановлением Церковно-Приходского Совета относительно И. П. Демидова, и видя в этом постановлении соблазн для верующих, мы призываем Приходской Совет, — вне политических страстей, искажающих христианскую совесть, вновь обсудить этот вопрос, исправить свою ошибку и покинуть тот роковой путь, на который он встал.
Мы надеемся, что голос наш не будет одиноким, и что другие представители русской литературы, науки, философии, общественности — русской совести в изгнании — станут в этой принципиальной борьбе открыто и безбоязненно на ту или иную сторону, ибо молчание в данном случае есть признак религиозной и общественной безответственности.
Ник. Бердяев, Б. Вышеславцев, З. Гиппиус, А. Куприн, И. Манухин (член Приходского Совета), Д. Мережковский
II
Зная И. П. Демидова как верующего человека и полезного церковного деятеля, мы с горечью прочли об устранении его от участия в Приходском Совете в связи с появлением в «Последних новостях» рассказа «Тайна». Полагаем, что напечатание этого рассказа, — в оценку которого мы здесь не входим, — не есть проявление со стороны И. П. Демидова кощунства или соблазна, и выражаем горячее пожелание, чтобы вопрос об участии И. П. Демидова в Приходском Совете был пересмотрен со спокойствием и в соответствии с существом его объяснений.
Ив. Бунин, Ив. Шмелев
ПРИЗЫВ К ПРИМИРЕНИЮ Письмо в редакцию [Впервые: Дни. 1926. 2 апреля. № 970. С. 2.]
Милостивый Государь, г. редактор.
Позвольте нам через посредство Вашей уважаемой газеты сделать следующее заявление:
В душах многих русских верующих людей всегда жила идея христианского всемирного братства и горяча была вера в грядущее воссоединение церквей. Эта вера не покидает их и доселе, несмотря на все гонения, претерпеваемые русской церковью, и несмотря на то, что в действительной жизни еще происходят горестные события, противоречащие нашему исповеданию «единой, святой и апостольской церкви».
И тем более ранят нас случаи, когда некоторые из служителей христианских церквей забывают, что они, прежде всего, — служители Единого Христа, к какой бы церкви они ни принадлежали.
Когда же столкновение между представителями церкви Католической и Православной, являясь в наши дни столкновением как бы церкви торжествующей с церковью гонимой, имеет своим последствием несчастье и, может быть, гибель тысяч невинных детей, юношей и стариков, мы, русские верующие во Христа люди, не можем сдержать нашего негодования.
Представителям того течения в православной церкви, которое враждует с братьями христианами в церкви католической и видит в них лишь вероисповедных врагов, мы должны сказать: опомнитесь! С кем и за что в такие дни враждуете вы?
Но сердце наше осудило бы нас, если бы мы не обратились с тем же и к представителям соответственного течения в западной церкви в лице монсиньора Шапталя и аббата Кенэ, написавших митрополиту Евлогию письмо, по тону и выражениям недостойное священнослужителей христианской церкви и даже просто христиан. Мы отказываемся верить, что за парижским аббатом и епископом стоит вся римско-католическая церковь.
Действие, которым сопровождалось это непристойное по раздражительности и неуместной иронии письмо — была угроза отнять кусок хлеба у обездоленных, выброшенных на чужбину людей. Они на католическую церковь не восставали, но «христиане» избрали ответчиком именно этих обездоленных, которым они до сих пор оказывали помощь… во чье Имя? Во имя Того ли говорят они ныне о размерах этой помощи, Кто сказал: да не ведает ваша левая рука, что творит правая? Во Имя Того ли отнимают они эту милость, Чьи слова были: кто напоит хоть чашей холодной воды одного из малых сих, не потеряет награды своей?
Горек хлеб изгнания, но еще горше хлеб, подаваемый с «молчаливым презрением», и вот, наконец, с презрением явным отнятый.
Наши сердца полны стыдом и ужасом перед совершившимся. Но повторяем: непоколебимы остаются наша вера и наша надежда, что в обеих великих братских церквях найдутся иерархи, просвещенные духом Христовым, которые сумеют преодолеть эти враждующие течения силой любви.
Д. Мережковский
И. Манухин
З. Гиппиус
В. Злобин
Е. Крылова
А. Гиппиус
Т. Манухина
1 апреля 1926 г.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ — АББАТУ Ш. КЕНЭ [Впервые: Дни. 1926. 7 апреля. № 974. С. 2.]
М. Г.
Г. Аббат.
Я радуюсь, что участники Католической организации помощи, еще до появления в печати нашего «Призыва», сочли невозможным сделать ответчиками за выступления некоторой части эмиграции людей, которых сами признали неповинными и помощь свою им возвратили. Это дает мне большое удовлетворение, ибо таким образом взгляды, выраженные в нашем письме, признаны Вами совершенно правильными.
Что касается Вашего последнего письма, г. аббат, обращенного лично ко мне, то для меня, прежде всего, не ясна связь между столкновением сегодняшнего дня, благополучно разрешившимся, и тем письмом от 15 мая 1923 года, на которое Вы указываете.
Я действительно поставил вопрос, почему молчит Рим, когда убивают, истязают, заточают служителей христианской церкви. Я действительно терпеливо ждал ответа три года и, не получая его, готов был ждать и долее. Ныне Вы, насколько я могу Вас понять, находите, что эта моя надежда напрасна, и что я, как будто, даже права не имел подобного вопроса ставить. И хотя, повторяю, мне не ясна связь между помощью эмигрантам, нападками на Вас в некоторых эмигрантских газетах, нашим «Призывом» — и моим письмом 1923 года, я очень рад, что Вы о нем вспомнили. Это дает мне возможность ответить Вам определенно.
Как три года тому назад, так и теперь, я глубоко убежден, что обращение к Церкви, называющей себя «кафолической» (т. е. вселенской), с мольбой возвысить свой голос в защиту убиваемых, истязуемых служителей христианских алтарей — есть не только право, но и долг всякого христианина. Как и три года тому назад, так и теперь я твердо верю, что подобное обращение к Римско-католической Церкви не должно и не может остаться безответным, от кого бы ни исходило.
Если же доныне оно таковым остается, а выступления некоторых католических иерархов как будто подтверждают «молчание Рима», — я не позволяю себе это объяснить не чем иным, кроме полной неосведомленности. Голос гонимых всегда слабее голоса гонителей и удивляться ли, что представители католичества слушая обманщиков, сами оказываются в сетях обмана. Удивляться ли, что высокочтимый о. д’Ербиньи едет на 16 дней в Москву, попадает, как будто «случайно», на совсем не случайный, а специально для него приготовленный, диспут «митрополита» Введенского с Луначарским и затем, вернувшись, в теплых тонах описывает и «беседу», и христианский пыл «митрополита»?
Не ясно ли: достопочтенный отец не знал, что Введенский вовсе не «митрополит», а известный каждому предатель, лично приведший убийц в келью христианского мученика митрополита Вениамина. О. д’Ербиньи, конечно, не знал и не знает, что казни продолжаются, что заместитель патриарха брошен в тюрьму, что диспут, растрогавший его (и даже, как он говорит, евреев), был инсценирован, так как за одно намерение устроить подобный диспут настоящий, — епископ Илларион отправлен по этапу в Соловки. И о Соловках, куда ссылают духовенство сотнями, отцу д’Ербиньи ничего не известно. Он не знает, на какую жизнь и на какую смерть осуждены там священнослужители, как за одну попытку перекреститься их бьют плетью по пальцам. Он мог бы узнать все это, и еще многое другое, прочтя любую русскую газету, хотя бы номер «Руля» от 2 апреля 1926 года — но представители Римской церкви об этом в русских газетах не читают: голос гонимых им еще не внятен.
Скорбь моя по поводу этой неосведомленности слишком глубока, г. аббат, и уважение к Риму слишком искренне для того, чтобы я мог ответить Вам в тоне Вашего замечания: уж не желаю ли я «отлучить и Святейшего Отца от Церкви?» Иронию в вопросах величайшей важности, а также рассуждение о гневе Божьем, о котором Вы решаетесь упоминать, я оставляю Вам, — продолжая верить и надеяться, что правда о гонителях Христа и о гонимых за Имя Его не может не быть рано или поздно услышана Римской Церковью. И я очень удивлен, г. аббат, что эту надежду Вы желаете у меня отнять.
Примите и проч.
Д. Мережковский
ОТВЕТ Г. В. АДАМОВИЧУ [Впервые: Звено. 1927. 27 февраля. № 213. С. 2–3.]
В «Звене» появилась довольно любопытная заметка Георгия Адамовича, в которой он сообщает свои впечатления от аудитории на моих лекциях о Наполеоне. Главное впечатление: «Глубокий провал» между лектором и аудиторией, — по крайней мере, «ее молодой частью». В ней голос лектора был «гласом вопиющего в пустыне». Объясняется же эта «пустыня» тем, что нынешняя послевоенная молодежь будто бы ищет прежде всего благополучия; главное для нее — «ne pas s’en faire», или по-русски «моя хата с краю»; в этом, однако, слышится самому Адамовичу «нечто подлое, по Ломоносову, смердяковское, по Мережковскому». И в заключение, автор заметки, признаваясь, что ему «страшно» за меня, спрашивает, чувствую ли я что «вопию в пустыне» и что мне «никто не откликнется».
Чтобы ясно ответить, нужно, чтобы вопрос был поставлен так же ясно, и, прежде всего, чтобы видно было, откуда он идет, ибо внутренний смысл вопроса — воля его — зависит от этого — от положения и лица того, кто спрашивает. Но положение и лицо Адамовича не ясны. Где он, с кем? С молодежью ли, которой «страстнее всего хочется благополучия», и для которой высшая заповедь: «моя хата с краю»? Судя по некоторым намекам, он, действительно, с нею, и соглашается с ее равнодушным «пожиманием плечами» на ужас старшего поколения: «просто нам хочется жить, и для нас каждая жизненная мелочь так же дорога, как вам любая из наших последних тайн».
Это с одной стороны, а с другой: он как будто соглашается с теми, кто в этом «пожимании плечами» видит нечто «подлое», «смердяковское», и для кого французское: «ne pas s’en faire» или русское: «моя хата с краю», звучит, как циническое: «je m’en f…», «наплевать мне на все». Ему как будто хочется бежать от этой «смердяковской» молодежи. Бежать куда, в какую сторону? Если в мою, то падает его, Адамовича, вопрос: «Не страшно ли мне в моей пустыне?» И возникает другой: «Не страшно ли нам обоим в нашей пустыне?» Если же ему хочется бежать не в мою, а в другую сторону, то, может быть, следовало бы сказать, в какую именно, чтобы я мог знать, с кем говорю, потому что трудно говорить не видя человека в лицо.
Не буду настаивать на том, что мое впечатление от аудитории, сделавшей мне честь выслушать меня, несколько иное, чем у Адамовича, и что впечатление говорящего от слушающих тоже имеет значение, особенно в вопросе о возможных «провалах» и соединениях — в вопросе более трудном и темном, чем это может казаться со стороны, при неясном положении наблюдателя. Не буду, повторяю, на этом настаивать, чтобы не быть заподозренным в самообольщении. Лучше скажу о моем впечатлении, как слушателя, от другой, подобной же аудитории.
В тот же самый день, как я прочел заметку Адамовича, я присутствовал на прениях по докладу П. Н. Милюкова об евразийстве: тут было очень много той самой молодежи, о которой говорит Адамович. Разумеется, всякая аудитория — толпа — со «всячинкой». И тут ее было не мало, — может быть, благодаря присутствию евразийцев, — больше, чем в других аудиториях. Но чему дать перевес, зависит от взгляда, злого или доброго, и, кажется, добрый взгляд глубже видит, чем злой.
И вот, должен сказать по совести, на тех лучших лицах, которые определяли эту аудиторию, как целое, — лицах иногда грубоватых и жестких, иногда страшно — усталых, измученных, не было ничего такого, что усматривает в них Адамович, меньше всего, — цинического французского: «ne pas s’en faire», или русского «моя хата с краю» — «наплевать на все». Нет, этой молодежи не наплевать на Россию; не наплевать и на те «последние тайны», с которыми связаны судьбы России: какая же, в самом деле, Россия без христианства, и какое христианство без «тайны»? Может быть, ей не наплевать и на Европу, у которой она так жадно и страстно учится и, надо надеяться, кое-чему научится. И уж конечно, каждому из этой молодежи не наплевать на свою личную трагедию. А ведь именно в этом — в трагедии — верный залог спасения от «подлого», «смердяковского», ибо существо «подлого» — антитрагическое, а существо трагедии — благородное.
Таково мое впечатление от всех этих молодых лиц, — и не только молодых: тут между молодыми и старшими нет разделения, нет того «провала», который так пугает или соблазняет Адамовича.
Тут же и мой ответ на его вопрос: «страшно» ли мне в моей «пустыне»? Не так страшно, как он думает, потому что в пустыне со мною очень многие. Мир для нас всех, без России — пустыня, и, все мы, говорящие миру о Ней, Ее зовущие в мире — до некоторой степени, «глас вопиющего в пустыне». Но пусть вспомнит Адамович, чей это был глас, и Кому он приготовил путь. Вспомнив это, он может быть, поймет, почему моя надежда все-таки больше моего страха.
А если не поймет и будет утверждать, что в «его поколении» — в «послевоенной молодежи» — верховное правило: «моя хата с краю — наплевать на все», — и если он сам, как я надеюсь, этого не хочет, то мне будет легко обернуть вопрос и спросить его самого: не страшно ли ему в его пустыне?
Еще одно слово в защиту — странно сказать — Наполеона. Адамовичу кажется, что тема эта, в моей идейной постановке, далека от современности, отвлечена и «фантастична». Едва ли с этим можно согласиться, если вспомнить, чем была и что есть идея Наполеона для современной Европы. Но и для России, судя по слухам, доходящим оттуда, тема о Наполеоне, кажется очень современна; там много говорят о нем и, конечно, еще больше думают, между прочим, в той же идейной постановке, — «обуздатель и устроитель хаоса», — которую я имел в виду. Хорошо это или дурно, другой вопрос, но в обоих случаях, дурном и хорошем, с этим нельзя не считаться. Кажется, именно в этом несчитании и заключалась бы действительная «несовременность» и «фантастичность», призрачность.
DE PROFUNDIS CLAMAVI[24] Открытое письмо Эмилю Бюре [Впервые: Возрождение. 1927. 17 октября. № 867.]
Мой дорогой друг,
вы требуете невозможного: чтобы я помолодел — поглупел на шесть лет. Без этого я бы не мог присоединить мой «свободный громкий голос» к тем невнятным, почти загробным, голосам русских писателей, взывающих к «совести мира», к тем страшным голосам, на которые ответило молчанье, еще более страшное.
«Совесть мира»! Мы с вами, Бюре, кое-что знаем о ней и, глядя друг другу в глаза, только усмехаемся, как авгуры. А что, мой умный, старый друг, — ведь и вы, за эти шесть лет постарели, поумнели, хотя слава Богу не так, как я, — а что, не позавидовать ли нам этим юным безумцам, этим погребенным заживо, все еще стучащим в крышку гроба, все еще верящим в «совесть мира»? Страшно задыхаются они, умирают, живые в гробу, но, может быть, все-таки с большим человеческим достоинством, чем мы с вами живем?..
Вы сами виноваты, мой друг, что я пишу это «открытое» и, кажется, слишком откровенное письмо. «Друг» — не пустое слово в моих, в наших устах: русские писатели в изгнанье помнят и никогда не забудут, что вы наш единственный друг во Франции — друг не на словах, а на деле: друзей на словах у нас чересчур много. Это письмо — лучшее доказательство того, что я это помню. Мне бы и в голову не пришло писать его никому, кроме вас. Но знаете, Бюре, сейчас, когда я вам это пишу, я уже начинаю сомневаться, достаточно ли я постарел — поумнел; не покажется ли вам и этот мой чуть внятный голос из преисподней все-таки слишком громким: не бросите ли вы моего письма в корзинку, как невозможное по «молодости — глупости»? Ну что ж, бросайте. Но сначала прочтите. Может быть, когда-нибудь вспомните…
Шесть лет назад, только что вырвавшись живым из гроба, я был так же молод и глуп, как те, оставшиеся в гробу; так же думал, что совесть мира молчит о России, потому что не знает правды; но стоит только сказать ее, чтоб мир возмутился, ужаснулся и кинулся тушить не наш, а свой пожар, спасать не нас, а себя от общей гибели. И я говорил, кричал, вопил, умолял, заклинал. Стыдно вспомнить теперь — или, может быть, не мне стыдиться? — к кому я только не лез с моею правдою.
Лез к папе, чьи кардиналы пили потом здоровье русских коммунистов, этих отъявленнейших за всю историю христианства, антихристовых слуг; лез к маршалу Пилсудскому, смывающему ныне с Польши нечистую кровь Войкова слезами русских изгнанников; лез к мистеру Уэлльсу, севшему, кажется, первым гостем за пир «людоедов»; лез к г. Эррио, осчастливившему Францию признаньем СССР; лез даже к Фритьофу Нансену, получившему свою Приволжскую концессию за тридцать сребреников — цену русской крови…
И вы хотите, Бюре, чтоб я еще к кому-то лез. К кому же? Уж не к этой ли парочке, Дюгамелю — Дюртэну, забывшей за хлопотами о литературной конвенции, спросить своих любезных хозяев-чекистов, отчего в их бокалах так зловеще розовеет шампанское?
Нет, будет с меня!
«Услышьте, узнайте правду о нас», — кричат те из гроба. Как будто вы, французы, европейцы, все народы мира, не знаете правды; как будто не вашими руками, без вашей дружной помощи, сделано с Россией то, что сделано. Нет, мой друг, уж лучше помолчим о правде…
Знаете ли, какое у меня чувство от этих шести лет? Вот какое: я обивал все дороги, лазал на все чужие лестницы, и отовсюду вытолкнут хуже, чем бесстыдный нищий, — как последний дурак, который не может утешиться об украденных у него во время пожара «серебряных ложках». Руки мои избиты до крови даже не о запертые двери, а о глухую стену. В вашей европейской «свободе», в страшном бесчувствии вашем к вашей же собственной гибели, я задыхался, как задыхаются люди, посаженные в чекистскую камеру с пробочными стенами. И вот, Бюре, ужаснитесь моей «неблагодарности»: я иногда не знаю, какая из двух «пробок» удушливей — ваша или наша.
Ужаснитесь, но поймите, почему я не могу сказать ни слова о вопле тех погибающих братьев моих, которых невинный г. Дюртэн невинно называет «анонимами», намекая, что «аноним» значит «трус» или «лжец», и обвиняя их в том, что эти люди «не нашли для своей страны ничего, кроме жестоких слов». Я не буду спрашивать г. Дюртэна, но, может быть, его спросите вы, Бюре, как у него хватило духу осквернить французскую печать этою мерзостью и на что ему эти имена. Не думает ли он, что хлопоты его о литературной конвенции с дьяволом пойдут успешнее, когда анонимы раскроются, и шампанское в чекистских бокалах чуть-чуть больше порозовеет?
И так, ни слова об этом. Лучше я сообщу вам другое письмо из России, может быть, еще более страшное и не менее для вас французов, европейцев, поучительное. Вот оно.
«Вы спрашиваете, что у нас происходит и какие у нас виды на будущее… Сколько бы ни писали в Европе о сегодняшней русской действительности, все это будет далеко от ужаса переживаемых дней… Хватают встречных и поперечных… Впечатление такое, что одна меньшая часть жителей СССР решила переарестовать и по возможности уничтожить другую, большую часть… По Москве сейчас ходит каторжная шутка: так как в Нарыме надзора мало и людей все прибывает, то, в конце концов, там образуется такая армия, что она пойдет на Москву и свергнет большевиков.
Кроме шуток, — в этом, кажется, наша единственная надежда на спасенье… Мы не боремся и не можем здесь судить, почему Европа и Америка, наперекор рассудку и вопреки постоянно произносимым громким речам, поддерживают и питают русский, а с ним и мировой большевизм, но факт остается фактом. Все, все без исключенья у нас убедились теперь в этом. Сами большевики от изумленья разводят руками… Совсем еще недавно, когда Англия выгнала большевиков, и вслед за этим, американский посол, кажется, в Париже в громовой речи приветствовал такой шаг и рекомендовал всему миру последовать английскому примеру, — тогда на одну секунду нам показалось, что мировое затмение начинает проясняться. Но уже через день мы узнали, что Англия совсем не отказывается от торговых связей с большевиками. А еще через неделю, с Америкой было заключено несколько крупных сделок… Вот вам и разрыв, вот и громовая американская речь. Уверяю вас, что все это подействовало на нас гораздо более угнетающе, чем расстрелы и аресты… Большевики только и живы, только и дышат экономическими сношениями с Европой и Америкой. Без этого они буквально не просуществуют и полгода… Если прекратить с ними торговать, тогда они даже не завоют, а прямо станут на колени: делайте с нами, что угодно, голыми руками берите, только спасите от собственных мужиков и рабочих… Ликвидация будет моментальная и беспощадная.
И на мужика, и на рабочего, да и на всех нас сильнее всего психологически действует экономическая помощь большевизму со стороны Европы и Америки. „Значит, мол, наши большевики сильны, имеют всюду своих сильных друзей, если им отовсюду помощь, и кредит, и товары; даже если ненароком прикончат большевика, — сейчас соболезнования от всех министров, все послы иностранные на вокзал собираются покойника чествовать, войска шпалерами ставят, даже короли и президенты им руку жмут и за один стол сажают; а наши еще чванятся, требуют, чтоб музыка их 'Интернационалом' встречала, а министры при этом без шапок стояли; и встречают и шапки скидают. Где же нам-то, с голыми руками, их сковырнуть, когда не только что товары, а и оружие, пулеметы, аэропланы, танки — все это им из-за границы шлют, наперебой одни перед другими?“
Вот так приблизительно рассуждает вся Россия, от низу до верху… Вмешательство Запада вылилось в самую явную и неприкрытую помощь русскому большевизму, который только и дышит, как больной — кислородной подушкой, торговыми сношениями с Западом.
Пусть прекратится это, — кричите, требуйте, умоляйте об этом; оставьте нас за чертой блокады ненадолго, — не бойтесь, не вымрем…
А пока — пока, хорошо это или дурно для будущего, но растет в России ненависть к тем, кто вольно или невольно помогает нашим тюремщикам, и чаще и чаще слышатся голоса: „Эх, пусть бы уже и у них такое же настало житье, — узнали бы они, как с разбойниками якшаться, да краденое скупать и ворам отмычки продавать!“
От себя прибавлю, а что, если дождемся? В некоторых странах весьма даже на керенщину похоже, а за ней ведь одна известная дорога.
Вот вам и ответ, как мы живем и на что уповаем. Не весело? Ну, что делать… Вы ближе к тем, от кого зависит изменить все это, — помогите!» (Письмо из Москвы, «Руль»).
Да, помогите, Бюре! Если решите бросить мое письмо в корзинку, то вырежьте из него это письмо из России и напечатайте; попросите и другие французские газеты перепечатать. Ведь, может быть, оно нужнее того письма — русских писателей: в том — голос кучки, а в этом — всей России; в том — умирающие, а в этом — живые, живучие, бессмертные, потому что Россия бессмертна; в том — последний стон пораженных, а в этом — первый клич к новому бою.
Ну-ка, Дюртэн, посмейте сказать, что и это письмо «анонимное»! Стоит только прочесть его, чтобы увидеть под ним сто сорок миллионов подписей, и чтобы понять, где правда, — в этой ли черноте запекшейся крови или в розовом цвете вашего чекистского шампанского.
Я не хочу вас запугивать, французы, европейцы; я знаю, вы очень бесстрашны; но, когда я читаю эти слова: «Эх, пусть бы уж и у них такое же настало житье!» — мне страшно за вас…
Кажется, люди, народы чаще всего погибают от недостатка воображенья и памяти. Вспомните, что было у нас; вообразите, что может быть и у вас. Ничего не может быть до войны? Но так ли вы уверены, что войны не будет? А что если дождетесь?..
Верьте, мой друг, я бы не хотел переживать снова во Франции то, что я пережил в России. Каждый день я молюсь: да минует вас чаша сия. Но бывают минуты в моей «пробочной камере», когда я повторяю здесь, во Франции, эти слова моих братьев в России: «А что если дождемся?» — я повторяю их с безумной надеждой, что у нас кончится только тогда, когда начнется у вас.
«Мы познали этот путь на Голгофу народов и предупреждаем вас о нем», говорю вам словами тех же братьев моих.
Франция, Европа, мир, перестаньте губить себя, спасать красного дьявола. Совесть мира, проснись! Совесть Франции… Нет, не могу… задохся. De profundis clamavi.
ПИСЬМО Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО [Впервые: Последние новости. 1935. 22 декабря. № 5386.]
Очень хотелось бы мне ответить на каждое из полученных мною к 14-му декабря многочисленных приветствий особым личным письмом, потому что почти в каждом из них было нечто для меня дорогое, особое и личное. Я это сделаю впоследствии, а сейчас, под живым впечатлением этого дня, спешу ответить на то, еще более для меня дорогое, общее и согласное, что послышалось мне в этих приветствиях, идущих иногда от очень умственно и душевно разных, несогласных и даже как будто враждебных друг другу людей.
Все мы, такие разные, разъединенные, идем по тому же трудному, длинному, темному-темному пути, точно подземному ходу, к одной, в самом конце его светящейся точке — к бессмертной надежде увидеть Россию. Мы, бесчисленные, по всему лицу земли рассеянные, и только этой надеждой объединенные, русские изгнанники, — как бы целый народ без земли, душа без тела, — почти такое же чудо всемирной истории, как великое рассеяние народа Божия, диаспора. «Мы, — как сор для мира, как прах, всеми попираемый… Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы». Мы — вечное, пред лицом всего мира, исповедание бессмертной надежды на будущую свободную, счастливую, великую Россию; вечная угроза ее и нашим врагам. Дорого бы дали они, чтобы нас уничтожить, стереть с лица земли. Но не сотрут: мы будем, пока будут они, и не будет свободной России.
Вот то общее, согласное, что почувствовалось мне во всех обращенных ко мне, столь разногласных, приветствиях. Русским друзьям моим я могу ответить на них так же, как ответил французам на банкете 14-го декабря: «Я хорошо понимаю, что ваше братское сочувствие, такое горячее и сильное, обращено как будто ко мне, а на самом деле — к России; я же для вас только предлог и символ, чтобы выразить Ей сочувствие. В этом моя великая радость, и за нее я вас от всей души благодарю».
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ФИНЛЯНДИЮ [Впервые: Последние новости. 1939. 31 декабря. № 6852.]
В эти дни, когда правительство СССР несет смерть, разрушение, ложь в пределы мирной Финляндии, мы, нижеподписавшиеся, считаем себя обязанными заявить самый решительный протест против этого безумного преступления. Позор, которым снова покрывает себя сталинское правительство, напрасно переносится на порабощенный им русский народ, не несущий ответственности за его действия. Преступлениям, совершаемым ныне в Финляндии, предшествовали бесчисленные, такие же и еще худшие, преступления, совершенные теми же людьми в самой России.
Мы утверждаем, что ни малейшей враждебности к финскому народу и к его правительству, ныне геройски защищающим свою землю, у русских людей никогда не было и быть не может. Между Россией и Финляндией не существует таких вопросов, которые не могли бы быть разрешены полюбовно, по мирному соглашению. Вместо этого сталинское правительство, не имеющее никакого права говорить от имени русского народа, проливает, с благословения Гитлера, русскую и финскую кровь. Ради темных замыслов, ради выгод, либо мнимых, либо ничтожных, оно готовит России катастрофу; за его преступления, быть может, придется расплачиваться русскому народу.
Мы утверждаем, что Россия, освободившаяся от коммунистической диктатуры, легко договорится с Финляндией, не нарушив своих интересов и проявив полное уважение к правам и интересам этой страны, которой мы выражаем глубокое сочувствие.
З. Гиппиус,
Н. Тэффи,
Н. Бердяев,
Ив. Бунин,
Б. Зайцев,
М. Алданов,
Дм. Мережковский,
А. Ремизов,
С. Рахманинов,
В. Сирин
Примечания
1
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — журналист, критик, публицист, общественный деятель. Близкий друг семьи Мережковских.
(обратно)2
Речь идет о драме Мережковского — «Павел I», которую автор собирался опубликовать и поставить во Франции.
(обратно)3
Гитри (Guitry) Люсьен (1860–1925), французский актер и драматург. Упоминается в драме Мережковского «Гроза прошла».
(обратно)4
Пикар Эдмонд (1836–1924) — бельгийский писатель.
(обратно)5
Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920) — историк литературы, литературный и театральный критик, общественный деятель. Редактор журнала «Мир Божий» с 1902 г. Управляющий императорскими театрами с апреля 1917 г.
(обратно)6
Имеется в виду пьеса «Будет радость».
(обратно)7
Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) — русский литературовед, академик, первый директор Пушкинского Дома (с 1910 г.).
(обратно)8
Теляковский Владимир Аркадьевич (1860/1861 — 1924). Управляющий Московской конторой императорских театров с 1890 г., директор императорских театров с 1901 по 1917 г.
(обратно)9
Речь идет о пьесе З. Гиппиус «Зеленое кольцо».
(обратно)10
Литературно-Театральный Комитет.
(обратно)11
Московский Комитет.
(обратно)12
Раевский Николай Николаевич (1771–1829), генерал от кавалерии; Александр Николаевич (1795–1868) и Николай Николаевич (1801–1843) — его сыновья, герои Отечественной войны 1812 г.
(обратно)13
Евангелие от Матфея (XVIII, 3).
(обратно)14
Надпись под датой: «Мне пьеса нравится и я думаю, что включить ее в репертуар можно». Подпись В. А. Теляковского.
(обратно)15
Премьера пьесы «Зеленое кольцо» состоялась в Александрийском театре 18 февраля 1915 г. Постановка была осуществлена В. Мейерхольдом.
(обратно)16
Речь идет о пьесе «Романтики».
(обратно)17
Имеется в виду драма «Царевич Алексей», поставленная в 1920 г.
(обратно)18
Дризен (Остен-Дризен) Николай Васильевич (1868–1935), барон — театральный деятель и цензор. Был редактором «Ежегодника императорских театров».
(обратно)19
Имеется в виду драма «Романтики».
(обратно)20
Речь идет о решении Совета Главного Управления по делам печати об удалении из пьесы двух фрагментов. Печатный текст «Романтиков» не содержит исключенных фрагментов.
(обратно)21
Гиппиус Татьяна Николаевна — сестра З. Н. Гиппиус, автор рисунка к пьесе Д. С. Мережковского «Будет радость».
(обратно)22
Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), русский издатель-просветитель.
(обратно)23
Пьеса «Романтики» шла в Петербурге 7. 13. 18. 26, и 30-го января 1917 г.; в Москве — в феврале, марте и апреле.
(обратно)24
Из бездны взываю (лат.) (Псалтырь, 129).
(обратно)

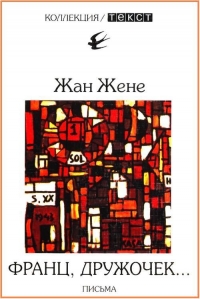
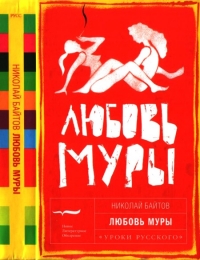
Комментарии к книге «Письма», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев