Гончаров Иван Александрович Письма (1842-1851)
1842
Вл. Н. МАЙКОВ, К. А. МАЙКОВ, И. А. ГОНЧАРОВ, Я. А. ЩЕТКИН и Ю. Д. ЕФРЕМОВА
A. H. и Н. А. МАЙКОВЫМ
Начало октября 1842. Петербург
Любезный брат Попочка, принимаясь писать к тебе, я не надеялся найти перьев и чернил; но по странному случаю в скором времени нашлось то и другое. От всей души благодарю тебя за письмо; ты не поверишь, сколько оно доставило мне удовольствия. В пятницу после обеда, возвращаясь из гимназии, я был встречен обрадованною маменькою, известившею меня о получении из-за границы писем. На другой день она поручила мне снести писанье твое в институт; Боже, что там произвел пакет, который я держал в руках! На Парнасе я встретил Поздееву с плаксивой физиономиею. "Что с Вами, Кат<ерина> Фед<оровна>?" - "Ах, Ангел нездоров, такая тоска!.." - "А я привез письма из-за границы!" - "Ах, душка, читайте скорее, ах, Аполлон!" "Терпение". И я отправился за ширмы к больной тетушке; она лежала в постеле; письмо твое, которое я ей читал, несколько развеселило ее. Прибежал Вахрушонок, прочитал твою писульку, и глазки отуманились, навернулась слезка, другая, третья, пропасть!.. В другом угле послышалось сморканье; гляжу - и Кат<ерина> Фед<оровна> утирает не застывшие перла: "Да о чем вы плачете, Аренькие нимфочки?" - "Ах, Аполлон Николаевич!.."
Оттуда я отправился к Степану, который также был болен и теперь еще никуда не выходит. Письма твои и его весьма обрадовали; итак, ты видишь, что никто не забыл тебя и не уменьшил любви к тебе; напротив, отсутствие твое увеличило ее еще более. Поздравляю папеньку с поимкою окуней, тебя же с носом!.. Теперь-то папенька показал свое искусство в рыбной ловле, и тебе, Попочка, за ним не угнаться. Помните, Papa, как вы тащили на немецкую удочку эдак шестивершкового штукаря? Мы видали виды. В комнате нашей произведена перемена; она украшена картинами и проч. Желаю тебе привыкнуть к какому-нибудь табаку; папенька, я думаю, не ропщет на сигары; а напротив, верно, ими там очень доволен. Скажи ему (а также и себе), что я не позабыл его совета и учусь крепко; особенно полюбил латынь; мы переводим теперь места из разных классиков. Что Серг<ей> Вас<ильевич>? поклонись ему от меня и от всех наших. Нянюшка вам посылает поклоны, с разными прибавлениями. Еще раз благодарю тебя за совет и за письмо. Варвару Александровну в таможне не задержали, потому что не на что было накупить товаров; она после продолжительного вздоха, тако речет: "Ох, были б деньги, так накупила бы!" - Прощай, друг мой, целую вас обоих крепко-накрепко.
Любящ<ий> брат Старик Владимир.
Вы спрашиваете, любезн<ый> друг Аполлон, толстею ли я? да: мои занятия всё те же, то есть я толстею, ленюсь и скучаю, как и прежде, и по обыкновению показываю вид, что замышляю что-то важное; некоторые верят, а других, более опытных, увы! не надуешь. С некоторого времени, впрочем, у меня прибавилось два занятия: 1-е, веду секретную хронику сердечных институтских дел как секретарь, и 2-е, постоянно лечу мыслию за Вами и за любезнейш<им> Николаем Аполл<оновичем> и - признаться ли? - терзаюсь завистию, глубокою и бесплодною завистью, запрещающей мне даже мечтать о путешествии, для меня решительно невозможном. Шлю и Вам, и папеньке сердечный поклон, мечтаю о вашем возвращении как о празднике для вашей семьи, потом для друзей и, наконец, как о празднике для живописи и поэзии. Помните ли Вы, милый Аполлон, что не одна семья ваша да мы, друзья, ждем этого праздника? Прощайте, прощайте - не забудьте преданнейшего
Ивана Гончарова.
P. S. Окуни стали здесь ловиться с конца августа - да как? Охотники ловили в день около ста на Охте.
Что касается до меня, то я вас люблю и помню по-прежнему. К. М<айков>.
Еще слово: как старый учитель, похваляю Вашу новую страсть к отыскиванию надписей на различ<ных> памятниках архитектуры и переводу их на русский язык. Доставленная Вами сюда с переводом прекрасна и носит печать вашего таланта.
Ив. Гончаров.
Что я стану тебе рассказывать в письме моем, любезный Аполлон! Все писавшие к тебе столько старались насказать для тебя интересного, что на мою долю не осталось ни одной крохи, будь она даже мельче чаинки. А между тем прошло полтора месяца с тех пор, как пароход "Ольга" увез нас от Гаврского парохода, на котором мы выпили с вами по последнему стакану, разменялись последними поцелуями, уронили прощальные слезы, которые, однако, не были последними, - я плакал, стоя у борта нашего возвращавшегося в Петербург опустелого парохода, плакал, посвящая воспоминанию о вас горячие страницы дневника моего, и потом с удовольствием смотрел на слезы Чел<аевой>, <1 нрзб.>, Позд<еевой>, когда они слушали мои рассказы о нашем прощаньи. Я радовался за тебя по поводу всех этих слез, потому что они были неложным свидетельством всеобщей к тебе привязанности; все мы чувствовали лишение тебя как любезного члена нашего общества. Но время разлуки минует, мы снова увидим друг друга, а из обильного дождя слез наших возникнет в твоем воспоминании радуга, которая не смоется забвением; тебе отрадно будет обращаться к этой поре твоей жизни как к поре любви, потому что для человека с чувством любить и быть любимым - это наслаждение, кажется, равносильное. - Извини меня, что я обратился к времени давно прошедшему, но по странному стечению обстоятельств Е<вгения> П<етровна> посылала к вам письма с таким секретом, что мне не удавалось до сих пор сказать тебе, что хотелось, со времени нашей разлуки. О себе не стану тебе ничего рассказывать: есть предметы гораздо занимательнее для тебя - напр<имер>, пятницы. После тебя они решительно изменили свой характер: они сделались строги, важны, умеренны; если движение страстей не исчезло, то оно подчинилось самой искусной дипломации, самым спокойным с виду действиям, которые проходят одно в другое или одно сквозь другое, как сквозь невидимую иглу нить еще более невидимая. Мы хотим вести хронику всех замечательных событий в нашем союзе, который не ограничивается одною империею цветов институтом, но заключает в себе и королевство Трузсонию, и Царство жемчужины дам Пеля, и вольный город Юнию, и острова, где растет трын-трава, то есть остров Труда, остр<ов> Беспокойного движения, остр<ов> Комплиментов, остр<ов> Марса, город Сибарис (не тот, который ты, может быть, увидишь при Тарантинском заливе; нет! у нас есть свой, доморощенный) и др. Политические события в этих государствах будут исчисляемы каждый месяц, и ты узнаешь положение дел во время твоего отсутствия, когда Н<иколай> А<поллонович>, обрадовав всех нас своим возвращением на краткое время, поедет опять к тебе с возлюбленною нашею царицею Евгениею, в чертогах которой мы теперь так часто собираемся. Да, мы собираемся часто у нее, но в чем состоят занятия в долгие осенние вечера, ты не угадаешь (если к тебе еще не писали об этом). Перебери в душе своей все возможные ужасти и навряд ты нападешь на что-нибудь близкое к нашим занятиям, которые увлекают всех, и в особенности заражены ими Вл<адимир> Анд<реевич>, Кон<стантин> Ап<оллонович> и Юн<ия> Дм<итриевна>. - Один только Ив<ан> Ал<ександрович> восставал против них долгое время со всею увесистостью своего гнева и лени; он даже набрал однажды полные карманы голышей, чтобы, по его выражению, "побить камением виновника такой злокачественной новости", по счастию, виновник этот ускользнул от беды, не явившись в тот вечер в собрание. Этот виновник был я. Что же за нововведение явил я? - Это откупа. Все пустились в откупа, каждый старается взять на себя откуп, беспрестанно слышишь восклицания: лопнул! треснул! или, если говорят дамы, то: лопнула! - и это с такою нежностию, что ты с удивлением подумаешь, что им ничуть не больно лопнуть. Ты спросишь, что мы берем на откуп? Вино? - нет! Табак? нет. Сердца? Нет! Женщин? нет. - Мы берем в откуп... карты!.. Гром и молния! Diabolo! Sacrebleu!..[1] готово посыпаться на меня, но что же делать, когда нечего делать! - Ты уехал, и наша поэзия прохвачена морозом, пепиньерки заперты, любовь повисла, как парус без ветра... Что же делать, как не держать на откупе права раздавать карты! - Но я вижу, из-под густых бровей Н<иколая> Ап<оллоновича> также сверкают на меня грозные искры. Простите, любезный Н<иколай> Ап<оллонович>, скоро я сам постараюсь вырвать злое семя, брошенное мною в Вашу поэтическую ниву, и заменить его другим, более добрым. Между тем, Аполлон, если ты хочешь показать, что ты хоть сколько-нибудь меня помнишь, то прошу тебя прислать сюда вновь тобою написанные стихотворения; ты знаешь, что и в глаза и за глаза я превозносил их usque ad caelum[2], а теперь мне в них большая нужда. Чтобы не занимать много места, пиши их не по стихам, а так, как пишется проза, или пиши столь же мелко, как пишу я, и не беспокойся о том, что испортишь мне глаза, когда я сам не жалею твоих. Впрочем, я имею основательную причину писать микроскопически: я желаю, в-1-х, сказать тебе побольше, во-2-х, я должен сберечь место для несравненной Ю<нии> Дм<итриевны>, которая желала писать на этом же месте; о! для нее я суживаюсь, сжимаюсь, стискиваюсь, я становлюсь тонее ее хорошенького мизинца на ручке, я делаюсь миньятюрнее ее маленького пальчика на ножке, пуф!... прощайте, любезнейший Н<иколай> Апол<лонович>. Целую вас много-много раз, и тебя также, Аполлон! прощайте... Ю<ния> Д<митриевна> теснит меня... я совершенно исчезаю.... Пуф!.... я превращаюсь в точки.............................................# ......................................
Я. Щ<еткин>.
Не знаю, доволен ли ты будешь, любимый Аполлон, что после уничтожения Яков Александровича я начала беседовать с тобою; во всяком случае ты знаешь, что люди более или менее эгоисты; а потому я очень рада, что он вовремя исчез и доставил мне удовольствие поболтать с тобою. В эту минуту мне всё тебя напоминает, я пишу в твоей комнате, где так часто мы с тобой, сидя на диване, мечтали, пели, болтали, а теперь осталось одно воспоминание. Грустно, очень грустно было нам всем лишиться такого милого собеседника, и теперь в утешенье достаются только письма ваши, которые тетинька сообщает нам. Что сказать тебе интересного о петербургских, до меня, кажется, все постарались удовлетворить твое любопытство. - Сегодня виделись с Толстыми, которые мне поручили от них кланяться тебе и дядиньке. Лиза, кажется, со всяким днем хорошеет. Пепиньерки по-прежнему милы, и хотя я с ними редко вижусь, но всегда говорим о тебе. Конечно, это иначе и быть не может, желая поддержать с ними их любимый разговор, я вполне удовлетворяю себя.
Расцелуй за меня покрепче любезного дядиньку и пожелай ему от меня успеха во всех его предприятиях. Прощай, cher cousin, будь здоров, весел сбереги хоть самое крошечное местечко в сердце своем для истинно тебя любящей Junie.
Евг. П. МАЙКОВОЙ
11 октября 1842. Петербург
Препровождаю с человеком взятые мною в воскресенье 1 и 2 №№ "Москвитянина", и так как Владимир Андреевич позволил мне пользоваться и следующими, то Вы очень обяжете меня, милостивая государыня Евгения Петровна, если пришлете не следующие два номера, потому что я уже читал их прежде, а 5 и 6 или 7 и 8, какие у Вас случатся под рукой и какие Вы, разумеется, не читаете сами. Наконец, если этого ничего нет, то присылкою последней книжки "Отеч<ественных> записок" Вы докажете, что в числе Ваших бесчисленных достоинств, начиная с молодости и красоты, - третье место занимает - любезность в высшей степени.
За ожидаемое одолжение надеюсь на завтрашнем бале Вашем лично благодарить Вас: тогда, если угодно, по порядку исчислю и следующие Ваши достоинства, кроме вышеупомянутых.
Покорнейший слуга Ив. Гончаров.
11 октября
С. С. ДУДЫШКИН, И. А. ГОНЧАРОВ и Вал. Н. МАЙКОВ - А. Н. и H. А. МАЙКОВЫМ.
14 декабря 1842. Петербург
Набожно перечитываю твои письма, Аполлон, слежу за твоими путевыми впечатлениями и жалею, что не могу разделять ни твоих радостей, ни горестей. Мне часто мечтается, как бы приятно вдруг, неожиданно встретиться нам в Риме! Например: вы с Николаем Аполлоновичем отправились удить в Тибре. Река спокойна, виды очаровательны, солнце погружается в Средиземное море; однако рыба не идет на уду. Вы мечтаете, мысль ваша далеко, может быть, и в Петербурге. В это время кто-то также с удочкой сходит на берег, приближается к вам и, считая вас итальянцами, заранее приготовляет итальянскую фразу: "Bona sera, signore, ловится ли рыбка и как ловится, и когда..." Потом он долго всматривается в вас, и вместо всяких фраз вы слышите за собою крик: "Ах свинья, Аполлон!... это ты..." Он бросается к тебе опрометью, запинается за камень... и бух в воду!.. - "Ах, черт тебя побери! ну, брат Аполлон... это ты..." - Ты видишь перед собой Степана без шляпы, полувымоченного падением в воду, в дорожной блузе, в Италии с русскими поговорками, с русским сердцем. Ох, если бы это сбылось. - Да нет! этому не быть! Еще я часто воображал встречу нашу на Симплоне или на Сен-Бернаре. Я представлял, будто я карабкаюсь на гору, беспрестанно бранюсь и сержусь на камни, которые обрываются и сбивают меня с ног; а вы идете с другой стороны и слышите чей-то голос: "Ну гора!... и в Юках меньше... когда, бывало, утром бежал пить чай..." В это время глыба снегу обдала говорившего с ног до головы, он отряхивается, протирает глаза и видит перед собой как будто Аполлона, еще раз протирает глаза - опять Аполлон, трет глаза без милосердия, и всё перед ним Аполлон: "Аполлон, это ты", - и Степан душит тебя в медвежьих объятиях.
Бывают у меня такие мечты, когда сижу один, возвратясь с урока, когда курю трубку и, следовательно, фантазирую. А после опять целый день не мечтаю, опять учу весь свет, опять служу. А уж кого я не учу, и чему я не учу? Всех учу и всему учу. Я наконец до того заучился, что читаю латинскую элоквенцию в одном доме, да ведь так читаю, так гнушу в нос по-шнейдеровски, что хоть бы и тебе поучиться, несмотря на твое необыкновенное знание классических языков и анекдотов. О! я настоящий педагог - плешив и важен! Надеюсь со временем, а может быть, и при жизни, мне воздвигнут памятник, за труды на поприще народного просвещения, славный памятник! Бюст мой будет одет в длиннополый сюртук, персона моя будет держать в руках ферулу, длинную ферулу, лицо будет сиять важным самодовольствием педагога, разоблачившего какую-то истину, прежде недоступную ученикам. - Да, у меня много надежд в будущем!
Прощай, прощай!
Дудышкин.
Еще раз напоминаю о себе: знаю, что голос с родины, чей бы он ни был, дорог вам теперь, а старого приятеля и подавно! Итак, приветствую Вас, бесценный Николай Аполлонович, и Вас, милый Аполлон, - Вас вдвойне: сегодня 14-е декабря, по новому стилю 26-е, - день Ваших именин: вспомните ли Вы о Вашем бедном русском патроне - св. Аполлонии? Куда! Да и как вспомнить, когда там есть Аполлон Бельведерский! не ему ли поклонитесь Вы сегодня, не у его ли подножия проведете этот день? как иначе: наш святой побледнеет перед языческим богом! Очень благодарен, что напомнили о старом, добром и милом товарище Матвее Бибикове. Если он еще в Риме - мой сердечный поклон ему. Забуду ли когда-нибудь его милое товарищество, его шалости, его любезность? Наденет, бывало, пришедши в университет, первый встретивший ему вицмундир, какой увидит на гвозде в передней, потом срисует с профессора карикатуру, споет что-нибудь в антракте, а в самой лекции помешает мне, Барышеву и Мину - слушать: и так частенько проходили наши дни. Это тот самый Бибиков, который для диссертации Каченовскому выбрал сам себе тему: о мире, о войне, о пиве, о вине, о..., и вообще о человеческой жизни. Что сказать вам еще: у вас по-прежнему по воскресеньям сбираются те же лица поболтать, покурить или помолчать глубокомысленно, и все веселы, только все жалеют о вашем отсутствии. С Валерушкой мы видимся довольно часто: он тоже не забывает меня. В институте - скучновато: Натал<ья> Ал<ександровна> скучает: название блаженных не существует, да и пепиньерки стали не те; живут в затворничестве. Вы мне там подгадили раз, и я после Вас подгадил Вам зело - да всё пошло к черту. Прощайте, прощайте.
Если не узнаете меня по почерку, то подписуюсь:
Гончаров, иначе принц де Лень.
Любезный друг Apollo, я приписываю тебе потому, что нечего писать и описывать. У нас ужасная скука; с институтом кончено, любви нет; место ее заменил преферанс. Я ни в кого не влюблен и занимаюсь сельским хозяйством. Впрочем, буду писать подробно в следующем письме.
Валериан.
пепиньерки стали не те; живут в затворничестве. Вы мне там подгадили раз, и я после Вас подгадил Вам зело - да всё пошло к черту. Прощайте, прощайте.
Если не узнаете меня по почерку, то подписуюсь:
Гончаров, иначе принц де Лень.
Любезный друг Apollo, я приписываю тебе потому, что нечего писать и описывать. У нас ужасная скука; с институтом кончено, любви нет; место ее заменил преферанс. Я ни в кого не влюблен и занимаюсь сельским хозяйством. Впрочем, буду писать подробно в следующем письме.
Валериан.
1843
A. H. МАЙКОВУ
2 марта 1843. Петербург
2 марта.
Несколько дней тому назад Владимир Андреевич получил Ваше письмо, любезный Аполлон Николаевич, и как это было в департаменте, то он дал его прочесть и мне. С жадностию читал я Ваши и папенькины строки. Ваши беглые замечания, краткие известия о чужих местах и людях, наконец, о самих себе до крайности любопытны. Может быть, такие письма неудобно бы было напечатать, потому что они писаны без всяких литературных затей и претензий, но зато они трепещут частною, мелкою занимательностию, драгоценною для Вашей семьи и друзей. Ватикан, Колизей, рафаэлева Мадонна и потом, среди всего этого вы с Николаем Аполлоновичем, да русский купец из Флоренции с гречневой крупой - всё это составляет прелюбопытную смесь, нечто вроде итальянских макарон с русской кашей. Но зато что за отрада читать это, и с каким нетерпением ожидаешь приезда Николая Аполлоновича! Вероятно, он, по своему обещанию, теперь уже в пути - оттого я и не обращаюсь к нему. Я не думаю, чтобы кто-нибудь вернее его мог передать всё виденное и слышанное: так он зорок и наблюдателен. Послушаем, послушаем! А теперь скажу несколько слов о присланных Вами стихах, хотя Вы и не требовали моего мнения, но - старая привычка! Притом же, прочитавши Ваше письмо, я пошел к Евгении Петровне, и мы опять вместе прочли стихи - и тут же учинили им разбор в нескольких словах, которые она просила записать и отослать к Вам, что и исполняю.
Все три стихотворения очень хороши, как и всё то (так у нас пишут в официальных рецензиях в газетах), что выходит из-под Вашего пера. Но между ними, однако ж, есть большая разница как в достоинстве изображения, так и исполнения. Первое стихотвор<ение> "Колизей" мне показалось слабее прочих. Эта развалина перед глазами Вашими, освещенная месяцем, под итальянским небом, с роем исторических воспоминаний, должна бы была, кажется, внушить что-нибудь полнее, глубже, отчетистее - нежели то, что Вы написали. Пестрый тигр, рыкающий лев одни - еще не характеризуют Колизея. Это можно назвать почти общим местом в подобном предмете. Люди тут главное - их чувства, их взгляд на это, их восторги при виде зрелища, вот что. На них у Вас обращено менее внимания, нежели сколько бы хотелось. Между тем Вы бросили луч на главное лицо этих кровавых драм - на тирана, которого превосходно назвали малодушным, - только луч слишком слабый. А ведь по его мановению проливалась кровь, рыкали львы. И полно - равнодушно ли смотрел он? Не думаю: точно так же, как и весь римский народ. Будь они равнодушны Колизея бы не существовало: тут были ощущения - но какие! Каких не дай Бог нам испытать с Вами. Вы скажете, что разумели равнодушие к гибели христиан и преступников, словом, - жертв. Нет! Они очень хорошо понимали, чему подвергали несчастных, и приходили в Колизей искать сильных ощущений ужаса, сострадания и т. п., а не просто из любопытства посмотреть жребий борьбы; тогда бы они ограничились травлей зверей или, пожалуй, даже петухов между собой. Испанцы теперь могли бы тоже травить своих быков собаками, а они пускают на них людей и, поверьте, не равнодушно смотрят на гибель последних. Это, конечно, немножко дико и грубовато; да что ж прикажете делать? Зато новейшие люди, огуманизированные, и не занимаются этим, а в необработанной натуре человека есть страстишка к подобным забавам. Стоит только вспомнить свое детство: с каким, бывало, наслаждением раздавишь или даже эдак методически помучаешь какое-нибудь насекомое!
Обработка этого стихотворения, как и всегда у Вас, - мастерская. Стих прекрасный - особенно в картинах, жаль только, что тут Вы почти ими только и ограничились и мало развили идею Колизея. Впрочем, и в исполнении есть грешки - плеща и блеща с этим ударением, и особенно на конце, - нехорошо. Сравнение волос с мехом мне показалось утрированным. Вы затрудняетесь в употреблении слова помавать как глагола действительного, это бы ничего, да сам глагол по себе - как-то некрасив. Не помню, кто-то его употребил из наших классиков, и вышло нехорошо! Второе стихотворение зато прекрасно вполне. Это невольное, безотчетное чувство наслаждения и природою, и руинами уловлено верно. Всякий испытывает его, то есть порядочный человек, но не всякому суждено так выразить, как у Вас. В 1-м стихотвор<ении> Вы поэт живописующий, во 2-м - по преимуществу чувствующий и, наконец, в 3-м, которое мне более прочих нравится, - поэт сатирический, мыслящий, ополчившийся умом и желчию на уклонения современного общества от пути здравого смысла и неиспорченного чувства. Тут Вы прекрасно свели мнения нового, самонадеянного поколения о наших знаменитостях и больно уязвили праздность, скуку и лень нашего века, в том числе и мою, прикрывающуюся гордым плащом какой-то странной философии, как испанский нищий прикрывает плащом жалкие лохмотья. Вот и всё. Не сердитесь - и пишите, пишите до конца. Прощайте. Весь Ваш
Иван Гончаров.
Бибикову дружеский привет!
Напрасно Вы думаете, что я влюблен: фи! нисколько! Валериан даже нарочно водил меня в инстит<ут> развивать во мне чувства, а я там всем и нагруби!
Н. А. и Е. П. МАЙКОВЫМ
22 июля 1843. Петербург
22 июля
Почтеннейший и любезнейший Николай Аполлонович и милостивая государыня Евгения Петровна,
наконец я дождался повода в свою очередь написать вам и напомнить о себе. Вот, скажете вы, нужен какой-нибудь предлог, чтоб писать к нам! Ну да как же не нужен! сами посудите: происшествий никаких не случилось и описывать нечего; в дружбе объясняться нет надобности, потому что недавно расстались и забыть друг друга никак не могли; что касается до любви, то объясняться Вам в ней, Евгения Петровна, нахожу теперь неудобным, даже опасным, потому что письма получает с почты, вероятно, Николай Аполлонович и, пожалуй, прочтет: что тогда будет? Я думаю, Вам и так порядком досталось от него за то, что, садясь здесь в почтовую карету, помните?... но тс... Княгиня, бывшая в числе Ваших провожатых и, может быть, видевшая это, вероятно, и теперь еще не пришла в себя от ужаса. Нет! уж лучше подожду Вашего приезда и тогда. А теперь обращаюсь к предлогу. Во-первых покорнейше прошу отослать прилагаемое письмецо к Владимиру Андреевичу в первый раз, как будете к нему писать, потому что это нужное: дело идет о деньгах для отъезда Солика в Париж. Он просил уведомить меня об них - и здесь необходимо получить ответ его вовремя. Во-вторых - письмо Ваше, Николай Аполлонович, к Петухову еще я не отдал ему, потому что, по Вашему поручению, нужно отдать его, когда родит кто-нибудь... но вообразите мое прискорбие: до сих пор еще никто не родил (я думаю, он нарочно это делает) - и я от этого мучаюсь сам точно в родах, не зная, отдать ли, не дожидаясь этого вожделенного события, или нет; научите - как делать, ждать ли еще или отдать? Если я напрасно ждал, то не сердитесь, пожалуйста: я только буквально следовал Вашему наставлению.
Письма ваши и свое я отправил к Юлии Петровне - и получил уже от нее премилый ответ; но, к сожалению, не могу еще ей написать до 1-го августа (12-го по-вашему) ничего об ее Володе, потому что не вижу его и не знаю, действительно ли он остался на казенной даче, как Солик утверждает, и бывает только у Киреева по воскресеньям. Юлия П<етровна> пишет, что Киреев сам предложил ей взять Володю к себе. - Ваш Старик проживает в Парголове в мирной неге, ходит в сереньком сюртучке и целует беспрестанно свою тетеньку всюду - я думаю, теперь уж некуда ему и целовать ее. - Я был в Парголове два раза и не знаю, поеду ли еще, особенно глядя на наше лето: удивительное! Вот уж дней 12 дождь так и льет!
В течение недели я еще могу кое-как помириться с мыслию, что вы за границей, но едва настанет воскресенье, - я с утра начинаю сильно чувствовать, что вас нет: вы оставили страшную пустоту. Ваш отъезд разъединил как-то и нас всех: почти не видимся друг с другом. Константина Аполл<оновича> мало видно. Солик, Дудышкин и третий их товарищ - сидят вечно дома, очень довольные своим сообществом. Пепиньерок иногда видишь только сквозь решетку окон. Но зато вчера уж вдруг увидал - Бенедиктова и Настасью Степановну (не вместе) на Невском просп<екте>, а Василья Петровича во Франц<узском> театре, где я был с своими кузинами. Вот неожиданное утешение мне явилось нынешним летом, когда все уехали, - это кузины, предобрые и премилые девушки, и очень полюбили меня - ласкают как брата, так что мне иногда совестно бывает за свое черствое, эгоистическое сердце. Вчера все они перед театром семьей посетили меня. Но и те скоро уезжают.
Бенедиктов сделан директором, то есть членом Нового банка, и будет получать семь тысяч рублей. Это обрадует всех знающих его. Место покойное сиди да дремли. Прощайте, когда будете писать сюда к своим, не забудьте и меня.
Вечно преданный И. Гончаров.
Бурьку целую сто раз. Я думаю, он забыл меня.
1844
В. Ф. ШАХОВСКОЙ
8 февраля 1844. Петербург
Я получил Ваше письмо, княгиня, и до сих пор не могу сладить с впечатлением, которое оно на меня произвело. Не знаю, как разделиться: благоговеть ли перед этой святыней, чистотой и возвышенностию чувств матери, супруги, вообще женщины; удивляться ли Вашим благородным усилиям отыскать в сердце каждого хорошую сторону - и утонченному уменью поощрить ее. Да! повторю с Вами: бесконечно разнообразны способы делать добро. Еще несколько таких дней, как вчерашний, еще несколько таких писем, как Ваше нынешнее, - и я из отчаянного грешника, обуреваемого всевозможными нравственными недугами, обещаю сделаться существом порядочным, годным на какое-нибудь духовное употребление. Но замечу, что Вы одни только можете безнаказанно обнаруживать весь блеск и все сокровища Вашего ума и души всюду, всегда и во всем, не опасаясь ни зависти, ни вражды, неразлучных и докучливых спутников всякого достоинства, потому что Ваши достоинства слишком далеко ушли от всего, что в свете называют этим почтенным именем, и мешают возможности соперничать с ними, а скромность, простота и смирение, в которое они облечены, не позволяют завидовать.
Вы теперь говеете, княгиня. Я не побоялся бы сказать, что Вам не в чем исповедоваться перед Богом и что Царство Небесное есть Ваше законное наследие, если бы не мешали этому два греха: 1, частое хождение в Гостиный двор, что обнаруживает суетность... суетность в Вашем сердце! Ou le vice va-t-il se nicher![3] и 2, что Вы сегодня, от высоких и святых помыслов, которые исключительно должны принадлежать теперь Небу, обратили Ваше внимание на такой ничтожный, маленький и грешный предмет, как я. От всей души желаю Вам избавиться от первого греха, то есть от хождения в Гостиный двор, но, как эгоист, буду желать, чтобы Вы погрязли во втором.
Я мог бы еще указать как на грех и на то, что Вам, вместо исправления меня добрым советом, угодно баловать незаслуженными похвалами и одобрениями. Но Бог да простит Вас, как я прощаю: источник этого греха самое сильное и глубокое чувство - любовь матери. В чем Вы обвиняете меня? Что я увлекся беседою с Е<го> С<иятельством> князем Михаилом Николаевичем? Но я не знаю, какой ум и какое сердце поскупятся, не развернутся, останутся твердыми и не выдадут всего доброго и полезного пылкой юношеской любознательности, чистосердечному вниманию, чуждому всякого лицемерия, жадно поглощающему каждое слово, каждое замечание; не знаю, какая суетность устоит, чтобы не бросить зерна на эту богатую и плодотворную почву? Извольте видеть, княгиня, суетность, а не то, что Вам угодно думать. У меня же осталась глупая учительская привычка - ухаживать с своими замечаниями около молодого человека, как скоро я вижу в нем развитие склонностей к доброму и полезному, словом, привычка мешаться в дела, о которых меня не просят. Вам, княгиня, как доброй христианке, следовало бы, отведя меня в сторону, сделать строгое замечание за неуместное вмешательство, тем более что после воспитания, управляемого Вашею нежною, искусною и заботливою рукою, прибавить решительно нечего, что Ваш сын доказывает в каждом слове, на каждом шагу; всё предупреждено, всё предвидено и рассчитано, поэтому мои беседы с ним живо напоминают басню "Муха и дорожные". Постараюсь разочаровать Вас до конца насчет моих поступков. При 10( тепла в моей квартире, при 20( холода на дворе, согретый Вашим радушным приемом, Вашею любезностию, невыразимо лестною внимательностию и постоянно топившеюся печкой, увлеченный картиною семейного быта, которым мне не наслаждаться, мудрено ли, что, при всех этих обстоятельствах, я несколько оттаял и рассорился на целый, проведенный у Вас день с своей постоянной спутницей апатией, был болтлив, даже весел и притворился крайне порядочным человеком, как я не есмь, притворился, потому что притворство в этом случае достоинство, одно, от которого не отрекаюсь. А Вы, вместо наказания, Вы... но позвольте: может быть, я худо понимаю: бороться с умом женщины вообще, и с Вашим в особенности, - подвиг не по моим силам. Не есть ли Ваше письмо деликатная, тонкая, свойственная Вашему уму и сердцу манера - дать почувствовать мою вину и вместе с тем напомнить, что благодарить Вас за радушие и внимательность - было моею обязанностию? Вот я и в тревоге!
Что касается до дружбы моей к Мишелю... Боже мой! что может быть отраднее, как приобресть доверенность и привязанность молодого и неиспорченного сердца. Это выше всех аттестатов и одобрений в мире. Но я боюсь, захочет ли он моей дружбы? После полезных уроков в школе и приятных опытов после школы, в цвете лет и жизни, захочет ли начинающее жить сердце сблизиться с отжившим? Может быть, мое присутствие и речь будут смущать его, как слова "memento mori" или как скелет, всегда присутствовавший на древних египетских пирах, чтобы напоминать о тленности всего живущего. Но старанием моим будет приобрести его доверенность: не знаю, успею ли.
В заключение скажу, что я действительно удивляюсь, как Вы решились писать в этом возвышенном, благородном и духовном тоне ко мне, человеку положительному и материальному, не верующему во многое доброе, сомневающемуся во всем. Добираясь до живой воды, не опасались ли Вы встретить камень? Если нет, то на этот раз Вы не ошиблись, княгиня. Откликаюсь вполне непритворно на Ваше прекрасное воззвание, хотя, простите, не в том тоне и не на том языке. Грубая кора, облегающая ум и сердце, не дает пробиться наружу мыслям и чувствам со всеми их нежными, неуловимыми оттенками, а поспешность откликнуться не позволяет думать и писать на чужом языке: не удивитесь же, что на песнь лебедя откликается нестройный крик гагары.
Agreez, madame la princesse, l'expression de ma consid(ration la plus...[4] нет, не могу: под этим выражением так часто кроется пошлая и грубая ложь, что у меня недостает духу говорить с Вами этим фальшивым языком. Я бы осмелился подражать Вам и уверить Вас также в братской преданности, но у Вас есть братец: может быть, в уме Вашем невольно возникает сравнение... Боже! сколько я потеряю! Итак, будьте уверены, княгиня, прошу уверить и князя в моей глубокой почтительности, признательности и преданности непритворной всегда и во всем.
И. Гончаров.
Вторник.
8 февр<аля> 1844.
Notre correspondence court un grand danger: un billet est dйjа tombй entre les mains du prince si celui-ci tombe - Dieu!
Cette lettre a lottй mon amour propre - je ne veux plus la relire.[5]
1846
Вал. Н. МАЙКОВУ
1846. Петербург
Мы с Языковым два дня сряду шли к Вам, любезнейший Валерушка, и всё не доходили: поравнявшись с Лерхом, захаживали туда и играли на шарокате шаропехами до глубокой ночи. Наконец решились быть у Вас завтра вечером, то есть в пятницу. На случай же, если не застанем Вас дома, он просил меня написать Вам о следующем. В Ваше ведение, вероятно, поступит на днях от Краевского изданная Тютчевым книга "Обычаи разных народов" или что-то эдакое. Вышла только одна 1-я претолстая часть об Индии. Языков просил меня рекомендовать ее Вашему вниманию, но только непременно благосклонному, не столько par camaraderie, сколько потому, что книга действительно этого заслуживает вполне.
До свидания. Может быть, до завтра.
Весь Ваш Ив. Гончаров.
Четверг
1847
И. А. ГОНЧАРОВ, А. И. КРОНЕБЕРГ, Н. А. НЕКРАСОВ, И. И. ПАНАЕВ и М. С. ЩЕПКИН В. Г. БЕЛИНСКОМУ, И. С. ТУРГЕНЕВУ и П. В. АННЕНКОВУ
24 июня 1847. Петербург
1847. 24 июня СПб.
Письмо ваше, Белинский, Тургенев и Анненков, мы получили; я сейчас прочел его вслух Панаеву и М. С. Щепкину, который здесь теперь на несколько дней. Новостей у нас, господа, накопилось много, да вдруг не вспомнишь; памятна мне одна: что в прошлом месяце мы бросили перевод и набор "Манон Леско" и "Леоне-Леони", а в нынешнем не будем продолжать "Пиччинино". Это всё потому, что это романы французские, а к французским романам, по обстоятельствам, не зависящим от редакции, мы с Панаевым почувствовали сильное нерасположение. Был я в Москве; чтоб вы поняли силу этой поездки, расскажу вам анекдот: Краевский приехал в Москву позже меня четырьмя днями; в этот самый день я давал обед московским сотрудникам. Боткин с Галаховым берут шляпы и идут. - "Куда?" - спрашивает Краевский. - "На обед, к Некрасову", - отвечает Боткин. - "А разве Некрасов здесь?" - спрашивает Кр<аевский>. - "Здесь", - отвечает Боткин. - "Он меня предупредил!" восклицает Краевский, а Боткин клянется, что в этом восклицании слышались рыдания и проклятия. И действительно, было о чем пожалеть ему: Боткин в это время был уже, так сказать, законтрактован мною для "Современника"; Кавелин, которому еще прежде Кр<аевский> предлагал взять на себя редакцию и составление исторических статей для "Энциклопедического лексикона", с помощию моею сосчитал буквы в листе "Энц<иклопедического> лекс<икона>" сравнительно с листом "Современника" и не решается меньше взять с листа "Энц<иклопедического> лекс<икона>", как 150 руб. сер<ебром>, и сверх того 200 руб. сер<ебром> за редакцию, а между тем Кр<аевский> предлагал ему только по 100 р. за лист без всякой платы за редакцию, и не случись тут меня - может быть, Кавелин и ошибся бы. Вообще поездка моя была полезна для "Современника": Корш пишет нам статью "История Венеции" и взялся составлять статьи об аглицкой литературе. Грановский написал нам статью "Валленштейн" (действительно написал!) и пишет уже другую о проклятых народах, приискан сотрудник для разбора московских книг; имеется в виду много хороших составных статей: дело в том, что Грановский назвал мне много интересных новых книг, о которых мы с Панаевым в Петербурге и во сне не видали, - и вот из них-то поручено составить статьи; редакцию этих статей, понукание к скорейшему их выполнению и пересылку ко мне взял на себя Боткин; и на будущее время обязанность его будет состоять в том, чтоб приискивать в Москве сотрудников и заказывать для нас составные статьи из новых книг иностранных. Важно и то, что я узнал настоящие мысли москвичей о "Современнике" и пр. и пр., чего не выразишь словами, но что вы легко можете себе представить. А живут москвичи весело: сойдутся двое - посылают за бутылкой, хоть бы в 10-ть часов утра; придет третий - посылают; перейдут к четвертому - посылают и т. д. - славная жизнь!.. Как смеются они над Мельгуновым по поводу его "Современных заметок"!.. Жаль, что нет времени рассказать всех анекдотов, которые случились по этому случаю! Он ужасно обиделся; целую неделю ходил от одного приятеля к другому рассказывать о том, как Панаев в Некрасов несправедливо с ним поступили, - и лицо у него было бледно и строго, в голосе отзывались слезы и благородное негодование. Уморительный анекдот рассказывает о нем Корш. Высидев у Корша часов десять и надоев ему смертельно, он ушел и забыл какой-то сверток. - "Посидел!" говорит Корш, развертывая забытый сверток (он думал, что это какие-нибудь брошюры), - и вдруг посыпались на пол вяземские пряники - в это самое время отворяется дверь и выглядывает бледная фигура Мельгунова. Бормоча что-то, он принялся подбирать пряники и с тех пор не мог взглянуть в глаза Коршу... В самом деле, Мельгунов - и вяземские пряники!.. Будет о москвичах и о "Современнике", да! еще вы спрашиваете, кто писал вторую половину разбора "Дон-Жуана" - Кронеберг (а первую Майков). Кронеберг злой человек, и мне хочется его уговорить хоть изредка разбирать книжонки. А в помещении рассказа Бартенева виноват я, - как у нас не стало в этом № двух романов да еще рассказа "Жид", который мы было хотели напечатать без имени, то с горя и попали тут и "Петербургское купечество", и рассказ Бартенева.
Я не отвечал Вам, Тургенев, на Ваши письма и ничего не писал об успехе Ваших рассказов - по злобе на Вас за надуванье статьей об немецкой литературе. Ну, черт Вам простит! Успех Ваших рассказов повторился еще в большой степени в Москве, - все знакомые Вам москвичи от них в восторге и утверждают, что о них говорят с восторгом и в московской публике. Нисколько не преувеличу, сказав Вам, что эти рассказы сделали такой же эффект, как романы Герцена и Гончарова и статья Кавелина, - этого, кажись, довольно! В самом деле, это настоящее Ваше дело; Белинский говорит, что Вы еще написали рассказ; если не думаете скоро написать другой, то высылайте хоть этот; это нам к осени куда хорошо; нас то и дело спрашивают, будут ли в "Современнике" еще Ваши рассказы. Вот оно куды пошло! На предложение Мюллера мы согласны и даже очень рады; по 50 талеров будем платить с охотой; только уж, пожалуйста, возьмитесь сами списаться с ним обстоятельно, какого рода статьи нам нужны (в особенности хорошо, если он возьмется писать нам об немецкой литературе); присылайте нам его адрес - мы заведем с ним переписку через Кронеберга. "Петушкова" я Вам вышлю; оригинал "Каратаева" сохраню. Вы заработали у нас довольно много денег - за Вами немного; если нужны деньги, я Вам пришлю в Париж, только напишите еще рассказа два к осени.
Наконец слово к Вам, Павел Васильевич: во-первых, жму Вам руку, то есть руку, написавшую письма из Парижа. Во-вторых, попадете в Париж пожалуйста, пишите опять, а я даю Вам слово перечитывать корректуру Ваших писем внимательней, или лучше: заключим условие - за каждую опечатку Вы отныне имеете право взыскать с меня бутылку шампанского при свидании; сколь ни подло, но я буду все меры употреблять, чтоб Вам никогда не пришлось пить моего шампанского; только пишите иностранные слова и собственные имена разборчивее. Вообще я похлопочу, чтоб опечаток в "Совр<еменнике>" было меньше; вся беда в том, что у нас нет хорошего корректора, а во второй корректуре всех ошибок иногда не усмотришь; придется перечитывать по два раза. Письма адресуйте так: в Петербург, в контору "Современника". Прощайте, веселый и злой человек; когда-то я опять Вас увижу?
<Некрасов>.
Здравствуй, Белинский, будь здоров - это от души тебе желает Щепкин, потому что при сем, как нарочно, явился я в Питер, чтобы заочно обнять тебя и пожелать всего хорошего. Как и зачем явился я в Питер, долго рассказывать. Поклонись Анненкову и Тургеневу. Прощай. Твой, хотя и с меньшим брюхом, но всё тот же
Щепкин.
Белинский, очень рад, что Вы поправляетесь. Буду писать к Вам в Париж. Без Вас совершилось много любопытного. Скажите Тургеневу, чтоб он хорошенько растолковал Миллеру, в каком роде должны быть статьи, и чтоб Миллер поскорее принимался писать, ибо у нас еще не было ни слова о германской литературе. Анненкову низкий поклон.
И. Панаев.
Все почитатели Ваши, Виссарион Гр<игорьевич>, с радостью, и я в том числе, разумеется, услышали об улучшении Вашего здоровья и все хором взываем к Вам: возвращайтесь скорей. Ваша последняя статья, Иван Сергеевич, произвела благородный furore, только не между читающею чернью, а между порядочными людьми: что за прелесть!
И. Гончаров.
Скоро ли вернетесь?
Здравствуйте, Белинский, Тургенев и Анненков! Holes Kleeblatt! Будьте здоровы.
Ваш А. Кронеберг.
А. П. и Ю. Д. EФРЕМОВЫМ
22 июля 1847. Петербург
22 июля/3 августа
Почтеннейший и любезнейший Александр Павлович. - Прежде нежели передадите это письмо Юнии Дмитриевне, потрудитесь пробежать его сами и предупредите ее о печальной новости, которую сообщаю. По прочтении ею моего письма прошу Вас вручить ей и другое, прилагаемое при этом письмо без адреса от Евг<ении> П<етровны>. Вот что случилось без Вас здесь: мы все еще не опомнимся. Желаю Вам доброго здоровья и остаюсь искренно преданный
И. Гончаров.
Давая Вам, Юния Дмитриевна, обещание сообщить обо всем, что в Ваше отсутствие будет происходить здесь между нами, я думал служить Вам газетой ежедневного сонного течения мелочных дел, случаев, занятий, которые бы живо напоминали Вам всё, всех и каждого в оставленном Вами кругу. А вот, не прошло еще месяца с Вашего отъезда, а мне приходится начинать свою газету вестью, которая вызовет много, много слез у Вас. Дай Бог, чтоб я мог когда-нибудь сообщить Вам радость, равносильную этому горю: никогда не удастся! Представьте: самый добрый, самый умный, самый лучший из нас... не знаю, как и сказать Вам. Уж лучше расскажу по порядку, как всё случилось, тем более что никто из Майковых не в силах описывать подробностей постигшего их несчастья: всё возложено на меня. 13/25 июля Евг<ения> П<етровна> отправилась с Бурькой в Петергоф к княгине Шах<овской>, с тем чтоб провести у ней этот день (воскресенье) и потом поехать на три или четыре дня в деревню к Оржинским. В понедельник к ней присоединились Ник<олай> Ап<оллонович> с Валерианом, и все четверо поехали к Оржинским. Вечером приехал туда к ним из Гостилиц (это в 5-ти верстах от Оржинских) и Конст<антин> Аполл<онович>. Погода была жаркая и прекрасная, все были очень веселы, особенно Валериан. Утро во вторник (15-е, день Св. Владимира) застало их в таком же расположении духа. После чаю и кофе Ник<олай> Ап<оллонович> ушел в Гостилицы удить рыбу, а Валериан, Конст<антин> Ап<оллонович> и дамы, то есть Евг<ения> П<етровна>, m-me Оржинская и, кажется, гувернантка, пошли за грибами. После 2-х часов ходьбы все воротились домой, утомленные прогулкой и жаром, а Валериан с одним молодым человеком, англичанином, братом гувернантки, отправился купаться тотчас же, не отдохнув ни минуты. Валериан - купаться! человек, который не умел ступить трех шагов на гладком полу ровно, который терялся, когда дрянной извозчик за десять сажень кричал "пади!", который, бывало, пойдет с другими в купальню, разденется, посмотрит на них с берега и оденется опять, - это называлось Валериан купается, - и вдруг он купаться! Вода в пруде, или, лучше, прудишке, - потому что он величиною не больше двух комнат, - не доставала Валериану и по грудь. На берегу стоял Бурька и дети Оржинского. Валериан резвился в воде, прыгал и пел "sinq sous".[6] Он звал настоятельно купаться и Бурьку, говоря, что он его подержит в воде, но Бурька, помня запрещение Ник<олая> Ап<оллоновича>, не пошел. Валериан окунулся два раза, вдруг дети заметили, что, окунувшись в третий раз, он не показывается больше. Бурька тотчас побежал в дом сказать. Поднялась суматоха, прибежали все; Валериана нашли сидящим на дне, вытащили - он был без чувств; положили в постель, терли, пускали кровь, обкладывали пеплом, горячим хлебом, всё было напрасно - он не приходил в себя... Я уж свыкся с печальной мыслью, но вот и в эту минуту задыхаюсь от волнения, когда представляю себе, что и как случилось. Всё это произошло в течение каких-нибудь 10 минут. Конст<антин> Ап<оллонович> говорит, что он не остыл еще от прогулки, когда раздалась беготня по дому и он застал Валериана уже лежащим на диване без чувств: из этого можете заключить, как быстро всё это случилось. Ник<олая> Ап<оллоновича> всё еще не было: за ним послали в Гостилицы и встретили его на дороге. Конст<антин> Ап<оллонович> бросился везде искать доктора и нашел только в Петергофе, то есть в 16 верстах. Ничто не помогло - Валериан умер!!! Не правда ли, странно и безотрадно звучат эти слова? Вы горько заплачете - плачьте: плакали и мы, теперь Ваша очередь: недаром Вы, как и все, любили его более, нежели кого-нибудь другого; чувство даром не дается, дорого иногда приходится платить за него: платите же. А если б Вы видели, как здесь плачут... нет, не плачут: это Бог знает что! Вам не нужно говорить, что было с Евг<енией> П<етровной>. Я видел ее на 4-й день, и все-таки она была ужасна. Я бегал от нее, потому что не в силах был смотреть на муку женщины не чужой нам всем. Что, говорят, было с ней там, в первый, во второй день. Сначала она не плакала, была как помешанная, потом страшно рыдала, наконец выплакала все слезы и теперь покойнее, то есть не плачет, а только стонет: хорошо спокойствие! Ее несколько развлекают беспрерывные разговоры о нем. Говорят, поколебалась и железная натура Ник<олая> Ап<оллоновича>. Он, с пеной у рта, прибежал к телу и начал его ломать, тискать, вертеть, в надежде пробудить жизнь, и опомнился только при имени Евг<ении> П<етровны>. Он наружно стал покоен, иногда даже улыбался, говорил отрывисто. Но Вы знаете, что значит его молчание, улыбка, спокойствие, знаете, сколько силы и глубины кроется под всем этим. Чудный, несравненный человек! Если б Вы видели, как он был прекрасен и жалок в своем безотрадном горе. - Ясно, что Валериан погиб от удара. Кровь у него взволновалась от ходьбы, жар внутри был сильный, и вдруг в холодную воду: кровь и бросилась к сердцу. Говорят, впрочем, что у него сделались и судороги в ногах, и когда они заставили его опуститься на дно, он зажимал будто бы рукой рот, чтоб не захлебнуться, и задохся, но не утонул, не захлебнулся, потому что воды в нем едва ли была одна капля. Хорошо, по крайней мере, что смерть его была мгновенна, как уверяет доктор. Целые сутки лицо его сохраняло обыкновенное выражение, так что Ник<олай> Ап<оллонович> успел вылепить по нем (какова сила духа!) превосходный, чрезвычайно похожий бюст из глины; это было ночью, но кончив работу, он, говорят, упал без чувств. Витали отделает его окончательно, и нам всем, разумеется и Вам, дается по экземпляру. Кроме того, Ник<олай> Ап<оллонович> усердно работает над его портретом. Он просит Вас, ради Бога, прислать ему поскорее дагерротип, с которого хочет снимать портрет. Вы получите опять точно такой же, только прикажите сделать потолще ящик, чтобы стекло не разбилось дорогой. - Нa четвертый день, в пятницу (18 июля) его привезли в заколоченном гробе (он совсем испортился) в Ропшу, в 18 верстах от Стрельны и в 38 от Петербурга, по той дороге, по которой проезжали Вы так недавно на пути в Варшаву. Там его и похоронили, близь самой церкви. Вот наша единственная прогулка за город с тех пор, как Вы уехали. На этих похоронах не было ни одного праздного наблюдателя, ни одного любопытного ротозея, ни даже равнодушного свидетеля. Все единодушно плакали; многие как будто не пришли в себя от неожиданного удара, другие будто не верили, но можно наверное сказать, что у всякого было тесно и душно в груди. Всего было человек 30. Припомню некоторых. Князь и кн<ягиня> Шах<овские> с детьми, Оржинские, Люб<овь> Ив<ановна>, Юлия Петр<овна>, молодая Михайлова с мужем, которая очень плакала, потом Панаев, Некрасов, Языков и все мы, то есть я, Степ<ан> Сем<енович>, Солик, Кобеляцкий, два Штрандмана, Кашкаров и несколько молодых людей, которых не помню или не знаю. Да, еще Мих<аил> М. Силич<?>. Ваши, кажется, и до сих пор ничего об этом не знают. Мы опускали и гроб в могилу. Евг<ения> П<етровна> упала на чью-то могилу, и когда стали засыпать землей, у Ник<олая> Ап<оллоновича> лицо на минуту исказилось, брызнули слезы - и потом опять ничего. Ничего нельзя придумать приятнее, тише, уединеннее места, где покоится наш милый, бесценный Валерушка. Потом... потом все грустные разъехались. Вот вам все подробности. Я не хотел пропустить ни одной и насиловал, так сказать, свою память, потому что сердце мешает припоминать, на глаза являются опять слезы, которые всячески стараюсь скрыть: пишу не дома, а в департ<амент>е. Я знаю, как дороги для Вас эти подробности и потому совершил, скрепя сердце, подвиг: описывая всё это, я как будто вторично присутствую на этих похоронах. Не правда ли, всё это кажется каким-то удушливым, несбыточным сном, от которого хочется освободиться? и нет пробуждения! - Солик уехал во владимирскую деревню и дорогой заедет к Вере Ап<оллоновне>, предупредить Старика. Больше ничего не прибавлю, скажу только, что Вас очень, очень недостает здесь. Вы занимали огромное место, что оказалось после Вашего отъезда. Когда Евг<ения> П<етровна> просила меня писать к Вам, тут были многие, и все в голос закричали, чтобы я напомнил Вам об них: и Юлия П<етровна> с дочерьми, и бабушка (а вот она здравствует себе да похлопывает глазами: непостижимо!), и Степ<ан> Сем<енович>, и Конст<антин> Ап<оллонович>, и Марья Фед<оровна>, и все. - Краевский побледнел, узнавши о смерти Валериана: он потерял единственную поддержку своего журнала. Некрасов, Панаев и другие глубоко жалеют о нем не как о сотруднике; они успели полюбить его независимо от статей. - Прощайте. Не забудьте душою преданного Вам
И. Гончарова.
В тот самый день, когда, помните, мы ездили на острова, Валериан, по возвращении нашем домой, говорил шутя, что если я умру, то он будет писать мой некролог и начнет так: "Гончаров поздно понял свое назначение" и т. д. Судьба распорядилась так, что мне достается писать о нем в "Современнике": что сказать об этом?
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ
25 октября 1847. Петербург
25 октября / 6 ноября
Долго намеревался я медлить ответом на Ваше письмо, Юния Дмитриевна, в отмщение (если это только отмщение) за продолжительное молчание. Но сегодня получил огромную работу по службе и сегодня же прощаюсь с своею ленью и свободой по крайней мере на месяц. Молчать еще месяц - это значило бы слишком далеко простирать свое мщение: да за что же наказывать и себя? Итак, мои последние свободные минуты принадлежат Вам, и я нахожу, что лучше употребить их нельзя. Смотрите, сколько комплиментов в одном только вступлении! о, я знаю, что Вы любите. Присовокупляю еще один: я любовался Вашими письмами, и особенно последним, вот этим, на которое отвечаю, но чем любовался? Нежностью и легкостью пера, что ли, или чувствительностию, которая сквозит даже в обыкновенных фразах и всегда обличает женщину, или, наконец, игривою и кокетливою болтовнею: вовсе нет! А любовался я Вашим навыком писать письма, Вашею дипломатическою манерою, потом господствующею в них консеквентностью и степенностью. Право, так: не сочтите этого, ради Бога, за насмешку. Так и представляю Вас себе с пером в руке за этими письмами, с задумчивою миною, немигающими глазами, сидящею прямо (отчасти и по причине тесной шнуровки: станете ли Вы делать такое важное дело в парессёзке?), словом, воображаю Вас в каком-то строгом чине, пишущею к бесчисленным, разбросанным по всей России тетушкам, бабушкам, в том числе еще и к Ив<ану> Ал<ександровичу>. При такой практике по тетушкам и бабушкам как и не приобресть навыка! А Вы еще скромничали - как писать. Впрочем, среди этих стройных и строгих фраз есть одна, которая много смягчает серьезный тон письма: она уверяет, что Вы "не забываете друзей", а самолюбие внушает мне смелость принять это отчасти и на свой счет. A propos о друзьях и т. п.: почему Вы считаете меня до такой степени бесчувственным, что я не позволяю даже тревожиться о братьях, когда в тех местах, где они живут, холера! - Помилуйте, в Симбирске и холера, и беспрестанные пожары, а там у меня у самого живут мать, брат и две сестры: как не потревожиться?
Лучшее место, однако ж, Вашего письма есть то, где Вы обещаете приехать в декабре. Но зачем так долго! Нельзя ли в ноябре? По крайней мере сдержите слово хоть в декабре. Я, как отъявленный эгоист, не стыжусь признаться, для чего я очень усердно желаю этого. У меня, за отъездом Вашим, один вечер пропадает совсем; как он настанет, то есть такой вечер, когда я, по моему предположению, был бы у Вас, так я и начинаю чувствовать потребность сидеть у Вас на креслах у окна или на маленьком диване, курить папироску и то спорить с Вами и сердить Вас, то тревожить Вас и даже нагонять на Вас минутную тоску преподаванием своей печальной теории жизни и вдруг этого ничего нет! Как я ни старался забыть эти вечера и делать в то время что-нибудь другое - невозможно. Я и играл, и читал, и ходил к так называемым друзьям, прибегал даже к решительным мерам, как-то к крепким напиткам, - нет, один вечер остался незаменим в неделю (вот уж, кажется, пятый комплимент в письме, и какой комплимент: почти весь построен на правде, а если и есть ложь, так разве самая малость). Приезжайте же поскорее.
Отчего же это Вы не читаете "Современника"? А здесь-то хлопочут посылать его к Вам. Рекомендую Вам там в октябрьской книжке письма Герцена из Парижа, из Avenue Marigny, - потом в смеси помещается всегда resume всего, что творится замечательного на белом свете, и у нас, и за границей, следов<ательно>, Вы узнаете, что было здесь без Вас.
На вопрос Ваш, что делается в литер<атурном> мире - ответ немудреный, то есть всё то же: капля меду и бочка дегтю. Мы ожидаем теперь много хорошего от Белинского: он воротился здоровее и бодрее - только надолго ли, Бог весть. Но ведь и прогулки за границу, между прочим в Париж, много помогли ему. Он уж что-то пишет к следующей книжке.
Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут утешительного нечего сказать. Нового ничего нет, да сомневаюсь, и будет ли. Есть известный Вам небольшой рассказ, довольно вздорный: он появится в январской книжке. А теперь он пока у меня, я перечитываю его, кажется, в шестой раз и всё никак не могу истребить восклицательных знаков, наставленных переписчиком черт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да останется. Вот чем пока ограничивается моя литературная деятельность. А то хожу повеся нос, что не мешает мне, однако же, исправно кушать и почивать, ношу с собой везде томящую меня скуку, ко всякому труду, особенно литературному, чувствую холод, близкий к отвращению, и только вот в эту минуту, то есть за этим письмом, тружусь с особенным удовольствием, не знаю почему (шестой комплимент, и уж этот весь чистая правда, иначе письмо не было бы так длинно). Вы говорите, что у нас талантливые люди пишут мало, а бездарные много; и Белинский точь-в-точь этими словами твердит то же самое, а талантливым людям всё неймется: не пишут, бестии! Я тоже немало ругаю их. Ст<епан> Сем<енович> Дудышкин начинает входить в моду: умные и дельные его статьи в "Отеч<ественных> записк<ах>" и частию в "Соврем<еннике>" замечены и расхвалены всеми умными и дельными людьми.
Над Майковыми время оказывает свое благодетельное влияние, то есть острота страдания притупилась, хотя они ни за что не сознаются в этом, особенно Евг<ения> П<етровна>. Она считает это, кажется, оскорблением памяти умершего, Бог знает почему. Она сердилась на меня и на Ст<епана> Сем<еновича> и обвиняла нас в забвении Валериана, потому что мы с ней не говорим о нем, утверждая, что ей от этого легче. Но едва заговоришь, она начинает рыдать. Рана растравляется, а с ней и боль; молчим - смеется: кажется, это лучше, а подите уверьте ее, что забыть умершего - для живого есть благодеяние,- нет, в ее глазах это преступленье. Всем этим я отнюдь не хочу сказать, чтоб они уж и утешились, нет, до этого еще далеко; но по крайней мере плач и рыдания сменились тихою, хотя еще и глубокою горестию. Николай Аполл<онович>, как более твердый человек, более всех и страдает, хотя и молчит. О молодежи нечего и говорить: весело бежит вперед и не оглядывается.
Заключу это длинное письмо (дочитаете ли до конца? Не замолчите ли еще месяца на два, чтоб не получать таких длинных ответов?) утешительными для Вас известиями: радуйтесь и веселитесь. Брессан... не воротится, но вместо него явился Монжоз (Monjauz). Я не видал его, но говорят, что он естественностию и благородною простотою игры затмит Брессана, а другие прибавляют, что даже и наружностью; притом ему 21 год. Злые языки прибавляют еще, что все барыни не преминут, по обычаю, перевлюбиться в него, а злейшие говорят, что и Вы сочтете обязанностию сделать то же; приезжайте же поскорее. - Фреццолини принята хорошо, но не с безумием, как у нас водится, - и слава Богу! что за жалкое и смешное ребячество выражать восторг до унижения! И уж пусть бы было свое, а то ведь и это переняли у итальянцев; что за краса северному жителю корчить страстную, южную натуру? Еще певица Анжи: публика еще не разберет, что она - контральто или сопрано. Прочие известны: плешивый Сальви, который лучше танцует, нежели поет на сцене. Борcи, которой не изменили, несмотря на Фреццолини, остается всё той же... какой бы? ну? хоть вдохновенной Нормой, пожалуй, еtc., etc. Впрочем, я еще никого не слыхал: это я так только.
Надеюсь получить от Вас хоть одно письмо до Вашего приезда, - если нет - буду и я взаимно молчать. Я плачу взаимностью во всем, начиная с любви до переписки: знайте же об этом наперед, если захотите влюбиться в меня или если будете продолжать переписываться. Прощайте - или, лучше, до следующего письма и до личного свидания. Остаюсь всё тот же, неизменно холодный, скучный и дружески почтительный
Гончаров.
1848
П. М. ЯЗЫКОВУ
5 марта 1848. Петербург
Милостивый государь
Петр Михайлович.
На предложение Комитета Симбирской Карамзинской библиотеки, сообщенное мне Вами в письме от 8-го ноября прошлого года, за № 38, о пожертвовании в эту библиотеку моего сочинения, я отвечал, от 26-гo ноября, обещанием доставить мою книгу не позднее января месяца нынешнего года, тотчас по отпечатании ее вторым, отдельным изданием.
Но книга эта, по причине медленности типографии и некоторым другим, не зависевшим от меня обстоятельствам, вышла в свет только на днях, почему и не могла быть доставлена в назначенный мною срок. Теперь же, согласно своему обещанию, я взял смелость препроводить с нынешнею почтою к Вам четыре экземпляра "Обыкновенной истории", из которых один, за моею подписью на Ваше имя, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, принять от меня для собственной Вашей библиотеки, а остальные три препроводить в Комитет Карамзинской библиотеки. В последнюю также пожертвован автором, по моему предложению, препровождаемый вместе с моими книгами один экземпляр романа Ф. М. Достоевского "Бедные люди".
Прося покорнейше извинения в причиняемом мною Вам беспокойстве, я пользуюсь случаем возобновить Вам, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении и преданности.
Иван Гончаров.
5-го марта
1848.
А. А. КРАЕВСКОМУ
12 мая 1848. Петербург
Милостивый государь Андрей Александрович, вчера я случайно узнал, что Вы хотите назвать роман мисс Инчбальд, переводимый в "Отеч<ественных> запис<ках>", Обыкновенной историей. Такое заглавие мне кажется неудобным как для меня, так и для Вашего журнала: для меня - потому, что довольно и одинаких заглавий, чтоб подать повод к нелепому сравнению обоих романов, причем вывод окажется, конечно, не в мою пользу: роман мисс Инчбальд несравненно выше моего. Для чего же давать возможность ставить на одну доску два сочинения, совершенно различные по достоинству и содержанию, во вред одного из них, когда можно избежать этого? И так уже, при выходе моего романа, некоторые, основываясь только на сходстве заглавий, говорили, что я перевел свое сочинение с английского: чего же нельзя ожидать от таких судей? Для Вас, может быть, невыгодно бы было назвать обыкновенной простую историю потому, что Вас стали бы еще, пожалуй, печатно, упрекать в присвоении, из каких-нибудь особенных видов, печатаемому у Вас роману заглавия другого сочинения, которое имело успех. Наконец могут упрекнуть Вас, и весьма основательно, еще и в неверности перевода заглавия: по-английски эта книга называется "Simple story" - простая история, то есть история не сложная, не запутанная, без эффектов и нечаянностей, какова она и есть, но отнюдь не без особенностей как в идее, так и в характере действ<ующих> лиц, следовательно, уже и не обыкновенная; тогда как обыкновенная история значит история - так по большей части случающаяся, как написано.
По всем этим уважениям, я бы покорнейше просил Вас заменить заглавие "Обык<новенная> ист<ория>" тем, которое принадлежит роману мисс Инчбальд в подлиннике, то есть "Простая история". Будучи уверен, что Вы не приписываете никакой важности тому или другому заглавию, я надеюсь, что исполнение моей просьбы не будет для Вас затруднительно.
Прошу Вас принять уверение в моем постоянном уважении и преданности.
Гончаров.
12 мая 1848.
1849
В. Ф. ШАХОВСКОЙ
29 января 1849. Петербург
Благодарю за аккуратную доставку книги и еще более благодарю за отрадное известие о поправлении Вашего здоровья. Когда, наконец, позволено будет взглянуть на Вас? Я теряю всякое терпение.
Между тем препровождаю при этом и последний номер "Современника": там есть прекрасный роман Дружинина "Жюли"; надеюсь, что он доставит Вам удовольствие. Не смею просить об аккуратном возвращении книги: Ваша аккуратность превзошла мои ожидания. Книга не понадобится мне неделю, даже полторы, и потому прошу не стесняться временем: я боюсь, не поторопились ли Вы и не прислали ли мне эти два номера, не успев дочитать?
Осмелюсь предложить один вопрос, который делаю всем своим знакомым, без исключения: нет ли у князя Николая Михайловича или Михаила Николаевича книги моей "Космос", перев<од> Фролова? Не давал ли я им? Я дал кому-то прочесть уже давно, да и забыл, а теперь вот и пристаю ко всем; некоторые из знакомых даже нагрубили мне за этот вопрос; кажется, кончится тем, что я дождусь побоев: от этого я начинаю теперь выспрашивать с острожностию, через супруг, в полной уверенности, что последние не побранят и не побьют меня. Книга эта подарена мне переводчиком, оттого я и дорожу ею.
Mille excuses, madame la princesse, de vous importuner par tout ceci. Je vous prie de recevoir mes hommages les plus respectueux.[7]
Gontcharoff.
Le 29 Janvier
1849
H. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
13 июля 1849. Симбирск
Симбирск, 13 июля 1849.
Здравствуйте, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, и вы здравствуйте, дети мои, но не мои дети!
Вот скоро месяц, как я оставил вас, а благословенного Богом уголка достигнул только с неделю тому назад. Где и как ни странствовал я? Заносила меня нелегкая в Нижний, проволокла даже до татарского царства, в самую Казань, где я прожил двое суток. Затерялся я совсем между чуваш, татар и черемис, сворачивал в сторону, в их жалкие гнезда, распивал с ними чай - и везде-то сливки лучше ваших - хотелось даже попробовать мне лошадиного мяса, да сказал один татарин, что неживую лошадку сварили: "сам умер: не станешь, бачка, ашать" (есть). И так не стал. В Москве прожил неделю; меня все тянуло домой. От Петербурга до Москвы - не езда: это прекрасная, двухдневная прогулка, от которой нет боли в боках и голове; чувствуешь только приятный зуд в теле да сладострастно потягиваешься и жалеешь, что она кончилась. Зато дальнейшее путешествие, от Москвы в глубь России, есть ряд мелких, мучительных терзаний. От Москвы до Казани я ехал пятеро суток и чего не натерпелся, а более всего скуки. Одну станцию ехали целую ночь. Отправился я из Москвы в дилижансе (большой тарантас). Судьба послала мне спутницу, которую Демидова выписала в Сибирь на свои заводы, для учреждения там женских или детских приютов. Добрая и простая баба, надоевшая мне смертельно в первые пять минут, а мне предстояло провести с ней пятеро суток: мудрено ли, что я озлобился? Она всячески старалась расположить меня к себе и найти во мне словоохотливого спутника: и чай разливала на станциях, и мух отмахивала от меня, когда я спал; я даже поприучил ее наведываться о лошадях, когда их долго не давали, и, сидя среди ее подушек в экипаже, не без удовольствия посматривал, как она, приподняв подол, шлепала по грязи и заглядывала по крестьянским дворам. Ничто не помогло. Я целую дорогу упорно молчал, глядя в противную от нее сторону, и скрытно бесился, зачем она тут. Бесило меня и то, что она боялась всего: боялась опрокинуться, боялась грозы, темного леса и еще чего-то. А тут как на смех случилось, что тарантас со всей находящейся в ней публикой (кроме меня: я выскочил) оборвался в овраг. Крику, шуму, но беды не случилось особенной, только помяло их всех. Вслед за этим началась гроза, а к довершению всего мы въехали в лес. Спутница моя сначала кричала, потом начала плакать навзрыд. Я, вместо того чтоб успокоить ее, осыпал упреками. Дико поступил и теперь немного раскаиваюсь. Мне даже со злости показалось, что она в первую ночь нашего странствия умышляет на мою добродетель и хочет ночью в тарантасе учредить тоже какой-нибудь приют, уж конечно, не детский. Я готовился было поступить с ней, как Иосиф с Пентефриевой женой, и для этого, с свойственным мне в подобных случаях снисхождением, в темноте-то немножко поддался ее авансам, чтоб узнать окончательно ее намерения. Но теперь, когда уж ее нет, а с ней нет и злости у меня, когда мысли мои покойны, я готов от всего сердца признать ее добродетельной Сусанной и подумать, что сонная рука ее так, бессознательно бродила где ни попало и ошибкой наткнулась на одну из моих рельефных форм... От Казани до Симбирска я хотел ехать Волгой, да мне сказали, что если поднимется противный ветер, так и в две недели не сделаешь этих двухсот верст. Нечего делать: я пустился один, на тележке, на перекладных. И тут-то, на этом коротеньком переезде, вкусил все дорожные мучения. Жары сожгли траву и хлеб; земля растрескалась, кожа у меня на лице и губы тоже, а я всё ехал да ехал, и утром, и в полдень, и ночью, да чуть было не слег; от жару сделался прилив крови к голове; в три-четыре часа я так изменился, что сам себя не узнавал. Ночью в лесу застала меня другая гроза; такой я не видывал никогда, читывал бывало; и здешние все перепугались. Но и она не освежила воздуха: наутро тот же жар, только солнце уж не палило, а обдавало каким-то мокрым и горячим паром; влажный зной мне показался еще хуже. А я всё ехал, всё торопился домой. И Вы, Николай Аполлонович, несмотря на вашу слабость к жарам, невзлюбили бы этого зною. - Чашу дорожных страданий я выпил до дна, а наслаждений не испытал. Погибла навсегда для меня, как я вижу, поэзия тройки, ямщика, колокольчика и т. п. Гораздо больше ее нашел я в английской почтовой карете, в которой ехал из Петербурга. Лес, вода, пейзажи тоже что-то маловато действовали на меня: больше надоедали комары да оводы. Только понравилось мне, как я въехал под Казанью в дубовые леса: они напомнили мне детство: я игрывал в таких лесах; на днях надеюсь быть за Волгой и посмотрю их; хорош тоже сплошной лес из шиповника, осыпанный весь розовыми цветами; наконец, правый берег Волги, ну да сама Волга, а больше, кажется, и ничего.
В Казани я отстоял какую-то татарскую обедню в мечети. При входе меня поразило величественное зрелище: все лежали ничком и сотни две татарских задов были устремлены прямо на меня. Я смутился, но, к счастию, вспомнил стих Пушкина из поэмы "Езерский": как один из предков героя был раздавлен
задами тяжкими татар.
Вспомнил и Михаила Тверского, который умер такою же смертию. Тут уж я обратил особенное внимание на эти лежащие передо мною многочисленные зады; уж они приобрели в глазах моих историческую важность. Я занялся поверкою их с эпитетом, данным им Пушкиным. Да нет! куда! знать, извелось древнее рослое и воинственное племя татар! Что это за тяжкие зады? Так себе: дрянь - задишки! Только у одного муллы и есть порядочный: меня даже, по поводу этих задов, осенила классическая грусть. Вот, дескать, как мельчают, а потом и исчезают совсем коренные, многочисленные племена и т. п.
Что вам сказать о Москве? Тихо дремлет она, матушка. Движения почти нет. Меня поразила страшная отсталость во всем да рыбный запах в жары. Мне стало и грустно, и гнусно. Поэзия же воспоминаний, мест исчезла. Хладнокровно, даже с некоторым унынием посматривал я на знакомые улицы, закоулки, университет, но не без удовольствия шатался целый вечер по Девичьему полю с приятелями, по берегам Москвы-реки; поглядел на Воробьевы горы и едва узнал. Густой лес, венчавший их вершину, стал теперь ни дать ни взять как мои волосы. Москва-река показалась лужей: и на той туда же острова показались, только, кажется, из глины да из соломы. Одним упивался и упиваюсь теперь: это погодой, и там и здесь. Ах, какая свежесть, какая тишина, ясность и какая продолжительность в этой тихой дремоте чуть-чуть струящегося воздуха; кажется, я вижу, как эти струи переливаются и играют в высоте. И целые недели - ни ветра, ни облачка, ни дождя.
Московские друзья мои несколько постарели, но не изменились ко мне, ни я к ним. Во мне и Вы заметили это свойство. Сошлись мы с ними так, как будто вчера расстались. Я говорю о немногих, о двух-трех. Про родных, про радость их, про встречу - нечего и говорить. Дело-то обошлось без слез и обмороков. Маменька меня встретила просто, без эффектов, так, почти с немой радостью и, следовательно, очень умно. Славная, чудесная женщина. Она постарела менее, нежели я ожидал. Зато сколько перемен в брате и сестре. Сестра из восемнадцатилетней, худенькой девушки, какою я ее оставил, превратилась в толстую, тридцатилетнюю барыню, но только милую, чудесную барыню; ни ум, ни понятия ее не заросли в глуши: по-прежнему бойкая, умная и насмешливая. Другой сестры еще не видал; она постоянно живет в деревне. Жду ее надолго сюда.
У братца моего брюшко лезет на лоб, а на лице постоянно господствует выражение комической важности. Я бы не вдруг решился показать его своим петербургским приятелям: очень толст и иногда странен. Но как все это любит меня, как радуется моему приезду. Я по возможности ценю это: вот уж более недели, как я здесь, но еще не соскучился. А где удавалось мне пробыть хоть день, не скучая? Если и соскучусь, постараюсь скрыть.
Был я здесь в клубе, который, кроме английского разве, лучше всех столичных. И помещение прекрасное, и люди порядочные. Первое лицо, которое попалось мне, был Анненков. Мы обрадовались друг другу; на другой день он был у меня; ели стерляжью уху, осетрину. Зимой и осенью, говорят, здесь много порядочных людей собирается. Ах, если б мне не дождаться их. Я еще нигде почти не был, да никуда и не хочется. Был в здешнем театре: это было бы смешно, если б не было очень скучно. Симбиряки похлопывают, хотя ни в ком нет и признака дарования. Но я рад за Симбирск, что в нем есть театр, какой бы то ни было. Глупо бы было мне, приехавши из Петербурга, глумиться над здешними актерами, и оттого я сохранил приличную важность, позевывая исподтишка.
Не был я еще на рыбной ловле, ни в окрестностях; лежу, отдыхаю, не выходя из халата. Около меня бегают два шалуна, раздается непривычный для моего слуха призыв: дядинька, дядинька! Это братнины дети. Сестра привезет с собой еще шестерых. - Встретил кое-кого из старых знакомых, весьма порядочных людей, но встретил без всякого удовольствия; некоторые из новых лиц пожелали познакомиться со мной, я нейду и этим страшно смущаю и компрометирую брата, который обещал познакомить меня с этими лицами, сказал им даже, что я за честь поставлю и т. д. - Вообще, как мне кажется, придется сделать заключение, что всё издали гораздо лучше и что отсутствие красит и места и людей, что не всегда надо поддаваться этому миражу и т. п. Впрочем, мне грешно бы было сказать это теперь: мне еще хорошо, а вот что-то будет подальше, как всюду преследующий меня бич - скука - вступит в свои права и настигнет меня здесь: куда-то я скроюсь? А уж предчувствие-то скуки есть. О Господи, Господи! Спаси и помилуй. - Ужасаются нехождения моего в церковь и на днях умышляют, кажется, вести меня к обедне. Здесь есть одно отверженное и проклятое семейство в городе, всё за нехождение. Подарки произвели большой эффект: кланяюсь усердно Марье Федоровне и благодарю еще раз за ее удачные хлопоты. - Прощайте - не знаю, надолго ли. Крепко целую Ваши ручки, Евгения Петровна, кланяюсь Вам, любезнейший Николай Аполлонович, и вам, друзья мои - Аполлон, Старик и Бурька. Поклонитесь всем, всем, Юнии Дмитриевне преимущественно: в течение лета я ей напишу. Не забудьте Юлию Петровну, Любовь Ивановну; наконец, Льховскому и Дудышкину, Константину Аполл<оновичу>: я был у него перед отъездом.
Весь Ваш Гончаров.
Адрес ко мне: И. А. Гончарову, в Симбирске, у Вознесенья, в собственном доме.
Часто писать не обещаю, но отвечать непременно буду.
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ
20 августа 1849. Симбирск
Симбирск, 20 августа 1849.
Где Вы? что Вы, прекрасная Юния Дмитриевна? Цветете и здоровеете на Безбородкинских болотах? Веселитесь или скучаете? Всё ли оплакиваете постоянное отсутствие Александра Павловича и присутствие г-на Сомова? Гуляете ли по саду в качестве молодой, интересной маменьки, с нарядной нянькой и ребенком позади? Или сидите у себя в комнате, то понюхивая цветы, то лениво перебирая клавиши или зевая за книгой? Грустите ли прозаически, что денег нет, или поэтически, что напрасно была нам молодость дана? Да, да, есть иногда о чем погрустить, а всего более о прошедшей молодости: этот резвый друг изменяет безвозвратно, не то что я Вам. Я, paзумeeтся, говорю о своей прошедшей юности, а не о Вашей: где Вам состареться! Вы вечно Юная, а с некоторых пор начали младенческую жизнь, то есть живете жизнью Вашего младенца. (А что, он цел?) Вот мне так другое дело: достается от лет. Тяжесть-то какая, скука-то, лень-то, проза-то, холод-то! Ах ты Боже мой! Но все это в Петербурге, а не здесь. Здесь я ожил, отдохнул душой и даже помолодел немного, но только поддельною, фальшивою молодостью, которая, как минутная веселость от шампанского, греет и живит на минуту. Мне и не скучно пока, и не болен я, и нет отвращения к жизни, но все это на три м<еся>ца. Уже чувствую над головой свист вечного бича своего - скуки: того и гляди пойдет свистать. Прав Бaйpон, cкaзaвши, чтo порядочному человеку долее 35 лет жить не следует. За 35 лет живут хорошо только чиновники, как понаворуют порядком да накупят себе домов, экипажей и прочих благ. Чего же еще, рожна, что ли? - спросят. Чего? чего? Что отвечать на такой странный вопрос? Отсылаю вопрошателей к Байрону, Лермонтову и подобным им. Там пусть ищут ответа.
Ну-с, еще что? Да: я поизменил Вам немного, как и Вы мне, помните? (А что, злодей-то мой в Петербурге?) Нашел я здесь несколько милых женщин и о пeтеpбуpгских, разумеется, пока забыл. По обыкновению своему я напакостил, как это делаю всюду, куда ни появлюсь, и напакостил глубоко, но еще не так глубоко, как бы желал. Впрочем, не отчаиваюсь. Да мужья-то здесь ревнивы и сердиты, вечера коротки, ночи темны, собаки многи и злы - пакостить-то неудобно. Никак нельзя пропасть из дому так, чтоб не знали куда. Сидишь в одном доме, а в десяти других знают об этом. Пропал было я раз на целый день, перебывал нарочно местах в четырех, чтоб замести всякий след за собой, и наконец добрался до пятого места, сижу и пакощу там, потом выхожу поздно на улицу; смотрю, чья-то лошадь у крыльца. "Чей кучер?" - спрашиваю. "Да ваш: маменька лошадь прислала, дождь идет!" Вот Вам и провинция, вот и пакости поди.
Вы перед отъездом моим сулили мне трудов, славы, посулили и еще одно... Но об этом ниже. И вот ни трудов, ни славы. Здесь я окончательно постиг поэзию лени, и это - единственная поэзия, которой буду верен до гроба, если только нищета не заставит меня приняться за лом и лопату. Что если б я по часу в день писал с такой охотой что-нибудь другое, с какой пишу к Вам это письмо? Да нет, нет! А письмо-то, видите, пишу, слово-то держу. А Вы держите Ваше, помните, что дали при прощанье? Ведь я этого не забыл, да и не забуду. Нарочно за этим приеду в Петербург, а то бы и здесь просидел 14 лет, как просидел их в Петербурге. Вспомнить не могу, что надо ехать туда, опять приняться за хождение на службу, за обычную тоску и лень. Какая разница между здешнею и петербургскою ленью! Только и отрады в виду, что хождение к Вам, сидение на Вашем маленьком овальном диванчике... и несколько тому подобных благ. - А получите Вы меня обратно и заключите в свои объятия не прежде, как в половине октября. Если вздумаете порадовать меня записочкой, то вручите ее Евгении Петровне, а если письмом, то адресуйте прямо в Симбирск, у Вознесенья в собствен<ном> доме. Вы по переезде с дачи хотели искать, кажется, новой квартиры: найдите на Литейной, чтоб мне было ловко бегать к Вам.
Поклонитесь от меня соседям: Юлии Петровне с семьей да Степану Семенычу особый поклон и рукожатие. Не упоминаю о поклоне почтеннейшему Александру Павловичу, потому что это само собою разумеется.
Припадая к стопам Вашим и целуя Вашу ручку или что пожалуете, остаюсь до гроба друг Ваш
И. Гончаров.
На конверте: Юнии Дмитриевне, тихонько от мужа.
А. А. КРАЕВСКОМУ
25 сентября 1849. Симбирск
Милостивый государь Андрей Александрович, Вы, вероятно, до сих пор считали меня пропавшим без вести: шлю теперь позднюю весть о себе, но, к несчастию, только весть, а не повесть. Чувствую, как я виноват перед Вами, тем более что причины, которые могу привести в свое оправдание, всякому другому, кроме меня, покажутся, пожалуй, неуважительными. Кому нужда знать, что я не могу воспользоваться всяким свободным днем и часом, что у меня вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело, что, наконец, особенно с летами, реже и реже приходит охота писать и что без этой охоты никогда ничего не напишешь? Едучи сюда, я думал, что тишина и свободное время дадут мне возможность продолжать начатый и известный Вам труд. Оно бы, вероятно, так и было, если б можно было продолжать. Но прочитавши внимательно написанное, я увидал, что всё это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта никуда почти не годится. Моя поездка и все приобретенные в ней впечатления дали мне много материала на другой рассказ: но всё это пока материал, который еще не убродился в голове, - и что из него выйдет, я хорошенько и сам не знаю.
Вот в каком печальном положении нахожусь я теперь. Я бы давно написал Вам об этом, но всё надеялся, что успею что-нибудь сделать. Я запирался в своей комнате, садился каждое утро за работу, но всё выходило длинно, тяжело, необработанно, всё в виде материала. А дни всё шли да шли и, наконец пришли к тому, что послезавтра я еду в Петербург и не везу с собой ничего, кроме сомнительной надежды на будущие труды, сомнительной потому, что в Петербурге опять не буду свободен по утрам и что, наконец, боюсь, не потерял ли я в самом деле от старости всякую способность писать.
Впрочем, чтоб сколько-нибудь очистить свою совесть перед Вами, я готов, если Вы пожелаете, пожертвовать к Новому году началом своего романа, как оно ни дурно; но в таком случае продолжать его уже не стану, потому что для продолжения нужно и начало другое.
Во всяком случае, помня взятое на себя против Вас обязательство представить к Новому году или рукопись, или обратно мзду, я продал часть своей небольшой собственности и не замедлю по приезде вручить Вам долг. Я даже думал послать деньги вперед себя, чтобы пощадить себя от неизбежного при свидании с Вами смущения, и потом явиться не иначе как с рукописью или вовсе не явиться. Может быть, так и сделаю. А в наказание за трехмесячную продержку денег наложите на меня сообразную с божескими и человеческими законами эпитимию, и да буду пред Вами чист и неповинен.
Завтра я выезжаю в деревню к сестре, где пробуду суток двое да дня три или четыре в Москве, а к 15 октября надеюсь быть в Петербурге.
Будьте уверены в моем искреннем уважении, преданности и желании быть Вам полезным.
Иван Гончаров.
Симбирск, 25 сентября 1849.
Возьмите на себя труд передать мой усердный поклон Лизавете Яковлевне и Дудышкину: последнему я бы написал давно, да не знал, куда адресовать. В Москве один молодой автор читал мне прекрасную комедию; я хлопотал о ней для Вашего журнала, а он хочет отдать ее на тамошний театр. Как приеду в Москву, буду опять хлопотать.
М. М. КИРМАЛОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
17 декабря 1849. Петербург
17 декабря 1849 г.
Смотри-ка, смотри: эк как тебя дернуло, Михайло Максимович: целый лист написал! да как сил стало? Зачем ты денег-то прислал? Ведь я же тебе подарил обе статуэтки. Особенно себя я не продаю: я только покупаю его, то есть себя... фу-ты, как неловко сказать! - Деньги-то я свистнул, а тебе шиша! В самом деле, я пришлю тебе на них еще статуэтку, выберу, чья позанимательнее: хороши статуэтки Кукольника и Соллогуба тоже, а брюлловская незанимательна, и притом их две; прежняя и новая. Не знаю, которая похожа. Я с Брюлловым только однажды обедал в одном доме, но это давно, и не знаю, на которую он похож. Только пришлю не вдруг, не вскоре, потому что пересылка ужасно хлопотлива: ящик, клеенка, надо уметь завернуть - да черт знает что. Ни я, ни Филипп делать этого не умеем, всё надо просить контору Яз<ыков> и Ко, а я в последнее время уж очень часто просил ее и потому подожду. Булгарина вышла тоже другая статуэтка: старая свинья разворчалась за свое безобразие, как будто художник виноват, и начала блевать на него хулу из своего подлого болота - "Северной пчелы", - что-де и все труды художника никуда не годятся, да и дорого-то он продает и т. п. Художник переделал его, и он тотчас же начал толковать, что художник очень хороший и статуэтки продаются как нельзя дешевле. Фу-ты, мерзавец какой! А ты его в поэты произвел! Эк махнул! Булгарин поэт! Сказал бы ты здесь это хоть на улице, то-то бы хохоту было: новая статуэтка его похожа на человека и довольно благовидна, оттого на Булгарина и не схожа. Прежняя, которая у тебя, как карикатура (ведь это всё карикатуры) выражает его как нельзя более. Булгарин имеет редкое свойство - походить наружно и на человека, и вместе на свинью. Художник схватил это как нельзя лучше - и, кроме свиньи и человека, изобразил и Булгарина. Это одно из лучших его произведений; ты береги эту статуэтку, хотя прежняя еще продается, но, может быть, Булгарин потребует, чтоб и форму сломали, тогда негде будет взять.
Поздравляю Вас всех, и тебя, смотри, Сашок, кого с Новым, кого с старым годом, как кто хочет. Кто хочет нового счастья, того с новым счастьем, кто - старого, с старым. - Соне желаю поступить в институт - это новое. Владимира попроси, чтобы он не разевал очень рта, и заведи ему еще новую собаку для его широких объятий, которые он простирал к своим четвероногим друзьям, - это тоже новое, но скажи ему, чтобы он сохранил навсегда доброе сердце, которое я заметил в нем, - это старое. Николю уверь, что в новом году я ни разу не сшибу его брюхом с ног, и, следовательно, он может надеяться стоять твердо на ногах, но это потому только, что меня там не будет, а то бы я никак не мог отказать себе в этом удовольствии. Вот и Варе желаю укрепиться в новом году новыми силами и приобресть необходимую крепость на борьбу с <...>[8] Виктору, если он у Вас на праздниках, посоветовать и пожелать, кажется, нечего: он, так говорят, вместо бабушки и девок тормошит более книги теперь: пусть его продолжает. Да, что он не пишет? Остается Варвара Лукинична: ей, во 1-х, желаю здоровья, а во 2-х... да что Вы во-вторых не выпишите Костю из Симбирска? Она признала<сь> мне однажды, что без него жить не может: я усовещивал, уговаривал, намекал, что и такой человек, как я, то есть не глухой, бреющий бороду и расхаживающий не в одних подштанниках, как он, а и в панталонах сверху, почел бы за счастие удостоиться ее внимания: так нет! Костя, говорит, или никто! - Она отдаст Вам это письмо, потому что не знал, к кому из вас писать: ты, Михаил Максимович, пишешь, что ты должен бывать то в Ардатове, то в Алатыре, Саша часто ездит в Симбирск, вот я и адресую письмо на Варвару Лукиничну, да она и отвечать не ленива: пишет живей любого секретаря и лучше всех наших литераторов, в том числе и меня. В среду я отправил на твое имя, Сашок, в Ардатов посылку, материю, которую ты выписывала для нее. Я писал тебе, что мне хотелось подарить ей тоже что-нибудь, и оттого я, вместо люстрину, как ты поручала, купил кашемир это вдвое дороже. Я хоть ей послал шерсти и узор, но что это за подарки, когда она хотела работать их для меня же? - В целости ли получены часы, которые она купила через меня в конторе Языкова?
Прощайте - остаюсь Ваш
И. Гончаров.
Вместе с материей положены три печатные программы о приеме девиц в заведения и еще книги для Варвары Лукиничны, да французская лучшая синька для белья всем вам: всё ли получено? - С Нового года Вы будете получать опять "Современник": это мой подарок тоже Варваре Лукиничне: ей же дарю и старый прошлогодний журнал.
1850
В. Л. ЛУКЬЯНОВОЙ
29 ноября 1850. Петербург
Я бы счел двойным преступлением пройти молчанием день Вашего рождения и день Ангела. Вы сами были так любезны, что вспомнили обо мне и почтили день моего рождения и именины милым, дружеским, очаровательным приветствием. Берегу его как выражение благодарной отплаты с Вашей стороны за мое смиренное поклонение Вашим достоинствам, за мои хотя слабые, но усердные знаки неизменного, братского к Вам расположения, за угождения, за старание быть полезным, за желание добра, за всё, за всё. Вы так тонко, истинно по-женски, умели оценить мою преданность Вашим разборчивым умом и сердцем. Храню это приветствие как свидетельство Вашего ума, доброты, грации, изящества чувств и всех, всех похвальных нравственных качеств, которые украшали, вероятно, украшают теперь и, конечно, будут украшать Вас вперед и которые так гармонируют с Вашей прекрасной наружностью. Было ли это приветствие плодом Вашей собственной мысли, или навеяно оно со стороны - всё равно: часть все-таки принадлежит Вам, потому что оно прошло сквозь цензуру Вашего ума и, конечно, сердца; иначе бы оно не достигло до меня. Все-таки я более всего должен благодарить Вас. Благодарю, благодарю. Желать Вам утвердиться в этих началах было бы излишне. Вы так твердо, с такой гордостью, front haut et pur,[9] стремились проходить, так чисто, безукоризненно проходите избранный Вами путь, что, конечно, и теперь с тем же редким самоотвержением жертвуете собой на пользу и удовольствие близких, насаждая в других те семена, которые насадил в Вас мудрый опыт и умные, благородные, многочисленные наставники; нет сомнения, что Вы заключите Ваше поприще и достойным концом. Нельзя было лучше, достойнее употребить данного Вам ума, красоты и воспитания. Я теперь не вижу Вас, но вполне убежден, что с наступлением как этого года, так и следующих за ним лет Вашей жизни Вы не только по-прежнему будете составлять радость, утешение окружающих Вас вообще и наслаждение некоторых избранных в особенности, но всегда и всюду, где ни явитесь, станете приобретать новых друзей и почитателей и распространите круг Вашей деятельности со временем так, что будете разливать Ваши достоинства на целые массы. Не могу не упомянуть и о том, с каким смирением, с какою детской покорностью, с какою доверчивостью и, можно сказать, милой слепотой, несмотря на Ваш собственный ум, выслушиваете Вы добрые, умные и прекрасные советы опытных, благородных людей, которые, заметив в Вас добрые порывы, усердно помогали Вам идти по избранному Вами поприщу; потом как мило и как тепло умели всегда благодарить и награждать их за советы, делая из них себе друзей навсегда. Ангел Ваш, конечно, радуется на небесах о приносимых Вами жертвах чистоты служения, которому Вы обрекли себя, отрешась от суетных желаний, мутных и тупых страстей, радуется младенческой непорочности Вашего сердца, благородству Ваших намерений и поступков, ясности Ваших прекрасных и безмятежных дней; веселится чистотой Вашей души как вместилищем самых возвышенных женских чувств, которые делают Вас Ее подобием на земле и, конечно, помогут Вам Вашим чистым образом мыслей и подвигами, направлением всей жизни стяжать тот венец, который стяжала себе великомученица, Ваша патронесса. Я осмелюсь смиренно пожелать Вам преуспевать на том пути, по которому Вы идете с таким умом, с такою женскою прозорливостию, с твердостью и весельем.
Конечно, Вы и в молитвах Ваших не забываете упоминать имена добрых наставников и друзей: благодарное сердце Ваше мне в том порукой; не забудьте же и меня грешного, если только когда-нибудь в сердце Вашем тлелась хоть искра дружбы ко мне. Поймите и оцените чувства, внушившие мне это приветствие.
Ив. Г......в.
29 ноября 1850 года.
1851
А. А. КИРМАЛОВОЙ
5 мая 1851. Петербург
5 мая.
Да, милый друг Сашенька, кончина нашей матери должна тебе отозваться тяжелее, нежели всем нам. Ты вообще дружнее всех нас была с нею, а любовь ее к твоим детям и попечения о них сблизили Вас еще теснее. Старушка никогда не показывала предпочтения никому из нас, но, кажется, тебя она любила больше всех, и за дело: ты ей не делала даже мелких неприятностей своим характером, как мы, например, с Анютой часто делали невольно, притом она частию твои несчастия приписывала себе и оттого за тебя больше страдала. - Больно и мучительно, как подумаешь, что ее нет больше, но у меня недостает духа жалеть, что кончилась эта жизнь, в которой оставались только одни страдания и болезненная томительная старость. Живи она еще десять лет, она бы всё мучилась вдвойне: <...>[10] за всякое наше горе и за то еще, что она не может пособить ему.
Притом жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я после первых невольных горячих слез смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и горжусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней. - Меня ужасно огорчает твое затруднительное положение насчет детей. Я уж писал тебе, что лучшие корпуса здесь: 1. горных инженеров; 2. - полевых инженеров и 3. - инженеров путей сообщения.
Все прочее корпуса приготовляют молодых людей только в военную службу; выпускают из них лет 17-ти или 18-ти мальчиков в армейские полки; ты этого не захочешь, да и в эти корпуса трудно попасть. Из горного корпуса посылают на 6 лет на службу в Сибирь на медные, железные и прочие заводы; в этот корпус легче попасть, нежели в другие; платят там по 300 целковых в год. Из корпуса полевых инженеров выпускают по крепостям для построек; учат военной строительной части, то есть строить крепости, мосты, подводить мины и проч. В корпусе путей сообщения учат проводить и поддерживать шоссе, железные дороги, строить разные публичные здания. В эти два корпуса труднее попасть.
Есть еще артиллерийское училище, но из него и из других выпускают в военные, в офицеры, которые потом будут требовать поддержки, а тебе надо готовить детей так, чтобы они сами могли справляться потом без домашней поддержки. Для этого я все-таки думаю, что лучше в гимназию отдать, а потом в университет, потому что, оттуда вышедши, он может годиться на всё: если не чиновником, так учителем, пожалуй, хоть в военную, если есть охота. А если есть дарования, так может идти и выше. Даже если б он и не попал из гимназии в университет, так одного гимназического воспитания будет достаточно, чтоб достать кусок хлеба, потому что окончивший курс в гимназии все-таки вдесятеро будет больше знать, нежели выпущенный из корпуса. Вот мои мысли об этом.
Очень жаль, что гимназия в Казани дурна, по твоим словам, а то бы его можно было там отдать жить какому-нибудь учителю при гимназии с платою за содержание, тогда бы бегать и шалить ему не дали.
Здесь много гимназий: в иных платят 250, в других 300 рублей серебром с содержанием там. Если вздумаешь сюда, уведомь, а я справлюсь поподробнее и тотчас же тебе напишу. Я думал, в Казани потому лучше, что там Соня и что Виктор перейдет туда же, так они будут все вместе.
Не обижаешь ли ты моего старичка, Николю? Ты пишешь, что он тут: не загнан ли он у тебя? Я знаю, что ты его любишь меньше других. Это дурно. Если ты мне скажешь, что ты в этом не виновата, что ж, дескать, мне делать? А то делать, скажу тебе в ответ, что разум и совесть требуют, чтобы этого не показывать отнюдь ребенку. Ты бери пример с нашей матери: она тебя любила больше всех. Я это третьего года заметил, а кто из нас может пожаловаться, чтоб отличали тебя, а нас обижали? Теперь представь, как не отупеть ребенку, когда...[11]
Примечания
1
Дьявол! (ит.) Черт возьми! (фр.)
(обратно)2
до небес (лат.)
(обратно)3
Где только не гнездится порок! (фр.)
(обратно)4
Примите, княгиня, уверения в моем уважении, самом... (фр.)
(обратно)5
Наша переписка подверглась большой опасности: одно письмо уже попало в руки князя. Если и это попадет - О Боже! Это письмо задело мое самолюбие. Я не хочу больше его перечитывать (фр.). Далее неразборчиво.
(обратно)6
"пять су" (фр.)
(обратно)7
Тысяча извинений, княгиня, за то, что я надоедаю Вам всем этим. Прошу принять уверение в моем совершенном почтении и преданности.
(обратно)8
Пропуск в тексте. - Ред.
(обратно)9
с достоинством и чистотой
(обратно)10
Далее зачеркнутый текст.
(обратно)11
На этом текст обрывается.
(обратно)

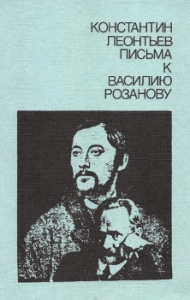
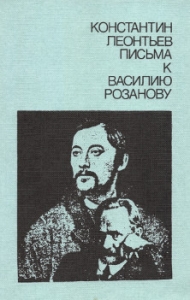

Комментарии к книге «Письма (1842-1851)», Иван Александрович Гончаров
Всего 0 комментариев