Фернандо Пессоа Книга непокоя
Fernando Pessoa
Livro Do Desassossego
Ольга Сапрыкина благодарит студентов МГУ им. М. В. Ломоносова за участие в работе над редактурой книги — Ольгу Григорьеву, Анну Лябихову, Анастасию Кузнецову, Екатерину Соловьеву и Татьяну Юдову
© Дунаев А. Л., перевод, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
* * *
Предисловие
Есть в Лиссабоне немного ресторанов или харчевен, в которых над лавкой, выглядящей как приличная таверна, возвышается антресоль, своим тяжеловесным и скромным видом напоминающая кабак в маленьком городе, через который не проходят поезда. На антресоли, куда, за исключением воскресений, мало кто заходит, часто встречаются любопытные персонажи, безучастные лица, чудаки, ведущие обособленную жизнь.
В определенный период моей жизни желание покоя и умеренные цены часто приводили меня в одну из таких антресолей. Когда мне доводилось ужинать около семи часов, так случалось, что я почти всегда встречал одного человека, внешний вид которого поначалу мне был безразличен, но со временем заинтересовал меня.
Это был мужчина на вид лет тридцати, худой, скорее высокий, чем низкий, сильно сутулившийся, когда сидел, но выпрямлявший спину, когда стоял, одетый несколько небрежно, но не выглядевший совершенно небрежно. Печать страдания на бледном лице, черты которого не вызывали интереса, оригинальности ему не прибавляла, и было трудно определить, на страдание какого рода эта печать указывала — казалось, она указывала на различные лишения, тоску и на то страдание, что рождается от безразличия, которое свойственно тем, кто много страдал.
За ужином он всегда ел мало и после всегда выкуривал самокрутку. Он чрезвычайно внимательно разглядывал окружавших его людей, не с подозрением, а с особым интересом; однако наблюдал он за ними не пытливо, а так, словно ими интересовался, не желая при этом изучать их черты или вникать в проявления их характера. Эта любопытная черта изначально и возбудила во мне интерес к нему.
Я стал к нему присматриваться и убедился, что некое интеллигентное выражение придавало неопределенную живость его чертам. Но подавленность, оцепенение ледяной печали настолько часто покрывали его облик, что было трудно разглядеть какие-либо другие особенности, помимо этой.
От одного официанта из ресторана я узнал, что он был торговым служащим в одной компании, расположенной неподалеку.
Однажды на улице, под окнами, случилось происшествие — кулачная драка между двумя типами. Те, кто находился на антресоли, кинулись к окнам, и я тоже, вместе с тем человеком, о котором я рассказываю. Я бросил ему случайную фразу, и он мне ответил что-то в том же духе. У него был низкий дрожащий голос, как у тех, кто ни на что не надеется, потому что надеяться совершенно бесполезно. Но, пожалуй, нелепо было придавать такое значение моему вечернему собеседнику из ресторана.
Не знаю почему, но с того дня мы начали здороваться. В обычный день, когда нас, возможно, сблизило то нелепое обстоятельство, что мы оба пришли ужинать в половину десятого, между нами завязался случайный разговор. В какой-то момент он спросил, пишу ли я. Я ответил утвердительно и рассказал ему о недавно появившемся журнале «Орфей»[1]. Он его похвалил, похвалил обстоятельно, чему я искренне удивился. Я позволил себе заметить, что мне это было странно, потому что мастерство тех, кто пишет для «Орфея», обычно доступно немногим. Он ответил, что, возможно, был одним из этих немногих. Впрочем, добавил он, это искусство для него не стало чем-то новым: он робко заметил, что, поскольку ему некуда ходить и нечего делать, у него нет друзей, которых он мог бы навещать, и ему неинтересно читать книги, то по ночам он имеет обыкновение писать в своей съемной комнате.
* * *
Он обставил — это не могло ему не стоить отказа от некоторых жизненно важных вещей — с некоторой роскошью обе свои комнаты. Особое внимание он уделил стульям — они были с подлокотниками, обивкой, пружинами, — а также занавескам и коврам. Он говорил, что создал такой интерьер, «чтобы поддержать достоинство тоски». В комнате, обставленной в современном стиле, тоска превращается в дискомфорт, в физическую боль.
Ничто никогда не вынуждало его что-либо делать. Детство он провел в уединении. Так случилось, что он никогда не примыкал ни к каким группам. Никогда не посещал никаких курсов. Никогда не был частью толпы. В нем проявился тот любопытный феномен, который проявляется во многих — кто знает, при ближайшем рассмотрении, быть может, и во всех, — случайные обстоятельства его жизни сложились по образу и подобию того направления, куда двигались его инстинкты, полностью предопределенные бездействием и обособленностью.
Ему никогда не приходилось сталкиваться с требованиями государства или общества. От требований же своих инстинктов он уклонился. Ничто никогда не сближало его ни с друзьями, ни с возлюбленными. Я был единственным человеком, который, в определенном смысле, стал ему близок. Но, несмотря на то что я всегда ощущал притворство его личности и подозревал, что он меня, на самом деле, никогда не держал за друга, я всегда чувствовал, что он должен был призвать к себе кого-то, чтобы оставить ему ту книгу, которую он оставил. Мне приятно думать, что, пусть даже поначалу, когда я это заметил, мне это причиняло боль, в конце концов, глядя на все исключительно глазами психолога, я таким образом стал ему другом, предназначенным для цели, ради которой он меня к себе приблизил — для издания этой книги.
Забавно осознавать, что и здесь жизненные обстоятельства ему благоприятствовали: они свели его со мной, человеком, по типу своего характера способным сослужить ему в этом деле немалую службу.
В этих впечатлениях без связи, без желания что-либо связывать я бесстрастно повествую свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если я в ней ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.
Фернандо ПессоаЧасть первая Дневник Бернарду Соареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне
1.
Я родился в то время, когда большая часть молодежи утратила веру в Бога по той же причине, по которой старшие поколения ее придерживались — не зная почему. Но поскольку человеческий дух естественным образом склонен критиковать (потому, что чувствует, а не потому, что думает), то большая часть молодежи выбрала Человечество в качестве преемника Бога. Я, однако, принадлежу к тому типу людей, которые всегда находятся на краю того, чему они принадлежат, и видят не только толпу, частью которой они являются, но и просторы, что есть рядом. Поэтому я не отринул Бога так полно, как они, и так и не принял Человечество. Я счел, что Бог, будучи недоказуемым, все же мог бы существовать и ему, соответственно, нужно было бы поклоняться; однако Человечество, будучи просто биологической идеей и не означая ничего, кроме вида животных под названием человек, достойно поклонения не более, чем любой другой вид животных. Этот культ человечества с его ритуалами Свободы и Равенства мне всегда казался возрождением древних культов, в которых животные были богами или у богов были головы зверей.
Так, не умея верить в Бога и будучи неспособным верить в скопище зверей, я остался, как и другие отщепенцы, на таком расстоянии от всего, которое обычно называется Упадком. Упадок — это полная утрата бессознательности; ведь бессознательность — основа жизни. Сердце, будь оно способно думать, остановилось бы.
Что остается тем немногим, кто, подобно мне, живет, но не умеет жить, кроме отречения как образа действия и созерцания как судьбы? Мы не знали, что представляет собой религиозная жизнь, и не имели возможности это узнать, поскольку нельзя верить разумом; мы не имели возможности верить в абстрактное понятие человека и, сталкиваясь с ним, не знали даже, что с ним делать, и потому нам оставалось лишь эстетическое созерцание жизни в качестве оправдания наличия души. Так, чуждые торжественности всех миров, безразличные к божественному и презирающие человеческое, мы легкомысленно отдались бесцельному ощущению, лелеемому с утонченным эпикурейством, как подобает нашим мозговым нервам.
Из науки мы усвоили лишь ключевое положение о том, что все подчинено роковым законам, на которые невозможно реагировать независимо, поскольку реакция на них есть следствие их воздействия на нас, оказанного для того, чтобы мы отреагировали. Определив, как это положение сочетается с более древним положением о божественной неизбежности происходящего, мы отказались от усилий, как слабые отказываются от атлетической тренировки, и склонились над книгой ощущений с великим сомнением, продиктованным ощущаемой эрудицией. Не принимая ничего всерьез и даже не предполагая, что нам была дана реальность, отличающаяся от наших ощущений, мы в них укрываемся и исследуем их, словно большие неведомые страны. И если мы прилежно упражняемся не только в эстетическом созерцании, но и в выражении его приемов и результатов, то происходит это потому, что, когда мы пишем прозу или стихи, лишенные стремления убедить чужое понимание или сподвигнуть чужую волю, мы подобны лишь тому, кто читает вслух с целью придать полную объективность субъективному удовольствию чтения.
Мы хорошо знаем, что любое произведение должно быть несовершенным и что наименее надежным из наших эстетических созерцаний будет созерцание того, о чем мы пишем. Но несовершенно все, нет такого прекрасного заката, который не мог бы быть еще прекраснее, или такого навевающего на нас дремоту легкого ветерка, который не мог бы погрузить нас в еще более безмятежный сон. Так мы, созерцатели в равной степени и гор, и статуй, наслаждающиеся днями так же, как книгами, грезящие обо всем прежде всего для того, чтобы превратить это все в нашу сокровенную сущность, мы будем создавать описания и анализы, которые, будучи составленными, станут чуждыми нам вещами, которыми мы сможем наслаждаться так, будто бы они появились сами этим вечером.
Не так мыслят пессимисты вроде Виньи[2], для которого жизнь — это тюрьма, где он плел солому, чтобы отвлечься. Быть пессимистом значит воспринимать все как трагедию, такой подход — досадное преувеличение. Разумеется, у нас нет критерия оценки, который мы могли бы применять к тому, что создаем. Разумеется, мы создаем, чтобы отвлечься, однако не как заключенный, что плетет солому, чтобы отвлечься от Судьбы, а как девушка, которая расшивает подушки, чтобы просто отвлечься.
Я рассматриваю жизнь как постоялый двор, где я должен пребывать до тех пор, пока не прибудет дилижанс из бездны. Я не знаю, куда он меня отвезет, потому что я ничего не знаю. Я мог бы считать этот постоялый двор тюрьмой, потому что вынужден в нем ждать; я мог бы считать его местом для общения, потому что здесь я встречаюсь с другими. Тем не менее, я не нетерпелив и не зауряден. Я оставляю тех, кто, запершись в комнате и вяло улегшись на кровати, ждет, не смыкая глаз; я оставляю тех, кто разговаривает в залах, откуда до меня отчетливо доносятся музыка и голоса. Я сажусь у двери и погружаю свое зрение и слух в цвета и звуки пейзажа и медленно пою себе самому неясные песни, которые сочиняю, пока жду.
Для всех нас настанет ночь и прибудет дилижанс. Я наслаждаюсь дарованным мне ветерком и душой, данной мне, чтобы им наслаждаться, и ни о чем не вопрошаю и ничего не ищу. Если то, что я напишу в книге постояльцев, однажды будет прочитано другими и развлечет их в пути, будет хорошо. Если они этого не прочитают и не развлекутся, будет тоже хорошо.
2.
Я должен выбрать то, к чему питаю отвращение — либо мечту, которую ненавидит мой разум, либо действие, которое не приемлет моя чувствительность; либо действие, для которого я не был рожден, либо мечту, для которой не был рожден никто.
В результате, питая отвращение к тому и другому, я не выбираю ничего; но, поскольку в некоторых случаях я должен либо мечтать, либо действовать, я смешиваю одно с другим.
3.
Я люблю покой Байши[3] неспешными летними вечерами и особенно покой там, где он контрастирует с дневным гомоном. Арсенальная улица, Таможенная улица, продолжение печальных улиц, что тянутся на восток оттуда, где заканчивается Таможенная, вся обособленная линия спокойных пристаней — все это утешает меня в грусти, если в такие вечера я углубляюсь в одиночество их ансамбля. Я оказываюсь в эпохе, предшествующей той, в которой я живу; я наслаждаюсь ощущением, будто я — современник Сезариу Верде[4], и во мне — не его стихи, а та сущность, которая в них есть. Там я до самой ночи волочу ощущение жизни, похожее на ощущение этих улиц. Днем они полны ничего не выражающего шума; ночью они полны отсутствия шума, которое не хочет ничего выражать. Днем я — ничто, а ночью я — это я. Нет разницы между мною и улицами, прилегающими к Таможенной, разве только они — улицы, а я — душа; это, возможно, ничего не значит в сравнении с тем, что является сущностью вещей. У людей и вещей абстрактная и потому одинаковая судьба — одинаково неопределенное положение в алгебраической системе координат тайны.
Но есть еще кое-что… В эти медленные пустые часы от души к разуму во мне поднимается грусть всего бытия, горечь оттого, что все одновременно является моим ощущением и чем-то внешним, что я не властен изменить. Ах как часто мои собственные грезы материализовались, но не для того, чтобы заменить собой мою реальность, а для того, чтобы показать мне, что они не мои и что это их объединяет; что я их не хочу, но они возникают — извне, как трамвай, разворачивающийся на последнем повороте улицы, или голос неизвестно что охраняющего ночного сторожа, голос, который выделяется арабским напевом, словно неожиданное клокотание, на фоне однообразия опускающегося вечера!
Проходят будущие супруги, проходят парами портнихи, проходят юноши, жадные до удовольствий; курят, прогуливаясь по своему неизменному маршруту, те, кто отошел от всех дел; у той или другой двери стоят праздные лентяи, владельцы магазинов. Медленные, сильные и слабые, новобранцы блуждают, словно лунатики, группами то очень шумными, то более чем шумными. Время от времени показываются обычные люди. Автомобили в это время попадаются не очень часто; из них доносятся звуки музыки. В моем сердце царит мир печали, а мой покой соткан из смирения.
Все это проходит, и ничто из этого ничего мне не говорит, все чуждо моей судьбе, чуждо даже собственной судьбе — бессознательность, неуместные возгласы, когда случай бросает камни, эхо неведомых голосов — коллективная мешанина жизни.
4.
И на вершине величия всех мечтаний — помощник бухгалтера в городе Лиссабоне.
Но такой контраст меня не раздавливает, а освобождает; и присутствующая в нем ирония — моя кровь. То, что должно было бы меня унижать, стало флагом, который я развертываю; а смех, который я должен был бы вызывать, стал звуком горна, которым я приветствую и создаю зарю, в которую превращаюсь.
Ночная слава того, кто чувствует себя великим, не будучи никем! Сумрачное величие неведомого великолепия… И вдруг я ощущаю благородство монаха, живущего в пустыни, уединенного отшельника, познавшего сущность Христа в удаленных от мира камнях и пещерах.
И, сидя за столом в моей нелепой комнате, я, никчемный безымянный служащий, пишу слова вроде «спасение души», и меня озаряет золотой свет небывалого заката в высоких, просторных и далеких горах, свет моей статуи, полученной за удовольствия, и кольца отречения на моем евангельском пальце, застывшей жемчужины моего экстатического презрения.
5.
Передо мной — две большие страницы тяжелой книги; я поднимаю от старого письменного стола уставшие глаза — душа устала еще сильнее глаз. Позади заключенного в этом ничтожества — склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд одинаковых полок, одинаковые служащие, человеческий порядок и покой заурядности. Из окна доносится шум разнообразия и разнообразный шум — зауряден, как покой, царящий близ полок.
Я опускаю взгляд и смотрю новыми глазами на две белые страницы, на которых мои осторожные цифры обозначили результаты компании. И с улыбкой, которую я таю для себя, я вспоминаю, что жизнь, у которой есть эти страницы с названиями тканей и суммами денег, с пробелами, линиями и строками, включает в себя еще и великих мореплавателей, великих святых, поэтов всех эпох — и не записан никто из них; многочисленные потомки избавляются от тех, кто на самом деле представляет ценность для этого мира.
В самой записи о какой-то ткани, о которой я понятия не имею, передо мной открываются врата Индии и Самарканда, а поэзия Персии, которая не принадлежит ни тому, ни другому месту, создает из своих четверостиший, не зарифмованных в третьем стихе, прочную опору для моего непокоя. Но я не обманываюсь, пишу, складываю, и записи, вносимые служащим этой конторы, текут своим чередом.
6.
Я так мало просил у жизни, но даже в этом малом жизнь мне отказала. Пучок солнечных лучей, поле, кусок покоя с куском хлеба, и чтобы меня не тяготило знание о моем существовании, и чтобы я не требовал ничего от других, и они ничего не требовали от меня. Даже в этом мне было отказано, подобно тому, как кто-то отказывается дать милостыню не потому, что у него черствая душа, а потому, что ему лень расстегивать пиджак.
Я пишу с грустью в моей спокойной комнате, в одиночестве, в котором я всегда пребываю, в одиночестве, в котором я останусь навсегда. И я думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким ничтожным, сущность тысяч голосов, жадное желание тысяч жизней высказаться, терпение миллионов душ, подобных моей, подчиненных обыденной судьбе, бесполезной мечте, надежде, не оставляющей следов. В такие мгновения мое сердце бьется сильнее, потому что я его осознаю. Я живу насыщеннее, потому что живу полнее. Я чувствую в себе религиозную силу, своего рода молитву, подобие крика. Но реакция против моей воли нисходит из моего разума… Я вижу себя на высоком пятом этаже на улице Золотильщиков, меня охватывает сон; я вижу на исписанной мною бумаге напрасную жизнь, лишенную красоты, и дешевую сигарету, которую я держу над старой промокашкой. И вот, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! Говорю о том, что чувствуют души! Сочиняю прозу, как гении и знаменитости! Здесь, я, вот так!..
7.
Сегодня, в очередной раз предаваясь фантазиям, лишенным цели и достоинства, фантазиям, составляющим значительную часть духовной сущности моей жизни, я вообразил, будто навсегда освободился от улицы Золотильщиков, от шефа Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кота. Я почувствовал свое освобождение во сне, словно южные моря предложили мне открыть чудесные острова. Тогда наступило бы отдохновение, постижение искусства, умственное воплощение моего существа.
Но вдруг, в моем воображении, во власти которого я пребывал в кафе во время скромного полуденного отдыха, моя греза оказалась во власти неприятного ощущения: я почувствовал, что мне было бы жаль. Да, я говорю это совершенно осознанно: мне было бы жаль. Шефа Вашкеша, бухгалтера Морейру, кассира Боржеша, всех этих славных ребят, веселого посыльного, который относит письма на почту, мальчика на побегушках, ласкового кота — все это стало частью моей жизни; я не смог бы оставить все это без слез, без понимания, что, каким бы дурным мне все это ни казалось, с ними осталась бы часть меня, что расставание с ними было бы подобием смерти, означало бы наполовину умереть.
К тому же, если бы завтра я удалился от всех них и снял с себя этот костюм улицы Золотильщиков, к чему другому я пришел бы — почему это другое должно было бы появиться? в какой другой костюм я облачился бы? — почему я должен был бы облачаться во что-то другое?
У всех нас есть шеф Вашкеш, для одних — видимый, для других — невидимый. Для меня его действительно зовут Вашкеш, это цветущий, приятный мужчина, порой резкий, но лишенный двуличия, эгоистичный, но в глубине души справедливый, обладающий той справедливостью, которой недостает многим великим гениям и многим сотворенным человеком чудесам цивилизации, правой и левой. Другие увидят в нем тщеславие, стремление к еще большему богатству, к славе, к бессмертию… Но я предпочитаю, чтобы моим шефом был такой человек, как Вашкеш, с которым можно договориться в трудную минуту, а не любой абстрактный шеф мира.
На днях один друг, компаньон одной процветающей фирмы, которая ведет дела с государством, считающий, что я мало зарабатываю, сказал мне: «Соареш, тебя эксплуатируют». Мне это напомнило о том, что так и есть; но раз уж в жизни все мы должны подвергаться эксплуатации, я спрашиваю, не лучше ли, чтобы тебя эксплуатировал торговец тканями Вашкеш, а не тщеславие, слава, досада, зависть или недосягаемое.
Есть те, кого эксплуатирует сам Бог, они — пророки и святые в пустынности мира.
И я возвращаюсь, словно к очагу, который есть у других, в чужой дом, в просторную контору на улице Золотильщиков. Я располагаюсь за своим письменным столом, словно за бастионом, укрывающим от жизни. Я испытываю нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые я вношу чуждые мне записи, к старой чернильнице, которой пользуюсь, к согбенной спине Сержиу, который заполняет накладные чуть поодаль от меня. Я испытываю к этому любовь, возможно, потому, что больше мне любить нечего — или, возможно, еще и потому, что ничто не достойно любви души, и если мы должны дарить любовь, нет разницы, дарить ли ее мелкой детали моей чернильницы или бесконечному безразличию звезд.
8.
Шеф Вашкеш. Часто я необъяснимым образом подпадаю под гипноз шефа Вашкеша. Кто для меня этот человек, помимо случайного препятствия, хозяина моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо со мной обращается, любезно разговаривает, за исключением тех резких мгновений, когда он, охваченный неведомым беспокойством, бывает груб со всеми. Да, но почему меня это беспокоит? Он символ? Причина? Кто он?
Шеф Вашкеш. Я уже вспоминаю о нем в будущем с ностальгией, которую я знаю, что буду испытывать. Я буду спокойно жить в небольшом домике где-нибудь в пригороде, наслаждаясь покоем, и не буду делать то, чего не делаю сейчас, и буду искать новые оправдания, чтобы продолжать этого не делать, и они будут отличаться от тех, за которыми я прячусь от себя сегодня. Или меня поместят в приют для нищих, и я буду рад своему полному краху, оказавшись среди сброда тех, кто считал себя гением, но был всего лишь нищим мечтателем, среди безликой толпы тех, у кого не было ни власти, чтобы победить, ни большого самоотречения, чтобы победить, двигаясь от противного. Где бы я ни оказался, я буду с ностальгией вспоминать шефа Вашкеша, контору на улице Золотильщиков, и монотонность повседневной жизни для меня будет походить на воспоминание о любовных историях, которые со мной не случились, или о триумфах, которые не должны были быть моими.
Шеф Вашкеш. Я вижу его оттуда сегодня, как вижу его сегодня отсюда — среднего роста, коренастый, грубоватый, со своей ограниченностью и пристрастиями, честный и хитрый, резкий и обходительный — начальник не только потому, что у него есть деньги, но и по медлительным волосатым рукам с проступающими венами, похожими на маленькие окрашенные мускулы, по его полной, но не толстой шее, по румяным и, в то же время, гладким щекам под темной бородой, которую он всегда вовремя подстригает. Я вижу его, вижу его жесты, полные энергичной медлительности, его глаза, обдумывающие внутри то, что происходит снаружи, меня охватывает смятение, когда он бывает мной недоволен, и душа моя радуется его улыбке, улыбке широкой и человечной, как рукоплескание толпы.
Возможно, все потому, что в моем окружении нет более выдающегося человека, чем шеф Вашкеш, и часто этот обыкновенный и даже заурядный человек застревает у меня в голове и отвлекает меня от меня самого. Я верю, что в нем есть символ. Я верю или почти верю, что где-то, в давно прошедшей жизни этот человек имел в моей жизни большее значение, по сравнению с тем, что имеет теперь.
9.
А, я понял! Шеф Вашкеш — это Жизнь. Жизнь монотонная и необходимая, повелевающая и неизвестная. Этот банальный человек представляет собой банальность Жизни. Для меня он — все, что есть снаружи, потому что жизнь для меня — это все, что есть снаружи. И если контора на улице Золотильщиков представляет для меня жизнь, то этот мой третий этаж, где я живу, на той же улице Золотильщиков, представляет для меня Искусство. Да, эта улица Золотильщиков, по моему разумению, вбирает в себя весь смысл вещей, решение всех загадок, за исключением той, почему загадки существуют — у этой загадки решения быть не может.
10.
Вот такой я, ничтожный и чувствительный, способный на резкие, поглощающие порывы, дурные и хорошие, благородные и подлые, но никогда на длительное чувство, на продолжительные переживания, которые проникают в самую сущность души. Есть во мне склонность немедленно становиться чем-то другим; нетерпеливость души по отношению к самой себе, как по отношению к несвоевременно появившемуся ребенку; непокой, постоянно растущий и всегда одинаковый. Меня все интересует и ничто не увлекает. Любым делом я занимаюсь, погруженный в грезы; я отмечаю малейшие движения лицевых мускулов человека, с которым говорю, собираю мельчайшие интонации его речи; но, слыша его, я его не слушаю, я думаю о чем-то другом и из разговора менее всего ухватываю предмет, о котором говорил я или мой собеседник. Так, я зачастую повторяю кому-то то, что уже ему повторял, снова задаю вопрос, на который он мне уже ответил; но я могу описать четырьмя фотографически точными словами, каким было положение его мускулов, когда он мне говорил то, чего я не помню, или насколько его глаза были предрасположены слушать мой рассказ, хотя я и не помнил, о чем он был. Во мне — два человека, и оба держатся на расстоянии друг от друга, словно несросшиеся сиамские близнецы.
11.
Литания
Мы никогда не осознаем себя.
Мы две бездны — колодец, глядящий на Небо.
12.
Я завидую — хотя и не знаю, завидую ли — тем, о ком можно написать биографию или кто может написать собственную. В этих впечатлениях без связи, без желания их связать я бесстрастно рассказываю свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если в ней я ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.
Что можно рассказать на исповеди ценного или полезного? То, что с нами произошло или произошло со всеми людьми или только с нами; в первом случае это не новость, во втором — недоступно пониманию. Если я пишу, что чувствую, так это потому, что так я ослабляю лихорадку чувствования. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, потому что ничто не имеет значения. Я создаю пейзажи из того, что чувствую. Я устраиваю праздники из ощущений. Я хорошо понимаю тех, кто вышивает из горечи, и тех, кто вяжет, потому что в этом есть жизнь. Моя пожилая тетушка бесконечными вечерами раскладывала пасьянсы. Эта исповедь в том, что я чувствую, есть мой пасьянс. Я не истолковываю их так, как тот, кто обращается к картам, желая узнать судьбу. Я их не прослушиваю, потому что в пасьянсах у самих карт нет ценности. Я разматываю себя, словно разноцветный клубок, или делаю из себя веревочные фигурки, как те, что плетут на расставленных пальцах и что переходят от одних детей к другим. Я слежу только за тем, чтобы большой палец не испортил петлю, которая ему выпадает. Потом переворачиваю руку, и образ оказывается иным. И начинаю заново.
Жить значит вязать и думать о других. Но во время вязания мысль свободна и все зачарованные принцы могут гулять по своим паркам между стежками спицы из слоновой кости с перевернутым крючком. Кружево из явлений… Интервал… Ничего…
Впрочем, на что я могу рассчитывать, имея дело с собой? Ужасная обостренность ощущений и глубокое понимание того, что я чувствую… Острый ум, который меня разрушает, и сила грез, стремящихся меня развлечь… Мертвая воля и размышление, убаюкивающее ее, словно живое дитя… Да, кружево…
13.
Убожеству моего положения не препятствуют спрягаемые слова, при помощи которых я постепенно составляю свою книгу, случайную и продуманную. Я ничтожно живу в основании каждого выражения, словно нерастворимый осадок на дне стакана, из которого пили только воду. Я пишу свою литературу так, как веду свои рабочие записи — старательно и равнодушно. Перед обширным звездным небом и загадкой множества душ, перед ночью неизвестной бездны и плачем от полного непонимания — перед этим всем то, что я записываю во вспомогательной бухгалтерской книге, и то, что я пишу на бумаге души, одинаково ограничивается улицей Золотильщиков и очень мало касается миллионных пространств вселенной.
Все это мечта и фантасмагория, и мало имеет значения, является ли мечта бухгалтерскими записями или приличной прозой. Разве лучше мечтать о принцессах, а не о входной двери конторы? Все, что мы знаем, есть наше впечатление, а все, чем мы являемся, есть чужое впечатление, мелодрама с нашим участием, в которой мы ощущаем себя, становясь своими собственными зрителями, своими богами по разрешению Муниципалитета.
14.
Знать, что будет дурным то дело, которое никогда не будет сделано. Однако еще хуже будет то, что никогда не будет делаться. То, что делается, хотя бы остается сделанным. Пусть оно будет неважным, но оно существует, как чахлое растение в единственной кадке моей парализованной соседки. Ей это растение в радость, а иногда и мне. То, что я пишу и признаю дурным, тоже может подарить мгновения отвлечения от дурного той или другой удрученной или грустной душе. Мне этого достаточно или недостаточно, но в каком-то отношении это полезно, и такова вся жизнь.
Тоска, которая включает в себя лишь предвкушение еще большей тоски; горечь оттого, что завтра будешь испытывать горечь оттого, что испытывал горечь сегодня — огромная путаница без пользы и истины, огромная путаница…
…Там, где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, спит мое презрение, укутавшись в пальто моего уныния…
…Мир виденных в грезах образов, из которых в равной степени состоят мои познания и моя жизнь…
Сомнения, охватывающие меня в этот час, меня нисколько не тяготят и длятся недолго. Я жажду расширения времени и хочу существовать без условий.
15.
Я покорил, шаг за шагом, внутреннее пространство, которое с рождения стало моим.
Я вытребовал, клочок за клочком, болото, в котором остался в своем ничтожестве.
Я породил мое бесконечное бытие, но вытащил себя клещами из себя самого.
16.
Я предаюсь фантазиям по дороге между Кашкаишем и Лиссабоном. Я отправился в Кашкаиш, чтобы оплатить взнос шефа Вашкеша за дом, который у него есть в Эшториле. Я заранее предвкушал удовольствие от поездки, час туда, час обратно, от того, как буду смотреть на всегда меняющийся облик большой реки и на место ее впадения в Атлантику. На самом же деле, по дороге туда я забылся в абстрактных размышлениях, глядя на водные пейзажи, которые я с радостью собирался смотреть, но не видя их, а по дороге обратно забылся, осмысляя эти ощущения. Я не смог бы описать даже самую мелкую деталь путешествия, самый мелкий фрагмент того, что можно было увидеть. Я сохранил эти страницы по забвению и из противоречия. Не знаю, лучше это или хуже противоположного, и не знаю, что есть это противоположное.
Поезд замедляет ход, это Каиш-ду-Содре. Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к какому-либо выводу.
17.
Иногда я часами предпринимаю одно-единственное усилие — пытаюсь смотреть на свою жизнь. Я вижу себя посреди безбрежной пустыни. Говорю, что вчера я существовал буквально, пытаюсь объяснить самому себе, как оказался здесь.
18.
Я спокойно, без чего-либо в душе, что являло бы собой улыбку, принимаю все большее замыкание моей жизни на этой улице Золотильщиков, в этой конторе, в окружении этих людей. Иметь то, что обеспечивает мне еду, питье и кров, и немного свободного пространства во времени, чтобы мечтать, писать — спать — чего еще я могу просить у Богов или ждать от Судьбы?
У меня были большие амбиции и обширные мечты — но были они и у посыльного, и у портнихи, ведь мечты есть у каждого: отличает нас друг от друга сила их осуществить или судьба, которая осуществляет их при помощи нас.
В грезах я равен посыльному и портнихе. Отличает меня от них только умение писать. Да, это действие, это моя реальность, которая отличает меня от них. В душе я им равен.
Я хорошо знаю, что есть острова на Юге и великие космополитические страсти и что, если бы весь мир был у меня в руке, я бы точно поменял его на билет до улицы Золотильщиков.
Возможно, моя судьба — вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература — бабочка, которая, сев мне на голову, делает меня тем более смешным, чем красивее она сама.
Я буду скучать по Морейре, но что значит скучать по кому-то в сравнении с великими восхождениями?
Я хорошо знаю, что день, когда я стану бухгалтером торгового дома «Вашкеш и Ко», будет одним из великих дней моей жизни. Я знаю это с горьким и ироничным предвкушением, но и с благоразумным преимуществом уверенности.
19.
На берегу моря, в излучине пляжа между тропическими лесами и прибрежными долинами, из неясности бездны небытия всплывала непостоянность пылкого желания. Не нужно было выбирать между полем и лугом, и пространство уходило в кипарисовую рощу.
Сила слов, обособленных или объединенных в зависимости от созвучия, с сокровенными отголосками и со смыслами, которые расходятся ровно тогда, когда сходятся, пышность фраз, вплетенных между смыслами других фраз, порочность следов, надежда лесов и ничего, кроме спокойствия прудов в садах детства моих уловок… Так, среди высоких стен нелепой отваги, в рядах деревьев и среди страхов того, что увядает, кто-то другой, не я, услышал бы из грустных губ исповедь, которую не смогла вырвать и большая настойчивость. Никогда, среди звона копий в невидимом дворе, даже если бы возвращались рыцари по дороге, видной со стены, не было бы больше покоя во Дворце Последних и на той стороне дороги не вспоминалось бы иного имени, кроме того, что, вместе с именем колдуний, околдовывало по ночам дитя жизни и чудес, что умерло позднее.
Легкое, среди тропинок, оставшихся на траве от шагов, прокладывавших пустоши в бурной зелени, движение последних заблудившихся звучало словно шаркание, словно смутное воспоминание о грядущем. Те, кто должен был прийти, были стары, а молодые не придут никогда. Барабаны прогремели на обочине дороги, и никчемные горны висели на усталых руках, которые бы их оставили, если бы у них еще были силы что-либо оставить.
Но вновь, словно вследствие иллюзии, громко звучали минувшие вопли и собаки петляли среди видимых аллей. Все было нелепо, как траур, и принцессы из чужих грез неопределенно гуляли за пределами монастырей.
20.
Много раз в течение моей жизни, угнетенной обстоятельствами, со мной случалось, что, когда я хотел освободиться от любого их сочетания, меня сразу же окружали другие обстоятельства того же порядка, как если бы в неясной ткани вещей существовала отчетливая враждебность по отношению ко мне.
Я отрываю от горла сжимающую его руку. Вижу, что с руки, которой я ее оторвал, у меня сняли шнурок и он упал в ворот с жестом освобождения. Я осторожно откладываю в сторону шнурок и почти удушаю себя собственными руками.
21.
Существуют ли боги, или нет, мы — их рабы.
22.
Мой образ, такой, каким я видел его в зеркалах, всегда привязан к моей душе. Я не мог не быть таким сутулым и слабым, какой я есть, даже в моих мыслях.
Все во мне словно взято у разноцветного принца, вклеенного в старый альбом давным-давно умершего ребенка.
Любить меня значит меня жалеть. Однажды, ближе к исходу будущего, кто-нибудь напишет обо мне поэму, и, возможно, только тогда я начну царствовать в моем Царстве.
Бог — это наше существование и наше неполное бытие.
23.
Абсурд
Мы превращаемся в сфинксов, пусть и поддельных, и доходим до такого состояния, что уже не знаем, кто мы. Потому что, на самом деле, мы и есть поддельные сфинксы и не знаем, чем мы на самом деле являемся. Для нас единственный способ быть в согласии с жизнью — не быть в согласии с самими собой. Нелепое — божественно.
Разрабатывать теории, обдумывая их терпеливо и честно, только для того, чтобы потом действовать им вопреки — действовать и оправдывать наши действия при помощи теорий, которые их осуждают. Проложить путь в жизни, а затем делать все, чтобы по этому пути не следовать. Пользоваться всеми жестами и всеми приемами чего-то, чем мы не являемся, не стремимся быть и не стремимся выглядеть так, будто мы этим являемся.
Покупать книги и потом их не читать; ходить на концерты не для того, чтобы слушать музыку или смотреть, кто там есть; совершать долгие прогулки из-за того, что надоело ходить, и проводить дни за городом только потому, что сельская местность нам противна.
24.
Сегодня, поскольку движения моего тела сковала та старая тоска, что иногда переливает через край, я плохо поел и выпил не столько, сколько пью обычно, в ресторане или харчевне, в антресоли, которая является продолжением моего существования. И, когда я выходил, слуга, удостоверившись в том, что бутылка вина осталась наполовину недопитой, повернулся ко мне и сказал: «До свидания, г-н Соареш, желаю вам поправиться».
И при тревожном звуке этой простой фразы моей душе стало легче, как если бы на пасмурном небе ветер вдруг развеял тучи. И тогда я признал то, что никогда отчетливо не признавал, а именно: что эти официанты из кафе и ресторана, парикмахеры, посыльные на углу испытывают ко мне неподдельную, естественную симпатию и что я не могу похвастать тем, что получаю ее от людей, что общаются со мной более тесно, как бы неуклюже это ни звучало…
У чувства братства есть свои тонкости.
Одни правят миром, другие миром являются. Между американским миллионером, владеющим собственностью в Англии или в Швейцарии, и деревенским вожаком социалистов разница не в качестве, а всего лишь в количестве. Под ними находимся бесформенные мы, безрассудный драматург Уильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, лентяй Данте Алигьери, посыльный, который вчера доставил мне извещение, или парикмахер, который рассказывает мне анекдоты, официант, который только что проявил ко мне братское участие, пожелав поправиться из-за того, что я выпил всего полбутылки вина.
25.
Это, без сомнения, олеография. Я смотрю на нее, не зная, вижу ли я ее. На витрине, помимо нее, есть и другие олеографии. Она же находится в центре витрины в пролете лестницы.
Она прижимает к груди весну и смотрит на меня грустными глазами. Улыбается блеском бумаги, а лицо у нее алого цвета. Небо за ней цвета светло-синей ткани. У нее четко очерченный, почти маленький рот, а над ним, нарисованным, как на открытке, — глаза, глядящие на меня с большой горечью. Рука, держащая цветы, о ком-то мне напоминает. На платье или блузке открытое декольте с каймой. Глаза по-настоящему грустны: они смотрят на меня из глубины литографической реальности с какой-то искренностью. Она пришла с весной. Ее грустные глаза велики, но даже не из-за этого. Я отхожу от витрины, чувствуя большую тяжесть в ногах. Перехожу улицу и оборачиваюсь, бессильно бунтуя. Она по-прежнему держит весну, которую ей дали, а ее глаза грустны, как то, чего нет у меня в жизни. На расстоянии олеография, наконец, кажется более расцвеченной. У фигурки есть лента более розового цвета, обхватывающая ей волосы наверху; я ее не заметил. У нее человеческие глаза, хотя и литографические, и это ужасно: неизбежное предупреждение сознания, подавленный крик, выдающий наличие души. С большим усилием я прихожу в себя от мечты, в которой я мокну, и отряхиваю, как пес, влажность туманного мрака. И над моим пробуждением, словно прощаясь с любой другой вещью, грустные глаза всей жизни, этой метафизической олеографии, которую мы созерцаем на расстоянии, смотрят на меня так, будто я что-то знаю о Боге. Внизу гравюры — календарь. Снизу и сверху он обрамлен двумя слегка изгибающимися и плохо прорисованными черными полосами. Между верхом и низом рамки, над цифрой 1929 с каллиграфической виньеткой, выглядящей устарело и закрывающей неизбежное первое января, мне иронично улыбаются грустные глаза.
Любопытно, откуда мне, в конечном счете, было знакомо это изображение. В конторе, в дальнем углу есть такой же календарь, который я много раз видел.
Но, вследствие какой-то тайны, то ли олеографической, то ли моей, у изображения в конторе глаза не исполнены горечи. Это просто олеография. (Ее бесцветное существование, сделанное из блестящей бумаги, спит над головой левши Алвеша.)
Мне хочется улыбнуться всему этому, но я чувствую сильное недомогание. Чувствую холод внезапного недуга в душе. У меня нет сил восстать против этого абсурда. К какому окну и ради какой тайны Бога я приблизился бы, сам того не желая? Куда выходит витрина в лестничном пролете? Какие глаза смотрели на меня с олеографии. Я почти дрожу. Невольно поднимаю глаза и смотрю в дальний угол конторы, где находится настоящая олеография. Я постоянно поднимаю туда глаза.
26.
Наделять каждое переживание индивидуальностью, каждое состояние души — душой.
Девушки свернули на повороте пути, их было много. Они шли по улице и пели, и звук их голосов был счастливым. Не знаю, кем они были. Какое-то время я слушал их издалека, без какого-либо чувства. В сердце я почувствовал за них горечь.
За их будущее? За их несознательность? Не непосредственно за них — или, кто знает? Возможно, просто за себя.
27.
Литература, которая представляет собой искусство, обвенчанное с мыслью, и безупречное воплощение реальности, на мой взгляд, есть цель, к которой должно было бы стремиться всякое человеческое усилие, если бы оно действительно было человеческим, а не бесполезным проявлением животного нутра. Я верю, что произнести что-то значит сохранить его добродетель и устранить его ужасную сторону. Поля зеленее, когда о них говорят, чем на самом деле. У цветов, если их описывают при помощи фраз, которые их определяют в категориях воображения, будут такие устойчивые оттенки, которых не найти в клеточной жизни.
Двигаться значит жить, высказываться — выживать. Нет ничего реального в жизни, кроме того, что было хорошо описано. Критики мелкого масштаба имеют обыкновение отмечать, что та или иная поэма с замысловатыми рифмами, в конечном счете, просто говорит о том, что день прекрасен. Но сказать, что день прекрасен, трудно, а прекрасный день тоже проходит. Поэтому мы должны сохранить прекрасный день в избранной и придирчивой памяти и тем самым усеять новыми цветами или новыми звездами внешне пустынные и преходящие поля или небеса.
Все есть то, чем являемся мы, и все им будет для тех, кто последует за нами в разнообразии времени, в соответствии с тем, как ярко мы себе это представляли, то есть с тем, какими мы, обладающие заключенным в теле воображением, были на самом деле. Я не думаю, что история с ее большой выцветшей панорамой представляет собой нечто большее, чем поток толкований, нечеткое согласие разрозненных свидетельств. Мы все — романисты, мы рассказываем, когда видим, потому что видение столь же сложно, как и все остальное.
В это мгновение у меня столько важных мыслей, столько действительно метафизических вещей, которые я должен высказать, что я внезапно устаю и решаю больше не писать, больше не думать, а позволить лихорадке высказывания навеять на меня сон, чтобы я, закрыв глаза, как кот, позабавился всем тем, что я мог бы высказать.
28.
Дуновение музыки или мечты, что-то, что позволяет почти что чувствовать, что-то, что позволяет не думать.
29.
После того как последние капли дождя стали задерживаться на скатах крыш и на замощенной посередине улице постепенно начала отражаться лазурь неба, шум машин зазвучал иначе, громче и веселее, и послышалось, как навстречу вновь появившемуся солнцу открываются окна. Тогда по узкой улице от ближайшего угла пронесся громкий призывный крик первого продавца лотерейных билетов и гвозди, вколоченные в ящики в магазине на углу, заблистали в просвете.
Был непонятный праздничный день, официальный, но не соблюдаемый. Покой и труд сливались воедино, мне было нечего делать. Я встал рано и медлил, готовясь существовать. Ходил по комнате из угла в угол и мечтал вслух о вещах, не связанных друг с другом и невозможных — о жестах, которые забыл сделать, о недосягаемых амбициях, осуществленных без направления, о разговорах, которые были бы обстоятельными и постоянными, если бы состоялись. И в этих фантазиях, лишенных величия и спокойствия, в этой медлительности без надежды и без цели, шагая взад и вперед, я растрачивал свободное утро, а мои громкие слова, произнесенные тихо, многократно отражались в монастыре моего простого уединения.
Мой человеческий облик, когда я смотрел на него извне, был так же смешон, как смешно все человеческое, если оно сокровенно. Поверх простого облачения покинутой мечты я надел старое пальто, которое использую для таких утренних бдений. Мои старые тапочки были протерты, особенно левый. И, сунув руки в карманы посмертного пиджака, я прогуливался по моей комнате, точно по бульвару, широкими решительными шагами, воплощая при помощи бесполезных фантазий мечту, подобную тем, что есть у каждого.
Через открытую прохладу моего единственного окна все еще было слышно, как с крыш капали большие капли, скопившиеся, пока шел дождь. Все еще смутно чувствовалась свежесть выпавшего дождя. Небо, однако, было завораживающе голубым, и тучи, остававшиеся от побежденного или изнемогшего дождя, уступали, проплывая над Замком, всему небу его законное место.
Это был повод для веселья. Но что-то меня угнетало, неведомая тоска, неопределенное и даже незаурядное желание. Возможно, ко мне не спешило ощущение того, что я жив. И, когда я выглянул из очень высокого окна и склонился над улицей, на которую посмотрел, не видя ее, я вдруг почувствовал себя одной из тех влажных тряпок для мытья грязных вещей, оставленных сушиться и забытых скрученными на подоконнике и медленно покрывающих его пятнами.
30.
Я признаю, не знаю, с грустью ли, человеческую черствость моего сердца. Прилагательное для меня ценнее, чем настоящий плач души. Мой учитель Виейра[5] ‹…›
Но иногда я бываю другим, и у меня выступают слезы, слезы такие горячие, как у тех, у кого нет и не было матери; и мои глаза, пылающие этими мертвыми слезами, пылают внутри моего сердца.
Я не помню моей матери. Она умерла, когда мне был год. Все, что есть разрозненного и жесткого в моей чувствительности, проистекает из отсутствия этого тепла и из бесплодной тоски по поцелуям, которых я не помню. Я ненастоящий. Я всегда просыпался у чужой груди, убаюканный по ошибке.
Ах, меня отвлекает и терзает тоска по другому существу, которым я мог бы стать! Каким другим я был бы, если бы меня одарили той лаской, что идет от чрева и покрывает поцелуями маленькое личико?
Возможно, тоска оттого, что я не сын, сильно влияет на мое равнодушие в области чувств. Тот, кто прижимал меня, ребенка, к лицу, не мог прижать меня к сердцу. Она была далеко, в могиле — та, что принадлежала бы мне, если бы Судьба пожелала, чтобы она мне принадлежала.
Позднее мне сказали, что моя мать была красива, и говорят, что, когда мне это сказали, я ничего не ответил. Я уже сформировался телом и душой, был несведущ в эмоциях, и то, что мне говорили, еще не было новостью других страниц, которые трудно представить.
Мой отец, живший далеко, совершил самоубийство, когда мне было три года, и я его никогда не знал. Я даже не знаю, почему он жил далеко. Меня это никогда не интересовало. Я помню, что его смерть воспринималась с большой серьезностью во время первых трапез после того, как о ней стало известно. Помню, что на меня время от времени посматривали. И я глупо смотрел в ответ. Потом я ел старательнее, потому что, быть может, пока я не видел, на меня продолжали смотреть.
Я — все это, хотя и не хочу этим быть, в смятенной глубине моей роковой чувствительности.
31.
Часы, что находятся там сзади, в опустевшем доме, потому что все спят, медленно роняют четкий четырехкратный звон четырех часов ночи. Я не сомкнул глаз и не надеюсь уснуть. Ничто не отвлекает мое внимание, не давая мне спать, я не чувствую никакой тяжести в теле, которая не давала бы мне успокоиться; и я лежу в тени, которую рассеянный свет уличных фонарей размывает еще сильнее, в бессильной тишине моего чужого тела.
Мне так хочется спать, что у меня не получается думать; и не получается чувствовать оттого, что не могу уснуть.
Все вокруг меня — обнаженная, абстрактная вселенная, сотканная из ночных отрицаний. Я разрываюсь между усталостью и беспокойством и умудряюсь касаться телесным ощущением метафизического познания тайны вещей.
Порой душа моя смягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни всплывают на поверхность сознания и я веду записи на поверхности моей бессонницы. В другие разы я прихожу в себя от полусна, в котором застыл, и смутные образы, обладающие невольным поэтическим колоритом, пропускают через мою невнимательность свой бесшумный спектакль. Мои глаза закрыты не полностью. Взгляд моих полуприкрытых глаз окаймлен светом, идущим издалека; это уличные фонари там, внизу, на заброшенных окраинах улицы.
Перестать, уснуть, заменить это сознание, в котором чередуются лучшие меланхолические вещи, сказанные тайком тому, кто меня не знает!.. Перестать, легко проскользнуть по пляжу, как прилив и отлив просторного моря на берегах, которые было бы видно той ночью, когда я действительно бы спал!.. Перестать, стать неизвестным и внешним, стать движением ветвей на отдаленных аллеях, мягким опаданием листьев, которое легче узнать по звуку, чем по падению, открытым морем с фонтанами вдали и всей неопределенностью ночных парков, затерянных среди постоянной путаницы, природных темных лабиринтов!.. Перестать, закончить наконец, но метафизически выжить, стать страницей в книге, пучком распущенных волос, колебанием вьюнка под полуоткрытым окном, ничего не значащими шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним уходящим ввысь дымом засыпающей деревни, кнутом кучера, забытым на утренней обочине дороги… Нелепостью, смятением, затуханием — всем тем, в чем нет жизни…
И я по-своему сплю, без сна и отдыха, веду растительную жизнь, заполненную предположениями, и под моими веками, не знающими покоя, витает, словно спокойная пена грязного моря, далекий отблеск немых уличных фонарей.
Сплю и бодрствую.
По другую сторону от меня, позади моей кровати, тишина дома соприкасается с бесконечностью. Я слышу, как падает время, капля за каплей, но не слышу, как падают капли. Мое физическое сердце физически подавляет сведенную к небытию память обо всем том, что было или чем был я. Я чувствую на подушке конкретное местоположение головы, которая продавливает на ней выемку. Ткань наволочки соприкасается с моей кожей так, как люди соприкасаются друг с другом в сумерках. Ухо, на котором я лежу, математически отпечатывается в мозгу. Я моргаю от усталости, и мои ресницы производят очень тихий, неслышный звук на чувствительной белизне высокой подушки. Дышу, вздыхая, и мое дыхание совершается — оно не мое. Я страдаю, не чувствуя и не думая. Домашние часы, занимающие конкретное место там, в глубине вещей, сухо отбивают ничего не значащие полчаса. Столько всего, все так глубоко, все так черно и так холодно!
Я прохожу сквозь времена, прохожу сквозь молчание, бесформенные миры проходят сквозь меня.
Вдруг, словно дитя Тайны, запел петух, не зная, что еще ночь. Я могу уснуть, потому что во мне уже утро. И я чувствую, как улыбается мой рот, слегка надавливая на мягкие складки наволочки, прикасающейся к моему лицу. Я могу отдаться жизни, могу уснуть, могу не замечать себя… И, сквозь новый сон, который затмевает мой разум, то ли я вспоминаю о пропевшем петухе, то ли он на самом деле поет во второй раз.
32.
Симфония беспокойной ночи
Все спало, как если бы вселенная была ошибкой; и ветер, неуверенно колеблясь, был бесформенным флагом, развернутым над несуществующей казармой.
Ничто не разрывалось в холодном и колком воздухе, и оконные рамы сотрясали стекла так, что чувствовался их предел. В глубине всего тихая ночь была усыпальницей Бога (душа страдала от печали Бога).
И вдруг — новый вселенский порядок воцарялся в городе, — ветер свистел в промежутках между своими порывами, и чувствовалось множество движений в вышине. Затем ночь закрывалась, словно дверной глазок, и от глубокого покоя хотелось быть выспавшимся.
33.
В первые дни внезапно пришедшей осени, когда наступление вечера принимает облик чего-то преждевременного и кажется, что на то, что мы делаем днем, уходит много времени, я наслаждаюсь, даже во время повседневной работы, этим предвкушением не-работы, которое приносит с собой тень, из-за того что она — ночь, а ночь — это сон, домашний уют, освобождение. Когда зажигается свет в просторной конторе, и она перестает быть темной, и мы, не переставая работать днем, собираемся задержаться, я испытываю нелепый комфорт как воспоминание о ком-то другом, и мне спокойно оттого, что я пишу, как когда я читаю до тех пор, пока не почувствую, что пора идти спать.
Все мы — рабы внешних обстоятельств: солнечный день открывает перед нами просторные поля посреди скромного кафе в переулке; тень в поле заталкивает нас внутрь самих себя, и мы еле-еле укрываемся в доме без дверей, коим являемся мы сами; наступление ночи, даже среди дневных забот, расширяет, словно медленно раскрывающийся веер, сокровенное осознание необходимости отдохнуть.
Но при этом работа не стопорится, а оживляется. Мы уже не работаем; нам приносят отдых дела, к которым мы прикованы. И вдруг на широком разлинованном листе моей судьбы бухгалтера — старый дом пожилых тетушек, закрытый от мира, угощает чаем в сонные десять часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещающая только укрытый льном стол, затемняет своим светом облик Морейры, освещенного черным электричеством бесконечно далеко от меня. Приносят чай — его приносит служанка, которая еще старше тетушек, вместе с остатками сна и с терпеливым дурным настроением, свойственным ласковости давнего подчинения, — и я безошибочно вношу запись или сумму сквозь все свое мертвое прошлое. Я заново поглощаю себя, теряю себя, забываю себя в далеких ночах, не запятнанных обязательствами и миром, девственно чистых перед лицом тайны и будущего.
И так нежно ощущение, отдаляющее меня от дебета и кредита, что, если мне случайно задают вопрос, я отвечаю мягко, как если бы мое существо было полым, как если бы я был всего лишь пишущей машинкой, которую я ношу с собой, как открытое переносное устройство меня самого. Меня не обескураживает прерывание моих грез: они так нежны, что я продолжаю видеть их, говоря, ведя записи, отвечая и даже беседуя. И при всем том остывший чай заканчивается и контора скоро закроется… Я поднимаю от книги, медленно закрывая ее, глаза, уставшие от плача, которого не было, и, обуреваемый смешанными ощущениями, страдаю оттого, что, когда закроется контора, закроется и моя мечта; что в движении руки, которым я закрываю книгу, закрывается непоправимое прошлое; что в постель жизни я отправлюсь один, без сна и без покоя, во власти прилива и отлива моего перемешанного сознания, словно между двумя приливами черной ночи, на исходе судеб, исполненных ностальгии и безысходности.
34.
Иногда я думаю, что никогда не выберусь с улицы Золотильщиков. И когда эти слова написаны, они кажутся мне вечностью.
Не удовольствие, не слава, не власть: свобода, исключительно свобода.
Перейти от призраков веры к привидениям разума означает просто перебраться из одной тюремной камеры в другую. Если искусство освобождает нас от отсутствующих и устаревших идолов, оно освобождает и от щедрых идей и от социальных забот — которые тоже являются идолами.
Найти личность в ее утрате — сама вера укрепляет этот смысл судьбы.
35.
…и глубокое и отвратительное презрение ко всем тем, кто трудится ради человечества, ко всем тем, кто сражается за родину и отдает свою жизнь, чтобы цивилизация продолжалась…
…презрение, исполненное тоски, к тем, кому неведомо, что единственная реальность для каждого — это его собственная душа, а остальное — внешний мир и прочие люди — есть неэстетический кошмар как результат случившегося в мечтах несварения духа.
Моя неприязнь к усилию доходит до почти что жестикулирующего ужаса перед всеми формами резкого усилия. И война, производительный и энергичный труд, помощь другим… Все это кажется мне лишь производным от бесстыдства ‹…›
И перед высшей реальностью моей души все то, что полезно и внешне, кажется мне легкомысленным и заурядным перед верховным и чистым величием моих самых живых и частых грез. Для меня они более реальны.
36.
Не скромные стены моей обыденной комнаты, не старые письменные столы чужой конторы, не бедность прилегающих к привычной Байше улиц, по которым я ходил столько раз, что мне кажется, будто они узурпировали неизменность непоправимости, вызывают в моем духе часто им испытываемую тошноту от оскорбительной обыденности жизни. Ее вызывают люди, которые обычно меня окружают, души, которые, ничего обо мне не зная, каждый день узнают меня за едой и разговорами и помещают в горле моего духа ком физического отвращения. И однообразная гнусность их жизни, параллельная внешней стороне моей жизни, представляет собой их сокровенное осознание похожести на меня, которое облекает меня в робу каторжника, помещает меня в тюремную камеру, делает меня недостоверным и нищим.
Бывают мгновения, в которые каждая деталь обыденности интересует меня в самом своем существовании, и я испытываю ко всему привязанность, обусловленную умением ясно все прочитывать. Тогда я вижу — как, по словам Виейры, описывал Соуза[6] — обыденное в особом свете и становлюсь поэтом с тем душевным складом, благодаря которому критика греков положила начало интеллектуальной эпохе поэзии. Но бывают и мгновения — и сейчас меня угнетает одно из таких мгновений, — в которые я чувствую больше себя самого, чем внешние вещи, и все для меня превращается в дождливую ночь и грязь, и я теряюсь на одиноком полустанке у развилки, в перерыве между двумя поездами третьего класса.
Да, моя сокровенная добродетель, заключающаяся в том, чтобы часто быть объективным и тем самым уходить от размышлений о себе, страдает, как и всякая добродетель и даже всякий порок, от меньшей утвердительности. Тогда я спрашиваю себя самого, как же я выживаю, как осмеливаюсь иметь трусость, чтобы находиться здесь, среди этих людей, будучи очевидно равным им и будучи по-настоящему уверен в иллюзии гнусности их всех? В свете далекого фонаря передо мной предстают все решения, которым воображение поддается, словно женщина, — самоубийство, бегство, отречение, великие жесты аристократии индивидуальности, плащ и шпага существований, лишенных сценария.
Но идеальная Джульетта из лучшей реальности закрыла над вымышленным Ромео моей крови высокое окно литературного свидания. Она подчиняется своему отцу; он — своему. Продолжается ссора Монтекки и Капулетти; опускается занавес над тем, чего не произошло; и я возвращаюсь домой — в ту комнату, где находится отвратительная хозяйка дома, которой там нет, ее сыновья, которых я вижу редко, люди из конторы, которых я увижу только завтра — с воротом пиджака служащего по торговой части, поднятым над шеей поэта, я бессознательно обхожу лужи, оставшиеся от холодного дождя, в сапогах, купленных в том же магазине, и испытываю некоторое смешанное беспокойство оттого, что опять забыл зонт и достоинство души.
37.
Болезненный интервал
Нечто, брошенное в угол, тряпка, упавшая на улицу: так мое презренное существо притворяется перед жизнью.
38.
Завидую всем людям, что они — не я. Поскольку из всего невозможного это всегда мне казалось самым главным, именно оно в наибольшей степени составляло мою повседневную тоску, мое отчаяние во все часы грусти.
Матовый луч зловещего солнца выжег из моих глаз физическое ощущение зрения. Желтизна жары замерла в темной зелени деревьев. Оцепенение ‹…›
39.
Вдруг, как если бы судьба-хирург, прооперировав мою застарелую слепоту, добилась мгновенных результатов, я поднимаю голову от моей безымянной жизни для ясного понимания того, как я существую. И вижу, что все, что я сделал, все, о чем думал, все, чем был, есть разновидность обмана и безумия. Я изумляюсь тому, что прежде умудрялся этого не видеть. Удивляюсь, каким я был, и вижу, что я на самом деле не такой.
Я смотрю, словно на простор, который озаряет прорывающееся сквозь тучи солнце, на свою прошлую жизнь; и отмечаю с метафизическим ошеломлением, что все мои самые уверенные жесты, самые ясные мысли и самые логичные намерения, в конечном счете, были лишь прирожденным опьянением, естественным безумием, великим незнанием. Я даже не играл себя. Меня играли. Я был не актером, а его жестами.
Все, что я сделал, о чем думал, чем был, есть сумма подчинений либо ложному сущему, которое я считал своим, потому что я действовал вовне, находясь в нем, либо бремени обстоятельств, которые я принял за воздух, коим я дышал. В это мгновение прозрения я внезапно становлюсь одиночкой, который обнаруживает, что является изгнанником там, где всегда считал себя гражданином. В самом сокровенном, о чем я думал, я не был собой.
Тогда меня охватывает саркастический ужас жизни, уныние, которое выходит за границы моей сознающей индивидуальности. Я знаю, что ошибался и заблуждался, что никогда не жил и существовал лишь потому, что заполнял время сознанием и размышлением. И мое ощущение себя подобно ощущению того, кто просыпается после сна, наполненного реальными грезами, или того, кто благодаря землетрясению освободился от полутемной тюрьмы, к которой он привык.
Меня тяготит, действительно тяготит, словно приговор, который предстоит узнать, это неожиданное понимание моей настоящей индивидуальности, той, что всегда сонно путешествовала между тем, что чувствует, и тем, что видит.
Описать то, что чувствуешь, когда чувствуешь, что действительно существуешь и что душа — это реальная величина, настолько трудно, что я не знаю, какими человеческими словами это можно определить. Не знаю, охвачен ли я лихорадкой, как ощущаю, избавился ли я от лихорадки того, кто просыпает жизнь. Да, повторяю, я подобен путешественнику, который вдруг оказывается в чужом городе, но не знает, как он туда попал; и мне вспоминаются случаи тех, кто утратил память и надолго стал другим человеком. Я был другим человеком в течение долгого времени — с молодости и обретения сознания, — и сейчас я прихожу в себя на середине моста, согнувшись над рекой и зная, что существую более прочно, чем до того, как попал сюда. Но город мне не знаком, улицы внове, а недуг не излечен. Согнувшись над мостом, я жду, что истина пройдет и я снова стану ничтожным и мнимым, разумным и естественным.
Это было мгновение, и оно уже прошло. Я уже вижу окружающую меня мебель, рисунки на старых обоях, солнце сквозь пыльные окна. На мгновение я узрел истину. В полном сознании я на мгновение стал тем, чем являются великие люди по отношению к жизни. Я вспоминаю их действия и слова и не знаю, не подвергал ли с успехом и их соблазну Демон Реальности. Не знать о себе значит жить. Плохо знать себя значит думать. Познать себя вдруг, как в это знаменательное мгновение, значит неожиданно обрести понимание сокровенной монады, волшебного слова души. Но этот неожиданный свет сжигает все, поглощает все. Оставляет нас нагими перед самими собой.
Это было лишь мгновение, и я себя увидел. Теперь я даже не могу сказать, чем я был. И, наконец, я хочу спать, потому что, сам не знаю почему, полагаю, что смысл — это сон.
40.
Порой я чувствую, не знаю почему, что меня коснулось предуведомление смерти… То ли неясное недомогание, которое не материализуется в боль и потому, как правило, одухотворяется в некоей цели, то ли усталость, желающая такого глубокого сна, что ей недостаточно просто выспаться, — очевидно, что я себя чувствую так, словно, измученный болезнью, я наконец протянул без резких движений или сожаления слабые руки на измятом одеяле.
Тогда я размышляю над тем, что именно мы называем смертью. Я не имею в виду тайну смерти, которую не постигаю, а физическое ощущение прекращения жить. Человечество боится смерти, но неотчетливо; нормальный человек, подвергаясь испытанию, успешно борется, нормальный человек, больной или старый, редко когда смотрит с ужасом в пропасть того небытия, которое он этой пропасти приписывает. Все это — нехватка воображения. Нет ничего более ошибочного, чем полагать, будто смерть подобна сну. Почему смерть должна быть сном, если она на сон не похожа? Главное во сне — это пробуждение от него, а от смерти, как предполагается, не пробуждаются. И если смерть похожа на сон, мы должны иметь представление о том, как от нее пробуждаются. Однако не это представляет себе нормальный человек: он представляет себе смерть как сон, от которого не просыпаются, но это ничего не значит. Смерть, как я сказал, не похожа на сон, поскольку во сне человек жив и спит; я не знаю, как можно уподоблять смерть чему бы то ни было, ведь невозможно получить опыт смерти или чего-то, с чем его можно сравнить.
Мне, когда я вижу мертвеца, смерть кажется уходом. Труп производит на меня впечатление оставленного костюма. Кто-то ушел, и ему не понадобился тот единственный костюм, который он надевал.
41.
Тишина, исходящая из шума дождя, распространяется, как крещендо серого однообразия, по узкой улице, на которую я гляжу. Я сплю наяву, стоя у окна, на которое опираюсь, как если бы оно было всем. Я пытаюсь понять, какие ощущения я испытываю перед этим расхлестанным падением хмуро поблескивающей воды, которая выделяется на фоне грязных фасадов и еще сильнее на фоне открытых окон. И не знаю, что чувствую, не знаю, что хочу чувствовать, не знаю, что думаю и кто я есть.
В моих глазах, лишенных ощущений, вся запоздалая горечь моей жизни снимает с себя костюм естественного веселья, которым пользуется в длительных случайных каждодневных обстоятельствах. Удостоверяюсь в том, что, хотя я столько раз бываю веселым и довольным, я всегда грустен. И то, что во мне это удостоверяет, находится позади меня и как будто склоняется надо мной, опирающимся на окно, и из-за моих плеч или даже из-за моей головы смотрит более сокровенным взглядом, чем мой, на медленный, уже слегка вьющийся дождь, движение которого придает изящества пасмурному и угрюмому воздуху.
Бросить все обязательства, даже те, которых от нас не требуют, отвергнуть все домашние очаги, даже те, что никогда не были нашими, жить неясностью и следами, среди величественного пурпура безумия и поддельных кружев воображаемого величия… Быть чем-то, что не чувствует ни тяжести дождя снаружи, ни горечи сокровенной пустоты… Блуждать без души и без мысли — ощущение, лишенное самого себя — по дороге, огибающей горы и бегущей по долинам, над которыми нависают крутые склоны, и чувствовать себя далеким, погруженным и неизбежным… Потеряться среди пейзажей, похожих на картины. Стать ярким и далеким Ничем…
Легкое дуновение ветра, которого я, стоя за окном, не чувствую, рвет воздушными перепадами прямолинейное падение дождя. Какая-то часть неба, которой я не вижу, проясняется. Я замечаю это потому, что за наполовину чистыми стеклами в окне напротив я уже смутно вижу на стене там, внутри, календарь, которого до сих пор не видел.
Забываю. Не вижу, не думаю.
Дождь прекращается, и на мгновение от него остается россыпь мельчайших алмазов, как если бы в вышине большая скатерть лазурно стряхнула с себя эти крохи. Чувствуется, что часть неба уже открылась. В окне напротив отчетливее виден календарь. У него лицо женщины, а остальное просто, потому что я его узнаю, а зубная паста — самая известная из всех.
Но о чем я думал до того, как засмотрелся? Не знаю. О силе воли? Об усилии? О жизни? Свет властно врывается, и чувствуется, что небо уже почти совсем голубое. Но покоя нет — ах, и не будет никогда! — в глубине моего сердца, как в старом колодце в глубине проданного сада, этом воспоминании детства, запертом в пыльном подвале чужого дома. Нет покоя — о горе мне! — и нет даже желания его иметь…
42.
Я понимаю лишь как своего рода недостаток чистоплотности то бездеятельное постоянство моей всегда одинаковой жизни, в которой я покоюсь и которая осела, словно пыль или грязь, на поверхности вечной неизменности.
Так же, как мы моем тело, нам следовало бы мыть судьбу, менять жизнь, как мы меняем белье — не для того, чтобы сохранить жизнь, как когда мы едим и спим, а из-за того постороннего уважения к нам самим, которое мы, собственно, и называем чистоплотностью.
Есть много людей, для которых нечистоплотность — это не веление воли, а лишь пожимание плечами ума. И для многих блеклость и однообразие жизни — это не форма любви к ней или естественное приспособление к нелюбви к ней, а затухание собственного разума, автоматическая ирония познания.
Есть мерзавцы, которым отвратительна их собственная мерзость, но которые не уходят от нее из-за той же обостренности чувства, из-за которой напуганный человек не уходит от опасности. Есть мерзавцы судьбы, как я, которые не уходят от повседневной обыденности из-за той самой привлекательности собственного бессилия. Они — птицы, зачарованные отсутствием змеи; мухи, которые садятся на стволы деревьев и ничего не видят, пока не попадут в поле досягаемости липкого языка хамелеона.
Так я медленно выгуливаю мою сознательную бессознательность по моему стволу дерева обыкновенности. Так я выгуливаю мою судьбу, которая идет вперед, потому что не иду я; мое время, которое течет, потому что не теку я. От монотонности меня спасают лишь эти краткие заметки о ней, которые я записываю. Я довольствуюсь тем, что в моей камере по эту сторону решеток есть стекла, и вывожу на них, на пыли необходимого, мое имя большими буквами, как ежедневную подпись в моей переписке со смертью.
Со смертью? Нет, даже не со смертью. Тот, кто живет так, как я, не умирает: он подходит к концу, затухает, увядает. Место, где он был, остается и без него, улица, по которой он ходил, остается, хотя его на ней не видно, в доме, где он жил, теперь обитает не-он. Вот и все, и мы называем это небытием; но и эту трагедию отрицания мы не можем представить под аплодисменты, поскольку мы не знаем наверняка, небытие ли это — мы, ростки истины и жизни, пыль, скапливающаяся внутри и снаружи оконных стекол, внуки Судьбы и пасынки Бога, который женился на Вечной Ночи, когда она стала вдовой породившего нас Хаоса.
Уйти с улицы Золотильщиков ради недосягаемого… Поднять голову от пюпитра к Неизвестному. Но оно переплетено с Разумом — Великой Книгой, рассказывающей о том, что мы были.
43.
Бывает усталость абстрактного ума, самая ужасная из усталостей. Она не тяготит, как усталость телесная, не тревожит, как усталость эмоционального познания. Это тяжесть осознания мира, невозможность дышать душой.
Тогда все мысли, как если бы они были облаками и на них подул ветер, все мысли, в которых мы чувствовали жизнь, все устремления и намерения, на которых мы основывали надежду на ее продолжение, разрываются, раскрываются, удаляются, обратившись в пепел тумана, в лохмотья того, чего не было и не могло быть. И за поражением возникает в своей чистой форме черное и непреклонное одиночество пустынного звездного неба.
Тайна жизни причиняет нам боль и по-разному пугает. Иногда нас посещает своего рода бесформенный призрак, и душа дрожит, охваченная худшим из страхов — страхом перед уродливым воплощением небытия. Иногда она находится позади нас и видна лишь тогда, когда мы не оборачиваемся, чтобы увидеть, и вся истина тайны заключена в глубочайшем ужасе оттого, что мы ее не знаем.
Но тот ужас, который сегодня меня уничтожает, менее благороден и более жгуч. Это стремление не хотеть мыслить, желание никогда не быть никем, сознательное отчаяние всех клеток души и тела. Это внезапное ощущение, будто тебя заперли в бесконечной камере. Как можно думать о побеге, если сама камера — это и есть все?
И тогда меня посещает всеохватывающее, нелепое желание сродни сатанизму, предшествовавшему Сатане: чтобы однажды — в день, не связанный со временем и не обладающий сущностью — был найден способ бежать от Бога и чтобы самое глубокое, что есть в нас, перестало, не знаю как, быть частью бытия или небытия.
44.
Есть сон добровольного внимания, который я не умею объяснить и который часто на меня набрасывается, если о таком расплывчатом явлении можно говорить, что оно на кого-то набрасывается. Я иду по улице, как человек, который сидит, и мое внимание, открытое всему, все еще охвачено инерцией полного телесного отдыха. Я не смог бы осознанно уклониться от прохожего, идущего мне навстречу. Я бы не смог ответить словами или даже мыслями внутри себя на вопрос случайного встречного, который оказался бы на моем случайном пути. Я бы не смог испытывать желание, надежду, что-либо, что представляло бы собой движение не то чтобы воли моего полного существа, но даже, если можно так сказать, частичной и собственной воли каждого элемента, на который меня можно разложить. Я не смог бы думать, чувствовать, хотеть. И я шагаю, следую, слоняюсь. Ничто в моих движениях (я замечаю по тому, чего не замечают другие) не делает зримым состояние безволия, в котором я пребываю. И это состояние отсутствия души, которое было бы удобным, поскольку оно очевидно, для человека лежачего или откинувшегося в кресле, особенно неудобно и даже болезненно для человека, идущего по улице.
Это ощущение опьянения от безделья, пьянства без веселья ни в нем самом, ни в том, что оно вызывает. Это недуг, выздороветь от которого я и не мечтаю. Это бодрая смерть ‹…›
45.
Вести жизнь бесстрастную, но культурную, отдаваясь веянию идей, читая, мечтая и намереваясь писать, жизнь достаточно медленную для того, чтобы быть всегда на грани тоски, достаточно продуманную, чтобы никогда в тоску не погружаться. Жить этой жизнью вдали от переживаний и от размышлений, лишь в размышлении над переживаниями и в переживаниях от размышлений. Блаженно замирать под солнцем, как темное озеро, окруженное цветами. Сохранять в тени то благородство индивидуальности, которое заключается в том, чтобы в отношениях с жизнью ни на чем не настаивать. В кружении миров уподобляться цветочной пыльце, которую неизвестный ветер вздымает в вечернем воздухе и неуклюжесть наступающей ночи опускает в случайном месте, где она незаметна среди более крупных вещей. Быть этим, обладая твердым знанием, ни веселым, ни грустным, и благодарить солнце за его свет и звезды за их далекость. Не быть ничем бóльшим, не иметь большего, не хотеть большего… Музыка голодающего, песнь слепого, мощи неведомого путника, бесцельные шаги по пустыне ненавьюченного верблюда…
46.
Я пассивно перечитываю, воспринимая то, что чувствую, как вдохновение и освобождение, простые фразы Каэйру[7], естественным образом связанные с тем, что является следствием маленьких размеров его деревни. Поскольку она мала, говорит он, оттуда мир виден лучше, чем из города; и поэтому деревня больше города…
Ибо я размером с то, что вижу,
а не того размера, что мой рост.
Такие фразы, словно вырастающие в отсутствие воли, которая произнесла бы их, очищают меня от всей метафизики, которую я произвольно добавляю в жизнь. Прочитав их, я подхожу к моему окну, выходящему на узкую улицу, смотрю на широкое небо и множество звезд и чувствую себя свободным благодаря крылатому великолепию, от вибрации которого содрогается все мое тело.
«Я размером с то, что вижу!» Всякий раз, когда я размышляю над этой фразой с максимальным напряжением моих нервов, мне кажется, что ей суждено перестроить созвездия, составляющие вселенную. «Я размером с то, что вижу!» Какая духовная мощь поднимается из колодца глубоких переживаний к высоким звездам, что отражаются в нем и тем самым, в определенном смысле, в нем находятся.
И уже теперь, осознавая, что я умею видеть, я смотрю на обширную объективную метафизику всех небес с уверенностью, которую в меня вселяет желание умереть с песней. «Я размером с то, что вижу!» И рассеянный лунный свет, полностью мне принадлежащий, начинает разъедать своей рассеянностью получерную лазурь горизонта.
Мне хочется воздеть руки и прокричать нечто исполненное неведомой дикости, сказать слова высоким тайнам, утвердить новую широкую личность на великих просторах пустой материи.
Но я беру себя в руки и успокаиваюсь. «Я размером с то, что вижу!» И фраза остается для меня целой душой, я вкладываю в нее все эмоции, что испытываю, и непостижимый покой сурового лунного света, широко разливающийся с наступлением ночи, проникает в меня изнутри и в город извне.
47.
…в грустной неопрятности моих смятенных переживаний…
Сумеречная грусть, сотканная из усталостей и ложных отказов, тоска от любых ощущений, боль словно от остановленного рыдания или от обретенной истины. В моей невнимательной душе разворачивается этот пейзаж отречений — аллеи незавершенных жестов, высокие клумбы не виденных как следует снов, бессвязности, словно стены из самшита, разделяющие пустые дороги, предположения, словно старые пруды без живой струи, все спутывается и выглядит жалко в грустной неопрятности моих смятенных переживаний.
48.
Чтобы постичь, я разрушил себя. Понять значит забыть, как любить. Я не знаю ничего более ложного и значимого одновременно, чем высказывание Леонардо да Винчи о том, что любить или ненавидеть что-либо можно, лишь поняв его.
Одиночество опустошает меня; общество людей меня гнетет. Присутствие другого человека сбивает меня с мыслей; я грежу о его присутствии с особой рассеянностью, которую неспособны определить все мои аналитические способности.
49.
Уединение слепило меня по своему образу и подобию. Присутствие другого человека — всего одного человека — мгновенно замедляет мои мысли, и, если нормального человека общение с другим побуждает к самовыражению, для меня такое общение служит контрстимулом, если такое составное слово допустимо, с точки зрения языка. Наедине с собой я способен придумывать остроумные высказывания, быстрые ответы на то, чего никто не говорил, блестяще демонстрировать интеллигентную общительность с любым человеком; но все это улетучивается, если я оказываюсь перед другим живым человеком — я теряю ум, лишаюсь силы речи и через некоторое время испытываю лишь сонливость. Да, от разговоров с людьми мне хочется спать. Только мои призрачные и воображаемые друзья, только мои беседы, протекающие в мечтах, обладают подлинной реальностью и должной значимостью, и дух в них присутствует так же, как образ в зеркале.
Кроме того, меня гнетет сама мысль быть принужденным к общению с другим. Простое приглашение поужинать с другом вызывает во мне трудно определимую тревогу. Мысль о какой-либо социальной обязанности — сходить на похороны, обсудить с кем-нибудь какое-либо дело в конторе, отправиться на вокзал, чтобы встретить какого-то человека, знакомого или нет, — сама идея вносит сумятицу в мои мысли на целый день, и иногда я начинаю беспокоиться еще накануне и плохо сплю; в действительности, такие случаи, когда они происходят, оказываются совершенно незначительными и ничего не оправдывают; и они повторяются, а я никогда не учусь учиться.
«Мои привычки происходят от одиночества, а не от людей»; не знаю, сказал ли это Руссо, или Сенанкур[8]. Но это была какая-то душа, принадлежавшая к тому же виду, что и моя, если не сказать, что к той же расе.
50.
Свет светлячка регулярно мерцает. Темное поле вокруг — это бескрайнее отсутствие шума, которое почти хорошо пахнет. Умиротворенность всего болит и тяготит. Бесформенная тоска душит меня.
Я редко отправляюсь за город, почти никогда не провожу там весь день и не остаюсь на ночь. Но сегодня мой друг, в чьем доме я гощу, не позволил мне отказаться от его приглашения, и я приехал сюда в полном замешательстве — как робкий человек на большой праздник, — я прибыл сюда радостно, насладился воздухом и просторными видами, хорошо пообедал и поужинал, и теперь, темной ночью, в моей комнате без света неясное пространство наполняет меня тревогой.
Из окна комнаты, в которой я буду спать, открывается вид на открытое поле, на неопределенное поле, представляющее собой все поля, на величественную, неясно украшенную звездами ночь, в которой чувствуется, но не слышится легкий ветер. Сидя у окна, я созерцаю органами чувств то небытие вселенской жизни, что царит там, снаружи. Время обретает гармонию в беспокойном ощущении, от видимой невидимости всего до древесины, смутно шероховатой оттого, что растрескалась старая краска на беловатом подоконнике, на край которого тяжело опирается моя левая рука.
Сколько раз, тем не менее, мой взор жаждал этой умиротворенности, от которой я бы сейчас почти что сбежал, если бы это было просто или прилично! Сколько раз я думал — там, внизу, среди узких улиц между высокими домами, — что покой, проза, определенность скорее находятся здесь, среди природы, а не там, где скатерть цивилизации заставляет забыть о покрытой лаком сосне, на которой она расстелена! И теперь, здесь, чувствуя себя здоровым, по-хорошему уставшим, я неспокоен, я пленен, я тоскую.
Не знаю, происходит ли это только со мной, или со всяким, кому цивилизация дала возможность родиться во второй раз. Но мне кажется, что для меня или для тех, кто чувствует так, как я, искусственное стало естественным, а естественное стало странным. Поясню: искусственное не стало естественным; естественное стало иным. Я презираю автомобили и обхожусь без них, презираю плоды науки — телефоны, телеграфы, — которые облегчают жизнь, и побочные продукты фантазии — граммофоны, приемники Герца, — которые делают веселой жизнь тем, кого они веселят, — и тоже обхожусь без них.
Ничто из этого мне не интересно, ничего из этого я не желаю. Но я люблю Тежу, потому что на его берегу есть большой город. Я наслаждаюсь небом, потому что вижу его с пятого этажа на улице в Байше. Поле или природа не могут мне дать ничего, что сравнилось бы с неравномерной величественностью вида спокойного города под лунным светом, который открывается от Грасы или Сао-Педру-де-Алкантара[9]. Для меня нет цветов, сравнимых с пестрейшим колоритом Лиссабона под солнцем.
Красоту обнаженного тела чувствуют только одетые расы. Целомудрие важно прежде всего для чувственности в качестве препятствия для ее энергии.
Искусственность — это способ наслаждаться естественностью. Тем, чем я насладился на этих просторных полях, я насладился потому, что не живу здесь. Не чувствует свободы тот, кто никогда не жил в заточении.
Цивилизация — это плод воспитания природы. Искусственное — это путь к тому, чтобы оценить естественное.
Необходимо, однако, чтобы мы никогда не принимали искусственное за естественное.
В гармонии между естественным и искусственным и заключается естественность высшей человеческой души.
51.
Черное небо вдали, к югу от Тежу, было зловеще черным по контрасту с ярко-белыми крыльями беспокойно летавших чаек. Однако день уже не был ненастным. Вся угрожающая масса дождя перешла на другой берег, и нижний город, еще влажный от прошедшего слабого дождя, улыбался с земли небу, северная часть которого еще была голубой с белым отливом. От весенней свежести было немного холодно.
В такой час, пустой и невесомый, мне нравится сознательно вести мысль к размышлению, которое есть ничто, но при этом, в чистоте своего небытия, отчасти вбирает в себя бесплодную холодность прояснившегося дня с черным фоном вдали и некоторые прозрения, подобные чайкам, что напоминают своим контрастом о тайне всего во всеохватной черноте.
Но вдруг, вопреки моему сокровенному литературному намерению, черный фон неба на Юге вызывает в моей памяти воспоминание, подлинное или ложное, об ином небе, увиденном, быть может, в другой жизни, к северу от небольшой реки, с грустными зарослями тростника и без какого-либо города. Сам не знаю как, пейзаж для диких уток увлекает мое воображение, и я отчетливо, словно в странном сне, ощущаю себя вблизи от воображаемого простора.
Заросли тростника на берегу рек, земли охотников и тревог, где неровные берега, будто маленькие грязные веревки, врезаются в свинцово-желтые воды и отступают в илистые бухты для почти игрушечных кораблей, в ручейки, где вода блестит на поверхности ила, сокрытого среди зелено-черных тростниковых стеблей, сквозь которые невозможно пройти.
У опустошения оттенок мертвенно-серого неба, которое тут и там сминается в тучи, еще более черные, чем оттенок неба. Я не чувствую ветра, но он есть, а другой берег — это, по сути, длинный остров, за которым угадывается — большая заброшенная река! — другой, настоящий берег, раскинувшийся на непримечательном расстоянии.
Никто туда не добирается и не доберется. Если бы, вследствие противоречивого ускользания времени и пространства, я смог сбежать от мира в этот пейзаж, туда бы никто не добрался. Я напрасно бы ждал чего-то, не зная, что жду, и, в конце концов, просто медленно наступила бы ночь и все пространство медленно окрасилось бы в цвет самых черных туч, которые постепенно возникали бы на одинокой совокупности неба.
И вдруг я здесь чувствую исходящий оттуда холод. Он идет от костей и охватывает все тело. Пробудившись, я глубоко дышу. Человек, который сталкивается со мной под Портиком у Биржи, смотрит на меня с недоверием непонимающего. Черное небо, густея, опускается еще ниже над Югом.
52.
Поднялся ветер… Сначала он был подобен голосу пустоты… дуновение во внутреннем пространстве полости, отсутствие в тишине воздуха. Потом раздалось рыдание, рыдание из глубины мира, дребезжание дрожащих оконных стекол, которое действительно было ветром. Затем еще громче зазвучал, словно глухое мычание, плач без бытия перед наступлением ночи, скрежет вещей, падение обломков, атом конца света.
Потом казалось, что ‹…›
53.
Когда, как в ненастную ночь, за которой следует день, христианство пронеслось над душами, стал виден ущерб, который оно невидимо нанесло; причиненные им разрушения стали видны, только когда оно уже пронеслось. Одни посчитали, что разрушения произошли по его вине; но его уход лишь показал разрушения, а не вызвал их.
Тогда в этом мире душ остались зримые разрушения, очевидное бедствие, которое не сокрыла мнимая нежность сумерек. Души показали себя такими, какие они есть.
Тогда начался в душах едва завершившейся эпохи тот недуг, что получил название романтизма, это христианство без иллюзий, это христианство без мифов, которое является самой черствостью своей болезненной сущности.
Все зло романтизма — в смешении того, что нам необходимо, и того, чего мы желаем. Всем нам для жизни нужны необходимые вещи, их нужно сохранять и продолжать; все мы желаем более совершенной жизни, полноценного счастья, осуществления наших мечтаний…
Нам свойственно хотеть того, что нам необходимо, и свойственно желать того, что нам не нужно, но является для нас желаемым. Нездорово желать с одинаковой силой того, что нужно, и того, что желаемо, и страдать от своего несовершенства так, как страдают те, у кого нет хлеба. Недуг романтизма заключается в этом: хотеть Луну так, как если бы ее можно было заполучить.
«Нельзя съесть пирожное, не потеряв его».
В низменной сфере политики, как и в сокровенном пространстве душ — один и тот же недуг.
Язычнику в реальном мире было неведомо это болезненное ощущение вещей и себя самого. Будучи человеком, он желал также и невозможного; но не хотел его. Его религия была ‹…› и только в глубинах тайны, только посвященным, вдали от народа и от ‹…› преподавались те трансцендентные религиозные детали, которые заполняют души пустотой мира.
54.
Самобытную и величественную личность, которую романтики видели в самих себе, я неоднократно пытался прочувствовать в грезах, и столько раз, сколько я пытался ее прочувствовать, я громко смеялся над этим моим замыслом. В конце концов, роковой человек существует в мечтах, присущих всем заурядным людям, а романтизм — это лишь выворачивание наизнанку нашего повседневного контроля над самими собой. Почти все люди в глубине себя мечтают о собственном могучем империализме, о подчинении всех мужчин, о покорении всех женщин, об обожании народов, а самые достойные — всех эпох… Поэтому немногие привычные к грезам, вроде меня, достаточно рассудительны, чтобы смеяться над эстетической возможностью подобных мечтаний.
Главное обвинение против романтизма еще не выдвинуто: обвинение в том, что он представляет внутреннюю истину человеческой природы. Его преувеличения, его глупости, его разнообразные способности волновать и соблазнять заключаются в том, что он является внешним отображением того, что есть внутри души, но отображением конкретным, опознаваемым и даже возможным, если бы возможность зависела не от Судьбы, а от чего-то другого.
Сколько раз я сам, смеясь над подобными соблазнами отвлечения, погружаюсь в размышления о том, как было бы хорошо стать знаменитым, как было бы приятно слушать похвалу, как было бы великолепно торжествовать! Если мне и удается представить себя на такой высоте, то лишь в сопровождении хохота другого меня, который всегда рядом со мной, как одна из улиц Байши. Я вижу себя знаменитым? Но я вижу себя лишь знаменитым бухгалтером. Чувствую себя вознесшимся на трон известности? Но дело происходит в конторе на улице Золотильщиков, и этому препятствуют мои коллеги. Слышу, как мне рукоплещет разношерстная толпа? Рукоплескания доносятся до пятого этажа, где я живу, и наталкиваются на грубую мебель моей дешевой комнаты, на всю пошлость, что меня окружает и унижает от кухни ‹…› до сна. У меня даже не было замков в Испании, как у великих испанцев во всех фантазиях. Мои замки были построены из карт, старых, грязных, из неполной колоды, которыми уже нельзя было играть, и они не рухнули — их пришлось разрушить жестом руки, подчиняясь нетерпеливой настойчивости старой служанки, которая хотела расстелить на весь стол скатерть, покрывавшую его наполовину, потому что час чаепития пробил, как проклятие Судьбы. Но даже этот образ бесполезен, поскольку у меня нет загородного дома или старых тетушек, за столом которых, по окончании семейного вечера, я бы пил чай, приносящий отдохновение. Моя греза потерпела крах даже в метафорах и изображениях. Моя власть не распространилась даже на старые игральные карты. Моя победа не состоялась без чайника и даже без старого кота. Я умру так, как жил, и на пригородной толкучке меня оценят на вес, как один из постскриптумов утраченного.
Пусть я хотя бы донесу до возможной бесконечности всеобщей бездны славу моего разочарования, как если бы это было разочарование в большой мечте, великолепие неверия, словно знамя поражения — пусть и знамя в слабых руках, но знамя, протащенное по илу и крови изможденных, но воздетое ввысь, пока мы погружаемся в зыбучие пески, никто не знает, в каком качестве — протеста, вызова или жеста отчаяния. Никто не знает, потому что никто ничего не знает, а пески поглощают и тех, у кого есть знамена, и тех, у кого их нет. И пески покрывают все — мою жизнь, мою прозу, мою вечность.
Я несу с собой сознание поражения, как знамя победы.
55.
Хотя я душой и принадлежу к породе романтиков, я нахожу отдохновение лишь в чтении классиков. Сама их ограниченность, через которую выражается их ясность, меня утешает, не знаю в чем. Я улавливаю в них радостное впечатление от широкой жизни, которая созерцает просторы, не пересекая их. Те же языческие боги отдыхают от тайны.
Чрезвычайно любопытный анализ ощущений — иногда тех ощущений, которые, как нам кажется, мы испытываем, — отождествление сердца с пейзажем, анатомическое выявление всех нервов, использование желания как воли и стремления как мысли — все это мне слишком хорошо знакомо для того, чтобы в ком-то другом казалось мне новинкой или приносило покой. Всякий раз, когда я это испытываю, я бы хотел, именно потому, что я это испытываю, испытывать нечто другое. И, когда я читаю классика, мне это другое дается.
Признаюсь в этом без притворства и без стыда… Нет фрагмента у Шатобриана или песни у Ламартина[10] — фрагментов, которые так часто мне кажутся голосом, выражающим мои мысли, песен, которые так часто мне как будто декламируются, чтобы я их узнал — которые бы восхитили и возвысили меня так, как фрагмент прозы Виейры или та или иная ода тех немногих наших классиков, что действительно следовали за Горацием.
Я читаю и чувствую себя освобожденным. Обретаю объективность. Я перестал быть мною, перестал быть распыленным. И то, что я читаю, становится не моим костюмом, на который я смотрю косо и который иногда меня тяготит, а подлинной ясностью внешнего мира, полностью очевидной, солнцем, что видит всех, Луной, бросающей тени на спокойный пол, просторами, теряющимися в море, черной прочностью деревьев, отмеченных зелеными пятнами на верхушке, прочным покоем прудов в садах, дорогами, перекрытыми виноградниками на коротких спусках склонов.
Я читаю, как тот, что отрекается. И подобно тому, как королевская корона и мантия никогда не бывают так величественны, как когда уходящий король оставляет их на земле, я слагаю на мозаику прихожих все мои триумфы над тоской и грезами и поднимаюсь по лестнице, сохраняя единственную добродетель — зрение.
Я читаю, как тот, что проходит. И в классиках, в спокойных, в тех, кто, если страдает, не говорит об этом, я чувствую себя священным прохожим, помазанным паломником, безрассудным созерцателем бесцельного мира, Князем Великого Изгнания, который, уходя, дал последнему нищему последнюю милостыню своего отчаяния.
56.
Финансирующий эту фирму компаньон, который всегда испытывает некое недомогание, пожелал по неведомому капризу, пришедшему ему в перерыве между приступами болезни, получить портрет всего персонала конторы. И вот позавчера мы все, следуя указаниям веселого фотографа, собрались перед грязно-белой перегородкой, которая отделяет своей хрупкой древесиной основное помещение конторы от кабинета шефа Вашкеша. В центре — сам Вашкеш; по обе стороны от него выстроились, согласно первоначально установленным, а затем случайным категориям, другие человеческие души, которые физически сходятся здесь каждый день для мелких задач, чей окончательный смысл известен лишь тайному разумению Богов.
Сегодня, придя в контору с некоторым опозданием и, по правде говоря, уже забыв о статичной процедуре фотографирования, проведенной дважды, я увидел прибывшего неожиданно рано Морейру и одного из служащих, которые с интересом склонялись над чем-то почерневшим, в чем я, поразившись, немедленно узнал одну из первых отпечатанных фотографий. Всего было два снимка одной и той же фотографии, которая получилась лучше.
Мне было больно видеть себя там, потому что, как можно предположить, я первым делом отыскал себя. Я никогда не был высокого мнения о своей внешности, но никогда не считал ее настолько ничтожной в сравнении с другими лицами, так хорошо мне знакомыми, в этом собрании людей, которых я вижу каждый день. Я похож на изможденного иезуита. На моем худом невыразительном лице не видно ни ума, ни силы, ни вообще чего бы то ни было, что выделяло бы его из мертвого потока других лиц. Нет, не мертвого потока. Там есть по-настоящему выразительные лица. Шеф Вашкеш такой, какой он есть — приветливое и суровое широкое лицо, твердый взгляд, жесткие усы в довершение портрета. Энергия, проницательность человека — в конечном счете, такие банальные и столько раз повторенные столькими тысячами людей по всему миру — отпечатаны и на этой фотографии, как в психологическом паспорте. Два коммивояжера получились замечательно; продавец получился хорошо, но оказался почти что позади плеча Морейры. А сам Морейра! Морейра, мой начальник, квинтэссенция однообразия и непрерывности, выглядит куда ярче меня! Даже у посыльного — отмечаю я и не могу подавить чувство, которое пытаюсь счесть не завистью — на лице уверенность, открытое выражение, которое отстоит на много улыбок от моего никчемного погасшего лица бумажного сфинкса.
Что это означает? Какова правда, которую пленка безошибочно передает? Какова точность, которую документирует холодная линза? Что такого во мне, чтобы все выглядело так? И тем не менее… Это групповое оскорбление?
— Вы очень хорошо получились, — неожиданно говорит Морейра. И затем, поворачиваясь к продавцу: — Личико точь-в-точь его, а?
И продавец согласился с такой дружеской веселостью, что его стоило за это швырнуть в мусорное ведро.
57.
И сегодня, думая о том, чем была моя жизнь, я чувствую себя каким-то животным, которого несут в корзине на согнутой руке от одной пригородной станции до другой. Образ дурацкий, однако еще глупее жизнь, которую он отражает. Обычно у таких корзин две крышки полуовальной формы: если животное барахтается, они слегка приподнимаются с одного или с другого изогнутого края. Но рука несущего, слегка опираясь на шарниры посередине, позволяет такому слабому существу лишь поднять исподтишка бесполезные конечности, подобные ослабевающим крыльям бабочки.
За описанием корзины я забыл, что говорил о себе. Я отчетливо вижу ее и обожженную толстую и белую руку несущей ее служанки. Мне удается разглядеть только руку служанки и волосы на ней. Мне удается чувствовать себя хорошо, только если — вдруг — волна прохлады ‹…› от этих белых прутьев и лент ‹…›, из которых плетутся корзины и среди которых я, животное, барахтаюсь между двумя остановками, которые я чувствую. Между ними я покоюсь, судя по всему, на скамье и кто-то разговаривает о моей корзине. Я засыпаю, потому что успокаиваюсь, и сплю, пока меня снова не поднимают на остановке.
58.
Обстановка — душа вещей. У каждой вещи есть собственное выражение, и это выражение приходит к ней извне. Каждая вещь есть переплетение трех нитей, и эти три нити образуют эту вещь: некоторое количество материи; то, как мы ее воспринимаем; и обстановка, в которой она находится. Стол, за которым я пишу, представляет собой кусок древесины, это стол и один из предметов мебели данной комнаты. Мое впечатление от этого стола, если я захочу его описать, должно будет состоять из понимания того, что он сделан из древесины, того, что я называю это столом и приписываю ему определенные формы использования и определенное назначение, и того, что в нем отражаются, проникают в него и преобразуют его предметы, за счет расположения которых он обретает внешнюю душу и которые находятся на нем. И сам цвет, который был ему придан, выцветание этого цвета, его пятна и трещины — все это, заметьте, пришло к нему извне и именно это в большей степени, чем его деревянная сущность, придает ему душу. И самая сокровенная часть этой души, заключающаяся в том, чтобы быть столом, также была придана ему извне и составляет его личность.
Поэтому я полагаю, что нет ни человеческой, ни литературной ошибки в приписывании наличия души вещам, которые мы называем неодушевленными. Быть вещью значит быть объектом приписывания. Может быть ложной фраза о том, что дерево чувствует, что река «бежит», что закат грустен, а море спокойно (синее благодаря небу, которое ему не принадлежит) и улыбчиво (благодаря солнцу, которое находится вне него). Но столь же ошибочно приписывать красоту чему бы то ни было. Столь же ошибочно приписывать цвет, форму, да, пожалуй, и бытие чему бы то ни было. Это море — соленая вода. Этот закат — начало исчезновения солнечного света на данной широте и долготе. Этот ребенок, что играет передо мной, — разумная совокупность клеток — более того, это сложное сочетание субатомных движений, странный электрический конгломерат миллионов солнечных систем в мельчайшей миниатюре.
Все приходит извне, и сама человеческая душа, возможно, есть не более чем сверкающий солнечный луч, который высвечивает лежащую на земле навозную кучу, коей является тело.
В этих размышлениях, вероятно, заключена целая философия для того, у кого нашлись бы силы извлечь из них выводы. У меня такой силы нет, мне приходят неясные мысли о логических возможностях, и все упирается в образ солнечного луча, который золотит навоз, словно темную солому, влажную и придавленную, на почти черной земле у стены, сложенной из крупных камней.
Таков я. Когда хочу думать, я вижу. Когда хочу спуститься в свою душу, я внезапно останавливаюсь, задумавшись, в начале уходящей вглубь винтовой лестницы и вижу через окно верхнего этажа солнце, которое смачивает в золотистом прощании пространное скопление крыш.
59.
Всякий раз, когда мои намерения под влиянием моих грез поднимались над повседневностью моей жизни и я на мгновение чувствовал себя высоким, как ребенок на качелях, всякий раз мне приходилось спускаться, как ребенку в городском саду, и признавать свое поражение без знамен, воздетых для войны, и без меча, который у меня хватило бы сил выхватить из ножен.
Я полагаю, что большинство из тех, кого я случайно встречаю на улицах, несет в себе — я замечаю это по молчаливому движению уст и по неразличимой нерешительности глаз или по тому, как у молящихся вместе становится громче голос — такую же нацеленность на бесполезную войну, ведомую войском без знамен. И все — я оборачиваюсь назад и созерцаю их спины несчастных побежденных — потерпят, как и я, великое позорное поражение, среди ила и тростника, без лунного цвета на берегах и без поэзии паулизма[11], жалкой и любительской.
У всех, как и у меня, есть восторженное и грустное сердце. Я хорошо их знаю: одни — продавцы в магазинах, другие — служащие конторы, третьи — мелкие лавочники; четвертые — победители в кафе и кабаках, знаменитые, но не знающие этого из-за восторженности самовлюбленного слова, когда молчит скупая самовлюбленность, которую не нужно хранить. Но все они, бедняжки, поэты и влачат в моих глазах — как, впрочем, и я в их — такую же нищету нашей общей несуразности. У всех них, как и у меня, будущее — в прошлом.
Прямо сейчас, когда я сижу в конторе без дела и все, кроме меня, ушли обедать, я смотрю через низкое окно на пошатывающегося старика, медленно бредущего по противоположному тротуару. Он не пьян; он — мечтатель. Он внимателен к несуществующему; возможно, он еще надеется. Да сохранят нам Боги, если они справедливы в своей несправедливости, грезы, даже когда они неосуществимы, и да ниспошлют хорошие сны, пусть даже низменные. Сегодня, когда я еще не стар, я могу мечтать о южных берегах и о недосягаемой Индии; завтра, возможно, мне будет дарована самими Богами мечта стать хозяином маленькой табачной лавки или пенсионером в пригородном доме. Любая мечта — это все та же мечта, потому что все они — мечты. Пусть Боги изменят мои мечты, но не дар мечтать.
Пока я думал об этом, я перестал следить за стариком. Я его уже не вижу. Открываю окно, чтобы его увидеть. Все равно не вижу. Он ушел. По отношению ко мне у него была зрительная обязанность символа; он выполнил ее и свернул за угол. Если бы мне сказали, что он свернул за абсолютный угол и что его тут никогда не было, я бы принял это с тем же жестом, которым сейчас закрываю окно.
Добиваться чего-то?..
Бедные неумелые полубоги, которые завоевывают империи словом и благородным намерением и нуждаются в деньгах на жилье и еду! Они подобны полкам дезертировавшего войска, чьи полководцы питали мечту о славе, от которой у них, заблудившихся среди тины болот, осталось лишь понятие величия, осознание того, что они были войском, и пустота оттого, что они не знали, что делал полководец, которого они никогда не видели.
Так каждый на мгновение мечтает стать командующим войска, из арьергарда которого он сбежал. Так каждый, среди грязи ручьев, приветствует победу, которую никто не смог одержать и от которой остались своего рода крошки среди пятен скатерти, которые забыли стряхнуть.
Они заполняют зазоры повседневных действий, как пыль заполняет зазоры между мебелью, когда ее не чистят как следует. В бесцветном свете обыкновенного дня они блестят, словно серые черви на красном дереве. Их можно выковырять маленьким гвоздем. Но ни у кого не достает терпения их выковырять.
Бедные мои товарищи, что мечтают вслух, как я вам завидую и как я вас презираю! Со мной находятся другие — самые бедные, те, у кого есть только они сами, кому они могут рассказать о своих мечтах и сделать то, что стало бы стихами, если бы они их написали, — бедолаги, вся литература которых — это их собственная душа, которые толком не слышат критику и задыхаются от самого факта существования, не пройдя неведомый трансцендентный экзамен, дающий право на жизнь.
Одни — герои, способные повалить пять человек на углу вчерашней улицы. Другие — соблазнители, которым не осмелились сопротивляться даже несуществующие женщины. Они верят в это, когда об этом говорят, возможно, говорят, чтобы поверить. Другие ‹…› Для всех них проигравшие мира, кем бы они ни были, суть люди.
И все, словно угри в тазу, переплетаются и наползают друг на друга, но не вылезают из таза. Иногда о них говорят газеты. О некоторых газеты рассказывают больше одного раза — но известность к ним никогда не приходит.
Они — счастливцы, потому что им дарована ложная мечта глупости. Но тем, у кого, подобно мне, есть мечты без иллюзий ‹…›
60.
Болезненный интервал
Если вы меня спросите, счастлив ли я, я вам отвечу, что нет.
61.
Благородно быть робким, замечательно не уметь действовать, величественно быть неспособным жить.
Лишь Тоска, которая является неким обособлением, и Искусство, которое является неким презрением, золотят подобием довольства нашу ‹…›
Недолговечный блеск, порождаемый нашим общим разложением, хотя бы освещает наш мрак.
Лишь элементарное несчастье и чистая тоска от постоянного несчастья геральдичны, как потомки давних героев.
Я — колодец жестов, которые даже во мне не проявились полностью, слов, о которых я даже не думал, что они движут моими губами, грез, которые я забыл домечтать до конца.
Я — руины зданий, которые никогда не были ничем, кроме этих руин: кому-то, посреди строительства, надоело думать о том, что он строил.
Не будем забывать ненавидеть наслаждающихся, потому что они наслаждаются, презирать веселых, потому что мы сами не сумели быть такими же веселыми, как они… Эта ложная мечта, эта слабая ненависть — лишь грубоватый и грязный пьедестал земли, на которую она опирается; на нем, надменная и единственная, возвышается статуя нашей Тоски, темный лик, который смутно окутывает тайной непроницаемая улыбка.
Благословенны те, кто не доверяет жизнь никому.
62.
Обыденное человечество — впрочем, другого и нет — вызывает у меня физическую тошноту. Порой я настойчиво усиливаю эту тошноту, почти вызывая рвоту, чтобы ослабить позывы к ней.
Одна из моих излюбленных прогулок в те утренние часы, когда я боюсь заурядности наступающего дня, словно человек, боящийся тюрьмы, — это когда я медленно прогуливаюсь по улицам до того, как открываются магазины и склады, и слышу обрывки фраз, которые группы девушек, юношей или тех и других вместе роняют, словно милостыню иронии в невидимой школе моих открытых раздумий.
Это всегда одна и та же последовательность одних и тех же фраз… «И тут она говорит…», и интонация выдает ее намерение посплетничать. «Если это был не он, значит, это был ты…», и голос отвечающего начинает возражать, но я его уже не слышу. «Ты сказал, да-да, сказал…», и голос портнихи пронзительно утверждает: «Моя мама говорит, что не хочет…» «Я?», и изумление юноши, который несет ланч, завернутый в вощеную бумагу, меня не убеждает и, судя по всему, не убеждает и замаранную блондинку. «Наверно, это было…», и смех трех из четырех девушек рядом с моим ухом, непристойность, которая ‹…› «И тогда я встал перед этим типом и прямо ему в лицо — прямо в лицо: „Ну и, Зе…“», и бедолага врет, потому что начальник конторы — я понимаю по голосу, что вторым участником спора был начальник конторы, которого я не знаю, — не оценил его выпад болтливого гладиатора на арене между письменными столами. «Тогда я пошел курить в туалет», — смеется коротышка с темными заплатами на седалище.
Другие, которые проходят в одиночестве или вместе, либо не говорят, либо говорят, а я их не слышу, но все голоса ясны мне благодаря своей интуитивной и ломаной прозрачности. Я не осмеливаюсь рассказать — не осмеливаюсь рассказать это себе даже в письменной форме, даже если потом порву написанное — то, что я видел в случайных взглядах, в их невольном и низменном направлении, в их гнусных пересечениях. Не осмеливаюсь потому, что, когда провоцируешь приступ рвоты, нужно спровоцировать только один.
«Этот тип был таким толстым, что даже не видел лестницу». Я поднимаю голову. Этот паренек хотя бы описывает. А эти люди лучше, когда описывают, чем когда чувствуют, потому что ради описания они забывают о себе. У меня проходит тошнота. Я вижу этого типа. Вижу его фотографически. Даже невинный жаргон меня оживляет. Благословен ветер, обвевающий мне лицо, — этот тип такой толстый, что даже не видел, что у лестницы были ступеньки, — возможно, лестница, по которой человечество восходит, пыхтя, толпясь и спотыкаясь о равномерную ложность покатости по эту сторону подъезда.
Интрига, проклятие, словесное бахвальство тем, чего недостало смелости сделать, удовлетворенность каждого несчастного червяка, облаченного в бессознательное сознание собственной души, немытая сексуальность, остроты, похожие на обезьянью щекотку, ужасающее незнание о собственной ничтожности… Все это производит на меня впечатление чудовищного и низменного животного, невольно сотворенного из грез, из влажных корок желаний, из пережеванных остатков ощущений.
63.
Вся жизнь человеческой души — это движение в полумраке. Мы живем в сумерках сознания и никогда не уверены в том, чем мы являемся, или в наших предположениях о том, чем мы являемся. В лучших из нас живет некая суетность, а в мире есть ошибка, размаха которой мы не знаем. Мы — нечто происходящее в антракте спектакля; иногда, через некоторые двери мы видим то, что, возможно, является всего лишь декорациями. Весь мир неясен в смятении, как голоса в ночи.
Я только что перечитал эти страницы, которые пишу с настойчивой ясностью, и у меня возникают вопросы. Что это и для чего? Кем я являюсь, когда чувствую? В чем я умираю, когда существую?
Как тот, кто с большой высоты пытается разглядеть жизнь в долине, я тоже созерцаю себя с некоей вершины и сливаюсь со всем в неразличимый и запутанный пейзаж.
Именно в такие часы, когда душа летит в бездну, мельчайшие подробности гнетут меня, как прощальное письмо. Я постоянно чувствую себя на пороге пробуждения, моя собственная оболочка причиняет мне страдания, отгоняя выводы. Я бы с радостью закричал, если бы мой голос куда-нибудь долетал. Но я охвачен сном, который переходит от одних ощущений к другим, подобно череде облаков, что окрашивают в разные цвета солнца и в зеленые тона полутемную траву просторных полей.
Я подобен тому, кто ищет наугад, не зная, где спрятан предмет, о котором ему ничего не рассказали. Мы играем в прятки ни с кем. Есть где-то трансцендентная уловка, текучее божество, которое можно только услышать.
Да, я перечитываю эти страницы, которые отражают скудные часы, краткие минуты отдыха или иллюзии, большие надежды, перенаправленные на пейзаж, печали, подобные комнатам, в которые никто не заходит, какие-то голоса, большую усталость, еще не написанное евангелие.
У каждого — своя суетность, и суетность каждого что он забыл, что есть другие люди с такой же душой. Моя суетность — это несколько страниц, некие отрывки, некоторые сомнения…
Перечитываю? Я солгал! Я не решаюсь перечитывать. Не могу перечитывать. Зачем мне перечитывать? То, что там есть, другое. Я уже ничего не понимаю…
64.
Я плачу над моими несовершенными страницами, но потомки, если прочтут их, почувствуют больше благодаря моему плачу, чем почувствовали бы благодаря совершенству, которое, достигни я его, лишило бы меня возможности плакать, а значит, и писать. Совершенство не проявляется. Святой плачет, и этим он человечен. Бог молчит. Поэтому мы можем любить святого, но не можем любить Бога.
65.
Та божественная и замечательная робость, что стоит на страже ‹…› сокровищ и регалий души.
Ах, но как бы я хотел впрыснуть хотя бы в одну душу нечто ядовитое, беспокойное и тревожное. Это немного утешило бы меня перед лицом ничтожества деятельности, в котором я живу. Извращать стало бы целью моей жизни. Но дрожит ли какая-нибудь душа от моих слов? Слышит ли их кто-нибудь, кроме одного меня?
66.
Пожимая плечами
Обыкновенно мы придаем нашим мыслям о неизвестном оттенок наших представлений об известном: если мы называем смерть сном, то это потому, что внешне она похожа на сон; если мы называем смерть новой жизнью, то это потому, что она похожа на нечто, отличающееся от жизни. Из маленьких недопониманий реальности мы выстраиваем верования и надежды и перебиваемся корками, которые называем пирожными, как бедные дети, которые играют в счастливую жизнь.
Но такова вся жизнь; такова, по крайней мере, та система особой жизни, которую обычно называют цивилизацией. Цивилизация заключается в том, чтобы дать любой вещи имя, которое к ней не относится, и потом мечтать о результате. И ложное имя, и настоящая мечта действительно создают новую реальность. Предмет действительно становится другим, потому что мы делаем его другим. Мы фабрикуем реальности. Исходный материал остается тем же, но форма, которую ему придало искусство, отдаляет его на самом деле от того, чтобы оставаться тем же. Стол из сосны является сосной, но он является и столом. Мы садимся за стол, а не за сосну. Любовь — это половой инстинкт, однако мы любим не посредством полового инстинкта, а посредством предположения о другом чувстве. И это предположение действительно является другим чувством.
Не знаю, какое тонкое воздействие света, или неясный шум, или воспоминание о духáх, или музыка, сыгранная неизвестно каким внешним влиянием, вдруг, посреди прогулки, навеяли на меня эти фантазии, которые я неспешно записываю, рассеянно сидя в кафе. Я не знаю, куда я вел свои мысли или куда я предпочел бы их вести. День пропитан легким туманом, влажным и горячим, он грустен, но не угрожающ, однообразен, но бессмыслен. Меня мучает какое-то незнакомое чувство; мне не хватает какого-то довода относительно неизвестно чего; в моих нервах нет воли. Под моим сознанием я грустен. И пишу эти строки, действительно бессвязные, не для того, чтобы сказать это, не для того, чтобы сказать что-либо, а для того, чтобы дать работу моему невниманию. Медленно, слабо надавливая на затупившийся карандаш — заточить который у меня не хватает чувствительности, — я заполняю белую бумагу, в которую заворачивают бутерброды и которую мне дали в кафе, потому что мне лучшей и не надо, сойдет любая, лишь бы она была белой. И я довольствуюсь ею. Я склоняюсь над самим собой. Опускается однообразный вечер без дождя, в обескураживающем и неясном оттенке света… И я перестаю писать, потому что перестаю писать.
67.
Как часто я, добыча поверхностности и ворожбы, ощущаю себя человеком. Тогда я живу весело и существую ясно. Плыву по течению. И мне приятно получить заработанное и уйти домой. Я чувствую время, не видя его, и меня радует всякая органическая вещь. Если я размышляю, я не думаю. В такие дни мне очень нравятся сады.
Не знаю, что такого странного и бедного есть в сокровенной сущности городских садов, что я могу хорошо прочувствовать лишь тогда, когда не чувствую хорошо самого себя. Сад — это квинтэссенция цивилизации — безымянное видоизменение природы. Там есть растения, но есть и улицы — улицы. Растут деревья, но под их сенью есть и скамейки. Вдоль линии, обращенной к четырем сторонам города и только там широкой, скамейки больше, и на них почти всегда есть люди.
Я не испытываю ненависти к упорядоченности цветов в клумбах. Однако я ненавижу общественное употребление цветов. Если бы клумбы находились в закрытых парках, если бы деревья росли в феодальных углах, если бы на скамейках никого не было, мне было бы чем утешаться в бесполезном созерцании садов. Однако в городе расчерченные по линейке, но полезные сады для меня подобны клеткам, в которых у цветистой спонтанности деревьев и цветов есть пространство лишь затем, чтобы у них его не было, место, с которого им не сойти, и сама красота без присущей ей жизни.
Но бывают дни, когда этот пейзаж мне принадлежит и я вхожу в него, как персонаж комической трагедии. В такие дни я заблуждаюсь, но, по крайней мере, в определенном отношении я счастливее. Если я отвлекаюсь, то думаю, что у меня действительно есть дом, очаг, куда я могу вернуться. Если я забываюсь, то становлюсь нормальным, предназначенным для какой-то цели, чищу другой пиджак и читаю газету целиком.
Но эта иллюзия длится недолго как из-за того, что она недолговечна, так и из-за того, что наступает ночь. И цвет цветов, тень деревьев, линии дорожек и клумб, все улетучивается и сжимается. Над ошибкой и над тем, что я — человек, вдруг распахивается, как если бы дневной свет был скрытым от меня театральным занавесом, большая звездная сцена. И тогда я забываю глазами бесформенный партер и жду первых актеров с трепетом ребенка, попавшего в цирк.
Я свободен и потерян.
Я чувствую. Я остужаю лихорадку. Я есть я.
68.
Усталость от всех иллюзий и от всего того, что есть в иллюзиях — их утрата, бесполезность их наличия, предусталость от необходимости их иметь для того, чтобы их потерять, горечь оттого, что они были, умственный стыд оттого, что ты их питал, зная, что они так закончатся.
Сознание несознания жизни — самая древняя подать, наложенная на ум. Бывают несознательные умы — сверкания духа, цепочки понимания, тайны и философии, — которым присущ тот же автоматизм, что и телесным рефлексам, то же управление, которое печень и почки осуществляют над своими выделениями.
69.
Льет дождь, все сильнее и сильнее… Словно есть что-то, что рухнет в наружную черноту…
Все неровное гористое нагромождение города кажется мне сегодня равниной, дождевой равниной. Куда ни кинешь взгляд, все окрашено в бледно-черный цвет дождя.
У меня странные ощущения, все они холодные. Теперь мне кажется, что преобладающий пейзаж — дымка и что дома — это дымка, которая обволакивает пейзаж.
Своего рода предневроз от того, чем я буду, когда меня уже не будет, леденит мне тело и душу. Словно воспоминание о моей будущей смерти наводит на меня ужас изнутри. В тумане интуиции я чувствую себя мертвой материей, чем-то провалившимся в дождь, стенанием на ветру. И холод того, что я не почувствую, впивается в нынешнее сердце.
70.
Даже если другой добродетели во мне нет, то есть хотя бы добродетель постоянной новизны ощущения освобождения.
Сегодня, шагая по Руа-Нова-ду-Алмаду, я вдруг обратил внимание на спину мужчины, который шел передо мной. Это была заурядная спина ничем не примечательного человека, скромный пиджак на плечах случайного прохожего. Под левой рукой он нес старый портфель и, в такт своим шагам, касался земли закрытым зонтом, который держал за ручку правой рукой.
Вдруг я почувствовал к этому человеку что-то сродни нежности. Я почувствовал в нем нежность, которая чувствуется к обычной человеческой заурядности, к повседневной обыденности главы семейства, идущего на работу, к его скромному и веселому очагу, к веселым и грустным удовольствиям, из коих непременно состоит его жизнь, к невинности жизни без осмысления, к животной естественности этой одетой спины. Я направил взгляд на спину человека — окно, в котором я увидел эти мысли.
Ощущение было точно таким же, как то, что охватывает нас, когда мы смотрим на спящего. Всякий спящий снова становится ребенком. Возможно, из-за того, что во сне невозможно причинить зло и жизнь не осознается, самый большой преступник, самый законченный эгоист, благодаря естественной магии, священен, пока спит. Я не вижу никакой ощутимой разницы между убийством спящего и убийством ребенка.
Сейчас спина этого человека спит. Весь он, шагающий впереди меня такой же походкой, что и я, спит. Он идет несознательно. Он живет бессознательно. Спит, потому что все мы спим. Вся жизнь — сон. Никто не знает, что делает, никто не знает, чего хочет, никто не знает, чтó он знает. Мы просыпаем жизнь, вечные дети Судьбы. Поэтому, если я думаю этим ощущением, я испытываю неопределенную и безмерную нежность ко всему инфантильному человечеству, ко всей спящей общественной жизни, ко всем, ко всему.
Прямолинейный гуманизм, без выводов и без замыслов, охватывает меня в это мгновение. Я страдаю от нежности, как если бы узрел какого-то бога. Я вижу всех их через призму сопереживания единственного сознательного человека, людей-бедолаг, человечество-бедолагу. Что все это здесь делает?
Все движения и устремления жизни, от простой жизни наших легких до строительства городов и империй, я расцениваю как сонливость, как сны или мгновения отдыха, невольно прошедшие в промежутке между одной реальностью и другой, между одним и другим днем Абсолюта. И, как некое абстрактно материнское существо, я склоняюсь ночью над плохими и хорошими детьми, одинаковыми во сне, в котором они — мои. Я умиляюсь с широтой бесконечности.
Отвожу глаза от спины идущего передо мной и, переводя их на всех прочих шагающих по этой улице, отчетливо окружаю всех их той же нелепой и холодной нежностью, что снизошла ко мне с плеч того бессознательного человека, за которым я следую. Все они — такие же, как он; все эти девушки, говорящие по пути в мастерскую, эти молодые служащие, смеющиеся по пути в контору, эти спесивые служанки, возвращающиеся с тяжелыми покупками, эти посыльные, выполняющие первые поручения, все это — та же бессознательность, разнообразие в которую вносят лица и тела, различающиеся, как марионетки, которыми двигают нити, тянущиеся к пальцам руки того, кто невидим. Они проходят со всеми теми жестами, в которых проявляется сознание, и не осознают ничего, потому что не осознают того, что у них есть сознание. Одни умные, другие глупые, все они одинаково глупы. Одни старые, другие молодые, все они одного и того же возраста. Одни мужчины, другие женщины, все они одного и того же пола, который не существует.
71.
Глубокое чувство несоответствия другим, с которым я живу, рождается во мне, как я полагаю, из-за того, что большинство думает посредством чувствительности, а я чувствую мыслью.
Для заурядного человека чувствовать значит жить, а думать значит уметь жить. Для меня думать значит жить, а чувства — это лишь пища для мыслей.
Любопытно, что моя весьма ограниченная способность испытывать энтузиазм естественным образом больше востребована теми, кто обладает темпераментом, противоположным моему, чем теми, кто принадлежит тому же духовному виду, что и я. В литературе я никем так не восхищаюсь, как классиками, на которых я похож менее всего. Если бы мне пришлось выбирать в качестве единственного чтения между Шатобрианом и Виейрой, я бы не задумываясь выбрал Виейру.
Чем сильнее кто-либо отличается от меня, тем более реальным он мне кажется, потому что менее зависит от моей субъективности. Именно поэтому я внимательно и усердно изучаю то самое человечество, которое мне отвратительно и от которого я держусь на расстоянии. Я его люблю, потому что ненавижу. Мне нравится его видеть, потому что мне противно его чувствовать. Пейзаж, столь восхитительный на картине, обычно неудобен в качестве ложа.
72.
Амьель[12] сказал, что пейзаж — это состояние души, но фраза — это вялое счастье слабого мечтателя. Когда пейзаж становится пейзажем, он перестает быть состоянием души. Объективировать значит создавать, и никто не говорит, что сотворенная поэма — это состояние намерения ее сотворить. Быть может, видеть означает грезить, но если мы называем это видением вместо того, чтобы называть это грезой, то это потому, что мы отличаем грезу от видения.
Впрочем, к чему эти рассуждения о словесной психологии? Вне зависимости от меня трава растет, дождь льется на растущую траву, а солнце золотит просторы травы, которая уже проросла или еще прорастет; с очень давних времен высятся горы и ветер дует так же, как когда его слышал Гомер, пусть он и не существовал. Точнее было бы сказать, что состояние души — это пейзаж; в этой фразе было бы то преимущество, что она содержала бы не ложность теории, а всего лишь истину метафоры.
Эти случайные слова были мне продиктованы протяженностью города, увиденного под всеохватным светом солнца с высоты Сау-Педру-де-Алкантара. Всякий раз, когда я наблюдаю широкий простор и отрешаюсь от метра семидесяти роста и шестидесяти одного килограмма веса, из которых я физически состою, я улыбаюсь поистине метафизической улыбкой тем, кто мечтает о том, что греза — это греза, и люблю истину абсолютного внешнего мира благородной добродетелью понимания.
Тежу в глубине — синее озеро, а горы на другом берегу — приплюснутая Швейцария. Выплывает маленькое судно — черный грузовой пароход — со стороны Посу-ду-Бишпу и направляется к входу в порт, которого я не вижу. Да сохранят меня все Боги до того часа, когда исчезнет эта сторона меня, четкое и солнечное понимание внешней реальности, инстинкт моей ничтожности, утешение того, что я мал и что я могу думать, будто счастлив.
73.
Когда мы добираемся до высокой пýстыни естественных гор, мы проникаемся ощущением избранности. Мы всем своим ростом выше, чем вершины гор. Предел Природы, по крайней мере, в этом месте оказывается под нашими подошвами. По своему положению мы — короли видимого мира. Все вокруг ниже нас: жизнь — это уходящий вниз склон, распростертая равнина на фоне подъема и вершины, коей являемся мы.
Всё в нас — случайность и злой умысел, и той высоты, которая у нас есть, у нас нет; на высоте мы не выше своего роста. То, что мы попираем ногами, возвышает нас; и высоки мы благодаря тому, по сравнению с чем мы выше.
Дышится лучше, когда ты богат; ты свободнее, когда знаменит; обладание собственным дворянским титулом — небольшая гора. Все это — уловка, но и уловка эта не наша. Мы взошли на гору, или нас возвели на нее, или мы родились в доме в горах.
Велик, однако, тот, кто считает, что расстояние от долины до неба или от горы до неба, выделяющее его, не имеет значения. Если бы начался потоп, нам было бы лучше в горах. Но обернись проклятие Бога молниями, как проклятие Юпитера, ветрами, как проклятие Эола — и мы нашли бы укрытие, только если бы не поднялись, и спаслись бы, если бы распластались по земле.
Поистине мудр тот, кому подняться позволяют мускулы, но не позволяет знание. Своим зрением он охватывает все горы; благодаря своему положению он владеет всеми долинами. Солнце, золотящее вершины, будет золотить их для него больше, чем для того, кто страдает от него на этих вершинах; и высокий дворец, окруженный лесами, будет казаться прекраснее тому, кто созерцает его из долины, чем тому, кто забывает о нем в залах, ставших для него тюрьмой. Я утешаюсь этими размышлениями, поскольку не могу утешиться жизнью. И символ сливается для меня с реальностью, когда, бродя телом и душой по этим низким улицам, выходящим к Тежу, я вижу, как светлые вершины города, словно чужая слава, сверкают разнообразными оттенками уже зашедшего солнца.
74.
Гроза
Этот низкий воздух и застывшие тучи. Лазурь неба была запачкана прозрачной белизной.
В глубине конторы посыльный на минуту отпускает бечевку, опоясывающую извечный мешок…
«Такую грозу я видел только один раз», — статистически замечает он.
Холодное молчание. Звуки улицы словно разрезаны ножом. Долго чувствовалось своего рода всеобщее недомогание, некая космическая задержка дыхания. Вся вселенная остановилась. Мгновения, мгновения, мгновения. Темнота словно закоптилась тишиной.
Вдруг живая сталь ‹…›
Каким человеческим было металлическое позвякивание трамваев! Какой веселый пейзаж — простой дождь на улице, восставшей из бездны!
О Лиссабон, мой очаг!
75.
Чтобы почувствовать наслаждение и страх скорости, мне не нужны ни быстрые автомобили, ни скорые поезда. Мне достаточно трамвая и поразительной способности к абстракции, которой я обладаю и которую развиваю.
В движущемся трамвае я умею, благодаря постоянной и быстрой аналитической работе, отделять идею трамвая от идеи скорости, разделять их полностью, так что они становятся различными реальными вещами. Затем я могу почувствовать, что я еду не внутри трамвая, а внутри его Чистой Скорости. И, если я, утомившись, вдруг хочу ощутить безумие огромной скорости, я могу перенести мысль к Чистой Имитации Скорости и по своей прихоти увеличивать и снижать ее, расширять ее за пределы любых возможных скоростей поездов.
Настоящие риски не только меня пугают — не из-за боязни чрезмерных ощущений, — но и отвлекают мое совершенное внимание к собственным ощущениям, а это меня раздражает и обезличивает.
Я никогда не иду туда, где есть риск. Я испытываю тоскливый страх к опасностям.
Закат — это явление разума.
76.
Иногда я с удовлетворением думаю (производя бисекцию) о будущей возможной географии нашего собственного сознания. На мой взгляд, будущий историк собственных ощущений, возможно, сможет свести к точной науке свое отношение к осознанию собственной души. Пока что мы находимся лишь в начале этого сложного искусства — все еще искусства, химии ощущений, которая находится еще в алхимическом состоянии. Этот ученый послезавтрашнего дня будет особенно щепетильно относиться к своей внутренней жизни. Он создаст из самого себя точный инструмент, чтобы подвергнуть ее анализу. Я не вижу фундаментальных трудностей в изготовлении точного инструмента для самоанализа из стали и бронзы одних лишь мыслей. Под сталью и бронзой я действительно понимаю сталь и бронзу, но только духа. И, возможно, именно так его нужно будет изготавливать. Возможно, придется сформулировать идею точного инструмента, видя эту идею материально, чтобы перейти к строгому внутреннему анализу. И, естественно, нужно будет свести и дух к своего рода реальной материи при помощи той разновидности пространства, в которой он существует. Все это зависит от чрезвычайной отточенности наших внутренних ощущений, которые, доведенные до крайней точки, бесспорно, обнаружат или создадут в нас пространство столь же реальное, как то, которое имеется там, где находятся материальные вещи, и которое, к тому же, нереально как вещь.
Я даже не знаю, не будет ли это внутреннее пространство лишь новым измерением другого пространства. Возможно, научные исследования будущего обнаружат, что всё есть измерения одного и того же пространства, не являющегося вследствие этого ни материальным, ни духовным. В одном измерении мы будем жить телом; в другом мы будем жить душой. Иногда мне нравится предаваться бесплодным размышлениям о том, куда эти исследования могут привести.
Вероятно, будет обнаружено, что то, что мы называем Богом и что так очевидно находится в другой плоскости, а не в пространственной и временной логике и реальности — это наш образ существования, наше ощущение в другом измерении бытия. Это мне не кажется невозможным. Грезы также, возможно, окажутся либо другим измерением, в котором мы живем, либо пересечением двух измерений; подобно тому, как тело живет в измерениях высоты, ширины и длины, так и наши грезы — кто знает — быть может, живут в измерениях идеала, «я» и пространства. В пространстве — по своему зрительному представлению; в идеале — по тому, что они представляют иной род, отличающийся от материи; в «я» — по своему сокровенному измерению, коим являемся мы. Собственное «Я» каждого из нас, возможно, является божественным измерением. Все это сложно и в свое время, несомненно, будет определено. Нынешние мечтатели, вероятно, являются великими предтечами окончательной науки будущего. Я, разумеется, не верю в окончательную науку будущего. Но это к делу никак не относится.
Иногда я занимаюсь такими метафизическими размышлениями с тщательным и почтительным вниманием того, кто действительно работает и занимается наукой. Я уже говорил, что, возможно, я на самом деле ею занимаюсь. Главное для меня — не слишком задаваться, учитывая, что гордыня вредит аккуратной бесстрастности и научной точности.
77.
Часто, чтобы развлечь себя — ведь ничто так не развлекает, как науки или нечто наукообразное, используемое бестолково, — я начинаю тщательно изучать свою психику через то, как ее воспринимают другие. Эта никчемная тактика изредка приносит мне удовольствие грустное, иногда — болезненное.
Обычно я пытаюсь изучить общее впечатление, которое произвожу на других, и делаю выводы. Обычно я — существо, которому другие выказывают симпатию и даже проявляют неясное и любопытное уважение. Но никакой сильной симпатии я не возбуждаю. Никто никогда не станет мне искренним другом. Поэтому столько людей могут меня уважать.
78.
Есть ощущения, которые являются снами и, занимая, словно туман, всю протяженность духа, не дают думать, не дают действовать, не дают отчетливо существовать. Как если бы мы не выспались, в нас остается что-то ото сна и неподвижность дневного солнца раскаляет оцепеневшую поверхность чувств. Это опьянение оттого, что ты — никто, а воля — это ведро на скотном дворе, опрокинутое походя безразличным движением ноги.
Смотришь, но не видишь. Длинная улица, кишащая человеческими животными, подобна упавшей табличке, на которой подвижные буквы не образуют смыслов. Дома — это лишь дома. Теряется возможность придать смысл тому, что видишь, но, разумеется, хорошо видно, чтó это.
Удары молотка у двери продавца ящиков раздаются до странности близко. Звучат они очень обособленно, от каждого удара идет эхо и нет проку. Звуки машин напоминают о дне, когда грядет гроза. Голоса раздаются из воздуха, а не из глоток. В глубине течет усталая река.
Чувствуется не тоска. И не горечь. Чувствуется желание спать, будучи другим, забыть благодаря повышению заработка. Ничего не чувствуется, кроме автоматизма здесь, внизу, который заставляет шагать по земле невольным маршем принадлежащие нам ноги, которые ощущаются внутри ботинок. Возможно, не чувствуется и этого. Внутри головы чувствуется полость, вокруг глаз, и словно пальцы в ушах.
Похоже на простуду в душе. И из литературного образа болезни рождается желание, чтобы жизнь была выздоровлением, без движения; и мысль о выздоровлении вызывает в памяти пригородные дома, но там, внутри, где очаг, вдали от улицы и от колес. Да, не чувствуется ничего. Засыпая лишь оттого, что телу невозможно придать другое направление, осознанно проходишь мимо двери, в которую ты должен войти. Проходишь мимо всего. Куда подевался бубен, замерший медведь?
79.
Легкий, словно некое начало, насыщенный запах морского бриза воспарил над Тежу и грязно рассеялся в начале Байши. Он вызывал свежую тошноту среди холодной неподвижности однообразного моря. Я почувствовал жизнь в животе, и обоняние стало для меня чем-то позади глаз. В высоте редкие облака покоились, словно локоны, ни на чем в сером свете, готовом рассыпаться и превратиться в обманчивую белизну. Атмосфера казалась угрозой трусливого неба, словно угроза неслышимой грозы, сотканной из одного воздуха.
Даже чайки в полете словно застывали и казались легче воздуха, как будто кем-то в нем оставленные. Ничто не томило. На наш непокой опускался вечер; воздух время от времени приносил свежесть.
Бедные питаемые мной надежды, рожденные жизнью, которая у меня должна была быть! Они подобны этому часу и этому воздуху, мгле без тумана, разорванным наметкам мнимой грозы. Мне хочется кричать, чтобы покончить с пейзажем и с размышлениями. Но в моем намерении есть запах, и отлив во мне обнажил топкую черноту, которая лежит там, снаружи, и которую я вижу только по запаху.
Сколько нелепости в желании быть самодостаточным! Сколько осознанного сарказма в предполагаемых ощущениях! Сколько сплетений души с ощущениями, мыслей — с воздухом и рекой, чтобы сказать, что жизнь причиняет мне боль в обонянии и в сознании, чтобы не суметь сказать, как в простой и глубокой фразе из Книги Иова: «Опротивела душе моей жизнь моя!»
80.
Болезненный интервал
Все меня утомляет, даже то, что не утомляет. Мое веселье так же болезненно, как и моя боль.
Кто бы позволил мне быть ребенком, пускающим бумажные кораблики в пруду в саду, под сельским балдахином из переплетающихся виноградных лоз, который образует шашечную сеть света и зеленой тени на темных бликах мелкой воды.
Между мной и жизнью — тонкое стекло. Как бы отчетливо я ни видел и ни понимал жизнь, я не могу ее коснуться.
Осмыслить мою грусть? К чему, если рассуждения — это усилие? А тот, кто грустен, не может совершать усилий.
Я даже не отрекаюсь от тех заурядных жестов жизни, от которых так хотел бы отречься. Отречение — это усилие, а в моей душе для него нет сил.
Сколько раз меня гнетет то, что я — не водитель той машины, не кучер той кареты! Что я не любой воображаемый заурядный Другой, чья жизнь, не являясь моей, упоительно проникает в мое желание проживать ее и пронизывает меня своей инаковостью!
Я бы не испытывал ужаса перед жизнью как Вещью. Понятие жизни как целого не довлело бы над плечами мысли.
Мои грезы — глупое убежище, защищающее так же, как зонт защищает от молнии.
Я так бездеятелен, я так жалок, я настолько лишен жестов и действий.
Как бы я ни запутывался в себе, все тропинки моего сна выведут на поляны тревоги.
Даже у меня, так много мечтающего, есть паузы, когда мечта бежит от меня. И тогда все мне представляется отчетливым. Рассеивается туман, которым я себя окружаю. И каждый видимый угол ранит плоть моей души. Все замечаемые грубости причиняют мне боль оттого, что я о них знаю. Весь видимый вес предметов тяготит меня в душе. Моя жизнь такова, словно меня ею бьют.
81.
Машины на улице мурчат отдельными, медленными звуками, которые словно согласуются с моей сонливостью. Сейчас время обеда, но я остался в конторе. Стоит теплый, немного белесый день. В шуме по какой-то причине, коей, возможно, является моя сонливость, есть то же, что есть в дне.
82.
Не знаю, какой смутной лаской, которая тем нежнее, что лаской не является, обвевает мне лицо и рассудок неясный вечерний легкий ветер. Я знаю лишь то, что тоска, от которой я страдаю, на мгновение сидит на мне лучше, как одежда, которая перестает натирать рану.
Несчастна чувствительность, что зависит от легкого движения воздуха для того, чтобы обрести, пусть и ненадолго, спокойствие! Но такова вся человеческая чувствительность, и я не думаю, что на человеческих весах перевешивают неожиданно заработанные деньги или неожиданно полученная улыбка, которые для других являются тем, чем для меня в это мгновение стало краткое дуновение прерывистого ветра.
Я могу думать о сне. Могу мечтать о том, чтобы мечтать. Я отчетливее вижу объективность всего. С бóльшим удобством использую внешнее чувство жизни. И все это, на самом деле, потому, что, когда я дохожу почти до угла улицы, перемена ветра в воздухе радует поверхность моей кожи.
Все, что мы любим или теряем — вещи, существа, значения, — касается нашей кожи и тем самым достигает нашей души, и этот эпизод для Бога — не более чем легкий ветер, который не принес мне ничего, кроме предполагаемого облегчения, подходящего момента и возможности блестяще все потерять.
83.
Круговерти, круговороты в текучей никчемности жизни! На большой площади в центре города умеренно разноцветная вода людей течет, растекается, образует лужи, распадается на потоки, сливается в ручейки. Глядя рассеянным взглядом, я выстраиваю в себе этот водный образ, который лучше любого другого — еще и потому, что я подумал, что будет дождь — подходит этому неясному движениям.
Написав эту последнюю фразу, которая для меня выражает ровно то, что она определяет, я подумал, что в конце моей книги, когда ее опубликуют, было бы полезно под «Опечатками» разместить «Неопечатки» и сказать: фраза «этому неясному движениям» на такой-то странице такая и есть, с прилагательными в единственном числе и с существительным во множественном. Но как это связано с тем, о чем я думал? Никак, и поэтому я даю себе над этим подумать.
Вокруг площади, словно подвижные, большие и желтые спичечные коробки, к которым ребенок прикрепил под наклоном сожженную спичку, чтобы сделать кривую грот-мачту, ворчат и позвякивают трамваи; трогаясь, они громко свистят. Вокруг статуи в центре голуби похожи на черные двигающиеся крошки, попавшие под рассекающий ветер. Толстые на маленьких лапках, они делают маленькие шажки. И это тени, тени…
С близкого расстояния все люди однообразно различны. Виейра говорил, что брат Луиш де Соуза описывал «обыденное в особом свете». Эти люди особенны своей обыденностью, что противоположно стилю Жизни Архиепископа. От всего этого мне горестно, хотя и безразлично. Я оказался здесь без причины, как и всё в жизни.
Со стороны востока кажется, что город поднимается почти отвесно, статично набрасываясь на Замок. Бледное солнце увлажняет смутным ореолом эту неожиданную громаду домов, которая отсюда его скрывает. Небо — влажно-голубое с белесым оттенком. Вчерашний дождь сегодня, возможно, повторится, но будет мягче. Ветер, кажется, восточный, возможно потому, что прямо тут вдруг начинает смутно пахнуть спелым и зеленым с ближайшего рынка. На восточной стороне Площади приезжих больше, чем на другой стороне. Словно приглушенные разряды, падают вверх жалюзи; не знаю почему, именно эта фраза передает для меня этот звук. Возможно, потому, что они производят этот звук скорее при спуске, хотя сейчас они поднимаются. Все можно объяснить.
Вдруг я оказываюсь один в мире. Вижу все это с высоты духовной крыши. Я один в мире. Видеть значит быть на расстоянии. Ясно видеть значит остановиться. Анализировать — быть чужим. Люди проходят мимо, не касаясь меня. Вокруг меня — только воздух. Я чувствую себя таким уединенным, что ощущаю расстояние между собой и моим костюмом. Я — ребенок с едва горящим подсвечником в руках, который проходит в ночной рубашке по большому пустынному дому. Здесь живут тени, окружающие меня — только тени, порождения угловатой мебели и сопровождающего меня света. Они вьются вокруг меня здесь, на солнце, но это люди.
84.
Сегодня, в перерыве между чувствованием, я размышлял о той форме прозы, что использую. Действительно, как я пишу? У меня, как и у многих, было извращенное желание хотеть иметь некую систему и некую норму. Конечно, я писал и до нормы и системы; в этом, однако, я не отличаюсь от прочих.
Анализируя себя вечером, я обнаруживаю, что моя система стиля покоится на двух принципах, и я немедленно, следуя хорошему примеру лучших классиков, возвожу эти принципы в общие основы любого стиля: говорить то, что чувствуешь, именно так, как чувствуешь — ясно, если оно ясно; темно, если оно темно; путано, если оно путано; понимать, что грамматика — это инструмент, а не закон.
Предположим, что перед нами девушка — с мужскими манерами. Какое-нибудь заурядное человеческое существо скажет о ней: «Эта девушка похожа на юношу». Другое заурядное человеческое существо, стоящее ближе к осознанию того, что говорить значит высказываться, скажет о ней: «Эта девушка — юноша». Третье, не хуже понимающее задачи выражения, но вдохновляющееся скорее пристрастием, чем краткостью, которая представляет собой сладострастие мысли, скажет о ней: «Этот юноша». Я бы сказал: «Эта юноша», — нарушая самое элементарное из грамматических правил, которое требует согласования рода и числа между именем существительным и именем прилагательным. Я бы высказался правильно; я бы выразился абсолютно, фотографически, за пределами заурядности, нормы и повседневности. Я бы не сказал: я бы высказался.
Грамматика, определяя использование, проводит различия закономерные и ложные. Например, она делит глаголы на переходные и непереходные; однако, умеющий высказываться человек часто должен превращать переходный глагол в непереходный, чтобы сфотографировать то, что чувствует, а не для того, чтобы, подобно массе человеческих животных, видеть это впотьмах. Если я захочу сказать, что существую, я скажу: «Я есть». Если я захочу сказать, что существую как обособленная душа, я скажу: «Это я».
Но если я захочу сказать, что существую как величина, которая руководит сама собой и себя образует, которая выполняет с самой собою божественную функцию создания себя, могу ли я употреблять глагол «быть» иначе, чем переводя его сразу же в переходную форму? И тогда я с торжеством, с антиграмматическим величием, скажу: «Я есть». Я бы выразил философию в двух маленьких словах. Разве это не предпочтительнее, чем не сказать ничего в сорока фразах? Чего еще можно требовать от философии и от произношения?
Пусть подчиняется грамматике тот, кто не умеет обдумывать то, что чувствует. Пусть пользуется ею тот, кто умеет распоряжаться своими выражениями. Рассказывают, что Сигизмунд, король Рима[13], допустив в одной из публичных речей грамматическую ошибку, ответил тому, кто о ней сказал: «Я король Рима, я выше грамматики». И история повествует, что он остался в ней под именем Сигизмунда «super grammaticam». Великолепный символ! Каждый человек, умеющий говорить то, что он говорит, является, в своем роде, Королем Рима. Титул неплох, а душа значит быться.
85.
Глядя порой на литературную работу, обширную или, по крайней мере, созданную из пространных и полных вещей, из стольких созданий, которых я знаю или о которых знаю, я чувствую в себе неясную зависть, презрительное восхищение, бессвязную смесь запутанных чувств.
Сделать что-то полное, целостное, будь то хорошее или плохое — если оно никогда не бывает полностью хорошим, часто оно и не полностью плохое, — да, сделать что-то целостное, возможно, порождает во мне скорее зависть, чем какое-либо другое чувство. Это что-то похоже на ребенка: оно несовершенно, как любое человеческое существо, но оно столь же наше, как и дети.
И я, кому дух самокритики позволяет видеть лишь изъяны, недостатки, я, который не решается написать что-то помимо фрагментов, кусков, отрывков несуществующего, я сам в том немногом, что пишу, тоже несовершенен. Было бы ценнее либо полное произведение, пусть и плохое, но, в любом случае, являющееся произведением; либо отсутствие слов, полное молчание души, которая признает, что неспособна действовать.
86.
Я спрашиваю себя, не является ли все в жизни вырождением всего. Не является ли бытие лишь приближением — преддверием или окрестностями.
Подобно тому, как христианство было лишь ублюдочным вырождением выхолощенного неоплатонизма, проведенной римлянами иудаизацией эллинизма, так и наша эпоха, дряхлая и разъедаемая раком, являет многочисленные отклонения от всех великих замыслов, совпадающих или противостоящих друг другу, из упадка которых возникла эра, в которую они рухнули.
Мы живем в антракте с оркестром.
Но что мне, на этом пятом этаже, до всех этих социологий? Для меня все это — мечта вроде вавилонских принцесс, а заниматься человечеством никчемно, никчемно — это археология настоящего.
Я бы скрылся в тумане, словно чуждый всему, человеческий остров, оторвавшийся от мечты о море, корабль с ненужным бытием, держащийся на поверхности всего.
87.
Метафизика всегда мне казалась продолжительной формой скрытого безумия. Если бы мы знали истину, мы бы видели ее; все прочее — это система и окрестности. Если задуматься, нам достаточно непознаваемости вселенной; хотеть ее постичь значит быть чем-то меньшим, чем человек, потому что быть человеком значит знать, что она непостижима.
Мне приносят веру, как нераспечатанный сверток на чужом подносе. Они хотят, чтобы я его принял, но не разворачивал. Мне приносят науку, как нож на блюде, которым я разрежу листы книги с белыми страницами. Мне приносят сомнение, как пыль внутри коробки; но зачем мне приносят коробку, если в ней нет ничего, кроме пыли?
Я не знаю и потому пишу; и употребляю великие и чуждые понятия Истины в соответствии с потребностями переживаний. Если переживание ясно и определенно, я, естественно, говорю о богах и тем самым помещаю его в осознание множественного мира. Если переживание глубоко, я, естественно, говорю о Боге и тем самым вставляю его в осознание единого. Если переживание — это мысль, я, естественно, говорю о Судьбе и тем самым прислоняю его к стене.
Иногда сам ритм фразы требует Бога, а не Богов; иногда навязывают себя два слога слова «Боги», и я словесно меняю вселенную; иногда, напротив, перевешивают потребности сокровенной строки, смещение ритма, эмоциональное потрясение, и тогда кажутся более подходящими и становятся предпочтительнее политеизм или монотеизм. Боги — это производная стиля.
88.
Где находится Бог, даже если его нет? Я хочу молиться и плакать, каяться в преступлениях, которых не совершал, наслаждаться прощением, как не совсем материнской лаской.
Лоно, чтобы плакать, но лоно огромное, без формы, просторное, как летняя ночь, и при этом близкое, горячее, женское, у какого-нибудь очага… Чтобы плакать о немыслимых вещах, об ошибках, сам не знаю каких, о нежности несуществующих вещей и больших, внушающих трепет сомнениях относительно неизвестного будущего…
Новое детство, снова старая няня и маленькая кровать, на которой можно уснуть под убаюкивающие сказки, которые едва слышишь оттого, что внимание все ослабляется, сказки о великих опасностях, что проникали сквозь юные волосы, светлые, как пшеница… И все это очень большое, очень вечное, навсегда окончательное, единственный облик Бога, там, в грустной и сонливой глубине единственной реальности Вещей…
Грудь или колыбель, или горячая рука вокруг моей шеи… Тихо поющий голос, который словно хочет заставить меня расплакаться… Потрескивание огня в очаге… Тепло зимой… Нежное заблуждение моего сознания… А затем беззвучный, спокойный сон в огромном пространстве, словно луна, катящаяся среди звезд…
Когда я откладываю в сторону мои ухищрения и расставляю в углу, с осторожностью, полной ласки — с желанием покрыть их поцелуями — мои игрушки, слова, образы, фразы — я становлюсь таким маленьким и безобидным, таким одиноким в такой большой и грустной, такой глубоко грустной комнате!
В конце концов, кто я, когда не играю? Бедная сирота, брошенная на улицах ощущений, дрожащая от холода в закоулках Реальности, вынужденная спать на ступенях Грусти и есть хлеб, дарованный Фантазией. О моем отце я знаю имя; мне сказали, что его звали Бог, но имя не дает мне никакого представления. Иногда, ночью, когда я чувствую себя одиноким, я взываю к нему и плачу и создаю такой его образ, который могу любить… Но потом я думаю, что не знаю его, что, возможно, он не такой, что, возможно, он никак не может быть отцом моей души…
Когда все это кончится, эти улицы, на которых я влачу свою нищету, и эти ступени, где я корчусь от своего холода и чувствую, как ночь запускает руки в мои лохмотья? Если бы однажды Бог пришел за мной, и отвел меня в свой дом, и подарил мне тепло и любовь… Иногда я думаю об этом и плачу от радости, думая, что я могу об этом думать… Но ветер проносится по улице снаружи, и листья падают на тротуар… Я поднимаю глаза и вижу звезды, в которых нет никакого смысла… И от всего этого остаюсь лишь я, бедное брошенное дитя, которого никакая Любовь не захотела усыновить и никакая Дружба не захотела превратить в товарища по играм.
Мне слишком холодно. Я так устал в своей заброшенности. Отправляйся искать, о Ветер, мою мать. Отнеси меня на Север, к дому, которого я не знаю… Верни мне, о безмерное Молчание, мою няню, и мою колыбель, и песню, под которую я засыпал…
89.
Единственное поведение, достойное высшего человека — упорно вести деятельность, которая признается бесполезной, хранить привычку к дисциплине, которая считается бесплодной, и придерживаться строгого использования норм философского и метафизического мышления, значение которых представляется отсутствующим.
90.
Признать реальность формой иллюзии, а иллюзию — формой реальности столь же необходимо, сколь бесполезно. Созерцательная жизнь, чтобы хотя бы существовать, должна рассматривать объективные происшествия как рассеянные предпосылки для недостижимого вывода; но, в то же время, она должна считать, что случайности сна, в определенном смысле, достойны такого внимания к ним, посредством которого мы становимся созерцателями.
Любая вещь в зависимости от того, как ее рассматривать, это чудо или помеха, целое или ничто, путь или хлопоты. Рассматривать ее всякий раз по-разному значит обновлять ее, умножать на саму себя. Именно поэтому в распоряжении созерцательного духа, который никогда не покидал своей деревни, все равно оказывается целая вселенная. В тюремной камере или в пустыне есть бесконечность. На камне можно космически спать.
Впрочем, у размышлений бывают такие обстоятельства — а они появляются у всех тех, кто размышляет, — когда все становится изношенным, старым, виданным, даже если его еще предстоит увидеть. Ведь, сколько бы мы ни размышляли о чем-либо и, размышляя, преобразовывали это, мы никогда не преобразовываем это в нечто, что не является сущностью размышления. Тогда нас охватывает тревога жизни, тревога оттого, что мы знаем не благодаря познанию, оттого, что мы размышляем только чувствами или думаем осязанием или восприятием изнутри осмысляемого объекта, как если бы мы были водой, а он — губкой. Тогда для нас тоже наступает наша ночь и усталость от всех переживаний усугубляется оттого, что переживания, глубокие сами по себе, проистекают от мысли. Однако это ночь без отдыха, без света Луны, без звезд, ночь такая, как если бы все вывернулось наизнанку — бесконечность стала внутренней и сжалась, день стал черной подкладкой неизвестного костюма.
Уж лучше, да, гораздо лучше всегда оставаться человеческим слизняком, который любит и не ведает, пиявкой, которая отвратительна, но об этом не знает. Не замечать, как жизнь! Чувствовать, как забвение! Сколько эпизодов было утрачено в зелено-белом кильватере уплывших кораблей, похожем на холодную слюну, если смотреть на него с высокого штурвала, который кажется носом под глазами старых кают!
91.
Быстрый взгляд, брошенный на поле поверх окрестной стены, освобождает меня полнее, чем другого освободило бы целое путешествие. Всякая точка зрения — это вершина перевернутой пирамиды, основание которой не поддается определению.
Было время, когда меня раздражало то, что сегодня вызывает улыбку. И одна из таких вещей, о которой мне напоминают почти каждый день, это настойчивость, с которой заурядные люди, активные в своей жизни, улыбаются, слыша о поэтах и художниках. Они не всегда это делают, как думают газетные мыслители, с чувством превосходства. Часто они это делают с нежностью. Но они всегда похожи на взрослого, ласкающего ребенка, которому чужда уверенность и точность жизни.
Раньше меня это раздражало, потому что, как и все наивные люди — а я был наивным, — я полагал, что эта улыбка, обращенная к трудностям мечтания и высказывания, была проявлением чувства внутреннего превосходства. Но это лишь проявление различия. И если раньше я расценивал такую улыбку как оскорбление, поскольку она подразумевала превосходство, сегодня я расцениваю ее как неосознанное сомнение; подобно тому, как взрослые люди часто признают за детьми остроту восприятия, превосходящую их собственную, так и за нами, мечтающими и высказывающимися, признают нечто отличающееся, чему не доверяют, считая странным. Я хочу верить, что часто самые умные из них замечают наше превосходство; тогда они улыбаются снисходительно, чтобы скрыть, что они его замечают.
Но наше превосходство состоит не только в том, что множество мечтателей считали собственным превосходством. Мечтатель превосходит активного человека не потому, что мечта превосходит реальность. Превосходство мечтателя заключается в том, что мечтание — занятие намного более практичное, чем жизнь, и в том, что мечтатель извлекает из жизни удовольствие намного более полное и намного более разнообразное, чем человек действия. Если выразиться точнее и лучше, человек действия — это мечтатель.
Поскольку жизнь — это, по сути, состояние ума и все, что мы делаем или о чем думаем, ценно для нас в той степени, в какой мы считаем это ценным, оценка зависит от нас. Мечтатель — это эмитент банкнот, и выпускаемые им банкноты обращаются в городе его духа так же, как и в реальности. Какое мне дело до того, что бумажные деньги моей души никогда нельзя будет обменять на золото, если в ложной алхимии жизни золота никогда не бывает? После всех нас настанет потоп, но только после всех нас. Лучше и счастливее те, кто, признавая выдуманность всего, создают роман до того, как его создадут для них, и, подобно Макиавелли, облачаются в придворные костюмы, чтобы спокойно писать в полной тайне.
92.
(a child hand’s playing with cotton-reels, etc.[14])
Я всегда только и делал, что мечтал. Это и только это составляет смысл моей жизни. У меня никогда не было иной настоящей заботы, кроме моей внутренней жизни. Самые сильные боли моей жизни смягчаются, когда, открывая окно внутрь себя, я могу забыться, наблюдая за ее движением.
Я никогда не хотел быть чем-то, кроме мечтателя. На того, кто призывал меня жить, я никогда не обращал внимания. Я всегда принадлежал тому, что не находится там, где нахожусь я, и тому, чем я никогда не мог быть. Все то, что мне не принадлежит, каким бы низменным оно ни было, для меня всегда было поэзией. Я никогда ничего любил. Я никогда не желал ничего, кроме того, чего не мог даже представить. У жизни я только и просил, чтобы она проходила через меня так, чтобы я ее не чувствовал. В моих собственных внутренних пейзажах, всех до единого нереальных, меня всегда привлекало далекое, а исчезавшие акведуки — почти на том же отдалении, что и пейзажи, о которых я мечтал, — были исполнены нежности грезы по отношению к другим частям пейзажа — нежности, благодаря которой я мог их любить.
Моя мания создавать выдуманный мир все еще сопровождает меня и покинет меня лишь с моей смертью. Сегодня в моих ящиках я не выстраиваю ниточные катушки и шахматные пешки — из которых случайно высовывается какой-нибудь слон или конь, — но мне жаль, что я этого не делаю… и я уютно выстраиваю в моем воображении, как тот, кто зимой греется у очага, фигуры, постоянные и живые, которые населяют мою внутреннюю жизнь. Внутри у меня — мир друзей, ведущих свои реальные, определенные и несовершенные жизни.
Некоторые переживают трудности, другие ведут богемную, живописную и скромную жизнь. Есть и другие, которые работают коммивояжерами. (Воображать себя коммивояжером всегда было одним из моих больших устремлений — к несчастью, неосуществимых!) Другие обитают в деревнях и городках близ той Португалии, что есть внутри меня; они приезжают в город, где я случайно их встречаю и узнаю, раскрывая им свои объятия и привлекая к себе… И когда я мечтаю обо всем этом, расхаживая по своей комнате, говоря вслух, жестикулируя… когда я мечтаю об этом и представляю, как встречаю их, я радуюсь, познаю себя, восторгаюсь, у меня блестят глаза, я распахиваю руки и испытываю огромное, настоящее чувство.
Ах, нет более болезненной ностальгии, чем ностальгия по вещам, которых никогда не было! То, что я чувствую, когда думаю о прошлом, которое у меня было в реальном времени, когда я плачу над трупом жизни моего ушедшего детства… даже это не достигает болезненного, трепетного жара, который я испытываю, когда плачу над ненастоящими скромными фигурами моих мечтаний, теми же вторичными фигурами, которые я, как помню, видел всего раз, случайно, в моей псевдожизни, завернув за угол моих фантазий, пройдя через черный ход на улицу, по которой я поднялся и прошел благодаря этому сну.
Злость оттого, что ностальгия не может заново оживлять и воскрешать, никогда не бывает столь слезливой по отношению к Богу, создавшему невозможности, как когда я думаю о том, что мои воображаемые друзья, с которыми я пережил столько мгновений предполагаемой жизни, с которыми я столько раз вел просвещенные беседы в воображаемых кафе, в конечном счете, не принадлежали никакому пространству, где они могли бы по-настоящему существовать независимо от моего сознания!
О мертвое прошлое, которое я ношу в себе и которое произошло только со мной! Цветы из сада при маленьком загородном доме, что существовал только во мне. Плодовые и яблоневые рощи, сосновый бор в усадьбе, что была лишь моей грезой! Мои воображаемые каникулы, мои прогулки по полю, которого никогда не существовало! Деревья вдоль дороги, тропинки, камни, крестьяне, проходящие мимо… все это, всегда остававшееся грезой, хранится в моей памяти, причиняя боль, и я, грезивший об этом часами, затем часами вспоминаю о том, как грезил об этом, и, на самом деле, моя ностальгия — это оплакиваемое мною прошлое, мертвая настоящая жизнь, торжественная в своем гробу, на который я смотрю.
Есть также пейзажи и жизни, которые не были полностью внутренними. Некоторые картины, не имеющие высокой художественной ценности, некоторые висевшие на стенах масляные гравюры, с которыми я провел много часов, во мне становятся реальностью. Здесь ощущение было другим, более щемящим и грустным. Я томился оттого, что не мог быть там, будь они настоящие или нет. Не быть хотя бы еще одной фигурой, нарисованной близ того леса под лунным светом, который был изображен на одной маленькой гравюре в комнате, где я спал, когда уже не был ребенком! Не мочь думать, что я скрывался там, в лесу на берегу реки, под тем вечным (хоть и плохо нарисованным) лунным светом, глядя на человека, который проплывает на лодке под склонившейся ивой! Тогда невозможность грезить причиняла мне боль. Проявления моей ностальгии были иными. Жесты моего отчаяния были другими. Невозможность, мучившая меня, относилась к иному виду печали. Ах если бы у этого был смысл в Боге, если бы это осуществлялось в соответствии с духом наших желаний, не знаю где, в вертикальном времени, сопряженном с направлением моей ностальгии и моих фантазий! Если бы лишь только для меня был рай, созданный из этого! Если бы я мог найти друзей, о которых грезил, гулять по улицам, которые создал, просыпаться среди криков петухов и кур и утреннего домашнего шума в загородном доме, в котором я вообразил себя… и все это идеально обустроено Богом, помещенным в этом идеальном порядке, чтобы он существовал для меня в такой точной форме, которую даже мои собственные грезы могут создать лишь в отсутствие измерения внутреннего пространства, которое поддерживают эти бедные реальности…
Я поднимаю голову над бумагой, на которой пишу… Еще рано. Тянется воскресный полдень. Болезнь жизни, недуг обладания сознанием проникает в мое собственное тело и сбивает меня с толку. Если бы были острова для неудобных, старых аллей, которые другие не могут найти, для уединившихся в мечтаниях! Быть вынужденным жить и хоть немного действовать; быть вынужденным соприкасаться с фактом существования других людей, тоже реальных! Быть вынужденным писать это, потому что моей душе это необходимо, а не просто мечтать об этом, выражать это без слов, даже без сознания, через выстраивание меня самого в музыке и оттенках, так, чтобы мои глаза наполнялись слезами лишь оттого, что я чувствую, что выражаю себя и теку, словно зачарованная река, по медленным склонам меня самого, в сторону бессознательного и Далекого, без какого-либо чувства, кроме Бога.
93.
Насыщенность ощущений во мне всегда была ниже насыщенности их осознания. Я всегда больше страдал от осознания того, что я страдаю, чем от страдания, которое я осознавал.
Жизнь моих переживаний с самого начала переместилась в залы мышления, и там я всегда полнее испытывал эмоциональное познание жизни.
И поскольку мысль, дающая приют переживанию, становится требовательнее него, режим сознания, в котором я стал проживать то, что чувствую, сделал мой способ чувствовать более повседневным, более поверхностным, более щекочущим.
Размышляя, я создал себе эхо и бездну. Я приумножил себя, углубляясь в себя. Самый мелкий эпизод — колебание света, кружащееся падение сухого листа, пожелтевший лепесток, что отделяется от цветка, голос, раздающийся из-за стены, или шаги того, кому он принадлежит, вкупе с шагами тех, кто должен его слушать, приоткрытые ворота старого сада, двор, что открывается в арке скученных домов под Луной — все эти вещи, которые мне не принадлежат, опутывают мое чувствительное размышление петлями звучания и ностальгии. В каждом из этих ощущений я — другой, я болезненно обновляюсь в каждом неопределенном впечатлении.
Я живу впечатлениями, которые мне не принадлежат, расточаю отказы, будучи иным в моем способе бытия.
94.
Жить значит быть другим. Даже чувствовать нельзя, если сегодня чувствуешь себя так, как чувствовал вчера: чувствовать сегодня то же, что и вчера, значит не чувствовать, а вспоминать сегодня то, что чувствовал вчера, значит, что сегодня — это живой труп того, что вчера стало потерянной жизнью.
Стереть все с картины, переходя из одного дня в другой, быть новым с каждым новым рассветом, в вечно обновляющейся девственности переживаний — этим, и только этим стоит быть или это иметь, чтобы быть или иметь то, чем мы несовершенно являемся.
Этот рассвет — первый в мире. Никогда этот желтеющий розовый цвет, перетекающий в жаркий белый, так не освещал фасад хутора на западе, который, полный остекленными глазами, смотрит на тишину, приходящую со все нарастающим светом. Никогда не было этого часа, ни этого света, ни этого моего бытия. То, что будет завтра, будет чем-то другим, и то, что я увижу, будет увидено перестроившимися глазами, полными нового видения.
Высокие горы города! Великие архитектуры, поддерживаемые и возносимые крутыми обрывами, соскальзывание по-разному нагроможденных зданий, которые свет покрывает вышивкой из теней и пожаров, вы — сегодняшний день, вы — это я, поскольку я вас вижу, вы — то, чем я буду (?) завтра, и я люблю вас с фальшборта, как корабль, что проходит рядом с другим кораблем, и воцаряется неизвестная тоска по прошлому.
95.
Я прожил неведомые часы, последовательные, не связанные друг с другом мгновения, отправившись ночью на прогулку по одинокому берегу моря. Все мысли, которые вдыхали жизнь в людей, все переживания, которые люди перестали проживать, пронеслись через мой разум, словно темный итог истории в этих моих раздумьях на берегу моря.
В себе и с собой я выстрадал чаяния всех эпох, и со мной гуляли по слышимому берегу моря беспокойства всех времен. То, что люди хотели и не сделали, то, что убили, занимаясь этим, то, чем были души и чего никто не высказал — из всего этого образовалась чувствительная душа, с которой я гулял ночью по берегу моря. И то, что влюбленных удивляло в другом влюбленном, то, что жена всегда скрывала от своего мужа, то, что мать думает о сыне, которого у нее не было, то, что обретало форму лишь в улыбке или в возможности, во времени, которое не было этим, или в недостающем переживании — все это во время моей прогулки по морскому берегу шло вместе со мной и со мной вернулось, и волны бурно сотрясали аккомпанемент, которым я это убаюкивал.
Мы — те, кем мы не являемся, а жизнь скоротечна и грустна. Звук волн ночью — это звук ночи; и сколько людей слышали его в собственной душе, как постоянную надежду, которая рассеивается в темноте с глухим звуком глубокой пены! Сколько слез пролили те, кто обрел, сколько слез потеряли те, кто добился! И все это во время прогулки по берегу моря превратилось для меня в тайну ночи и в доверительность бездны. Сколько нас! В скольких мы обманываемся! Какие моря звучат в нас, в ночи нашего бытия, на пляжах, которые мы ощущаем, когда нас захлестывают переживания! То, что утратилось, то, чего нужно было бы хотеть, то, что было получено и принесло удовлетворение по ошибке, то, что мы любили и потеряли и, потеряв и полюбив потому, что потеряли, увидели, что не любили этого; то, что мы, как нам казалось, думали, когда чувствовали; то, что было воспоминанием, а мы верили, что это переживание; и все море, приходившее туда, шумливое и свежее, из великого мрака всей ночи, чтобы мелко трепетать на пляже, во время моей ночной прогулки по берегу моря…
Кто вообще знает, о чем он думает или чего желает? Кто знает, чем он является для самого себя? Сколько всего предлагает музыка, а нам нравится, что этого не может быть! Сколько всего помнит ночь, и сколько мы оплакиваем такого, чего никогда не было!
Словно голос, освободившийся от простора покоя, волна, перекатываясь, разбивается и остывает, и остается пена, слышимая на невидимом снаружи пляже.
Сколько я умираю, если чувствую все! Сколько я чувствую, если блуждаю так, бестелесно и человечно, а мое сердце замерло, как пляж, и все море всего той ночью, когда мы живем, насмешливо бросает волны и остывает в моей вечной ночной прогулке по берегу моря!
96.
Я вижу воображаемые пейзажи с такой же ясностью, с которой смотрю на пейзажи настоящие. Если я склоняюсь над своими грезами, то я склоняюсь над чем-то. Если я вижу, как проходит жизнь, я грежу о чем-либо.
Кто-то о ком-то сказал, что для него виденные в грезах фигуры обладают такой же яркостью и такими же очертаниями, что и фигуры настоящие. Но, даже если бы я понимал, что подобная фраза применима ко мне, я бы ее не принял. Фигуры, виденные в грезах, для меня не похожи на фигуры из жизни. Они им параллельны. У каждой жизни — мечтательной и мирской — собственная реальность, одинаковая, но отличающаяся. Как вещи близкие и вещи далекие. Фигуры грез мне ближе, но ‹…›
97.
Настоящий мудрец — тот, кто устраивается таким образом, чтобы внешние события затрагивали его как можно меньше. Для этого он должен заковаться в броню, окружив себя реальностями, которые будут стоять к нему ближе, чем факты, и через которые к нему будут попадать факты, видоизмененные в соответствии с этими реальностями.
98.
Сегодня я проснулся очень рано, в смятенном порыве, и затем встал с кровати, душимый непонятной тоской. Ее не вызвал какой-либо сон; никакая реальность не смогла бы ее породить. Это была полная и совершенная тоска, не основанная на чем-то. В темной глубине моей души неведомые и невидимые силы вели сражение, полем которого было мое существо, и я весь дрожал от неизвестного столкновения. С моим пробуждением возникла физическая тошнота всей жизни. Ужас от того, что нужно жить, встал с кровати вместе со мной. Все мне показалось пустым, и у меня сложилось холодное впечатление, что ни для одной проблемы нет решений.
Огромное беспокойство заставляло меня вздрагивать от малейших движений. Мне стало страшно, что я сойду с ума, не от безумия, а именно от этого. Мое тело было скрытым криком. Мое сердце билось так, словно говорило.
Длинными и ложными шагами, которые я напрасно пытался изменить, я босиком прошел короткую комнату в длину и пересек по диагонали внутреннюю комнату, в углу которой есть дверь, выходящая в коридор дома. Сбивчивыми и неточными движениями я коснулся щеток, лежавших на комоде, сдвинул стул и один раз ударился рукой, которой покачивал, о грубое железо ножек английской кровати. Я зажег сигарету и выкурил ее бессознательно, и, лишь увидев, что на изголовье кровати упал пепел — как, если я над ним не стоял? — я понял, что я был одержим или что-то в этом роде в своем бытии, если не в имени, и что осознание себя, которое у меня должно было бы быть, переплелось с бездной.
Я получил весть об утре от скупого холодного света, который придает неясную голубую белизну проявляющемуся горизонту, как благодарственный поцелуй вещей. Потому что этот свет, этот настоящий день освобождал меня, освобождал не знаю от чего, подавал руку моей неведомой старости, устраивал праздники для поддельного детства, давал нищее отдохновение моей переливающейся через край чувствительности.
Ах что это за утро, что пробуждает меня для глупости жизни и для ее большой нежности! Я почти плачу, видя, как передо мной, подо мной проясняется старая узкая улица, и, когда грязно-каштановые засовы лавки на углу уже виднеются на немного выбивающемся свету, мое сердце испытывает облегчение, как в сказке о настоящих волшебницах, и исполняется уверенности в том, что не чувствует себя.
Что за утро эта горечь! И что за тени удаляются? И что за тайны раскрылись? Ничего: звук первого трамвая, словно спичка, которая осветит мрак души, и громкие шаги первого прохожего, являющиеся той конкретной реальностью, что советует мне дружеским голосом так себя не вести.
99.
Бывают мгновения, когда утомляет все, даже то, что должно было бы приносить отдохновение. То, что нас утомляет, потому что утомляет; то, что должно было бы приносить отдохновение, потому что нас утомляет мысль о получении этого. Бывает подавленность в глубине души от всех тревог и от всей боли; я полагаю, что она незнакома только тем, кто уклоняется от человеческих тревог и болей и кто достаточно дипломатичен с самим собой, чтобы ускользать от собственной тоски. Они превращаются, таким образом, в существ, ополчившихся против мира, и неудивительно, что на определенной высоте познания самих себя их вдруг начинает тяготить внутренний облик их брони и жизнь становится для них тревогой наоборот, утраченной болью.
Я переживаю одно из таких мгновений и пишу эти строки как человек, который хочет, по крайней мере, знать, что живет. Весь день, до этого момента, я сонно работал над счетами посредством мечтательных процессов и писал на своей неуклюжести. Весь день я чувствовал, как жизнь давит мне на глаза и на виски — сон в глазах, пульсирующие виски, осознание всего этого в желудке, тошнота и уныние.
Жить кажется мне метафизической ошибкой материи, небрежностью бездеятельности. Я даже не смотрю на день, чтобы увидеть, что в нем есть такого, чтобы я мог отвлечься от себя и прикрыть словами пустую чашку моей нелюбви к себе, пока буду это записывать в форме описания. Я даже не смотрю на день и, согнув спину, не замечаю, светит ли солнце, или пасмурно снаружи, на субъективно грустной улице, на пустынной улице, по которой проходит звук людей. Я не замечаю всего, и у меня болит грудь. Я перестал работать и не хочу двигаться отсюда. Я смотрю на грязно-белую, сложенную по краям промокашку, что растянулась на почтенном возрасте наклоненного письменного стола. Я внимательно смотрю на разрозненные кляксы чернил, впитавшиеся в нее. Множество моих подписей наоборот и наизнанку. Точно так же какие-то цифры, тут и там. Бессмысленные рисунки, созданные моим невниманием. Я смотрю на все это, как невежда промокашек, с вниманием человека, высматривающего что-то новое, со всем бездеятельным мозгом, расположенным за мозговыми центрами, которые обеспечивают зрение.
Меня обуревает больше сокровенного сна, чем во мне помещается. И я ничего не хочу, ничего не предпочитаю и мне не от чего бежать.
100.
Я всегда живу в настоящем. Будущего я не знаю. Прошлого у меня уже нет. Первое тяготит меня как возможность всего, второе — как реальность небытия. У меня нет ни надежд, ни ностальгии. Зная то, чем была моя жизнь до сегодняшнего дня — столько раз и в стольких отношениях она была противоположна тому, чего я желал, — что я могу предполагать о моей завтрашней жизни, помимо того что она будет тем, чего я не предполагаю, чего я не хочу, что приходит ко мне извне и даже против моей воли? В моем прошлом нет ничего, что бы я вспоминал, испытывая бесполезное желание это повторить. Я всегда был лишь развалинами и видимостью себя. Мое прошлое — это все то, чем я не сумел быть. Даже ощущение минувших мгновений не вызывает во мне ностальгии: то, что ты чувствуешь, требует мгновения; когда оно проходит, страница переворачивается и история продолжается, но не текст.
Короткая темная тень городского дерева, легкий звук воды, падающей в грустный пруд, зелень подстриженной травы — общественный сад в почти что сумеречный час — в это мгновение вы для меня представляете всю вселенную, потому что являетесь полным содержанием моего сознательного ощущения. От жизни я хочу лишь ощущения того, что она теряется в эти непредвиденные вечера, под звуки чужих детей, что играют в этих садах, отделенных решеткой меланхолии от окружающих их улиц и обрамленных не только высокими ветвями деревьев, но и старым небом, на котором снова появляются звезды.
101.
Если наша жизнь была бы вечным пребыванием-у-окна, если бы мы так и остались, словно неподвижный дым, навсегда в том мгновении сумерек, что печалит изгибы гор. Если бы мы так и остались навсегда и дольше! Если бы, по крайней мере, по эту сторону невозможности мы могли остаться, не совершая действий, так, чтобы наши бледные губы более не грешили словами!
Смотри, как темнеет!.. Положительный покой всего наполняет меня злостью, чем-то, что отдает горьким вкусом устремления. У меня болит душа… Медленная струя дыма поднимается и рассеивается там, вдалеке… Тревожная тоска заставляет меня больше не думать о тебе…
Все так поверхностно! Мы, и мир, и тайна того и другого.
102.
Жизнь для нас — это то, что мы в ней воображаем. Для сельского жителя, для которого в его личном поле заключено все, это поле — целая империя. Для Цезаря, которому его империя все еще кажется маленькой, эта империя — поле. Бедняк владеет империей; великий владеет полем. На самом деле, мы владеем лишь нашими собственными ощущениями; их, а не то, что они видят, мы должны класть в основу реальности нашей жизни.
Это ни к чему не относится.
Я много мечтаю. Я устал оттого, что мечтал, но не устал от мечтаний. Никто не устает от мечтаний, потому что мечтать значит забывать, а забвение не тяготит, это сон без мечтаний, в котором мы бодрствуем. В мечтах я всего добился. Я также пробуждался, но какое это имеет значение? Сколькими Цезарями я был! А прославленные люди, какими они были мелочными! Цезарь, спасшись от смерти благодаря великодушию одного пирата, велит распять этого пирата, как только, разыскав его, сумел его захватить. Наполеон, составляя завещание на Святой Елене, оставляет наследство злодею, попытавшемуся убить Веллингтона. О величие, равное величию души косоглазой соседки! О великие мужчины кухарки из другого мира! Сколькими Цезарями я был и все еще мечтаю быть.
Сколькими Цезарями я был, но ненастоящими. Я был действительно имперским, пока грезил, и поэтому никогда ничем не был. Мои войска были разбиты, но поражение было легким, никто не погиб. Я не потерял знамен. Я не домечтал о войске до того момента, когда знамена появились бы перед моим взором из-за угла улицы. Сколькими Цезарями я был прямо тут, на улице Золотильщиков. И Цезари, которыми я был, все еще живут в моем воображении; но существовавшие Цезари мертвы, и улица Золотильщиков, то есть Реальность, не может их знать.
Я бросаю пустой спичечный коробок в бездну, коей является улица за перилами моего окна без балкона. Встаю со стула и слушаю. Отчетливо, как если бы это что-то значило, пустой спичечный коробок издает звук на улице, которая возвещает о своей безлюдности. Нет никаких других звуков, кроме звуков всего города. Да, звуков города всего воскресенья — их много, они непонятны и все правильны.
Какая малость в реальном мире образует основу для лучших размышлений. Поздно пришел на обед, закончились спички, бросил — лично я — коробок на улицу, чувствуя себя неважно из-за того, что поел не вовремя, воскресенье как воздушное обещание плохого заката, моя никчемность в мире и вся метафизика.
Но сколькими Цезарями я был!
103.
Я взращиваю ненависть к действию, как цветок в оранжерее. Радуюсь в самом себе моему несогласию с жизнью.
104.
Ни одна блестящая идея не получит хождения, если не обзаведется каким-нибудь элементом глупости. Коллективная мысль глупа, потому что она коллективна: ничто не преодолевает препятствия коллективного, не оставляя им, словно дань, бóльшую часть ума, которое оно в себе несет.
В молодости нас — двое: в нас сосуществует наш собственный ум, который может быть большим, и глупость нашей неопытности, образующая второй, более низкий ум. Лишь когда мы достигаем другого возраста, в нас происходит объединение. Отсюда проистекают всегда нелепые действия молодости — это следствие не ее неопытности, а ее не-единства.
Человеку, обладающему возвышенным умом, сегодня не остается иного пути, кроме отречения.
105.
Эстетика отречения
Приспосабливаться значит подчиняться, а побеждать значит приспосабливаться, быть побежденным. Поэтому любая победа — это пошлость. Победители всегда теряют все качества уныния по отношению к настоящему, которые подняли их на борьбу, приведшую их к победе. Они этим удовлетворяются, а удовлетворенным может быть лишь тот, кто приспосабливается, у кого нет менталитета победителя. Побеждает лишь тот, кто никогда не добивается. Силен лишь тот, кто всегда пребывает в унынии. Лучшее и самое царственное — это отречься. Высшая власть — удел императора, который отрекается от нормальной жизни, от других людей, которого забота о господстве не тяготит, словно груз драгоценностей.
106.
Иногда, когда я поднимаю ошалелую голову от книг, в которых я записываю чужие счета и отсутствие собственной жизни, я испытываю физическую тошноту, которая, возможно, вызвана тем, что я сижу согнувшись, но которая выходит за рамки цифр и разочарования. Жизнь мне противна, как бесполезное лекарство. И именно тогда я вижу ясные образы того, как было бы легко устранить эту тоску, если бы у меня была простая сила хотеть устранить ее по-настоящему.
Мы живем благодаря действиям, то есть благодаря воле. Нас, тех, кто не умеет хотеть — будь то гении или нищие, — объединяет бессилие. Зачем мне называть себя гением, если я — помощник бухгалтера? Когда Сезариу Верде велел сказать врачу, что он был не г-ном Верде, торговым служащим, а поэтом Сезариу Верде, он использовал одно из тех выражений бесполезной гордости, что источают запах тщеславия. Он, бедняга, всегда был г-ном Верде, торговым служащим. Поэт родился после его смерти, потому что после его смерти родилось почитание поэта.
Действие — вот настоящий ум. Я буду тем, чем захочу. Но я должен хотеть того, чем буду. Успех в том, чтобы добиться успеха, а не в том, чтобы располагать условиями для успеха. Условия для дворца есть на любом просторном участке земли, но где будет дворец, если его там не построят?
Мою гордость побили камнями слепцы, а мое разочарование растоптали нищие.
«Я хочу тебя только для грез», — говорят возлюбленной в стихах, которые ей не отправляют, те, кто не решается ничего ей сказать. «Я хочу тебя только для грез» — строка из одного моего старого стихотворения. Я записываю воспоминание о нем с улыбкой и эту улыбку даже не поясняю.
107.
Я — из тех душ, которых женщины на словах любят, но никогда не распознают, когда встречают; из тех, которые они, даже если бы распознали, все равно бы не распознали. Я страдаю от хрупкости моих чувств с презрительным вниманием. У меня есть все качества, которыми восхищаются в поэтах-романтиках, даже отсутствие этих качеств, благодаря которому действительно становятся поэтами-романтиками. В различных романах я нахожу описание (частичное) меня как героя различных интриг; но суть моей жизни, как и моей души, в том, чтобы никогда не быть героем.
У меня нет представления о себе самом, даже такого, которое заключается в отсутствии идеи о себе самом. Я кочую в попытках осознать себя. В первую стражу стада моего сокровенного богатства разбежались.
Единственная трагедия в том, что мы не можем представить себя трагическими фигурами. Я всегда отчетливо видел свое сосуществование с миром. Я никогда отчетливо не ощущал свою неспособность сосуществовать с ним; поэтому нормальным человеком я никогда не был.
Действовать значит отдыхать.
Все проблемы неразрешимы. Суть наличия проблемы в том, что у нее нет решения. Поиски факта означают, что факта нет. Думать значит не знать, что существуешь.
Иногда я часами предаюсь напрасным размышлениям на Террейру-ду-Пасу[15], на берегу реки. Мое нетерпение постоянно хочет вырвать меня из этого покоя, а моя бездеятельность постоянно удерживает меня в нем. Тогда я размышляю, пребывая в физическом забытьи, похожем на негу, как шепот ветра напоминает голоса в вечной ненасытности моих смутных желаний, в бесконечном непостоянстве моих невозможных тревог. Я страдаю прежде всего от недуга, позволяющего мне страдать. Мне не хватает чего-то, чего я не желаю, и страдаю оттого, что это не совсем означает страдать.
Пристань, вечер, соленый запах моря вливаются, вливаются все вместе в состав моей тревоги. Флейты невозможных пастухов не более нежны, чем отсутствие здесь флейт, и это заставляет меня о них вспомнить. Далекие идиллии близ ручейков опечаливают внутри меня этот час, такой же ‹…›
108.
Жизнь можно ощущать как тошноту в животе, существование собственной души — как стесненность в мышцах. Опустошение духа, когда остро его ощущаешь, вызывает приливы в теле, приходящие издалека, и болит по поручению.
Я осознаю себя в день, когда боль от осознания являет собой, как говорит поэт
Истому, тошноту
Томительный порыв[16]
109.
(storm[17])
Царит бледно-темная тишина. На свой лад, близко, между редко и быстро проезжающими машинами, грохочет грузовик — нелепое механическое эхо того, что реально на близком расстоянии от небес.
Вновь без предупреждения льется, мерцая, магнетический свет. Сердце бьется короткими вздохами. Наверху лопается купол, распадаясь на крупные осколки. Новая простыня недоброго дождя набрасывается на звук земли.
(шеф Вашкеш) Его мертвенное лицо окрашено в зеленый цвет, ложный и смазанный. Я замечаю его, чувствуя стесненное дыхание в груди, братски осознавая, что и я буду таким же.
110.
Когда я вижу много сновидений, я выхожу на улицу с открытыми глазами, которые все еще сохраняют их остатки и достоверность. И поражаюсь своему автоматизму, которого другие за мной не знают. Потому что я пересекаю повседневную жизнь, не отпуская руку звездной кормилицы, и мои шаги по улице созвучны темным замыслам сонного воображения. И я иду по улице уверенно; не шатаюсь; отвечаю точно; существую.
Но, когда возникает пауза и мне не приходится следить за направлением моего движения, чтобы уворачиваться от машин или не мешать пешеходам, когда мне не нужно с кем-то говорить и я могу запросто войти в ближайшую дверь, я снова пускаюсь в воды мечтаний, как бумажный кораблик, сложенный у уголков, и снова возвращаюсь к призрачной иллюзии, что согревала мое смутное осознание утра, родившись среди шума повозок с овощами.
И именно тогда, прямо посреди жизни мечта превращается в великое подобие кино. Я спускаюсь по нереальной улице в Байше и реальность несуществующих жизней нежно заматывает мне голову белой тряпкой ложных воспоминаний. Я — мореплаватель в незнании себя. Я победил все то, где никогда не был. И эта сонливость, с которой я могу ходить, наклонившись вперед и шагая навстречу невозможному, подобна новому ветру.
У каждого свой алкоголь. В моем существовании алкоголя достаточно. Опьянев от того, как чувствую себя, я бреду и иду уверенно. Если настало время, я возвращаюсь в контору, как и всякий другой. Если время не настало, я иду к реке смотреть на реку, как и всякий другой. Я такой же. А позади этого мое небо, я тайком творю созвездие и обретаю свою бесконечность.
111.
Всякий сегодняшний человек, который по своему нравственному росту и умственному уровню не относится к пигмеям или к деревенщине, любит, когда любит, романтической любовью. Романтическая любовь — это конечный плод долгих веков христианского влияния; и как по своей сути, так и по последовательности своего развития, она может быть открыта для познания тому, кто не понимает ее, путем сравнения ее с платьем или костюмом, который душа или воображение изготавливают для того, чтобы облачать в него случайно появляющихся созданий, а дух считает для них подходящим.
Но любой костюм, не будучи вечным, носится столько, сколько носится; и вскоре из-под облачения идеала, который мы создаем и который расползается, показывается реальное тело человеческой личности, на которое мы его надели.
Романтическая любовь поэтому есть путь разочарования. Она им не является лишь тогда, когда разочарование, принятое изначально, решает постоянно менять идеал, постоянно шить в мастерских души новые костюмы, при помощи которых можно постоянно обновлять внешний вид создания, одетого в них.
112.
Мы никогда никого не любим. Мы любим всего лишь мысль о ком-то, которую себе создаем.
Мы любим наше представление — в конечном счете, мы любим самих себя.
Это справедливо для любой разновидности любви. В половой любви мы ищем наше наслаждение, которое получаем посредством чужого тела. В любви, отличающейся от половой, мы ищем свое наслаждение, которое нам дается посредством нашей мысли. Онанист мерзок, но истина в том, что онанист — это совершенное логическое воплощение возлюбленного. Он единственный, кто не притворяется и не обманывается.
Отношения между двумя душами, выраженные в таких неясных и разноречивых вещах, как общие слова и предпринимаемые жесты, являются предметом странной сложности. В самом акте нашего знакомства мы не знакомы друг с другом. Оба говорят «я тебя люблю» или так думают и чувствуют это взаимно, и каждый хочет высказать другую мысль, другую жизнь и даже, возможно, другой цвет или аромат в абстрактной сумме впечатлений, составляющей деятельность души.
Сегодня мой разум так ясен, словно я не существую. Моя мысль прозрачна, как скелет, без плотских тряпок иллюзии выражения. И эти размышления, которым я предаюсь и которые бросаю, не родились из чего-либо — по крайней мере, из чего-либо, что находится в партере моего сознания. Возможно, разочарование, испытанное продавцом со своей девушкой, возможно, любая фраза, прочтенная в любовных историях, которые газеты перепечатывают из иностранных газет, возможно даже, неясная тошнота, которую я несу в себе и которую я не исторг физически…
Комментатор Вергилия выразился плохо. Мы утомляемся прежде всего от понимания. Жить значит не думать.
113.
Два, три дня видимости начала любви…
Все это годится для эстета из-за ощущений, которые оно вызывает. Двигаться дальше означало бы вступить во владения, где начинается ревность, страдание, возбуждение. В этой прихожей переживания — вся нежность любви без ее глубины; а значит, легкое наслаждение, неясный аромат желаний; если во всем этом утрачивается величие, присущее трагедии любви, то стоит заметить, что эстету интересно наблюдать трагедии, но неприятно их переживать. Даже воспитанию воображения вредит воспитание жизни. Царствует тот, кто не находится среди простых смертных.
В конце концов, меня бы это удовлетворило, если бы я сумел убедить себя, что эта теория не является тем, чем является — запутанным шумом, который я произвожу перед слухом моего ума, как будто для того, чтобы мой ум не понимал, что, по сути, нет ничего, кроме моей робости, моей неподготовленности к жизни.
114.
Эстетика ухищрения
Жизнь вредит выражению жизни. Если бы я переживал большую любовь, я никогда не смог бы рассказать о ней.
Я даже не знаю, существует ли в действительности тот «я», о котором я вам рассказываю на этих извилистых страницах, или это лишь эстетическое и ложное понятие, которое я создал о самом себе. Да, так и есть. Эстетически я живу в другом. Я изваял свою жизнь, как статую, из материала, чуждого моему существу. Иногда я не узнаю себя, настолько вовне я поместил себя и настолько художественно я употребил мое осознание себя самого. Кто я позади этой нереальности? Не знаю. Кем-то я должен быть. И если я стремлюсь жить, действовать, чувствовать, то это — уж поверьте — для того, чтобы не нарушать искусственные линии моей воображаемой личности. Я хочу быть таким, каким я хотел быть и каким не являюсь. Если бы я уступил, это уничтожило бы меня. Я хочу быть шедевром, хотя бы душевным, раз уж телесным шедевром я быть не могу. Поэтому я изваял себя спокойно и отчужденно и поместил себя в оранжерею, вдали от свежего воздуха и открытого света — где нелепый цветок моей искусственности может цвести в своей далекой красоте.
Иногда я думаю о том, как было бы хорошо, объединив мои грезы, создать себе последовательную жизнь, где, внутри течения целых дней, будут чередоваться воображаемые гости, созданные люди, и жить, страдая от этой мнимой жизни и наслаждаясь ею. Там со мной случались бы невзгоды; там на меня обрушивались бы большие радости. И ничто во мне не было бы настоящим. Но у всего была бы горделивая собственная логика; все следовало бы ритму сладострастной ложности и все происходило бы в придуманном городе моей души, затерянном вплоть до перрона, где стоит спокойный поезд, очень далеко во мне, очень далеко… И все отчетливо, неизбежно, как в жизни внешней, но обладающей эстетикой Смерти Солнца.
115.
Устроить нашу жизнь так, чтобы для других она была тайной, чтобы тому, кто знает нас лучше, вблизи мы были знакомы меньше, чем остальные. Я так и выстроил мою жизнь, почти не думая об этом, но приложил столько инстинктивного искусства, что стал для самого себя личностью не до конца ясной и отчетливой.
116.
Писать значит забывать. Литература — самый приятный способ не замечать жизнь. Музыка убаюкивает, изобразительное искусство воодушевляет, живое искусство (как танец и лицедейство) развлекает. Однако первая отстраняется от жизни, превращая ее в звук; прочие же не отстраняются от жизни — одно потому, что использует зрительные, а значит, жизненные формулы, другое потому, что живет за счет самой человеческой жизни.
Не так обстоит дело с литературой. Она подражает жизни. Роман — это история того, чего никогда не было, а драма — это роман без повествования. Поэма — это выражение идей или чувств таким языком, который никто не употребляет, поскольку никто не говорит стихами.
117.
Большинство людей заболевает оттого, что не может рассказать о том, что видит и что думает. Говорят, что нет ничего труднее, чем определить словами спираль: необходимо, мол, сделать в воздухе рукой без литературы правильно закрученный вверх жест, благодаря которому перед глазами предстанет эта абстрактная фигура пружин или некоторых лестниц. Но стоит нам вспомнить, что высказать значит обновить, как мы без труда определим спираль: это круг, который поднимается и никогда не может закончиться. Большинство людей, я это хорошо знаю, не решилось бы дать такое определение, потому что полагает, что определять значит сказать то, что другие хотят услышать, а не то, что нужно сказать, чтобы дать определение. Поясню: спираль — это скрытый круг, который развертывается, поднимаясь и никогда не осуществляясь. Но нет, такое определение все еще абстрактно. Я буду стремиться к точности, и все станет очевидно: спираль — это змея без змеи, вертикально свернувшаяся ни на чем.
Вся литература заключается в попытке вернуться к настоящей жизни. Как все мы знаем, даже когда люди действуют неосознанно, жизнь совершенно нереальна в своей непосредственной реальности; поля, города, идеи суть вещи совершенно надуманные, порождения нашего сложного ощущения самих себя. Все впечатления невозможно передать, если мы не придадим им литературный облик. Дети зачастую литературны, потому что они высказываются так, как чувствуют, а не как должен чувствовать тот, кто чувствует, будто он другой человек.
Один ребенок, которого я однажды услышал, заявил, желая сказать, что он вот-вот расплачется, не «мне хочется плакать», как сказал бы взрослый, то есть глупец, а «мне хочется слез». И эта фраза, совершенно литературная, настолько, что она показалась бы напыщенной, если бы ее мог произнести знаменитый поэт, решительно передает горячее присутствие слез, которые льются из век, осознающих скопившуюся жидкую горечь. «Мне хочется слез»! Этот маленький ребенок хорошо определил свою спираль.
Высказывать! Уметь высказывать! Уметь существовать посредством записанного голоса и умственного образа! Все это и ценно в жизни: остальное — это мужчины и женщины, предполагаемая любовь и поддельное тщеславие, ухищрения пищеварения и забвения, люди, копошащиеся, словно насекомые, когда поднимаешь камень, под большой абстрактной глыбой бессмысленного голубого неба.
118.
Какая мне разница, читает ли кто-нибудь то, что я пишу? Я пишу, чтобы отвлечься от жизни, и издаю это потому, что в игре есть такое правило. Если завтра будут утрачены все мои записи, мне будет жаль, но, по-моему, я не буду испытывать безумную и яростную горечь, как можно было бы предположить, поскольку в них была вся моя жизнь. Нет, ведь мать через несколько месяцев после смерти сына снова смеется и становится такой, какой была прежде. Великая земля, которая служит мертвым, послужила бы этим бумагам, пусть и не так матерински. Ничто не имеет значения, и я уверен, что бывали люди, которые размышляли о жизни, не будучи очень терпеливы к этому проснувшемуся ребенку и страстно желая того покоя, который наступит, когда он, наконец, отправится спать.
119.
Мне всегда было неприятно читать в дневнике Амьеля ссылки, которые напоминают о том, что он издавал книги. Так образ распадается. В остальном же какой великий человек!
Дневник Амьеля всегда причинял мне боль по моей собственной вине.
Когда я дошел до того момента, где он говорит, что Шерер[18] описал ему плод духа как «осознание осознания», я почувствовал прямую отсылку к моей душе.
120.
То неясное и почти неуловимое злорадство, что охватывает всякое человеческое сердце при виде чужой боли и отчаяния, я привлекаю для анализа моих собственных болей и завожу так далеко, что в те мгновения, когда я чувствую себя нелепым или жалким, я наслаждаюсь им так, как если бы все это испытывал кто-то другой. Благодаря странному, фантастическому преобразованию чувств случается так, что я не испытываю этой злобной и очень человеческой радости при виде чужой боли и нелепости. Видя униженность других, я испытываю не боль, а эстетическое неудобство и извилистое раздражение. Это происходит не вследствие доброты, а потому, что тот, кто становится нелепым, становится нелепым не только для меня, но и для других, а меня раздражает, когда кто-нибудь выглядит нелепо в глазах других, я испытываю боль оттого, что какое-то животное из человеческого рода смеется над другим, не имея права так поступать. Если же другие смеются надо мной, меня это не заботит, потому что во мне живет удобное, закованное в броню презрение к внешнему миру.
Чтобы обозначить границы сада моего бытия, я установил высочайшие решетки, которые ужаснее любой стены и благодаря которым я, прекрасно видя других, великолепно исключаю их и оставляю другими.
Выбор способов не-действия всегда был в центре внимания и забот моей жизни.
Я не подчиняюсь ни государству, ни людям; я сопротивляюсь бездействием. Государству я могу понадобиться только для какого-нибудь действия. Если я не действую, оно от меня ничего не получает. Сегодня уже не приговаривают к смерти, и государство едва ли может причинить мне неудобства; если же это произойдет, мне придется еще прочнее заковать мой дух и жить еще глубже в мире моих мечтаний. Но такого никогда не случалось. Государство никогда мне не докучало. Я верю, что судьба сумела распорядиться должным образом.
121.
Как и у любой личности, обладающей большой подвижностью ума, у меня есть органическая и роковая любовь к устойчивости. Мне отвратительны новая жизнь и незнакомые места.
122.
От мысли о путешествиях мне становится тошно.
Я уже видел все, чего никогда не видел.
Я уже видел все, чего еще не видел.
Тоска, вызываемая чем-то постоянно новым, тоска оттого, что за кажущимся различием вещей и мыслей открываешь извечную тождественность всего, полное сходство между мечетью, языческим храмом и церковью, одинаковость хижины и замка, одно и то же по своему строению тело, идет ли речь об одетом короле или об обнаженном дикаре, вечную согласованность жизни с самой собой, косность всего того, чья жизнь проявляется лишь в движении.
Пейзажи суть повторения. Во время обыкновенной поездки на поезде я с бесплодной тревогой разрываюсь между невниманием к пейзажу и невниманием к книге, которая развлекла бы меня, будь я другим. Жизнь наводит на меня смутную тошноту, а движение ее усиливает.
Тоски нет лишь в пейзажах, которые не существуют, в книгах, которые я никогда не прочту. Жизнь для меня — это сонливость, которая не достигает мозга. Его я держу свободным для того, чтобы иметь возможность в нем грустить.
О, пусть путешествуют те, кто не существует! Для того, кто есть ничто, течение, как для реки, должно быть жизнью. Но тем, кто думает и чувствует, тем, кто бодрствует, ужасающая истерия поездов, автомобилей, кораблей не дает ни спать, ни пробуждаться.
Из любого путешествия, даже короткого, я возвращаюсь, как из сна, полного грез — неуклюжая растерянность, слипшиеся одно с другим ощущения, опьянение от того, что увидел.
Для отдыха мне не хватает душевного здравия. Для движения мне не хватает чего-то, что есть между душой и телом; мне не даются не движения, а желание их совершать.
Часто мне доводилось желать перейти реку, эти десять минут от Террейру-ду-Пасу до Касильяш. И почти всегда я испытывал нечто вроде робости перед столькими людьми, перед самим собой и перед моим намерением. Раз или два я отправлялся, всякий раз чувствуя себя угнетенным, всякий раз ступая на землю, лишь вернувшись назад.
Когда чувства в избытке, Тежу — это безбрежная Атлантика, а Касильяш — другой континент или даже другая вселенная.
123.
Отказ — это освобождение. Нежелание — это власть.
Что может мне дать Китай такого, чего еще не дала мне моя душа? А если моя душа не может мне этого дать, как мне даст это Китай, ведь Китай я увижу своей душой, если увижу? Я смогу отправиться искать богатство на Востоке, но богатство не духовное, потому что богатство моей души — это я, а я нахожусь там, где я есть, без Востока или с ним.
Я понимаю, когда путешествует тот, кто неспособен чувствовать. Поэтому книги о путешествиях всегда так бедны в качестве книг об опыте и ценны лишь для воображения того, кто их пишет. И если тот, кто их пишет, обладает воображением, он может пленить нас тщательным, фотографическим до мельчайших подробностей описанием пейзажей, которые он вообразил, не меньше, чем описанием, неизбежно менее тщательным, пейзажей, которые он считал, что видел. Мы все близоруки, если только наш взгляд не обращен внутрь. Лишь мечта видит при помощи взгляда.
По сути, в нашем опыте земли есть только две составляющие — всеобщее и частное. Описывать всеобщее значит описывать то, что присуще всякой человеческой душе и всякому человеческому опыту — просторное небо, день и ночь, что сменяются благодаря ему и в нем; течение рек, каждая из которых состоит из одинаковой сестринской свежей воды; моря, как трепетно протяженные горы, что хранят величие красоты в тайне глубины; поля, времена года, дома, лица, жесты; костюм и улыбки; любовь и войны; богов, конечных и бесконечных; бесформенную Ночь, мать истоков мира; Рок, умственное чудовище, которое есть всё… Описывая это или любую всеобщую вещь, подобную этой, я говорю с душой на языке примитивном и божественном, на языке Адама, который все понимают. Но на каком раздробленном и путаном языке я говорил бы, если бы описывал Элевадор-де-Санта-Жушта[19], Реймсский собор, штаны зуавов или то, с каким произношением говорят на португальском в Траз-уж-Монтеш[20]? Эти вещи — неровности на поверхности; их можно ощутить шагая, но не чувствуя. Всеобщее в Элевадор-де-Санта-Жушта — это механика, которая делает мир проще. Истинное в Реймсском соборе — это не собор и не Реймс, а религиозная величественность зданий, посвященных познанию глубины человеческой души. Вечное в штанах зуавов — это яркий вымысел костюмов, человеческий язык, создающий социальную простоту, которая, в своем роде, является новой обнаженностью. Всеобщее в местном произношении — это домашняя печать голосов людей, которые живут спонтанно, различия всех людей, многоцветная последовательность манер, различия между народами и широкое разнообразие наций.
Мы вечные странники в самих себе, и нет иного пейзажа, кроме того, коим являемся мы сами. Мы ничем не владеем, потому что не владеем даже собой. У нас ничего нет, потому что мы — ничто. К какой вселенной я протяну руки? Вселенная не моя: вселенная — это я.
124.
(Chapter on Indifference or something like that[21])
Всякая душа, достойная самой себя, желает проживать жизнь на Пределе. Довольствоваться тем, что дано, свойственно рабам. Просить больше свойственно детям. Завоевывать больше свойственно безумцам, потому что всякое завоевание — это ‹…›
Проживать жизнь на Пределе означает проживать ее до края, но для этого есть три способа, и всякой возвышенной душе надлежит избрать один из них. Можно прожить жизнь на пределе путем крайнего обладания ею, посредством путешествия в духе «Одиссеи» через все переживаемые ощущения, через все формы направленной вовне энергии. Однако во все эпохи мира найдется мало тех, кто может закрыть глаза, полные усталости, являющейся суммой всех усталостей, тех, кто всеми способами овладел всем.
Мало кто может требовать и добиваться от жизни, чтобы она отдавалась ему душой и телом; мало кто умеет не ревновать ее, поскольку испытывает к ней всеобъемлющую любовь. Но к этому, несомненно, должна стремиться всякая возвышенная и сильная душа. Когда, однако, такая душа обнаруживает, что такое претворение для ее невозможно, что у нее нет сил для завоевания всех частей Всего, есть два других пути, по которым она может последовать: один — полное отречение, формальное, целостное воздержание, оттеснение в сферу чувствительности того, чем она не может полноценно обладать в области деятельности и энергии. Но намного лучше не действовать, чем действовать без толку, урывками, недостаточно, как действует бесчисленное поверхностное и пустое большинство людей; другой — путь идеального равновесия, поиск Грани Абсолютного Соотношения, в котором жажда Предела перемещается от воли и переживания к Разуму, а главное устремление состоит не в том, чтобы проживать жизнь полностью, не в том, чтобы чувствовать жизнь целиком, а в том, чтобы упорядочить жизнь, наполнить ее Гармонией и разумной Согласованностью.
Жажда понимания, которая стольким благородным душам заменяет жажду действия, относится к сфере чувствительности. Заменить энергию Разумом, разорвать звено между волей и переживанием, лишив интереса все жесты материальной жизни — вот что, будучи достигнутым, стоит дороже жизни, которой так трудно обладать полностью и так грустно обладать частично.
Аргонавты говорили, что путешествовать нужно, а жить не нужно. Мы, аргонавты болезненной чувствительности, скажем, что чувствовать нужно, а жить не нужно.
125.
Не совершили, Боже, Твои суда путешествие прежде того, что сумела совершить моя мысль в крахе этой книги. Не обогнули они Мыса и не видели берега более удаленного как от дерзости дерзких, так и от представления о путешествиях, на которые еще нужно осмелиться — Мыса, сравнимого с теми, что я огибал в моих размышлениях, и пляжа, сравнимого с теми, к которым я при помощи моего ‹…› пришвартовал свое усилие.
По Твоему почину, Боже, был открыт Мир Настоящий; по моему будет открыт Мир Интеллектуальный.
Ваши аргонавты сражались с чудовищами и со страхами. В путешествии моей мысли мне тоже доводилось сражаться с чудовищами и страхами. На пути к абстрактной бездне, которая лежит в глубине вещей, нужно преодолеть ужасы, которые люди обычного мира не представляют, и испытать страхи, которые неизвестны человеческому опыту; возможно, более человечен курс к неопределенному месту в обычном море, чем абстрактная тропа к пустоте мира.
Лишенные привычных очагов, согнанные с пути к своим домам, вечные вдовцы той нежности, что присуща всегда одинаковой жизни — ваши посланники, наконец, достигли, когда Ты уже умер, океанического предела Земли. А именно, увидели новое небо и новую землю.
Я, вдали от путей, ведущих ко мне самому, ослепленный зрелищем жизни, которую я люблю ‹…›
Наконец я достиг крайней пустоты вещей на неуловимом краю предела существ, у двери, ведущей к абстрактной бездне мира.
Я вошел, Боже, в эту дверь. Я блуждал, Боже, по этому морю. Я созерцал, Боже, эту невидимую пропасть.
Я вкладываю этот труд высшего Открытия в призыв к вашему португальскому имени, о создатель аргонавтов.
126.
У меня бывают долгие периоды оцепенения. Суть их не в том, что я, как и все люди, по нескольку дней пытаюсь ответить открыткой на срочное письмо, которое мне написали. И не в том, что я, как никто, бесконечно откладываю легкое, которое мне полезно, или полезное, которое мне приятно. В моем непонимании самого себя больше тонкости. Я цепенею в самой душе. Во мне замирают воля, переживания, мысли, и это продолжается долгие дни; лишь растительная жизнь души — слово, жест, привычка — выражают меня для других и, через них, для меня.
В такие сумрачные периоды я не способен думать, чувствовать, желать. Я могу выводить на бумаге лишь цифры или каракули. Я не испытываю чувств, и, если бы умер тот, кого я любил бы, мне показалось бы, что эта смерть произошла на иностранном языке. Я не могу; я словно сплю, а мои жесты, слова, уверенные действия — это лишь периферийное дыхание, ритмический инстинкт любого организма.
Так проходят дни моей жизни, я даже не могу сказать, какая часть моей жизни прошла не так, если бы я мог это подсчитать. Иногда мне приходит в голову мысль, что когда я снимаю с себя этот паралич, то, возможно, я не остаюсь обнаженным, как предполагаю, и что вечное отсутствие моей настоящей души прикрывает неосязаемая одежда; мне приходит в голову, что мысли, чувства, желание тоже могут быть оцепенением перед более сокровенными мыслями, более моими чувствами, перед волей, потерянной где-то в лабиринте, коим я, на самом деле, являюсь.
Как бы то ни было, я позволяю этому быть. И богу или богам, какие бы они ни были, я отдаю то, чем я являюсь, следуя велению судьбы или воле случая, хранящего верность забытой договоренности.
127.
Я не возмущаюсь, потому что возмущение — удел сильных; я не смиряюсь, потому что смирение — удел благородных; я не молчу, потому что молчание — удел великих. А я не силен, не благороден и не велик. Я страдаю и грежу. Я жалуюсь, потому что слаб, и, поскольку я человек творческий, развлекаюсь тем, что придаю моим жалобам музыкальное звучание и организую мои мечты в соответствии с наилучшим, с моей точки зрения, представлением об их красоте.
Я жалею лишь о том, что я не ребенок и потому не могу верить в мои грезы, что я не безумец и потому не могу отстраниться от души всех тех, кто меня окружает ‹…›
И восприятие мечты как реальности, слишком глубокое проживание грез взрастило этот шип на ложной розе моей воображаемой жизни: даже грезы мне неприятны, потому что я нахожу в них изъяны.
Даже раскрашивая это стекло цветными тенями, я не могу заглушить шум чужой жизни, на которую смотрю со стороны.
Блаженны изобретатели пессимистических систем! Они не только прикрываются тем, что создали нечто, но и радуются тому, что дали объяснение, и включают себя во вселенскую боль.
Я не жалуюсь на мир. Не протестую от имени вселенной. Я не пессимист. Я страдаю и жалуюсь, но не знаю, плохо ли страдание, и не знаю, свойственно ли человеку страдать. Какая мне разница, так ли это или нет?
Я страдаю, не знаю, заслуженно ли. (Преследуемая косуля.)
Я не пессимист, я просто грущу.
128.
Я всегда противился тому, чтобы меня понимали. Быть понятым значит продать себя. Я предпочитаю, чтобы меня воспринимали всерьез таким, каким я не являюсь, и игнорировали по-человечески, благопристойно и естественно.
Ничто не могло бы возмутить меня так, как если бы в конторе меня стали чураться. Я хочу наслаждаться наедине с собой иронией, заключающейся в том, что меня не чураются. Я хочу власяницу, заключающуюся в том, что они считают меня равным себе. Я хочу распятия, заключающегося в том, что меня не отличают от других. Есть мученичество более утонченное, чем то, что испытывают святые и отшельники. Есть муки разума, как есть муки телесные и муки желания. И в этих муках, как и в прочих, есть сладострастие ‹…›
129.
Посыльный, как и каждый день, завязывал свертки в сумеречном холоде просторной конторы. «Вот это гром», — сказал, ни к кому не обращаясь, громко, так, как говорит «добрый день» жесточайший бандит. Мое сердце снова забилось. Апокалипсис миновал. Наступила пауза.
И какое облегчение — сильный и ясный свет, пространство, мощный гром — это близкое, уже удалявшееся грохотание приносило нам облегчение от того, что случилось до того. Бог перестал. Я почувствовал, как дышу полными легкими. Я заметил, что в конторе было мало воздуха. Я обратил внимание, что, помимо посыльного, там были другие люди. Все сидели молча. Раздался дрожащий и шероховатый звук: это был большой плотный лист Бухгалтерской книги, который Морейра резко перевернул, чтобы проверить.
130.
Я часто думаю о том, каким бы я был, если бы, укрытый от ветра судьбы ширмой богатства, я никогда не был приведен честной рукой моего дяди в одну лиссабонскую контору и из нее не перешел затем в другие, вплоть до жалкой вершины в виде славного помощника бухгалтера, чья работа похожа на какую-то сиесту, а заработок позволяет существовать.
Я хорошо знаю, что, если бы это несостоявшееся прошлое состоялось, сегодня я не был бы способен писать эти страницы, которые, в любом случае, какими бы они ни были, лучше, чем несуществующие страницы, о которых я, в лучших обстоятельствах, мог бы лишь мечтать. Дело в том, что заурядность — это разум, а реальность, особенно если она глупа и сурова, есть естественное дополнение души.
Своей ипостаси бухгалтера я обязан большей частью того, что могу чувствовать и осмыслять как отказ и бегство от должности.
Если бы мне пришлось написать в той графе опросника, где не предлагается выбрать ответ, под каким литературным влиянием сложился мой дух, я бы начал заполнять отмеченное пунктиром пространство именем Сезариу Верде, но я бы не закончил, не вписав туда имена шефа Вашкеша, бухгалтера Морейры, коммивояжера Виейры и Антониу, посыльного конторы. И у всех них в качестве основного адреса я бы указал большими буквами ЛИССАБОН.
Если присмотреться, и Сезариу Верде, и они были поправочными коэффициентами для моего видения мира. Я считаю, что это подходящая фраза, точный смысл которой мне, разумеется, неизвестен; ею инженеры обозначают тот подход к математике, благодаря которому ее можно приблизить к жизни. Если эта фраза подходит, то именно это и было. Если нет, пусть ее воспринимают как то, чем она могла бы быть, и пусть стремление займет место неудавшейся метафоры.
Впрочем, размышляя с ясностью, на которую я способен, о том, чем казалась моя жизнь, я вижу ее как нечто расцвеченное — как обертку от шоколадки или как сигарный бант — как крошки, сметенные со скатерти, которую нужно снять, легкой щеткой служанки, что подслушивает на верхнем этаже, в совок, вместе с корками реальности как таковой. Она отличается от вещей, которые ждет такая же судьба, одной привилегией, которая тоже окажется в совке. И над подметанием продолжается разговор богов, безразличный к этим бытовым мелочам.
Да, если бы я был богат, укрыт, вычищен, декоративен, я бы не стал даже этим кратким эпизодом красивой бумаги среди крошек; я бы остался в тарелке судьбы — «нет, спасибо» — и вернулся бы в сервант, чтобы там состариться. Так, отвергнутый после того, как у меня выели костный мозг практичности, я отправляюсь, как прах, что остался от тела Христа, в мусорное ведро и даже не представляю, что произойдет потом и среди каких звезд; но что-то потом произойдет.
131.
Поскольку мне нечего делать и не о чем думать, я изложу на этом листе описание моего идеала –
Заметка
Чувствительность Малларме в рамках стиля Виейры; мечтать, как Верлен в теле Горация; быть Гомером под лунным светом.
Чувствовать все всеми способами; уметь думать эмоциями и чувствовать мыслью; желать многого только воображением; страдать с кокетством; видеть ясно, чтобы писать точно; познавать себя посредством притворства и тактики, натурализовать свое отличие при помощи всех документов; в общем, использовать изнутри все ощущения, снимая с них кожуру вплоть до Бога; но снова заворачивать и класть на витрину, как тот продавец с баночками новой марки гуталина, которого я вижу отсюда.
Все эти идеалы, возможные и невозможные, теперь заканчиваются. Реальность передо мной — это даже не продавец, это его рука (его я не вижу), нелепое щупальце души со своей семьей и судьбой, которое изворачивается, как паук без паутины, и вытягивается, раскладывая товар там, на витрине напротив.
И одна из баночек упала, как и Судьба всех людей.
132.
Чем больше я созерцаю спектакль мира и приливы и отливы видоизменения вещей, тем глубже я убеждаюсь в прирожденной надуманности всего, в ложном обаянии роскоши всякой реальности. И в этом созерцании, которому так или иначе доводилось предаваться всем тем, кто размышляет, многоцветное шествие костюмов и моды, сложный путь прогресса и цивилизаций, грандиозная мешанина империй и культур — все это мне представляется мифом и выдумкой, придуманной среди теней и забвения. Но я не знаю, должно ли заключаться высшее определение всех этих мертвых устремлений, даже тех, что были воплощены, в экстатическом отречении Будды, который, поняв бренность сущего, воспрял из своего экстаза со словами «Я уже все знаю», или в излишне искушенном равнодушии императора Севера: «omnia fui, nihil expedit — я был всем, не стоит быть ничем».
133.
Мир, навозная куча инстинктивных сил, которая, тем не менее, блестит на солнце соломенными оттенками светлого и темного золота.
Если задуматься, для меня эпидемии, бури, войны являются производными той же слепой силы, которая иногда действует посредством бессознательных микробов, иногда — посредством бессознательных молний и вод, иногда — посредством бессознательных людей. Между землетрясением и резней для меня разница такая же, как между убийством при помощи ножа и убийством при помощи кинжала. Живущее во всем чудовище пользуется — себе во благо или во вред, что, как мне кажется, ему безразлично — смещением камня на высоте или смещением ревности или жадности в сердце. Камень падает и убивает человека; жадность или ревность вооружают руку, и рука убивает человека. Так устроен мир, навозная куча инстинктивных сил, которая все еще блестит на солнце соломенными оттенками светлого и темного золота.
Мистики обнаружили, что для того, чтобы противостоять грубости равнодушия, которая составляет видимую основу вещей, лучше всего ее отвергать: отрицать мир, отворачиваться от него, как от болота, на берегу которого мы оказались. Отрицать, как Будда, отрицая его абсолютную реальность; отрицать, как Христос, отрицая его относительную реальность; отрицать ‹…›
Я просил у жизни не больше, чем она от меня требовала. У двери хижины, которой у меня не было, я сел под солнцем, которого никогда не было, и насладился будущей старостью моей изможденной реальности (испытывая удовольствие оттого, что она ко мне еще не пришла). Беднякам жизни все еще достаточно просто не умирать, а все еще иметь надежду на ‹…›
‹…› довольный сном, только когда я не сплю, довольный миром, только когда я мечтаю вдали от него. Колеблющийся маятник, который постоянно двигается и никуда не приходит, трогается лишь затем, чтобы вернуться, вечно захваченный двойной неизбежностью центра и бесполезного движения.
134.
Я ищу себя и не нахожу. Я отношусь к часам хризантем, отчетливо вытянутым в вазах. Я должен превратить свою душу в декоративный предмет.
Я не знаю, какие излишне пышные и изысканные детали определяют форму моего духа. Моя любовь к декоративному, бесспорно, определяется тем, что я чувствую в нем нечто тождественное сущности моей души.
135.
Мое проживание самых простых, самых по-настоящему простых вещей, которые ничто не может сделать полупростыми, усложняет их. Иногда необходимость сказать кому-то «добрый день» внушает мне робость. У меня пересыхает горло, как если бы была какая-то странная дерзость в том, чтобы произнести эти слова вслух. Это своего рода целомудрие существования — другого имени у этого нет!
Постоянный анализ наших ощущений создает новую форму чувствования, которая кажется искусственной тому, кто анализирует только при помощи разума, а не при помощи самого ощущения.
Всю жизнь я был метафизически ничтожен и был серьезен, когда играл. Как бы я того ни хотел, я ничего не делал всерьез. Во мне развлекалась мною язвительная Судьба.
Испытывать переживания из ситца, или из шелка, или из парчи! Испытывать переживания, которые можно так описать! Испытывать переживания, которые можно описать!
В мою душу прокрадывается раскаяние — которое и является Богом — глухая страсть слез к осуждению грез во плоти тех, кто ими грезил… И я ненавижу без ненависти всех поэтов, что писали стихи, всех идеалистов, которые показали свой идеал, всех тех, кто добился того, чего хотел.
Я бесцельно блуждаю по тихим улицам, хожу, пока тело не устанет так же, как душа, у меня болит даже тот предел известной боли, что приносит наслаждение, то материнское сочувствие к самому себе, музыкальное и неопределимое.
Спать! Уснуть! Успокоиться! Быть абстрактным осознанием спокойного дыхания, без мира, без звезд, без души — мертвым морем переживаний, отражающим отсутствие звезд!
136.
Тяжесть чувств! Тяжесть необходимости чувствовать!
137.
…Сверхобостренность, не знаю, ощущений ли, или их выражения, или же, если точнее, понимания, что лежит между первой и второй формой выражения вымышленного переживания, которое существует лишь для того, чтобы быть выраженным. (Возможно, во мне оно представляет собой лишь машину для раскрытия того, чем я не являюсь.)
138.
Есть эрудиция познания, которая, собственно, и является тем, что называется эрудицией, а есть эрудиция понимания, которая является тем, что называется культурой. Но есть еще и эрудиция чувствительности.
Эрудиция чувствительности не имеет ничего общего с жизненным опытом. Жизненный опыт ничему не учит, как история ничего не сообщает. Настоящий опыт заключается в том, чтобы ограничить соприкосновение с реальностью и усилить анализ этого соприкосновения. Так чувствительность расширяется и углубляется, потому что в нас есть всё; нам достаточно это искать и уметь искать.
Что значит путешествовать и зачем нужно путешествовать? Любой закат — это закат; не нужно ехать в Константинополь ради того, чтобы его увидеть. Быть может, в путешествиях рождается ощущение освобождения? Я могу испытать его, отправившись из Лиссабона в Бенфику, и испытать его глубже, чем тот, кто едет из Лиссабона в Китай, потому что если освобождения нет во мне, то для меня его не будет нигде. «Любая дорога, — говорит Карлейль[22], — даже эта дорога в Энтепфул приведет тебя на край мира». Но дорога в Энтепфул, если пройти ее полностью, до конца, возвращается в Энтепфул; поэтому тот Энтепфул, в котором мы находились, это тот же край света, который мы собирались искать.
Кондильяк так начинает свою знаменитую книгу[23]: «Как бы высоко мы ни поднимались и как бы низко ни опускались, мы никогда не выходим за пределы наших ощущений». Мы никогда не покидаем себя. Мы можем стать кем-то иным только при помощи чувствительного воображения нас самих. Настоящие пейзажи — те, что мы создаем сами, потому что так, будучи богами этих пейзажей, мы видим их такими, какие они есть на самом деле, то есть такими, какими они были созданы. Ни одна из семи частей света мне не интересна, ни одну из них я не могу по-настоящему увидеть; я путешествую по восьмой стороне, которая принадлежит мне.
Кто исходил все моря, исходил лишь однообразие себя. Я уже исходил больше морей, чем кто бы то ни было. Я уже видел больше гор, чем есть на земле. Я посетил больше городов, чем те, что существуют, и великие, абсолютные реки несуществующих миров текли под моим созерцающим взглядом. Если бы я путешествовал, я бы обнаружил лишь бледную копию того, что уже видел, не путешествуя.
Другие посещают страны безымянными паломниками. В посещенных мною странах я становлюсь не только скрытым наслаждением путешественника инкогнито, но и величием Короля, который там правит, и народом, чьи обычаи там царят, и всей историей этой и других наций. Те же пейзажи, те же дома я видел потому, что сам был ими, созданными в Господе при помощи сути моего воображения.
139.
Я уже давно не пишу. Прошли месяцы, в которые я не жил, и я по-прежнему пребываю между конторой и физиологией, в некоем внутреннем оцепенении, которое охватило мои мысли и чувства и, к несчастью, не отдыхает: в гниении есть брожение.
Я уже давно не только не пишу, но и даже не существую. Я полагаю, что мне еле-еле удается грезить. Улицы являются для меня улицами. Я выполняю конторскую работу, думая только о ней, но не скажу, что я совсем не отвлекаюсь: когда я прячусь за собой, я, вместо того чтобы размышлять, сплю, однако, когда я прячусь за работой, я всегда иной.
Я уже давно не существую. Пребываю в полнейшем покое. Никто не отличает меня от того, кем я являюсь. Сейчас я почувствовал, что дышу так, как если бы сделал что-то новое или запоздалое. Я начинаю осознавать, что обладаю сознанием. Возможно, завтра я проснусь для самого себя и возобновлю течение моего собственного существования. Не знаю, сделает ли меня это счастливее, или нет. Я ничего не знаю. Прогуливаясь, я поднимаю голову и вижу, что на противоположном склоне, где возвышается Замок, закат горит в десятках окон, высоко отражаясь холодным огнем. Вокруг этих очей, охваченных холодным пламенем, весь склон окутан вечерней нежностью. Я хотя бы могу чувствовать грусть и осознавать, что с этой моей грустью сейчас слились — увиденное с услышанным — неожиданный звук проходящего трамвая, случайные голоса беседующих молодых людей, забытый шепот живого города.
Я уже давно не я.
140.
Иногда случается — и всякий раз это происходит почти неожиданно, — что посреди ощущений меня охватывает такая ужасная усталость от жизни, что я не могу даже предположить, как ее преодолеть. Чтобы справиться с ней, самоубийство представляется ненадежным, смерть, даже если предположить ее бессознательность, кажется недостаточной. Эта усталость подталкивает не к прекращению существования — которое может быть возможным, а может и не быть, — а к чему-то намного более ужасающему и глубокому, а именно к прекращению даже того факта, что я существовал прежде, чего не может быть ни при каких обстоятельствах.
Иногда мне кажется, что в размышлениях индийцев, как правило расплывчатых, просматривается нечто сродни этому стремлению, отрицательнее которого ничего нет. Но им либо недостает остроты ощущения, чтобы таким образом рассказать то, что они думают, либо не хватает остроты мысли, чтобы таким образом почувствовать то, что они чувствуют. Факт в том, что я не вижу того, что замечаю в них. Факт в том, что я считаю себя первым, кто передал словами мрачную нелепость этого безысходного ощущения.
И я лечу ее, описывая. Да, нет такой опустошенности, если она по-настоящему глубока, если она не является просто чувством и в ней участвует разум, для которой не нашлось бы иронического способа высказывания. Если бы от литературы не было иной пользы, то эта польза все же была бы, пусть и для немногих.
Недуги разума, к несчастью, причиняют меньше боли, чем недуги чувств, а недуги чувств — к несчастью, меньше, чем недуги телесные. Я говорю «к несчастью», потому что человеческое достоинство требовало бы обратного.
Нет такого тревожного ощущения тайны, которое могло бы причинять боль так, как любовь, ревность, ностальгия, которое могло бы душить, как сильный физический страх, которое могло бы преображать, как гнев или как честолюбие. Но и никакая боль из тех, что крушат душу, не бывает такой сильной, как зубная боль, или боль от коликов, или же (предполагаю) боль родовая.
Мы так устроены, что разум, облагораживающий некоторые переживания и ощущения и возвышающий их над прочими, также и подавляет их, если распространяет свой анализ на сравнение всех их друг с другом.
Я пишу так, будто сплю, и вся моя жизнь — это квитанция, в которой нужно расписаться.
Петух в курятнике, из которого он отправится на смерть, поет гимны свободе, потому что ему дали два насеста.
141.
Дождливый пейзаж
В природе моя неудавшаяся жизнь плачет в каждой капле дождя. Есть что-то от моего непокоя в капании, в ливнях, с которыми дневная грусть бесполезно изливается на землю.
Дождь все идет и идет. Моя душа мокра оттого, что слышит его. Дождь… Моя плоть становится жидкой и водянистой вокруг моего ощущения ее.
Беспокойный холод обхватывает ледяными руками мое бедное сердце.
Часы, серые и ‹…› тянутся, расплющиваются во времени; мгновения волочатся одно за другим.
Как сильно льет!
Водосточные трубы извергают мелкие потоки воды, всегда неожиданные. По моему сознанию стекает мысль о водосточных трубах с их тревожным шумом стекающей воды. Вяло, со стоном дождь стучит в оконное стекло; ‹…›
Холодная рука сжимает мне горло и не дает вдыхать жизнь. Все во мне умирает, даже знание о том, что я могу грезить! Мне не хорошо ни в каком физическом отношении. Во всем мягком, на что я опираюсь, моя душа обнаруживает углы. Все взгляды, на которые я гляжу, так темны оттого, что их поражает обедненный свет безболезненно умирающего дня.
142.
Самое гнусное в мечтах — то, что они есть у всех. О чем-то думает в темноте осоловевший курьер, прислонившийся к фонарю в перерыве между поручениями. Я знаю, что у него на уме: то же, во что погружаюсь я между записями в летней тоске замершей конторы.
143.
Мне больше жаль тех, кто мечтает о вероятном, дозволенном и близком, чем тех, кто бредит о далеком и странном. Те, кто мечтает широко, либо безумцы, которые верят в то, о чем мечтают, и потому счастливы, либо просто фантазеры, для которых фантазии — это музыка души, что убаюкивает их, ничего им не говоря. Но у того, кто мечтает о возможном, есть реальная вероятность испытать настоящее разочарование. Меня не может сильно удручать то, что я перестал быть римским императором, но меня может гнести то, что я никогда даже не заговаривал с портнихой, которая около девяти часов всегда заворачивает за угол справа. Мечта, обещающая нам невозможное, уже этим самым лишает нас его, а мечта, обещающая нам возможное, встревает в саму жизнь и препоручает ей свое решение. Первая живет обособленно и независимо; вторая подчиняется превратностям того, что происходит.
Поэтому я люблю невозможные пейзажи и широкие пустынные равнины, на которые я никогда не попаду. Прошедшие исторические эпохи великолепны, ведь я не могу предположить, что они воплотятся с моим участием. Я сплю, когда мечтаю о том, чего нет; я просыпаюсь, когда мечтаю о том, что может быть.
Я выглядываю c одного из балконов конторы, обезлюдевшей в полдень, на улицу, где моя рассеянность чувствует в глазах движение людей и не видит их с расстояния размышления. Я сплю, опираясь на перила, которые больно впиваются мне в локти, и многообещающе ничего не знаю. Детали остановившейся улицы, по которой шагают многие, вырисовываются перед моим отстраненным взглядом: ящики, сложенные на телеге, мешки у двери другого склада, и на самой дальней витрине магазина на углу — отблеск бутылок того портвейна, который в моих мечтах никто не может купить. Мой дух отстраняется от материальной половины. Я исследую при помощи воображения. Проходящие по улице люди — все те же, что прошли недавно, все тот же зыбкий облик кого-то, движущиеся пятна, голоса нечеткости, нечто, что проходит и не случается.
Заметка, сделанная скорее посредством осознания чувств, чем посредством самих чувств… Возможность чего-то другого… И вдруг сзади меня в конторе звучит метафизически отрывистый голос посыльного. Я чувствую, что мог бы убить его за то, что он прервал то, о чем я не думал. Обернувшись, я смотрю на него молча, исполненный ненависти, заблаговременно слушаю, с напряжением скрытого убийства, голос, которым он мне что-то скажет. Он улыбается из глубины комнаты и громко говорит мне «добрый вечер». Я ненавижу его, как ненавижу вселенную. В глазах чувствую тяжесть от воображения.
144.
После всех этих дождливых дней небо вновь принесло в просторы высоты лазурь, которую до сих пор прятало. Между улицами, где лужи дремлют, словно стоячая вода на полях, и ясной радостью, что остывает в вышине, есть контраст, который облагораживает грязные улицы и окрашивает в весенние краски тусклое зимнее небо. На дворе воскресенье, и мне нечего делать. Стоит такой хороший день, что мне не хочется даже мечтать. Я наслаждаюсь им со всей искренностью чувств, которой предается разум. Я гуляю, как освобожденный служащий. Чувствую себя стариком лишь для того, чтобы испытать удовольствие от ощущения омоложения.
На большой воскресной площади — торжественное протекание дня другого рода. В церкви св. Доминика закончилась одна служба и скоро начнется другая. Я вижу тех, кто выходит, и тех, кто еще не вошел, ожидая кого-то и не видя выходящих.
Все это не имеет значения. Это, как и все в обыденности жизни, — сон тайн и крепостных зубцов, и я смотрю, как прибывший глашатай, на равнину моих размышлений.
Некогда, ребенком, я ходил на эту же службу или, возможно, на другую, но, должно быть, на эту. Я надевал, с должным осознанием, мой единственный лучший костюм и наслаждался всем — даже тем, чем не было смысла наслаждаться. Я жил снаружи, а костюм был чистым и новым. Чего еще хочет тот, кто должен умереть и не знает этого, держа за руку мать?
Некогда я наслаждался всем этим, но, возможно, я только сейчас понимаю, насколько я этим наслаждался. Я шел на церковную службу, как на великую тайну, и выходил с нее, как на поляну. И так действительно было, и так все еще есть. Лишь для неверующего взрослого человека с помнящей и плачущей душой это — вымысел и беспорядок, неопрятность и холодный могильный камень.
Да, то, чем я являюсь, было бы невыносимо, если бы я не мог вспомнить то, чем я был. И эта чужая толпа, по-прежнему выходящая со службы, и начало возможной толпы, которая начинает прибывать, чтобы посетить следующую службу — все это подобно кораблям, которые проходят мимо меня, как по медленной реке, под открытыми окнами моего дома, возведенного на берегу.
Воспоминания, воскресенья, церковные службы, удовольствие от того, чем я был, чудо времени, которое, миновав, осталось и никогда не забывается, потому что было моим… Нелепая диагональ нормальных ощущений, резкий звук телеги на площади, которая скрипит колесами на фоне шумного молчания автомобилей и каким-то образом, вследствие материнского парадокса времени, сохраняется и сегодня, прямо здесь, между тем, что я есть, и тем, что я потерял, в моем предваряющем взгляде, которым я являюсь…
145.
Чем человек выше, тем большего он должен себя лишать. На вершине есть место только для самого человека. Чем он совершеннее, тем он целостнее; а чем он целостнее, тем менее он будет нуждаться в другом.
Эти соображения посетили меня после того, как в одной газете я прочитал заметку о великой многообразной жизни одного знаменитого человека. Этот американский миллионер успел побывать всем. Он получил то, к чему стремился — деньги, любовь, привязанность, посвящения, путешествия, коллекции. Сами деньги всего не могут, но тот великий магнетизм, при помощи которого получают много денег, действительно может почти все. Когда я положил газету на столик в кафе, я уже размышлял над тем, что то же можно было бы сказать относительно продавца, которого я более или менее знаю и который каждый день обедает так, как он обедает сегодня, за столиком в углу. Все, что было у миллионера, было и у этого человека; в меньшей степени, разумеется, но под стать его росту. Оба они добились одного и того же и даже разницы в известности между ними нет, потому что и в этом случае разница в обстановке предопределяет тождество. Нет никого в мире, кому не было бы знакомо имя американского миллионера; но нет никого в торговых лавках Лиссабона, кому не было бы известно имя человека, который обедает там.
В конце концов, эти люди получили все, до чего можно дотянуться, вытянув руку. Длина руки у них была разная; в остальном они были одинаковы. Я никогда не мог завидовать людям такого рода. Я всегда полагал, что добродетель заключалась в том, чтобы получить недосягаемое, в том, чтобы жить там, где не находишься, в том, чтобы после смерти быть живее, чем при жизни, в том, наконец, чтобы получить нечто трудное, абсурдное, преодолеть, словно препятствие, собственную реальность мира.
Если мне скажут, что удовольствие от продолжения существования после смерти никчемно, я отвечу, что, во-первых, не знаю, никчемно оно или нет, поскольку я не знаю истины о жизни после смерти; потом я отвечу, что удовольствие от будущей славы есть удовольствие, испытываемое в настоящем — к будущему относится слава. И это такое ни с чем не сравнимое удовольствие от гордости, которое не может подарить никакое материальное обладание. Действительно, оно может быть призрачным, но, каким бы оно ни было, оно шире удовольствия, которое получаешь только от того, что есть здесь. Американский миллионер не может верить в то, что потомки оценят его поэмы, ведь он их и не писал; продавец не может предполагать, что будущее будет восхищаться его картинами, поскольку он не написал ни одной.
Я же, не являясь ничем в преходящей жизни, могу наслаждаться образом будущего, когда читаю эту страницу, ведь я ее на самом деле пишу; я могу гордиться, словно сыном, славой, которой буду обладать, потому что, по крайней мере, у меня есть чем ее добиться. И когда я об этом думаю, вставая из-за стола, мой невидимый рост поднимается с внутренним величием над Детройтом, штат Мичиган, и над всем Лиссабоном.
Тем не менее, я замечаю, что свои размышления я начал не с этого. Сначала я думал над тем, каким ничтожным должен быть в жизни тот, кто хочет выжить.
Одно рассуждение стоит не больше другого, потому что они суть одно и то же. Слава — это не медаль, а монета: на одной ее стороне изображена Фигура, на другой указана стоимость. Монеты большего достоинства не существуют: большее достоинство указывается на бумаге, и оно всегда невелико.
Такой метафизической психологией утешаются смиренные существа вроде меня.
146.
У некоторых в жизни есть большая мечта, и они эту мечту предают. У других в жизни нет никакой мечты, и они ее тоже предают.
147.
Любое усилие, ради какой бы цели оно ни предпринималось, проявляясь, подвергается отклонениям, которые накладывает на него жизнь; оно становится другим усилием, служит другим целям, иногда приводит к полной противоположности того, что намеревалось совершить. Лишь мелкая цель его стоит, потому что мелкую цель можно осуществить полностью. Если я хочу приложить свои усилия к тому, чтобы получить состояние, я смогу так или иначе его получить; цель мелка, как и все количественные цели, личные или нет, она достижима и проверяема. Но как мне осуществлять намерение служить моей родине или возвеличивать человеческую культуру или улучшать человечество? Я не могу быть уверенным в процессах и в том, что их цели можно будет подвергнуть проверке ‹…›
148.
Совершенный человек в язычестве был совершенством человека, который существует; совершенный человек в христианстве — это совершенство человека, которого не существует; совершенный человек в буддизме — это совершенство небытия человека.
Природа — это разница между душой и Богом.
Все то, что человек излагает или выражает, есть заметка на полях полностью стертого текста. Исходя из смысла заметки, мы более или менее извлекаем смысл, который должен был содержаться в тексте; но всегда остается сомнение, а возможных смыслов — множество.
149.
Многие давали определение человеку и, как правило, определяли его по контрасту с животными. Поэтому в определениях человека часто используется фраза «человек — это животное…» и какое-то прилагательное или «человек — это животное, которое…», и говорится, какое оно. «Человек — это животное болезненное», — сказал Руссо, и отчасти это правда. «Человек — это животное разумное», — говорит Церковь, и отчасти это правда. «Человек — это животное, которое использует орудия», — говорит Карлейль, и отчасти это правда. Но эти и им подобные определения всегда несовершенны и однобоки. И причина этого очень проста: нелегко выделить человека из животных, нет надежного критерия для того, чтобы выделить человека из животных. Человеческие жизни протекают в той же внутренней несознательности, что и жизни животных. Те же глубокие законы, которые управляют извне инстинктами животных, управляют, тоже извне, разумом человека, который представляется лишь формирующимся инстинктом, столь же несознательным, как и любой инстинкт, менее совершенным, потому что он еще не сформировался.
«Все происходит из иррациональности», — говорится в Греческой Антологии[24]. И все действительно происходит из иррациональности. За пределами математики, которая имеет дело лишь с мертвыми цифрами и с пустыми формулами и потому может быть совершенно логичной, наука — это лишь детская игра в сумерках, стремление поймать тени птиц и остановить тени травы на ветру.
Любопытно и странно, что, хотя непросто найти слова, чтобы по-настоящему определить отличие человека от животных, все еще просто найти способ, как отличить высшего человека от человека заурядного.
Я всегда помню фразу биолога Геккеля, которую прочитал в детстве разума, когда читаешь научно-популярные издания и доводы против религии. Фраза эта звучит примерно так: высший человек (кажется, он говорит о Канте или о Гёте) находится намного дальше от человека заурядного, чем заурядный человек отстоит от обезьяны. Я никогда не мог забыть этой фразы, потому что она правдива. Между мной, который мало что значит в ряду думающих людей, и крестьянином из Лориша расстояние, бесспорно, намного большее, чем между этим крестьянином и — не буду говорить обезьяной — кошкой или собакой. Никто из нас, начиная с кошки и заканчивая мной, на деле не ведет жизнь, которая была ему навязана, и не следует судьбе, которая была ему предначертана; все мы в равной степени происходим неизвестно от чего, являясь тенями жестов, сделанных кем-то другим, воплощенными впечатлениями, последствиями, которые чувствуют. Но между мной и крестьянином есть качественная разница, проистекающая из существования во мне абстрактного мышления и беспристрастной эмоции; а между ним и кошкой в духовном отношении разница заключается лишь в степени.
Высший человек отличается от человека низшего и от животных, братьев последнего, простым свойством иронии. Ирония — это первый признак того, что сознание стало сознавать. И ирония переживает две стадии: стадию, определенную Сократом, когда он сказал «я знаю, что ничего не знаю», и стадию, определенную Санчесом[25], когда он сказал «я не знаю, ничего ли я не знаю». Первый шаг приводит нас к догматическому сомнению в себе, и всякий высший человек этот шаг совершает и достигает этого. Второй шаг приводит нас к сомнению в себе и в своем сомнении, и лишь немногие люди достигли этого за уже столь длительную короткую продолжительность времени, за которую мы, человечество, увидели день и ночь на разнообразной поверхности земли.
Познавать себя значит заблуждаться, и оракул, сказавший «Познай себя», задал задачу сложнее, чем подвиги Геракла, и тайну более непроницаемую, чем тайна Сфинкса. Сознательно не познавать себя — вот правильный путь. А тщательно не познавать себя подразумевает активное употребление иронии. Я не знаю ничего более значимого и более свойственного по-настоящему великому человеку, чем терпеливый и выразительный анализ способов непознания себя, сознательная запись несознательности нашего сознания, метафизика самостоятельных теней, поэзия сумерек разочарования.
Но нас всегда что-то прельщает, любой анализ всегда застопоривается, всегда какая-нибудь истина, пусть и ложная, находится за ближайшим углом. И это утомляет больше самой жизни, когда она утомляет, и больше познания и размышлений о ней, которые никогда не перестают утомлять.
Я поднимаюсь со стула, сидя на котором и рассеянно опираясь на стол, я развлекался, рассказывая себе эти неупорядоченные впечатления. Я поднимаюсь, поднимаю свое собственное тело и иду к возвышающемуся над крышами окну, из которого я могу видеть, как город отходит ко сну в медленно начинающейся тишине. Большая белая-пребелая Луна грустно озаряет сдавленные различия между домами. И лунный свет словно освещает своим холодом всю таинственность мира. Он словно показывает все, и все есть тени с вкраплениями тусклого света, ложные промежутки, нелепые в своей неровности, бессвязность видимого. Ветра нет, от этого таинственность кажется еще большей. Абстрактное мышление внушает мне тошноту. Я никогда не напишу ни одной страницы, которая раскроет меня или раскроет что-либо. Очень легкое облако смутно парит над луной, словно тайник. Я не ведаю, как и эти крыши. Я потерпел крах, как и вся природа.
150.
Для меня инстинктивная настойчивость жизни, проявляющаяся в видимости разума — один из самых сокровенных и постоянных предметов созерцания. Нереальная маска сознания нужна лишь для того, чтобы выявить ту несознательность, которая не маскируется.
От рождения до смерти человек остается рабом своей внешней стороны, которая есть у животных. Всю жизнь он не живет, а прозябает на более высоком и более сложном уровне. Он руководствуется нормами, о существовании которых не знает, и не знает, что руководствуется ими, а все его мысли, чувства, действия бессознательны — не потому, что им недостает сознания, а потому, что в них нет двух сознаний.
Догадки о том, что питаешь иллюзию — это и не более того есть у самого великого из людей.
Отвлеченно размышляя, я прослеживаю заурядную историю заурядных жизней. Я вижу, что они во всем — рабы подсознательного темперамента, чужих внешних обстоятельств, импульсов к сосуществованию и к его отсутствию, которые в этом темпераменте, посредством него и с ним сталкиваются, как ничего не значащие детали.
Сколько раз я слышал, как они произносят одну и ту же фразу, символизирующую всю нелепость, всю никчемность, все раскрытое невежество их жизней. Это фраза, которой обозначают любое материальное удовольствие: «именно это мы берем от этой жизни»… Берем где? И куда? И зачем? Было бы грустно стряхнуть с них тень подобным вопросом… Так говорит материалист, потому что всякий человек, так говорящий, является, пусть и подсознательно, материалистом. Что он думает взять от жизни и каким образом? Куда он возьмет свиные ребра, красное вино и случайную девушку? На какое небо, в которое он не верит? В какую землю, в которую он несет лишь гниль, коей подспудно была вся его жизнь? Я не знаю фразы более трагической, фразы, которая полнее раскрывала бы человеческое естество. Так говорили бы растения, если бы могли узнать, что наслаждаются солнцем. Так говорили бы о своих сомнамбулических удовольствиях животные, стоящие ниже по отношению к человеку в выражении самих себя. И, кто знает, не полагаю ли и я, когда пишу эти слова со смутным ощущением, что они могут сохраниться, что память о том, что я их написал, и есть то, что я «беру от этой жизни». И, как бесполезный труп заурядного существа опускается в общую могилу, опускается в общее забвение столь же бесполезный труп моей прозы, написанной в ожидании. Свиные ребра, вино, чужая девушка? Почему я их высмеиваю?
Братья по всеобщему невежеству, различные виды одной и той же крови, разные формы одного и того же наследия — кто из нас сможет отвергнуть другого? Отвергают жену, но не мать, не отца, не брата.
151.
Там, снаружи, под лунным светом медленный ветер в медленной ночи треплет что-то, что, двигаясь, отбрасывает тень. Возможно, это лишь белье, развешенное этажом выше, но сама тень не знает о рубашках и неосязаемо парит в молчаливом согласии со всем.
Я оставил открытыми ставни, чтобы проснуться рано, но до сих пор — а ночь уже так глубока, что ничего не слышно, — не смог ни предаться сну, ни бодрствовать в полной мере. За тенями моей комнаты льется лунный свет, но не проникает в окно. Он существует, как день полого серебра, и крыши соседнего дома, которые я вижу, лежа в кровати, кажутся жидкими от почерневшей белизны. Подобный поздравлениям из вышины тому, кто не слышит, суровый свет луны исполнен грустной умиротворенности.
И не видя, не думая, закрыв глаза над отсутствующим сном, я размышляю о том, какими правдоподобными словами можно описать лунный свет. Древние сказали бы, что лунный свет — белый или что он из серебра. Но ложная белизна лунного света многоцветна. Если подняться с кровати и посмотреть из-за холодных стекол, я точно знаю, что в высоком отстраненном воздухе лунный цвет будет отливать лазурным серо-белым оттенком блеклой желтизны; что над неустойчивой чернотой различных крыш он будет то золотить темной белизной покорные дома, то наводнять бесцветным цветом каштановую красноту высоких черепиц. В глубине улицы, в безмятежной пропасти, где неравномерно округляются голые камни, у него нет цвета, кроме лазури, которая, возможно, отражается от серых камней. В глубине горизонта он будет почти что темно-синим, отличаясь от иссиня-черной глубины неба. В освещаемых им окнах он — черно-желтый.
Отсюда, с кровати, если я открываю глаза, смежаемые сном, который ко мне не приходит, он кажется снежным воздухом, обратившимся в цвет, в котором плывут волокна тусклого перламутра. И, если я чувствую тем, что чувствую, он — тоска, ставшая белой тенью, которая меркнет, как если бы глаза закрывались над этой неразличимой белизной.
152.
Я изумляюсь всякий раз, когда что-нибудь заканчиваю. Изумляюсь и чувствую себя опустошенным. Мой инстинкт совершенства должен был бы мешать мне заканчивать; должен был бы мешать даже начинать. Но я отвлекаюсь и делаю. Для меня то, что я получаю, есть производное не приложения воли, а ее уступки. Я начинаю потому, что у меня нет сил думать; заканчиваю потому, что у меня нет смелости остановиться. Эта книга — проявление моей трусости.
Причина, по которой я столько раз прерываю мысль фрагментом пейзажа, который так или иначе вписывается в реальную или воображаемую схему моих впечатлений, заключается в том, что этот пейзаж представляет собой дверь, через которую я убегаю от осознания моего творческого бессилия. Ведя беседы с собой, которые образуют слова этой книги, я внезапно испытываю необходимость поговорить с другим человеком и обращаюсь к свету, струящемуся, как сейчас, над крышами домов, кажущимися мокрыми от его близости; к мягкому покачиванию высоких деревьев на городском склоне, которые кажутся близкими, прельщая возможностью немой вырубки; к объявлениям, наклеенным поверх других объявлений на обрывистых домах, с окнами вместо букв там, где мертвое солнце золотит влажный клей.
Почему я пишу, если я не пишу лучше? Но что со мной было бы, если бы я не писал то, что мне удается писать, сколь бы я ни был в этом ниже себя самого? Я плебей устремления, потому что пытаюсь что-то осуществить; я не отваживаюсь на молчание, как тот, кому страшно в темной комнате. Я подобен тем, кто ценит медаль больше, чем усилие, и наслаждается славой, почивая на лаврах.
Для меня писать значит презирать себя; но я не могу перестать писать. Писать — это словно наркотик, который мне противен и который я принимаю, порок, который я презираю и в котором живу. Есть необходимые яды, а есть яды тончайшие, состоящие из ингредиентов души вроде трав, собранных в закоулках разрушенных мечтаний, черных маков, найденных у подножья гробниц намерений, длинных листьев непристойных деревьев, что шевелят ветвями на слышимых берегах адских рек души.
Да, писать значит терять себя, но все теряют себя, потому что всё есть потеря. Однако я теряю себя без радости, не как река в устье, для которого она родилась в безвестности, а как озеро, которое образовал на пляже высокий прилив и вода которого никогда не вернется в море.
153.
Я встаю со стула с чудовищным усилием, но у меня такое впечатление, будто я поднимаю стул с собой и будто он тяжелее, потому что это стул субъективизма.
154.
Кто я для себя? Лишь мое ощущение.
Мое сердце невольно опорожняется, как прохудившийся кувшин. Думать? Чувствовать? Как все утомляет, если это нечто определенное!
155.
Подобно тем, кто работает от тоски, я иногда пишу оттого, что сказать мне нечего. В фантазиях, в которых обычно теряется тот, кто не думает, я теряюсь, когда пишу, потому что умею мечтать в прозе. И из того, что я не чувствую, я получаю много искреннего чувства, много неподдельных переживаний.
Бывают мгновения, когда пустота от ощущения, что живешь, достигает плотности чего-то положительного. В великих людях действия, коими являются святые, поскольку они действуют со всей эмоцией, а не с одной лишь ее частью, ощущение, что жизнь — ничто, ведет к бесконечности. Они украшают себя ночью и звездами, умащиваются тишиной и одиночеством. В великих людях бездействия, к числу которых я скромно принадлежу, то же чувство ведет к бесконечной малости; ощущения растягиваются, словно резина, показывая поры своей ложной слабой непрерывности.
И те, и другие в такие мгновения любят сон, как заурядный человек, который не действует и не бездействует, будучи простым отражением существования человеческого рода. Сон — это слияние с Богом, Нирвана, какие бы определения ей ни давались; сон — это медленный анализ ощущений, вне зависимости от того, используется ли этот анализ как атомная наука души или покоится, как музыка воли, как медленная анаграмма однообразия.
Я пишу, останавливаясь перед словами, как перед витринами, через которые я не вижу, и у меня остаются получувства, квазивыражения, словно цвета тканей, которые я не видел, показная гармония, составленная невесть из каких предметов. Я пишу, убаюкивая себя, как безумная мать убаюкивает мертвого ребенка.
Я оказался в этом мире в определенный день, не знаю в какой, и с тех пор, как я очевидно родился, я жил не чувствуя. Когда я спрашивал, где нахожусь, меня все обманывали и противоречили друг другу. Когда я просил, чтобы мне сказали, что я буду делать, мне все лгали и каждый говорил что-то свое. Когда я остановился на дороге, не зная, куда идти, все удивились тому, что я не иду туда, куда никто не знал, и не возвращаюсь назад — я, который, бодрствуя на перекрестке, не знал, откуда пришел. Я увидел, что нахожусь на сцене, но не знаю роли, которую произносили другие, тоже ее не зная. Я увидел, что одет, как паж, и мне не дали королеву, обвиняя меня в том, что у меня ее нет. Я увидел у себя в руках послание, которое нужно было передать, и, когда я им сказал, что это белый лист бумаги, они рассмеялись. И я все еще не знаю, рассмеялись ли они оттого, что все листы белые или что все послания следует угадывать.
Наконец я сел на камень на перекрестке, словно у очага, которого мне не хватало. И начал в одиночестве делать бумажные кораблики из той лжи, что мне подали. Никто не хотел мне верить, даже как лгуну, и у меня не было озера, чтобы доказать свою правоту.
Праздные, потерянные слова, разрозненные метафоры, которые смутная тревога приковывает к теням… Остатки лучших часов, прожитых не знаю в каких аллеях… Потушенная лампа, чье золото блестит в темноте благодаря памяти о погасшем свете… Слова, отданные не ветру, а земле, выпущенные из разжавшихся пальцев, словно сухие листья, которые упали на них с незримо бесконечного дерева… Ностальгия по прудам чужих садов… Нежность того, что никогда не произошло…
Жить! Жить! И хотя бы предположение, что, быть может, на ложе Прозерпины мне было бы удобно спать.
156.
Какая властная королева хранит на берегах своих озер память о моей разбитой жизни? Я был пажом недостаточных аллей в часы-птицы моего голубого покоя. Корабли вдали дополнили плещущееся море моих террас, а в южных облаках я потерял душу, словно упавшее весло.
157.
Создать внутри себя государство с политикой, партиями и революциями и быть этим всем, быть Богом в настоящем пантеизме этого народа-меня, сутью и действием его тел, его душ, земли, по которой он ступает, и деяний, которые он совершает. Быть всем, быть ими и не ими. Увы! Это еще одна из тех грез, которые мне не удается осуществить. Если бы я ее осуществил, я бы, возможно, умер, не знаю от чего, но нельзя иметь возможность жить после этого — настолько велико святотатство, совершенное против Бога, настолько велико присвоение божественной власти быть всем.
Какое удовольствие я получил бы от создания иезуитства ощущений!
Некоторые метафоры реальнее, чем люди, проходящие по улице. Некоторые образы в потаенных складках книг живут отчетливее многих мужчин и многих женщин. Некоторые литературные фразы обладают совершенно человеческой индивидуальностью. Некоторые абзацы заставляют меня трепетать от страха, настолько отчетливо я воспринимаю их как людей, насколько хорошо они выкроены на стенах моей комнаты, ночью, в тени ‹…› Я написал фразы, звучание которых при чтении вслух или про себя — а звучание их скрыть невозможно — полностью тождественно звучанию чего-то, что обрело полную наружность и целостную душу.
Зачем я иногда излагаю противоречивые и непримиримые процессы мечтания и обучения мечтанию? Потому что я, вероятно, настолько привык принимать ложное за подлинное, мечту за нечто отчетливо увиденное, что утратил человеческое различение, ложное, на мой взгляд, между правдой и ложью.
Мне достаточно отчетливо увидеть зрением или слухом или любым другим органом чувств, чтобы почувствовать, что это реально. Бывает так, что я чувствую две не сопрягаемые друг с другом вещи одновременно. Неважно.
Есть создания, способные страдать в течение долгих часов оттого, что они не могут быть персонажем картины или мастью в колоде карт. Есть души, которых тяготит, словно проклятие, то, что сегодня они не могут быть людьми Средневековья. Раньше такое страдание испытывал и я. Сегодня со мной такого не случается. Я выше этого. Но мне бывает больно, например, оттого, что я не могу грезить о двух королях в различных королевствах, принадлежащих, например, к вселенным с разными видами пространства и времени. Это неумение меня по-настоящему угнетает. Оно напоминает мне голодание.
Уметь мечтать о непостижимом, представляя его — это один из тех великих триумфов, которых даже я, столь великий, достигаю лишь изредка. Да, мечтать о том, что я, например, одновременно, обособленно, явственно являюсь мужчиной и женщиной, прогуливающимися по берегу реки. Видеть себя одновременно, одинаково отчетливо, в равной степени, видеть, что я являюсь тем и другим, не смешиваясь и одинаково вживаясь в обе ипостаси, сознательным судном в южном море и отпечатанной страницей в старинной книге. Это кажется такой нелепостью! Но нелепо все, а мечта нелепа в меньшей степени, чем прочее.
158.
Разве может быть чем-то, кроме мечты, любовь любой женщины на свете для того, кто, пусть и в мечтах, словно Дий, похитил Прозерпину?
Я любил, как Шелли, Антигону до того, как наступило время: вся временная любовь не была для меня ничем, кроме воспоминания о том, что я потерял.
159.
Дважды во времена моего отрочества, которое я ощущаю далеким и которое из-за этого ощущения кажется мне чем-то прочитанным, сокровенным рассказом, написанным обо мне, дважды я насладился болью унижения от любви. С высоты сегодняшнего дня, оглядываясь назад, на это прошлое, которое я уже не могу обозначить ни как далекое, ни как недавнее, я полагаю, что хорошо, что этот опыт разочарования случился со мной так рано.
Все было пустяком, исключая то, что я пережил в себе. На внешней стороне сокровенного дела легионы людей прошли через те же мучения. Но ‹…›
Слишком рано, благодаря одновременному и совокупному опыту чувствительности и разума, я обрел понимание того, что жизнь воображения, какой бы вялой она ни казалась, больше всего подходит такому темпераменту, как мой. Вымыслы моего (последующего) воображения могут утомлять, но они не причиняют боли и не унижают. Для невозможных возлюбленных невозможны фальшивая улыбка, обманчивость нежности, хитрость ласк. Они никогда нас не бросают и никак нас не предают.
Великие тревоги нашей души — это всегда космические катаклизмы. Когда они овладевают нами, вокруг нас сбивается с пути солнце и сходят с орбит звезды. Для всякой чувствующей души наступает день, когда Судьба представляет в ней апокалипсис тревоги — на ее безутешность обрушиваются все небеса и все миры.
Чувствовать себя высшим существом и видеть, как Судьба обращается с тобой, как с самым ничтожным из ничтожных — кто может похвастать тем, что остается человеком в таком положении?
Если бы однажды я смог обрести такую великую способность выражения, которая сосредоточила бы во мне все искусство, я написал бы апофеоз сна. Во всей моей жизни я не знаю большего удовольствия, чем возможность спать. Совокупное угасание жизни и души, полное отстранение от того, что есть существа и люди, ночь без памяти и без иллюзий, отсутствие прошлого и будущего ‹…›
160.
Весь день, во всей его опустошенности легких и теплых облаков, был заполнен новостями о начавшейся революции. Эти известия, ложные или подлинные, всегда наполняют меня особым унынием, смесью презрения и физической тошноты. Моему разуму причиняет боль то, что кто-то считает, будто меняет что-то, суетясь. Насилие, каким бы оно ни было, всегда было для меня очумелой формой человеческой глупости. К тому же все революционеры — дураки, как и, в меньшей степени, потому что это не так неудобно, все реформаторы.
Революционер или реформатор — заблуждение одинаково. Будучи бессилен властвовать и преобразовывать собственное отношение к жизни, которая есть всё, или свое собственное бытие, которое есть почти всё, человек бежит от этого, стремясь изменить других и внешний мир. Всякий революционер, всякий реформатор — беглец.
Сражаться значит не быть способным сражаться с собой. Реформирование означает отсутствие возможных исправлений.
Когда человек, обладающий справедливой чувствительностью и честным разумом, испытывает озабоченность злом и несправедливостью мира, он естественным образом стремится исправить их, сначала в том, что проявляется ближе всего к нему; и он обнаружит их в своем собственном существе. Это занятие займет у него всю жизнь.
Все для нас заключается в нашем понимании мира; изменить наше понимание мира значит изменить мир для нас, то есть изменить мир, ведь для нас он всегда будет лишь тем, что он есть для нас.
Та внутренняя справедливость, благодаря которой мы пишем гладкую и красивую страницу, то подлинное преобразование, благодаря которому мы возвращаем к жизни мертвую чувствительность — эти явления суть истина, наша истина, единственная истина. То, чего в мире больше всего, — это пейзаж, формы, обрамляющие наши ощущения, рамки того, о чем мы мыслим. А к ним относится любой цветной пейзаж предметов и существ — полей, домов, плакатов и костюмов — и любой бесцветный пейзаж однообразных душ, что на мгновение всплывает на поверхность со старыми словами и изношенными жестами и вновь погружается в пучину фундаментальной глупости человеческого выражения.
Революция? Перемены? На самом деле, я всей своей душой хочу, чтобы исчезли безударные облака, которые намыливают своей серостью небо; я хочу видеть, как сквозь них начинает пробиваться лазурь, ясная и четкая истина, потому что она есть ничто и ничего не хочет.
161.
Ничто не тяготит и не раздражает меня так, как слова, выражающие общественную мораль. Само слово «долг» мне неприятно, словно назойливый чужак. Но термины «гражданский долг», «солидарность», «гуманность» и прочие того же рода вызывают у меня отвращение, как помои, которые на меня вылили из окон. Я чувствую себя оскорбленным, если кто-либо делает предположение о том, что эти выражения имеют ко мне какое-то отношение, что я нахожу в них даже не ценность, а вообще какой-либо смысл.
Недавно на витрине магазина игрушек я увидел вещи, которые точно мне напомнили о том, чем являются эти выражения. На ненастоящих тарелках я увидел ненастоящие яства для кукольных столов. Человеку существующему, чувственному, эгоистичному, суетному, дружащему с другими потому, что у него есть дар речи, враждующему с другими потому, что у него есть дар жизни, что нужно этому человеку предложить такого, чтобы он играл с куклами, произнося слова, лишенные звука и интонации?
Правительство зиждется на двух столпах: подавлении и обмане. Беда этих мишурных понятий в том, что они не подавляют и не обманывают. В лучшем случае они опьяняют, а это другое дело.
Если я что-то и ненавижу, так это реформаторов. Реформатор — это человек, который видит поверхностные беды мира и предлагает излечить их, усугубляя беды глубинные. Врач пытается приспособить больное тело к телу здоровому; но мы не знаем, что считать здоровым, а что больным в общественной жизни.
Я могу рассматривать человечество лишь как одну из последних школ декоративной живописи Природы. По сути, я не отличаю человека от дерева; и я, разумеется, предпочитаю то, что больше украшает, что интереснее моим думающим глазам. Если дерево мне интереснее, то я печалюсь больше оттого, что срубают дерево, чем оттого, что умирает человек. Бывают такие уходящие закаты, которые причиняют мне больше боли, чем смерть детей. Я во всем являюсь тем, кто не чувствует для того, чтобы чувствовать.
Я почти виню себя в том, что записываю эти мои размышления в этот час, когда от границ вечера поднимается, окрашиваясь, легкий ветер. Не окрашиваясь, ведь это не ветер окрашивается, а воздух, в котором он неясно плывет; но поскольку мне кажется, что именно ветер окрашивается, я говорю именно это, потому что я вынужден говорить то, что мне кажется, раз уже это я.
162.
Все неприятное, что с нами происходит в жизни — глупые ситуации, в которых мы оказываемся, неверные движения, которые мы совершаем, оплошности, которые мы допускаем из-за какой-либо добродетели, — следует считать простыми внешними случайностями, не способными достичь сущности души. Так будем же воспринимать как зубную боль или мозоли жизни то, что нам мешает, но является внешним, пусть и нашим, или что только должно предполагать наше органическое существование или заботиться о том, что в нас есть жизненного.
Когда мы перенимаем такое поведение, которое, в другом виде, присуще мистикам, мы обретаем защиту не только от мира, но и от себя самих, поскольку мы одерживаем верх над тем, что в нас есть внешнего, другого, противоположного нам и что является, тем самым, нашим врагом.
Гораций, говоря о праведном муже, утверждал, что тот будет хранить бесстрашие, даже если мир вокруг него рухнет. Этот образ нелеп, но суть его справедлива. Даже если вокруг нас рухнет то, чем мы притворяемся, потому что мы с этим сосуществуем, мы должны хранить бесстрашие — не потому, что мы праведны, а потому, что мы — это мы, а наше бытие не имеет никакого отношения к внешним вещам, что обрушиваются, даже если они обрушиваются на то, чем мы для них являемся.
Для лучших жизнь должна быть мечтой, которая отвергает сопоставления.
163.
Непосредственный опыт — это ухищрение или тайник тех, кто лишен воображения. Читая об опасностях, которым подвергался охотник за тиграми, я испытываю все опасности, которым стоило подвергаться, кроме опасности самой опасности, которую не стоило испытывать, поскольку она прошла.
Люди действия — невольные рабы людей мыслящих. Ценны не сами вещи, а их толкование. Ведь одни создают нечто для того, чтобы другие, меняя смысл этого, делали это живым. Повествовать значит создавать, потому что жить значит лишь быть проживаемым.
164.
Бездействие утешает во всем. Неделание дает нам все. Воображение — это все, пока оно не стремится действовать. Царем мира можно быть только в грезах. А каждый из нас, если он действительно себя знает, хочет быть царем мира.
У нас есть то, от чего мы отрекаемся, потому что, мечтая, мы сохраняем это нетронутым, навсегда под светом солнца, которого нет, или луны, которой не может быть.
165.
Все то, что не является моей душой, для меня, хотя я этого не хочу, представляет собой не более чем сценарий и декорации. Любой человек, даже если я могу разумом признать, что он, как и я, живое существо, всегда обладал для того, что во мне невольно действительно является мной, меньшим значением, чем какое-либо дерево, если это дерево красивее.
Поэтому я всегда воспринимал человеческие волнения — большие коллективные трагедии истории или того, что из нее делают — как цветистые украшения, лишенные души тех, кто в них вовлечен. Меня никогда не угнетали трагические события, происходящие в Китае. Это далекие декорации, пусть даже изображающие кровь и чуму.
Я вспоминаю с некоторой иронической грустью демонстрацию рабочих, не знаю, насколько искреннюю (мне всегда трудно признать искренность в коллективных событиях, поскольку чувствовать может только индивид наедине с собой). Это была небольшая разнузданная группа воодушевленных глупцов, которые шли и кричали разные вещи перед моим равнодушием постороннего человека. Внезапно меня охватила тошнота. Они даже не были достаточно грязными. Те, кто страдает по-настоящему, не образуют плебс, не образуют группы. Тот, кто страдает, страдает в одиночестве.
Какая дурная компания! Какое отсутствие человечности и боли! Они были реальны, а потому невероятны. Никто бы не написал о них роман и не сочинил описательный сценарий. Они текли, словно отходы по реке, по реке жизни. От созерцания их меня охватил сон, тошнотворный и величественный.
166.
Если я внимательно рассматриваю жизнь, которую ведут люди, я в ней не нахожу ничего такого, что отличало бы ее от жизни, коей живут животные. Те и другие бессознательно привязаны к вещам и миру; те и другие время от времени развлекаются; те и другие каждый день проходят один и тот же органический путь; те и другие не думают за рамками того, о чем они думают, и не живут за рамками того, чем они живут. Кот сворачивается клубком под солнцем и засыпает. Человек сворачивается клубком под жизнью со всеми ее сложностями и засыпает. Ни тот, ни другой не освобождаются от рокового закона бытия, какой он есть. Никто не пытается избавиться от тяжести бытия. Величайшие из людей любят славу, но не как собственное бессмертие, а как бессмертие абстрактное, в котором они, возможно, не принимают участия.
Эти размышления, которым я часто предаюсь, вызывают во мне внезапное восхищение той разновидностью личностей, которые мне инстинктивно противны. Я имею в виду мистиков и аскетов — отшельников во всех Тибетах, Симеонов Столпников со всеми их столпами. Они действительно пытаются, пусть и нелепо, освободиться от животного закона. Они действительно пытаются, пусть и безумно, отрицать закон жизни, сворачивание клубком под солнцем и ожидание смерти без мыслей о ней. Они ищут, пусть и замерев на вершине столпа; они жаждут, пусть и в беспросветной келье; они хотят того, чего не знают, пусть и в предписанном мученичестве и в навязанной горечи.
Мы же все, что живем как более или менее сложные животные, проходим по сцене, как персонажи, которые не говорят и довольствуются суетной торжественностью прохождения. Собаки и люди, кошки и герои, блохи и гении, мы играем в существование, не думая о нем (а лучшие думают только о том, чтобы думать) под великим покоем звезд. Другие — мистики невзгод и самопожертвований — хотя бы чувствуют телесно и ежедневно волшебное присутствие тайны. Они свободны, потому что отрицают зримое солнце; они полны, потому что выпустили из себя пустоту мира.
Я почти мистик, как и они, когда говорю о них, но я не смог бы быть чем-то большим, чем эти слова, написанные под влиянием моей случайной склонности. Я всегда буду с улицы Золотильщиков, как и все человечество. Я всегда, в стихах и в прозе, буду конторским служащим. Я всегда буду, в мистике или не-мистике, ограниченным и подчиненным, рабом своих ощущений и времени, когда я могу их испытывать. Я всегда буду, под широким голубым плащом немого неба, пажом, участвующим в непонятом обряде, облаченным в жизнь, чтобы совершать его, и делающим, не зная почему, жесты и шаги, принимающим позы и манеры до тех пор, пока не кончится праздник или моя роль в нем и я не смогу отправиться поглощать праздничную еду в больших шатрах, что, как говорят, расположены внизу, в глубине сада.
167.
Сегодня такой день, когда меня тяготит, словно вход в тюрьму, однообразие всего. Однако однообразие всего — это лишь однообразие меня. Каждое лицо, пусть даже то, что мы видели вчера, сегодня другое, потому что сегодня — не вчера. Каждый день — это день, который есть, и другого подобного ему в мире не было. Лишь в нашей душе есть тождественность — тождественность с самой собой, пусть и ложно ощущаемая — вследствие которой все уподобляется друг другу и упрощается. Мир — это отдельные вещи и различные грани; но если мы близоруки, то мир подобен недостаточному и однообразному туману.
Я хочу убежать. Убежать от того, что знаю, убежать от того, что мне принадлежит, убежать от того, что я люблю. Я хочу уехать — не в недосягаемые Индии и не на большие южные острова всего, а куда угодно — в деревню или в пустынь — в место, которое не является этим местом. Я хочу не видеть больше эти лица, эти привычки и эти дни. Я хочу отдохнуть, отстранившись от моего органического притворства. Я хочу почувствовать, что сон приходит как жизнь, а не как отдых. Хижина на берегу моря, даже пещера на неровном горном склоне могут мне это подарить. К сожалению, лишь моя воля не может мне этого подарить.
Рабство — закон жизни, и другого закона нет, потому что этот закон должен исполняться, исключая возможность устроить бунт или найти прибежище. Одни рождаются рабами, другие ими становятся, третьим рабство навязывается. Трусливая любовь, которую мы все испытываем к свободе — если бы мы ее обрели, мы ее бы чурались как чего-то нового и отвергали, — это настоящий показатель веса нашего рабства. Сам я, только что сказавший, что хотел бы иметь хижину или пещеру, где я был бы свободен от однообразия всего, которое есть однообразие меня, решился ли бы я отправиться к этой хижине или пещере, зная по опыту, что, поскольку однообразие проистекает от меня, мне придется испытывать его всегда? Сам я, задыхающийся там, где я нахожусь, и потому что я там нахожусь, где бы я дышал лучше, если недуг гнездится в моих легких, а не в том, что меня окружает? Самому мне, страстно стремящемуся к чистому солнцу и к свободным полям, к зримому морю и к целому горизонту, кто мне скажет, что я не стал бы тосковать по кровати или по еде или оттого, что больше не нужно преодолевать восемь лестничных пролетов, чтобы выйти на улицу, или оттого, что я больше не буду заходить в табачную лавку на углу или обмениваться приветствиями с праздным парикмахером?
Все то, что нас окружает, становится частью нас, просачивается в наше ощущение плоти и жизни и, как слюна большого Паука, незримо привязывает нас к тому, что близко, приковывая нас к легкому одру медленной смерти, в котором мы покачиваемся от ветра. Всё есть мы, и мы — это всё; но к чему всё это, если всё есть ничто? Луч солнца, туча, прохождение которой выдает бегущая тень, поднимающийся ветер, тишина, наступающая, когда утихает ветер, то или иное лицо, какие-то голоса, случайный смех разговаривающих, а потом ночь, когда бессмысленно всплывают изломанные иероглифы звезд.
168.
И я, робко ненавидящий жизнь, очарованно страшусь смерти. Я боюсь этого небытия, которое может быть чем-то другим, и боюсь его одновременно как небытия и как чего-либо другого, как если бы в нем могли соединиться ничтожное и ужасное, как если бы в гробу заперли мое вечное, осязаемое дыхание души, как если бы там, взаперти, перемололи бессмертное. Мысль об аде, которую могла придумать лишь сатанинская душа, на мой взгляд, проистекает из путаницы такого рода — быть смесью двух разных страхов, которые противоречат и заражают друг друга.
169.
Я перечитываю на свежую голову, неспешно, фрагмент за фрагментом, все то, что написал. И считаю, что все это ничтожно и уж лучше бы я ничего этого не писал. Достигнутые вещи, будь то империи или фразы, обладают, уже потому, что их достигли, той худшей стороной настоящих вещей, которая заключается в том, что мы знаем об их бренности. Однако в эти медленные мгновения, когда я перечитываю написанное, не это я чувствую и не это меня гнетет. Меня гнетет то, что не стоило этого делать и что потраченное на это время я выиграл лишь в виде ныне рассеявшейся иллюзии о том, что это стоило делать.
Все то, что мы ищем, мы ищем из-за какого-то устремления, но мы либо не добиваемся его, и тогда мы бедны, либо считаем, что добились, и тогда мы богатые безумцы.
Меня гнетет то, что лучшее — плохо и что другой, о котором я мечтаю, если бы он существовал, сделал бы это лучше. Все то, что мы делаем в искусстве или в жизни, представляет собой несовершенную копию того, что мы собираемся сделать. Оно не соответствует не только внешнему совершенству, но и совершенству внутреннему; оно не соблюдает не только правила того, чем оно должно было бы быть, но и правила того, чем, как мы думали, оно могло бы быть. Мы пусты не только внутри, но и снаружи, нам отказано и в предвосхищении, и в обещании.
С какой силой одинокой души я писал одну заточённую страницу за другой, проживая слог за слогом ложное волшебство не того, что я писал, а того, что я предполагал, что пишу! С каким очарованием иронического колдовства я считал себя поэтом своей прозы в то окрыляющее мгновение, когда она во мне рождалась, опережая движения пера, как обманчивая месть за оскорбления жизни! И, в конце концов, сегодня, перечитывая ее, я вижу, как лопаются мои куклы, как из их дыр вылезает солома, как они опорожняются, не успев посуществовать…
170.
После того как последние дожди ушли на юг и остался лишь ветер, который их смел, в городские скопища вернулась радость ясного солнца и появилось много развешенного белого белья, прыгающего на веревках, растянутых между перегородками высоких окон разноцветных домов.
Я тоже обрадовался, потому что я существую. Я вышел из дома ради великой цели, которая, в конечном счете, заключалась в том, чтобы прийти в контору вовремя. Но в этот день само принуждение жизни участвовало в другом положительном принуждении, что заставляет солнце появляться в календарные часы, в соответствии с широтой и долготой различных мест на земле. Я почувствовал себя счастливым оттого, что не мог чувствовать себя несчастным. Я прошел по улице расслабленно и очень уверенно, потому что, в конце концов, знакомая контора, знакомые люди были мне понятны. Неудивительно, что я чувствовал себя свободным, сам не зная отчего. В корзинах, выставленных на краю тротуаров Серебряной улицы, освещенные солнцем бананы на продажу были ярко-желтыми.
В конце концов, я довольствуюсь самой малостью: прекратился дождь, вышло красивое солнце на этом счастливом Юге, бананы кажутся желтее из-за черных пятен, разговаривают люди, которые их продают; довольствуюсь тротуарами Серебряной улицы, зеленоватой, с золотым оттенком, лазурью Тежу в глубине, всем этим домашним уголком системы Вселенной.
Настанет день, когда я этого больше не увижу, когда меня переживут бананы на краю тротуара и голоса хитрых продавщиц и ежедневные газеты, которые мальчик разложил одну рядом с другой на углу противоположного тротуара. Я отлично знаю, что бананы будут другими, и продавщицы будут другими, и те, кто наклонится посмотреть на газеты, увидят другую, несегодняшнюю дату. Но они не живут и потому остаются, хотя они и другие; я живу и потому прохожу, хотя я тот же самый.
Я мог бы отметить этот день покупкой бананов, так как мне кажется, что на них светит все солнце этого дня, как проектор без механизма.
Но я стыжусь ритуалов, символов, стыжусь покупать что-то на улице. Мне могли бы их плохо завернуть, не продать так, как следует, потому что я не умею их покупать так, как следует. Мог бы показаться странным мой голос, если бы я спросил, сколько они стоят. Лучше писать, чем осмеливаться жить, пусть даже жить означает всего лишь покупать бананы под солнцем, пока солнце светит и продаются бананы.
Может быть, позже… Да, позже… Может быть, кто-то другой… Не знаю…
171.
Одно лишь изумляет меня больше, чем глупость, с которой большинство людей проживает свою жизнь: это разумность, которая есть в этой глупости.
Однообразие заурядных жизней кажется устрашающим. Я обедаю в этом заурядном ресторане и смотрю на фигуру повара за стойкой и здесь, рядом со мной, на уже старого официанта, который меня обслуживает и который, по-моему, работает здесь уже лет тридцать. Как живут эти люди? Уже сорок лет эта фигура мужчины проживает почти целый день на кухне; у него бывает короткий отпуск; он спит относительно немного; иногда ездит в свою деревню, откуда возвращается без колебаний и без сожалений; медленно складывает медленные деньги, которые не собирается тратить; он захворал бы, если бы ему пришлось уехать со своей кухни (окончательно) в поля, которые он купил в Галисии; он живет в Лиссабоне сорок лет и никогда не был ни на Ротонде[26], ни в театре, а в Колизее[27] он побывал только однажды — паяцы во внутренних руинах его жизни. Он женился неизвестно как и зачем, у него четверо сыновей и одна дочь, и его улыбка, появляющаяся, когда он высовывается из-за стойки в моем направлении, выражает большое, торжественное, удовлетворенное счастье. И он не притворяется, у него нет на то причин. Если он чувствует себя счастливым, то это потому, что он действительно счастлив.
А обслуживающий меня старый официант, который только что поставил передо мной, наверно, свой миллионный кофе с тех пор, как он обслуживает столики в кафе? У него жизнь такая же, как и у повара, с разницей в четыре-пять метров, отделяющие местонахождение одного на кухне от местонахождения другого в зале заведения. В остальном у него всего два сына, он чаще ездит в Галисию, в Лиссабоне он видел больше, чем другой, и знает Порту, где провел четыре года, и так же счастлив.
Я вновь вижу с изумлением и испугом панораму этих жизней и обнаруживаю, когда меня охватывает ужас, жалость и возмущение ими, что ужаса, жалости и возмущения не испытывают как раз те, у кого есть на это право, те самые люди, которые проживают эти жизни. Это главное заблуждение литературного воображения: предполагать, что другие — это мы и что они должны чувствовать так же, как мы. Но, к счастью для человечества, каждый человек всего лишь такой, какой есть, и только гениям дано быть еще и кем-то другим.
Все, в конечном счете, дается в зависимости оттого, кому это дается. Мелкое уличное происшествие, которое стучит в дверь повара этого заведения, развлекает его больше, чем развлекает меня созерцание самой оригинальной мысли, чтение самой лучшей книги, самое приятное из бесполезных мечтаний. И, если жизнь, по сути своей, однообразна, факт заключается в том, что он больше, чем я, избежал однообразия. И ускользать от однообразия ему легче, чем мне. Истиной не обладает ни он, ни я, потому что ею не обладает никто; но счастье у него действительно есть.
Мудр тот, кто делает существование однообразным, ведь тогда всякое мелкое происшествие обретает облик чуда. У охотника за львами приключения заканчиваются после третьего льва. Для моего однообразного повара в ужине, заканчивающемся потасовкой на улице, всегда есть что-то сродни скромному апокалипсису. Тот, кто никогда не покидал Лиссабона, путешествует в бесконечность, садясь в трамвай до Бенфики, а если однажды он отправляется в Синтру, он чувствует, что слетал на Марс. Путешественник, объездивший всю землю, после пяти тысяч миль не встретит никакой новизны, потому что он постоянно встречает исключительно что-то новое; опять новизна, старость вечно нового, но абстрактное понятие новизны осталось в море вместе со второй новинкой.
Человек может, если обладает настоящей мудростью, наслаждаться всем спектаклем мира, сидя на стуле, не умея читать, не разговаривая ни с кем, умудряясь не грустить благодаря одним лишь чувствам и душе.
Сделать существование однообразным, чтобы оно не было однообразным. Превратить повседневность в нечто бесцветное, чтобы любая мелочь становилась развлечением. Посреди моей каждодневной работы, тусклой, одинаковой и бесполезной, передо мной возникают образы бегства, воображаемых руин далеких островов, праздников в аллеях парков других эпох, других пейзажей, других чувств, другого меня. Но между двумя записями я признаю, что, будь у меня все это, ничто из этого не было бы моим. Шеф Вашкеш и правда лучше Королей Мечты; контора на улице Золотильщиков и правда лучше больших аллей недосягаемых парков. Благодаря шефу Вашкешу я могу наслаждаться мечтой о Королях Мечты; благодаря конторе на улице Золотильщиков я могу наслаждаться внутренним созерцанием несуществующих пейзажей. Но если бы у меня были Короли Мечты, о чем бы мне оставалось мечтать? Если бы у меня были недосягаемые пейзажи, что недосягаемого у меня осталось бы?
Однообразие, блеклая одинаковость дней, отсутствие разницы между сегодняшним днем и вчерашним — пусть у меня это останется навсегда, вместе с душой, готовой радоваться мухе, что меня отвлекает, пролетая перед моими глазами, искреннему хохоту, что доносится непонятно с какой улицы, глубокому освобождению в час, когда закрывается контора, бесконечному отдыху выходного дня.
Я могу вообразить все, потому что я — ничто. Если бы я был чем-то, я не мог бы воображать. Помощник бухгалтера может воображать себя в мечтах римским императором; английский король этого не может, потому что английский король лишен возможности быть в своих мечтах другим королем, кроме того, коим он уже является. Его реальность не позволяет ему чувствовать.
172.
Склон ведет к мельнице, а усилие не ведет ни к чему.
Был вечер ранней осенью, когда небо источает мертвое холодное тепло, а тучи душат свет под покрывалом медленности.
Судьба дала мне лишь две вещи: бухгалтерские книги и дар мечтать.
173.
Мечта — худший кокаин, потому что самый естественный. Так она проникает в привычки с легкостью, которая наркотикам не свойственна, ее пробуют невольно, как поднесенный яд. Она не причиняет боли, не заставляет бледнеть, не подавляет — но душа, предающаяся ей, становится неизлечимой, потому что никак не может отделиться от своего яда, коим является она сама.
Как спектакль в тумане ‹…›
Я научился в мечтах увенчивать образами фасады ‹…› повседневности, говорить обыкновенное с удивлением, простое — со смыслом, золотить при помощи искусственного солнца мертвые углы и предметы мебели и придавать, как будто чтобы убаюкать себя, музыкальность текучим фразам моей одержимости, когда я их пишу.
174.
После бессонной ночи мы всем неприятны. Ушедший сон забрал с собой что-то, что делало нас людьми. В самом неорганическом воздухе, окружающем нас, словно есть скрытое раздражение по отношению к нам. В конце концов, мы сами себя лишаем опоры, и в нас самих получает раны дипломатия глухого сражения.
Сегодня я волок по улице ноги и сильную усталость. Моя душа сжалась до размеров привязанного мотка, и то, чем я являюсь и чем я был, забыло свое имя. Если у меня есть завтра, я знаю лишь, что я не спал, и смешение различных промежутков накладывает великое молчание на мою внутреннюю речь.
О большие парки других, сады, привычные для стольких, чудесные аллеи тех, кто никогда меня не узнает! Я цепенею между бодрствованиями, как тот, кто никогда не осмеливается быть поверхностным, и то, о чем я размышляю, вдруг пробуждается ото сна.
Я — дом-вдовец, замкнутый в самом себе, населенный робкими, таящимися привидениями. Я всегда нахожусь в соседней комнате или они находятся в ней, и вокруг меня слышится сильный шелест деревьев. Я блуждаю и встречаю их; встречаю, потому что блуждаю. Мои детские дни, на вас тоже надет передник!
И посреди всего этого я иду по улице, заспанный оттого, что скитался, подобно листку. Любой медленный ветер сметал меня с земли, и я бреду, как конец сумерек, среди событий пейзажа. Веки давят на ноги, которые я волоку. Я хотел бы поспать, потому что я иду. Мой рот закрыт, словно для того, чтобы губы склеились. Я пускаю ко дну мое блуждание.
Да, я не спал, но чувствую себя увереннее именно так, когда я не спал и не сплю. Я действительно нахожусь в этой случайной и символической вечности состояния полудуши, в котором я обманываю сам себя. То один, то другой смотрит на меня так, будто знает меня, но не узнает. Я чувствую, что и я смотрю орбитами глаз, ощущая, как они касаются век, и не хочу знать, что мир существует.
Я хочу спать, очень хочу спать, безумно хочу спать!
175.
Когда родилось поколение, к коему я принадлежу, оно обнаружило мир, не дававший поддержки тем, у кого есть мозг и, в то же время, сердце. Вследствие разрушительной работы предшествовавших поколений мир, в котором мы родились, не мог нам дать безопасности в религиозном отношении, поддержки в нравственном отношении, спокойствия в политическом отношении. Мы родились в полной метафизической тревоге, в полной нравственной тревоге, в полном политическом непокое. Опьяненные внешними формулами, простыми приемами разума и науки, предшествовавшие нам поколения ниспровергли все основы христианской веры, потому что их критика Библии, поднявшись от критики текстов к критике мифов, свела Евангелия и предыдущие религиозные тексты иудеев к непонятному нагромождению мифов, легенд и обыкновенной литературы; а их научная критика постепенно выявила ошибки, дикую простоту примитивной «науки» Евангелий; в то же время, свобода дискуссий, которая поместила в поле общественного обсуждения все метафизические проблемы, захватила вместе с ними и религиозные проблемы там, где они были. Опьяненные неясным понятием, которое они назвали «позитивностью», эти поколения раскритиковали всякую мораль, изучили под лупой все правила жизни, и от этого столкновения учений осталась лишь уверенность в том, что ни одно из них ненадежно, и боль оттого, что этой определенности нет. Такое общество, не дисциплинированное в своих культурных основах, разумеется, не могло не стать жертвой этой недисциплинированности и в политике; именно поэтому мы пробудились в мире, жадном до социальных новшеств, в мире, который с радостью отправлялся завоевывать свободу, не зная, что это такое, и прогресс, так и не определив его.
Но грубый критицизм наших отцов, завещав нам невозможность быть христианином, не завещал удовлетворения тем, что у нас есть эта невозможность; завещав нам неверие в предустановленные нравственные формулы, не завещал безразличия к морали и к правилам человечной жизни; не прояснив политической проблемы, не оставил наш дух безучастным к тому, как эту проблему следует решать. Наши отцы радостно разрушали, потому что жили в эпоху, когда еще оставались отблески былой прочности. То, что они разрушали, придавало силы обществу для того, чтобы они могли разрушать, не чувствуя, как здание покрывается трещинами. Мы унаследовали разрушение и его результаты.
В сегодняшней жизни мир принадлежит лишь глупым, бесчувственным и суетливым людям. Право жить и торжествовать сегодня завоевывается при помощи почти тех же приемов, посредством которых завоевывается место в сумасшедшем доме: благодаря неспособности думать, безнравственности и сверхвозбуждению.
176.
Убежище разума
На полпути между верой и критикой находится убежище разума. Разум — это вера в то, что можно понять без веры; но все же это вера, потому что понимание подразумевает предположение о том, что есть нечто, что можно понять.
177.
Метафизические теории, которые могут нам подарить сиюминутную иллюзию того, что мы объясняли необъяснимое; нравственные теории, которые могут обольстить нас на час убеждением в том, что мы наконец узнали, которая из всех закрытых дверей ведет к добродетели; политические теории, которые убеждают нас на день, что мы решим любую задачу, притом что нет решаемых задач, за исключением математических, — подытожим наше отношение к жизни этим осознанно бесплодным действием, этой озабоченностью, которая, если и не приносит удовольствия, хотя бы не дает нам почувствовать присутствие боли.
Ничто так отчетливо не определяет расцвет цивилизации в тех, кто живет в ней, как знание о бесплодности любого усилия, которое ничто не отменяет и которому ничто не препятствует, потому что нами управляют непреклонные законы. Возможно, мы — рабы, закованные в кандалы по прихоти богов, которые сильнее, но не лучше нас: они, как и мы, подчинены железной власти абстрактной Судьбы, возвышающейся над справедливостью и добротой и отстраненной от добра и зла.
178.
Мы — смерть. То, что мы считаем жизнью, есть сон реальной жизни, смерть того, чем мы на самом деле являемся. Мертвые рождаются, а не умирают. Для нас миры перевернуты. Когда мы считаем, что живем, мы мертвы; мы живем, когда находимся при смерти.
Между сном и жизнью существует такая же связь, как и между тем, что мы называем жизнью, и тем, что мы называем смертью. Мы спим, и эта жизнь — греза не в метафорическом или поэтическом смысле, а в смысле подлинном.
Все то, что мы считаем высшим в нашей деятельности, все это участвует в смерти, все это является смертью. Что есть идеал, если не признание того, что жизнь не нужна? Что есть искусство, если не отрицание жизни? Статуя — это мертвое тело, изваянное, чтобы запечатлеть смерть в нетленной материи. То же удовольствие, которое так похоже на погружение в жизнь, прежде всего является погружением в нас самих, разрушением отношений между нами и жизнью, суетливой тенью смерти.
Собственно говоря, жить значит умирать, потому что нет ни одного дня в нашей жизни, который бы не делал ее на день короче.
Мы населяем грезы, мы — тени, блуждающие по недосягаемым лесам, в которых деревья — это дома, обычаи, идеи, идеалы и философии.
Никогда не находить Бога, никогда даже не знать, существует ли Бог! Переходить от мира к миру, от воплощения к воплощению, всегда в иллюзии, которая манит, всегда в заблуждении, которое ласкает.
Никакой истины, никакой остановки! Никакого единения с Богом! Никакого полного покоя, всегда лишь его кусочек, всегда стремление к нему!
179.
Детский инстинкт человечества, из-за которого самый горделивый из нас, если он мужчина и не безумен, хочет ‹…› отцовской руки, которая бы его вела, как угодно, лишь бы вела, сквозь тайну и путаницу мира. Каждый из нас — пылинка, которую ветер жизни подхватывает, а затем роняет. Мы должны найти опору, вложить маленькую руку в другую руку; потому что час всегда неясен, небо всегда далеко, а жизнь всегда чужда.
Самый высокий из нас — лишь знаток, стоящий ближе к пустоте и к неопределенности всего.
Возможно, нас ведет иллюзия; однако сознание нас точно не ведет.
180.
Если однажды случится так, что моя жизнь будет надежно обеспечена и я смогу свободно писать и издавать написанное, я знаю, что буду скучать по этой неопределенной жизни, в которой я пишу кое-как и ничего не издаю. Я буду скучать не только потому, что эта заурядная жизнь есть прошлое и у меня ее больше не будет, но и потому, что во всякой жизни есть свое качество и особое удовольствие и, когда переходишь к другой жизни, пусть и лучшей, это особое удовольствие приносит меньше счастья, это особое свойство не так прекрасно, они перестают существовать, и их не хватает.
Если однажды случится так, что я смогу отнести на подходящую голгофу крест моих намерений, я найду голгофу в этой подходящей голгофе и буду скучать по тому времени, когда я был ничтожным, заурядным и несовершенным. Меня так или иначе будет меньше.
Я хочу спать. Сегодня был тяжелый день нелепой работы в почти пустой конторе. Два сотрудника болеют, а остальных нет. Я один, если не считать далекого посыльного. Я ностальгирую по гипотезе о том, что однажды смогу испытывать ностальгию, которая все равно будет нелепой.
Я почти прошу богов, какие бы они ни были, чтобы они спрятали меня тут, словно в ларце, защитив меня и от горечи жизни, и от ее радостей.
181.
В смутных тенях угасающего света до того, как вечер рано перетечет в ночь, я наслаждаюсь беззаботной прогулкой по меняющемуся городу и хожу так, как если бы все было безнадежно. Рассеянная грусть, пребывающая со мной, радует больше мое воображение, чем мои чувства. Слоняюсь и листаю в себе, не читая, книгу, перемеженную быстрыми образами, из которых я вяло составляю мысль, так и не обретающую завершенную форму.
Есть те, кто читает так же быстро, как смотрит и делает выводы, не увидев всего. Так и я извлекаю из книги, которая листается в душе, смутную историю, воспоминания другого бродяги, отрывки описаний сумерек или лунного света среди парковых аллей и различных шелковых фигур, которые всё проходят и проходят.
Я не отличаю тоску от прочего. В то же время, я иду по улице, по вечеру и по воображаемому чтению, и эти пути я действительно прохожу. Я эмигрирую и отдыхаю, как если бы я находился на берегу судна, уже плывущего по открытому морю.
Мертвые фонари внезапно скрещивают лучи в двойном продолжении длинной, извилистой улицы. Моя грусть нарастает, как хлюпанье. Просто книга закончилась. В воздушной вязкости абстрактной улицы есть лишь внешний ручеек чувства, словно слюна идиотской Судьбы, что капает в сознании моей души.
Другая жизнь, жизнь города, погружающегося в мрак. Другая душа, душа того, кто смотрит на ночь. Оказавшись в плену неуверенности и аллегорий, я ощущаю нереально. Я подобен истории, которую кто-то рассказал так хорошо, что она стала осязаемой, но не слишком, в начале одной из глав этого мира-романа: «В этот час можно было видеть мужчину, медленно шагавшего по улице…»
Что общего я имею с жизнью?
182.
Интервал
Я заранее провалил жизнь, потому что даже в мечтах она не показалась мне приятной. Ко мне пришла усталость от грез… При этом я испытал ощущение внешнее и ложное, как если бы дошел до конца бесконечной дороги. Я пересел из себя не знаю куда и там и остался, оцепеневший и бесполезный. Я — что-то из того, чем я был. Я не нахожусь там, где чувствую себя, и если я ищу себя, то не знаю, кто меня ищет. Тоска от всего ослабляет меня. Я чувствую себя изгнанным из собственной души.
Я сопровождаю себя. Присутствую при себе. Мои ощущения проплывают перед моим взглядом, не знаю каким, словно нечто внешнее. Я скучен себе во всем. Все вещи вплоть до их таинственных корней окрашиваются в цвет моей тоски.
Цветы, которые мне подарили Часы, уже увяли. Мое единственное возможное действие — смотреть на них и медленно обрывать лепестки. А в этом такая сложность старения!
Малейшее действие причиняет мне боль, словно геройство. Мне тяжело придумать мельчайший жест, как если бы это было что-то, что я действительно собираюсь сделать.
Я ни к чему не стремлюсь. Жизнь причиняет мне боль. Мне плохо там, где я есть, и плохо там, где, как я думаю, я могу находиться.
Идеал заключался бы в том, чтобы не предпринимать каких-либо действий, кроме ложного действия фонтана — подняться, чтобы упасть на том же месте, совершенно бесполезно светить под солнцем, издавать звук в ночной тишине, чтобы тот, кто спит, думал во сне о реках и забывчиво улыбался.
183.
С тусклого начала жаркого и фальшивого дня темные тучи с несколько изломанными очертаниями обступали подавленный город. Со стороны того, что мы называем отмелью, зловещие и следующие одна за другой, тучи эти наползали друг на друга, и предчувствие трагедии тянулось вместе с ними от неопределенной злости улиц к искаженному солнцу.
Был полдень, и, когда я выходил на обед, в побледневшей атмосфере тягостно висело ожидание худшего. Лоскуты оборванных туч чернели перед ней. Небо над Замком было чистым, но отливало зловещей лазурью. Светило солнце, но наслаждаться им не хотелось.
В половину второго пополудни, когда мы уже вернулись в контору, казалось, что небо стало чище, но лишь над старой частью города. Со стороны отмели оно было более ясным. Над северной частью города, однако, тучи медленно сливались в одну — черная, беспощадная, она медленно продвигалась вперед, выпустив тупые серо-белые когти на кончиках черных рук. Скоро она должна была добраться до солнца, и звуки города словно задыхались, ожидая ее. Небо было или казалось немного чище с восточной стороны, но жара там была еще неприятнее. В тени большой конторской залы было душно. «Грядет изрядный ливень», — сказал Морейра и перевернул страницу Бухгалтерской книги.
В три часа солнечного света было уже недостаточно. Пришлось — и это было грустно, потому что дело происходило летом — включить электрический свет — сначала в глубине большой залы, где заворачивали посылки, потом в середине залы, где становилось все труднее заполнять без ошибок накладные на посылки и отмечать в них цифры железнодорожной маркировки. Наконец, уже почти в четыре часа мы, привилегированные сотрудники, сидевшие перед окнами, не видели достаточно хорошо, чтобы работать. Контору озарил свет. Шеф Вашкеш отодвинул ширму и сказал, выходя из кабинета: «Морейра, я должен был ехать в Бенфику, но не поеду; сейчас ливанет». — «И как раз в этих краях», — ответил Морейра, который жил рядом с Авенидой[28]. Вдруг донеслись немного искаженные звуки улицы и, не знаю почему, немного грустно прозвучал звук трамвайных звонков на параллельной и ближней улице.
184.
До того как прекратится лето и наступит осень, в жарком промежутке, когда воздух тяжелеет, а цвета расплываются, вечера обыкновенно облачаются в чувствительный наряд фальшивой славы. Они сравнимы с теми ухищрениями воображения, в которых ностальгия по ничему длится бесконечно, как мачты кораблей, образующие одну вытянутую змею. В такие вечера меня наполняет, словно морской прилив, чувство, которое хуже тоски, но которому не подходит никакое другое название, кроме тоски — чувство опустошения без места, крушения всей души. Я чувствую, что потерял снисходительного Бога, что Сущность всего умерла. И осязаемая вселенная для меня — это труп, который я любил, когда он был жизнью; но все обратилось в ничто в еще горячем свете последних расцвеченных облаков.
Моя тоска приобретает оттенки ужаса; моя скука — это страх. Холоден не мой пот, а мое осознание моего пота. Это не физическое недомогание, разве что недомогание души так велико, что проникает в поры тела и наводняет его.
И так велико отвращение, так властен ужас оттого, что я жив, что я не представляю, что могло бы служить болеутоляющим, противоядием, бальзамом или забвением. Сон ужасает меня так же, как и всё. Смерть ужасает меня так же, как и всё. В равной степени невозможно идти и стоять. Надежда и неверие равны друг другу в холоде и пепле. Я — полка с пустыми флаконами.
И при этом — какая ностальгия по будущему, если я позволяю моим заурядным глазам принять мертвенное приветствие озаренного светом дня, который подходит к концу! Какое великое погребение надежды во все еще позолоченном молчании бездеятельных небес, какая свита из пустоты и небытия тянется по алой лазури, бледнеющей на обширных равнинах белесых просторов!
Не знаю, чего хочу или чего не хочу. Я разучился хотеть, уметь хотеть, уметь испытывать эмоции или мысли, при помощи которых мы обычно понимаем, чего хотим или хотим хотеть. Я не знаю, кто я и что я. Как кто-то, погребенный под обвалившейся стеной, я покоюсь под рухнувшей пустотой всей вселенной. И так я иду, по моему собственному следу, пока не наступит ночь и зарождающаяся во мне нетерпеливость по отношению к себе не принесет, словно легкий ветер, некоторую нежность оттого, что я — иной.
Ах, и высокая полная луна этих приятных ночей, теплых от тревоги и непокоя! Зловещий мир небесной красоты, холодная ирония горячего воздуха, затуманенная черная лазурь лунного света и робкого света звезд.
185.
Интервал
Этот ужасающий час — пусть он сожмется до возможного или вырастет до смертного.
Пусть утро никогда не брезжит, и я, и вся эта спальня, и вся ее внутренняя атмосфера, коей я принадлежу, все одухотворится в Ночи, станет абсолютным в Сумерках, и во мне не останется и тени, которая пятнала бы памятью обо мне что бы то ни было, что не умирает.
186.
Пусть захотят боги, о мое грустное сердце, чтобы у Судьбы был смысл!
Пусть прежде Судьба захочет, чтобы смысл был у богов!
Иногда, просыпаясь в ночи, я чувствую, как невидимые руки ткут мой рок.
Я пожизненно покоюсь. Ничто из меня не прерывает ничего.
187.
Главная трагедия моей жизни — это, как и все трагедии, ирония Судьбы. Я отвергаю реальную жизнь, как приговор; отвергаю мечту, как низменное освобождение. Но я проживаю всю мерзость и всю обыденность реальной жизни; и проживаю всю насыщенность и все постоянство мечты. Я словно раб, который напивается в пятницу — два убожества в одном теле.
Да, я вижу отчетливо, с ясностью, с какой молнии разума выхватывают из черноты нашей жизни ближайшие предметы, которые для нас ее образуют, всю низменность, всю вялость и заброшенность, всю поддельность на этой улице Золотильщиков, в которой для меня заключена вся жизнь, — эта контора людей, мерзкая вплоть до мозга костей, эта помесячно снимаемая комната, где ничто не происходит и лишь живет мертвец, этот магазин на углу, чьего хозяина я знаю так, как человек знает человека, эти посыльные у дверей старой харчевни, эта кропотливая бесполезность всех одинаковых дней, это нескончаемое повторение одних и тех же лиц, словно драма, которая состоит лишь из декораций, а декорации вывернуты наизнанку…
Но еще я вижу, что сбежать от этого означало бы этим овладеть или отвергнуть, а я не владею этим, потому что не превосхожу в рамках реального, и не отвергаю, потому что, сколько бы я ни мечтал, я всегда остаюсь там, где я есть.
А мечта, стыд сбежать перед самим собой, трусость оттого, что моя жизнь — это тот мусор души, который у других есть только во сне, в облике смерти, когда они храпят, в неподвижности, которая уподобляет их высокоразвитым растениям!
Не иметь возможности ни совершить благородный жест, помимо такого, который останется по эту сторону двери, ни испытать бесполезное желание, которое не было бы на самом деле бесполезным!
Цезарь дал исчерпывающее определение честолюбию, когда произнес эти слова: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме!» Я — никто и в деревне, и в каком бы то ни было Риме. Владельца магазина на углу хотя бы уважают от улицы Успения до улицы Победы, он — Цезарь квартала. Превосхожу ли я его? В чем, если ничтожество не предполагает ни превосходства, ни подчиненности, ни сравнения?
Он — Цезарь всего квартала и заслуженно нравится женщинам.
А я волочу свою жизнь ‹…› нелепую, как остановившиеся уличные часы, делаю то, чего не хочу, и мечтаю о том, чего у меня быть не может.
Та тонкая, но твердая чувствительность, долгая, но сознательная мечта ‹…›, которая образует в своей совокупности привилегию моего полумрака.
188.
Заурядный человек, как бы ни тяжела была его жизнь, по крайней мере, счастлив потому, что не осмысляет ее. Плыть по течению жизни, проживать ее внешне, как кошка или собака — так поступают обычные люди и так нужно проживать жизнь для того, чтобы испытывать то же удовлетворение, что и кошка, и собака.
Мыслить значит разрушать. Сам процесс мышления указывает это самому мышлению, потому что мыслить значит разбирать на части. Если бы люди умели размышлять над тайной жизни, если бы они умели чувствовать тысячи сложностей, которые подстерегают душу в каждой детали действия, они бы никогда не действовали и даже никогда бы не жили. Они бы убивали себя от страха, как те, кто кончает с собой, чтобы на следующий день не отправиться на гильотину.
189.
Дождливый день
Воздух стал затаенно желтым, словно бледная желтизна, просвечивающая сквозь грязную белизну. Желтизна едва видна в посеревшем воздухе. Однако бледность серости отдает желтым в своей грусти.
190.
Любое смещение привычного расписания всегда привносит в душу холодное новшество, немного неприятное удовольствие. Тот, кто имеет обыкновение выходить из конторы в шесть часов и однажды выходит в пять, испытывает умственную пустоту и нечто похожее на сожаление от непонимания того, что ему с собой делать.
Вчера мне нужно было уладить одно дело за пределами конторы, и я вышел из нее в четыре часа, а в пять уже закончил то, что должен был сделать. Я не привык быть на улице в это время и потому оказался в городе, отличающемся от того, что я обычно вижу. Медленный оттенок света на привычных фасадах был бесплодно нежен, а обычные прохожие проходили по городу мимо меня, словно моряки эскадры, высадившиеся здесь вчера вечером. В это время контора все еще была открыта. Я вернулся в нее, вызвав естественное изумление сотрудников, с которыми я до этого попрощался. Так вы вернулись? Да, вернулся. Я мог свободно чувствовать, оказавшись в одиночестве с теми, кто меня окружал, но духовно для меня отсутствовал… Это был своего рода домашний очаг, место, в котором не чувствуешь.
191.
Иногда я с грустной отрадой думаю, что если однажды, в будущем, которому я уже не буду принадлежать, те фразы, что я пишу, сохранятся и получат похвалу, то наконец появятся люди, которые меня «поймут», мои люди, настоящая семья, в которой ты рождаешься и тебя любят. Но, вместо того чтобы в ней родиться, я к этому времени уже давно буду мертв. Я буду понят лишь в изображении, когда любовь уже не сможет возместить тому, кто умер, нелюбовь, что он испытал при жизни.
Возможно, однажды поймут, что я, как никто другой, исполнил мой врожденный долг толкователя некоторой части нашего века; и, когда это поймут, придется написать, что в свою эпоху я не был понят, что я жил несчастливо, окруженный нелюбовью и черствостью, и что очень жаль, что со мной это произошло. И тот, кто это напишет в эпоху, когда он это напишет, не будет понимать, как и те, кто меня окружает, моего собрата тех будущих времен. Потому что люди учатся только у своих прадедов, которые уже умерли. Мы умеем преподавать настоящие правила жизни только мертвым.
Этим вечером, когда я пишу, дождливый день прекратился. На коже ощущается радость свежего воздуха. День подходит к концу не в серых, а в бледно-голубых тонах. Неясная лазурь отражается даже в булыжниках мостовой. Жизнь причиняет боль, но издалека. Чувства не имеют значения. Тут и там загораются витрины.
В другом окне, расположенном выше, люди смотрят на тех, кто заканчивает работать. Нищий, который толкает меня, изумился бы, если бы знал меня.
В менее бледной и менее голубой лазури, которая отсвечивается от зданий, неопределенный час все больше погружается в вечер.
Опустись легко, конец определенного дня, на тех, кто верит и заблуждается, кто приступает к привычной работе и испытывает в собственной боли счастье бессознательности. Опустись легко, волна угасающего света, меланхолия никчемного вечера, мгла без тумана, что проникает в мое сердце. Опустись легко и мягко, неопределенная, сверкающая и голубая бледность водянистого вечера — легко, мягко, грустно на простую и холодную землю. Опустись легко, невидимый пепел, удрученное однообразие, тоска без оцепенения.
192.
Три дня подряд жары без духоты, скрытой бури в спокойном недомогании всего принесли легкую, свежую и приятную теплоту на блестящую поверхность вещей, чтобы буря утекла в другое место. Так иногда в этом течении жизни душа, страдавшая от тяготившей ее жизни, вдруг испытывает облегчение, хотя в ней не произошло ничего, что могло бы это объяснить.
Я понимаю, что мы — климаты, над которыми парят угрозы бури, осуществившиеся в другом месте.
Пустая безбрежность вещей, великое забвение, что есть на небе и на земле…
193.
Я присутствовал инкогнито при постепенном крахе моей жизни, при медленном крушении всего того, чем хотел быть. С той истиной, смерть которой можно распознать и без цветов, я могу сказать, что из того, чего я желал или к чему, пусть даже на мгновение, обращал мечту, нет ничего, что не рассыпалось бы у меня под окнами, как слежавшаяся пыль, что упала из горшка с верхнего этажа. Кажется даже, что Судьба всегда стремилась заставить меня сначала полюбить или захотеть того, что она сама предрешила, чтобы на следующий день я увидел, что у меня этого нет и не будет.
Будучи ироническим наблюдателем самого себя, я, тем не менее, не отчаивался присутствовать при жизни. И, поскольку сегодня я заранее знаю, что всякая смутная надежда окажется обманутой, я испытываю особое удовольствие от смакования разочарования вместе с надеждой, как горького со сладким, которое делает сладкое сладким против горького. Я — печальный стратег, который, проиграв все битвы, накануне каждой новой битвы чертит на листе своих планов, наслаждаясь своей схемой, детали своего неизбежного отступления. Меня преследовал, словно зловредное существо, рок, заставлявший меня желать того, чего я не смогу иметь, зная об этом.
Если вдруг я вижу на улице молодое лицо девушки и, пусть и с безразличием, на мгновение представляю, что оно стало моим, в десяти шагах от моей грезы эта девушка обязательно встречает человека, в котором я узнаю ее мужа или возлюбленного. Романтик сделал бы из этого трагедию; посторонний воспринял бы это как комедию; но я смешиваю то и другое, потому что я романтик в себе и посторонний для себя, и переворачиваю страницу для новой иронии.
Одни говорят, что без надежды невозможно жить, другие — что надежда никчемна. Для меня, который сегодня не надеется и не отчаивается, надежда — это простая внешняя рамка, которая включает меня и на которую я смотрю как на спектакль без завязки, созданный лишь затем, чтобы развлекать глаза — танец без связи, шелест листьев на ветру, облака, меняющие оттенок под солнечным светом, старые улицы, случайно пролегающие через непривычные места.
В значительной степени я — проза, которую я пишу. Я развертываюсь в периодах и абзацах, превращаюсь в знаки препинания и в последовательном распределении изображений одеваюсь, как дети, в костюм короля из газетной бумаги или, задавая ритм при помощи ряда слов, венчаю себя, как безумцы, высохшими цветами, которые все еще свежи в моих мечтах. И я прежде всего спокоен, как кукла из опилок, которая, осознавая себя, время от времени встряхивает головой, чтобы бубенчик на вершине островерхой шапки (составной части этой головы) пробренчал что-то, жизнь с нотками смерти, первое предупреждение Судьбы.
При этом сколько раз, посреди этой умиротворенной неудовлетворенности, в моих осознанных переживаниях постепенно поднимается ощущение пустоты и тоски от такого рода мыслей! Сколько раз я чувствую себя тем, кто слышит в прекращающихся и возобновляющихся звуках, как говорит глубинная горечь этой жизни, чуждой жизни человеческой — жизни, в которой нет ничего, кроме ее осознания! Сколько раз, пробуждаясь от себя, из ссылки, коей я являюсь, я вижу, насколько было бы лучше быть никем из всех, счастливцем, у которого хотя бы есть настоящая горечь, который испытывает усталость, а не отвращение, который страдает, а не предполагает, что страдает, который действительно убивает себя, а не умирает!
Я стал книжным персонажем, читаемой жизнью. То, что я чувствую (без моей воли), я чувствую для того, чтобы написать то, что почувствовал. То, о чем я думаю, затем облекается в слова, смешиваясь с рассыпающимися образами, раскрываясь в ритмах, которые суть что угодно другое. Постоянно перебирая себя, я себя разрушил. Постоянно думая о себе, я стал своими мыслями, но не собой. Я пробурил себя и уронил бур; я живу и думаю, глубок ли я, или нет, и у меня нет другого бура, кроме взгляда, который ясно показывает мне на черном фоне высокого колодца мое собственное лицо, которое созерцает меня, созерцающего его.
Я своего рода игральная карта старинной, неведомой масти, единственная, что сохранилась из утраченной колоды. У меня нет смысла, я не знаю себе цены, мне не с чем себя сравнить, чтобы себя найти, мне нечему служить, чтобы себя познать. И так, в последовательных образах, в которых я себя описываю — не без правды, но с ложью, — я остаюсь больше в образах, чем в себе, говорю с собой столько, что перестаю существовать, пишу душой, словно чернилами, годной лишь для того, чтобы ею писать. Но реакция прекращается, и я снова смиряюсь. Я возвращаюсь к себе, к тому, что я есть, хотя я — никто. И что-то вроде слез без плача пылает в моих застывших глазах, что-то вроде тревоги, которой не было, сильно раздражает иссушенное горло. Но теперь я не знаю, над чем я плакал, если плакал, и над чем я не плакал. Вымысел сопровождает меня, словно моя тень. Чего я хочу, так это спать.
194.
В душе моего сердца — большая усталость. Меня печалит тот, кем я никогда не был, и я не знаю, что за ностальгию мне внушает воспоминание о нем. Я столкнулся с надеждами и определенностями, со всеми закатами.
195.
Есть люди, которые действительно страдают оттого, что в настоящей жизни не смогли жить с мистером Пиквиком и пожать руку мистеру Уордлу. Я один из них. Я проливал настоящие слезы над этим романом потому, что не жил в то время, с теми людьми, с настоящими людьми.
Несчастья в романах всегда хороши, потому что в них не льется подлинная кровь, в романах не гниют мертвецы, а гниение в романах не зловонно.
Когда мистер Пиквик смешон, он не смешон, потому что он смешон в романе. Кто знает, не является ли роман более совершенной реальностью и жизнью, которую Бог создает при помощи нас, и не существуем ли мы — кто знает — лишь для того, чтобы творить?
Цивилизации, судя по всему, существуют лишь затем, чтобы создавать искусство и литературу; слова о них говорят, и слова от них остаются. Почему же эти сверхчеловеческие персонажи не могут быть настоящими? Моему умственному существованию причиняет боль мысль о том, что так может быть…
196.
Больше всего болят те чувства, больше всего печалят те переживания, которые нелепы — тревога, порождаемая чем-то недосягаемым, именно потому, что оно недосягаемо, ностальгия по тому, чего никогда не было, желание того, что могло бы быть, досада оттого, что ты не являешься другим, неудовлетворенность существованием мира. Все эти полутона сознания души создают в нас скорбный пейзаж, вечный закат того, чем мы являемся. Тогда наше ощущение себя становится пустынным полем в сумерках, печальными зарослями тростника у реки, по которой не проплывают лодки, отчетливо чернеющие у отдаленных берегов.
Я не знаю, являются ли эти чувства медленным безумием от безутешности, смутными воспоминаниями о каком-то другом мире, в котором мы побывали — воспоминаниями перекрещивающимися и смешивающимися, как то, что мы видим в мечтах, нелепыми в том образе, который мы видим, но не в своих истоках, если бы они нам были известны. Я не знаю, были ли мы другими существами, чью бóльшую цельность мы сегодня ощущаем в их тени, коей мы являемся в неполном виде — утратив ее прочность и плохо себе ее представляя в двух лишь измерениях тени, в которых мы живем.
Я знаю, что эти мысли о переживании вызывают в душе боль и гнев. Невозможность представить себя чем-то, чему они соответствуют, невозможность найти что-либо, что заменит то, к чему они примыкают в видении, — все это гнетет, словно проклятие, произнесенное неизвестно где, кем и почему.
Но от чувствования всего этого остается, разумеется, неприязнь к жизни и ко всем ее действиям, преждевременная усталость желаний и всех их видов, безымянная неприязнь ко всем чувствам. В эти часы утонченной печали даже во сне становится невозможно быть возлюбленным, героем, счастливцем. Все пусто, даже в мысли о том, что это такое. Все это говорится другим языком, для нас непонятным, звучащим, как простые озвученные слоги, не имеющие смысла. Жизнь пуста, и душа пуста, и мир пуст. Все боги умирают смертью большей, чем смерть. Все еще более пусто, чем пустота. И все есть хаос небытия.
Если я думаю об этом и смотрю, чтобы увидеть, убивает ли реальность жажду, я вижу невыразительные дома, невыразительные лица, невыразительные жесты. Камни, тела, мысли — все это мертво. Все движения — это остановки, прекращение всех этих движений. Ничто ничего мне не говорит. Ничто мне незнакомо, не потому, что кажется мне странным, а потому, что я не знаю, что это. Мир потерялся. И в глубине моей души — единственной реальности этого мгновения — царит насыщенная и незримая боль, грусть, подобная всхлипываниям того, кто рыдает в темной комнате.
197.
Я ощущаю время с огромной болью. Всякий раз, когда я что-то оставляю, я испытываю чрезмерное потрясение. Бедная съемная комната, в которой я провел несколько месяцев, стол в захолустной гостинице, где я провел шесть дней, даже грустный зал ожидания на железнодорожном вокзале, где я потерял два часа, ожидая поезда, — да, но то хорошее в жизни, что я оставляю и что, как кажется всей чувствительности моих нервов, я никогда больше не увижу, чего у меня никогда больше не будет, по крайней мере, в тот конкретный момент причиняет мне метафизическую боль. В моей душе разверзается пропасть, и холодное дуновение часа Бога касается моего мертвенно-бледного лица.
Время! Прошлое! Там что-то, голос, песнь, случайный аромат поднимает в моей душе занавес моих воспоминаний… То, чем я был и чем никогда больше не буду! То, что у меня было и чего больше не будет! Мертвецы! Мертвецы, любившие меня в моем детстве. Когда я их вспоминаю, у меня леденеет душа и я чувствую себя изгнанным из сердец, одиноким в моей собственной ночи, и оплакиваю, словно нищий, закрытое молчание всех дверей.
198.
Проза отпуска
Маленький пляж, образующий крохотный залив, отрезанный от мира двумя миниатюрными утесами, стал на три дня отпуска моим убежищем от самого себя. К пляжу спускалась грубая лестница, которая начиналась наверху деревянными ступеньками и посередине превращалась в ступени, вырубленные в скале, с проржавевшими железными перилами. И всякий раз, когда я спускался вниз по старой лестнице и особенно по каменным ступеням, я выходил из моего существования и обретал себя.
Оккультисты, или некоторые из них, говорят, что у души бывают возвышенные мгновения, когда она вспоминает благодаря переживанию или части памяти некий миг, или черту, или тень своего предшествующего воплощения. И тогда, поскольку она возвращается во время более близкое, чем ее настоящее, к истокам и к началу вещей, она в некоторой степени переживает детство и испытывает освобождение.
Можно было бы сказать, что, спускаясь по этой лестнице, которую ныне мало используют, и медленно вступая на маленький, всегда безлюдный пляж, я применял волшебный прием, чтобы оказаться ближе к той возможной монаде, коей я являюсь. Некоторые стороны и черты моей повседневной жизни — представленные в моем существе желаниями, отвращением, заботами — исчезали из меня, словно скрываясь от ночного патруля, и погружались в тень настолько, что больше не ощущались, и я достигал состояния внутренней отстраненности, в котором мне становилось трудно вспоминать о вчерашнем дне или считать моим то существо, что во мне живо всякий день. Мои всегдашние переживания, мои равномерно неравномерные привычки, мои разговоры с другими, мое приспособление к социальному устройству мира — все это мне казалось чем-то прочитанным в другом месте, бездеятельными страницами напечатанной биографии, деталями какого угодно романа в тех проходных главах, которые мы читаем, думая о чем-то другом, и в которых нить повествования истончается настолько, что начинает виться по земле.
Тогда на пляже, где шумели лишь волны или ветер, который гудел в вышине, как большой несуществующий самолет, я предавался новой разновидности грез — это было нечто бесформенное и мягкое, чудесное, производившее глубокое впечатление, без образов, без переживаний, чистое, словно небо и вода, и звучавшее, как раковины, выпутывавшиеся из моря, которое поднималось из глубины настоящей истины; нечто, что трепетало вдали искривленной синевой, при приближении переливалось прозрачными грязно-зелеными тонами и скрежетало, разламываясь, тысячью рук, увядших и выброшенных на темноватый песок и на уже непенистую пену, забирало с собой весь прибой, возвращение к исходной свободе, божественную ностальгию, воспоминания вроде этого бесформенного воспоминания о некоем прежнем состоянии, которое не причиняло мне боли, или воспоминания, счастливого потому, что оно было хорошим или по иной причине; ностальгирующее тело с душой, сотканной из пены, отдохновение, смерть, все или ничто, окружающее, словно широкое море, остров потерпевших кораблекрушение, коим является жизнь.
И я спал без сна, оторванный от того, что чувствовал, и был сумерками самого себя, звуком воды между деревьями, покоем великих рек, свежестью грустных вечеров, медленным дыханием белой груди, охваченной детским сном созерцания.
199.
Сладость отсутствия семьи и друзей, этот мягкий привкус, привкус ссылки, в котором мы ощущаем, как гордость изгнания растворяет в неясной неге смутное беспокойство от нахождения вдали, — всем этим я наслаждаюсь на мой лад, равнодушно. Потому что одной из характерных черт моего духовного поведения является то, что внимание не следует чрезмерно развивать и что даже на грезу нужно смотреть свысока, с аристократическим осознанием того, что это ты даруешь ей существование. Придавать излишнее значение грезе означало бы, в конце концов, придавать излишнее значение чему-то, что отделилось от нас, что воплотилось, насколько смогло, в реальности и что, вследствие этого, потеряло абсолютное право на нашу деликатность в обращении с ним.
200.
Заурядность — это очаг. Повседневность — словно мать. После пространного экскурса в великую поэзию, к вершинам возвышенных устремлений, к утесам трансцендентного и скрытого она обладает прекрасным вкусом, обладает вкусом всего того, что есть теплого в жизни — вернуться на постоялый двор, где смеются счастливые глупцы, выпить с ними, словно такой же глупец, как и они, какими нас сделал Бог, довольствуясь данной нам вселенной, и оставляя прочее тем, кто взбирается на горы затем, чтобы там, наверху, ничего не делать.
Меня нисколько не трогает, если о человеке, которого я считаю безумцем или невеждой, говорят, что он во многих отношениях и в жизненных достижениях превосходит человека заурядного. Эпилептики во время припадка очень сильны; параноики рассуждают так, как может мало кто из нормальных людей; одержимые религиозной манией собирают такие толпы верующих, какие собирают редкие (если такие вообще находятся) демагоги, и обладают такой внутренней силой, которую последние неспособны вселить в своих приверженцев. И все это доказывает лишь то, что безумие есть безумие. Я предпочитаю поражение, которое оставит мне осознание красоты цветов, чем победу посреди пустыни, в полной слепоте души, наедине со своим обособленным ничтожеством.
Как часто моя собственная ничтожная мечта наводняет ужасом мою внутреннюю жизнь, внушая физическую тошноту от мистицизма и от созерцания. Как торопливо я бегу из дома, где я об этом мечтаю, в контору; и смотрю на лицо Морейры так, как если бы я наконец достиг порта. Если как следует поразмыслить, я предпочитаю Морейру астральному миру; предпочитаю реальность истине; предпочитаю жизнь — чего греха таить — самому Богу, который ее создал. Такой он мне ее дал, такой я ее и проживу. Я мечтаю, потому что мечтаю, но я не приемлю такого оскорбления, как придание мечтам другого смысла, помимо того что они являются моим внутренним театром: ведь я не называю вино, от которого я все же не воздерживаюсь, пищей или жизненной необходимостью.
201.
Еще до наступления утра, вопреки обыкновенной солнечности этого светлого города, туман стал обволакивать легким покровом, который солнце все больше золотило, множество домов, упраздненные пространства, неровности земли и строений. Однако когда утро вступило в свои права, мягкая мгла начала расползаться и неосязаемо растворяться в дуновении вуальной тени. К десяти часам утра лишь тонкая синева неба показывала, что до этого был туман.
Очертания города возродились, когда соскользнула полупрозрачная маска вуали. Уже начавшийся день наступил, как если бы открылось окно. Произошло легкое изменение всех звуков. Возникли новые. Голубой оттенок проявился даже на уличных камнях и на безличном облике прохожих. Солнце было горячим, но все еще влажно горячим. Его незримо процеживал туман, которого уже не было.
Пробуждение города, будь то среди тумана или как-то иначе, мне всегда кажется чем-то более умилительным, чем утренняя заря над полями. Намного больше всего возрождается, намного больше надежд, когда вместо того, чтобы просто золотить, сначала темным светом, потом влажным светом, затем сверкающим золотом, луга, очертания кустов, ладони листьев, солнце множит свои возможные отсветы на окнах, стенах, крышах, сея на окнах разнообразие, на стенах разноцветие, на крышах множество оттенков — великолепное утро, различное в стольких различных реальностях. Утренняя заря в поле действует на меня благотворно; утренняя заря в городе — и благотворно, и нет, и именно поэтому она на меня действует больше, чем благотворно. Да, потому что в бóльшей надежде, которую она мне приносит, есть, как и во всякой надежде, далекая и печальная горечь оттого, что она нереальна. Утро в поле существует; утро в городе обещает. Одно заставляет жить; другое — думать. А я, как вечные проклятые, должен всегда чувствовать, что думать лучше, чем жить.
202.
За первой ослабевшей жарой закончившегося лета широкое вечернее небо обрело более мягкую расцветку, некие штрихи холодного бриза, возвещавшие приближение осени. Листва еще не начала желтеть, листья еще не начали опадать, и не появилась еще та смутная тревога, что сопровождает наше ощущение внешней смерти, потому что такой должна быть и наша смерть. Это было подобно усталости от существующего усилия, неясный сон, пришедший на смену последним проявлениям действия. О, эти вечера исполнены такого печального равнодушия, что осень наступает в нас прежде, чем наступить в вещах.
Каждая наступающая осень ближе к нашей последней осени, это справедливо и для летней поры; но осень напоминает своей сущностью о конечности всего, тогда как в летнюю жару об этом легко забыть. Еще не осень, еще нет в воздухе желтизны опадающих листьев или влажной грусти времени, которая позднее станет зимой. Но есть толика преждевременной грусти, печаль, надетая перед отправлением в путешествие, в том чувстве, которое мы испытываем, внимая размытым цветам, иному тону ветра, более глубокому покою, который с наступлением ночи распространяется по неизбежному присутствию вселенной.
Да, мы все пройдем и всё пройдем. Ничего не останется от того, кто использовал чувства и перчатки, кто говорил о смерти и о местной политике. Как одинаково свет озаряет лица святых и гамаши прохожих, так же одинаково отсутствие света погрузит в темноту небытие, оставшееся от тех, кто был святым и кто носил гамаши. В широком круговороте, подобном круговороту сухой листвы, в котором безвольно покоится весь мир, царства не более значимы, чем одежда портних, а косички светловолосых детей попадают в ту же смертную круговерть, что и скипетры, символизировавшие империи. Всё есть ничто, и в атриуме Незримого, через открытую дверь которого едва заметна запертая дверь напротив, танцуют, порабощенные ветром, что вертит ими без рук, все вещи, большие и малые, которые образовывали для нас и в нас осязаемую систему вселенной.
Все есть тень и взметенная пыль, нет голоса, кроме звука, что поднимает и тащит ветер, нет молчания, кроме того, что оставляет ветер. Одни, словно легкие листья, меньше удерживаемые землей, потому что они легче, поднимаются в вихре Атриума и падают дальше от круга вещей тяжелых. Другие, почти невидимые, тоже являющиеся пылью и отличающиеся, только если мы смотрим на них вблизи, устраивают себе ложе в вихре. Третьи, словно миниатюры стволов, перекатываются и останавливаются то здесь, то там. Однажды, в конце познания вещей, откроется дверь в глубине и все то, чем мы были — отбросы звезд и душ — будет выметено вон из дома, чтобы то, что есть, началось заново.
Мое сердце болит, словно чужое тело. Мой мозг просыпает все, что я чувствую. Да, это начало осени привносит в воздух и в мою душу тот свет без улыбки, который окаймляет мертвенной желтизной запутанную округлость редких облаков на западе. Да, это начало осени и ясное осознание в прозрачный час безымянной недостаточности всего. Осень, да, осень, та, что есть, или та, что будет, и преждевременная усталость от всех жестов, преждевременное разочарование во всех мечтах. На что я могу надеяться? Надеяться сделать что именно? Да, в том, что я думаю о себе, я двигаюсь среди листьев и пыли атриума, по бессмысленной орбите небытия, извлекая звук жизни из чистых могильных плит, которые неизвестно где золотит предвестием конца угловатое солнце.
Все, о чем я думал, о чем мечтал, что сделал или не сделал — все это уйдет в осень, как сожженные спички, устилающие пол в разных направлениях, или листы бумаги, скомканные в ненастоящие мячики, или великие империи, все религии, философии, в которые играли, создавая их, сонливые дети бездны. Все, чем была моя душа — от всего того, к чему я стремился в заурядном доме, в котором живу, от богов, которые у меня были, до шефа Вашкеша, который тоже у меня был, — все уходит в осень, все в осень, в безразличную нежность осени. Все в осень, да, все в осень…
203.
Неизвестно даже, из-за нас ли завершается бесполезной печалью та часть дня, что подходит к концу, или то, чем мы являемся, есть сумеречный обман и лишь звенящая тишина без диких уток опускается на озера, где тростник поднимает свою распадающуюся шероховатость. Ничего неизвестно, не остается даже памяти о детских историях, подобных водорослям, запоздалой ласки на будущих небесах, легкого ветра, неопределенность которого медленно раскрывается в звездах. Огонек лампады робко трепещет в храме, куда никто не заходит, бездвижно стоят под солнцем пруды в опустелых садах, не читается имя, некогда вырезанное на стволе, а привилегии неизвестных унеслись, как плохо порванная бумага, по улицам, где гулял ветер, застревая в случайных препятствиях. Другие высунутся из того же окна, что и прочие; спят те, кто забыл о недоброй тени, тоскуя по солнцу, которого у них не было; и я сам, дерзающий в бездействии, окажусь без сожалений среди топкого тростника, запачканный тиной ближайшей реки и вялой усталостью, под величественной осенью вечера, в недосягаемых краях. И сквозь все, словно свист обнаженной тревоги, я буду чувствовать мою душу позади фантазий — глубокое и чистое вытье, бесполезное во мраке мира.
204.
Облака… Сегодня я осознаю небо, но бывают дни, когда я на него не смотрю, но чувствую, живя в городе, а не на природе, которая его включает. Облака… Сегодня они — главная реальность и беспокоят меня так, как если бы в моей судьбе заволакивание неба было одной из великих опасностей. Облака… Они проплывают от отмели до Замка, с Запада на Восток, оголенной и рассеянной толпой, иногда белой, если они ползут, разорванные, в авангарде неизвестно чего; получерной толпой плывут другие, более медленные, если их не спешит смести слышимый ветер; черные с грязно-белым отливом, если, словно желая остаться, они омрачают, больше своим приходом, чем своей тенью, улицы, которые прокладывают ложное пространство между сомкнутыми линиями домов.
Облака… Я существую, не зная того, и умру, того не желая. Я — промежуток между тем, что я есть, и тем, чем я не являюсь, между тем, что мечта и жизнь сделали из меня, абстрактная и телесная средняя величина между вещами, которые суть ничто, как и я. Облака… Какой непокой, если я чувствую, какой дискомфорт, если думаю, какая бесполезность, если желаю! Облака… Они плывут постоянно, одни — очень большие и, поскольку из-за домов не видно, меньше ли они, чем кажется, представляется, будто они займут все небо; другие — неопределенного размера, это могут быть два сросшихся облака или одно, которое разделится на два, лишенные смысла в воздушной высоте на фоне утомленного неба; третьи — маленькие, словно игрушки кого-то могущественного, неравномерные шары в нелепой игре, только на одной стороне, обособленные и холодные.
Облака… Я вопрошаю и не ведаю себя. Я не сделал ничего полезного и не сделаю ничего, что можно оправдать. Ту часть жизни, что я не потерял в сбивчивых толкованиях небытия, я истратил, сочиняя стихи в прозе о непередаваемых ощущениях, из которых я создаю свою неведомую вселенную. Я надоел себе и объективно, и субъективно. Мне все, совершенно все надоело. Облака… Они и есть все, беспорядок в высоте, единственные реальные вещи сегодня между никчемной землей и несуществующим небом; неописуемые лоскуты тоски, в которые я их облекаю; туман, сгустившийся в угрозы отсутствующего цвета; грязные клочья ваты из больницы без стен. Облака… Они, обезображенные, как я, проплывают между небом и землей под воздействием невидимого импульса, грохоча или не грохоча, радостно-белые или мрачно-черные, мимолетный вымысел заблуждения, далекие от шума земли и лишенные тишины неба. Облака… Они продолжают плыть и плыть и будут плыть и дальше в непоследовательном накручивании блеклых мотков, в широком просторе истерзанного ложного неба.
205.
Текучий отход дня завершается полинявшим багрянцем. Никто мне не скажет, кто я, и не будет знать, кем я был. Я спустился с неведомой горы в неизвестную долину, и тягучим вечером мои шаги были следами, остававшимися на лесных полянах. Все, кого я любил, забыли меня в тени. Никто не знал о последнем корабле. На почте не было известия о письме, которое никто не должен был написать.
Однако все было ложно. Они не рассказывали историй, которые рассказали другие, и доподлинно неизвестно, кто некогда уехал с ложной надеждой сесть на корабль, сын будущей мглы и нерешительности отправления. Среди тех, кто задерживается, у меня есть имя, и имя это — тень, как и все прочее.
206.
Лес
Но, увы, даже спальня не была истинной — это была старая спальня моего утраченного детства! Словно туман, она удалилась, материально прошла сквозь белые стены моей настоящей комнаты, которая выплыла из тени отчетливой и уменьшившейся, как жизнь и день, как проезд извозчика и неясный щелчок кнута, которые пробуждают мускулы лежащего тела сонного животного.
207.
Сколько всего того, что мы считаем точным или справедливым, является лишь остатками наших грез, лунатическим блужданием нашего непонимания! Быть может, кто-то знает, что точно или справедливо? Сколько всего того, что мы считаем красивым, является всего лишь модой, вымыслом этого места и часа? Для скольких вещей, что мы считаем своими, мы являемся идеальными зеркалами или прозрачными оболочками, далекими по крови от расы их природы!
Чем больше я размышляю над нашей способностью себя обманывать, тем больше высыпается из моих усталых пальцев тонкий песок развеянных истин. И в те мгновения, когда размышление становится чувством, затуманивая мой разум, весь мир передо мной предстает мглою, сотканной из тени, сумерками из углов и граней, вымышленной интерлюдией, откладыванием зари. Все во мне преобразуется в полную мертвечину самого себя, в оцепенелость деталей. И те же чувства, при помощи которых я переношу размышление, чтобы забыть о нем, являются разновидностью сна, чем-то далеким и последовательным, промежутком, разницей, случайностью теней и путаницы.
В такие мгновения, когда я мог бы понять аскетов и отшельников, если бы во мне была сила, чтобы понять тех, кто упорствует в каком-то усилии, стремясь достичь абсолютной цели, или в каком-то убеждении, способном произвести усилие, я бы создавал, если бы мог, целую эстетику безутешности, сокровенную ритмику колыбельной, процеженную ласками ночи у далеких чужих очагов.
Сегодня на улице я встретил по отдельности двух моих друзей, которые порвали друг с другом. Каждый рассказал мне историю того, почему они рассорились. Каждый сказал мне правду. Каждый рассказал мне свои причины. Оба были правы. Оба были совершенно правы. Дело было не в том, что один видел одно, а другой — другое, и не в том, что один видел одну сторону вещей, а другой — другую. Нет: каждый видел вещи ровно так, как они произошли, каждый рассматривал их под таким же углом, что и другой, но каждый видел разное, и потому каждый был прав.
Меня смутило это двойственное существование правды.
208.
Подобно тому, как у всех нас, знаем мы это или нет, есть метафизика, так же у всех нас, хотим мы этого или нет, есть мораль. У меня мораль очень простая — никому не делать ни зла, ни добра. Не делать никому зла, потому что я не только признаю за другими то же право, которое, по моему суждению, принадлежит и мне и заключается в том, чтобы они мне не докучали, но и полагаю, что в качестве зла, которое должно быть в мире, хватает и природных напастей. В этом мире мы все живем на борту корабля, вышедшего из порта, который нам неизвестен, в порт, который нам неведом; в этом путешествии мы должны быть обходительны друг с другом. Не делать добра, потому что я не знаю, что есть добро, и не знаю, делаю ли я его, когда думаю, что делаю. Знаю ли я, какое зло приношу, подавая милостыню? Знаю ли я, какое зло приношу, если обучаю или наставляю? В случае сомнения я воздерживаюсь. Кроме того, я полагаю, что содействовать или просвещать, в определенном смысле, значит творить зло, поскольку это вмешательство в чужую жизнь. Доброта — это прихоть темперамента; у нас нет права превращать других в жертв наших прихотей, пусть даже речь идет о прихотях человечности или ласки. Благодеяния — это нечто, что причиняется; поэтому я испытываю к ним холодное отвращение.
Если я не творю добро из нравственности, я не требую, чтобы его делали мне. Если я заболеваю, больше всего меня тяготит то, что я заставляю кого-то заботиться обо мне — мне самому было бы противно заботиться о другом. Я никогда не навещал заболевших друзей. Всякий раз, когда я заболевал и меня навещали, каждое посещение я воспринимал как неудобство, оскорбление, неоправданное вторжение в мое личное пространство. Я не люблю, когда мне что-то дают; тем самым меня словно заставляют тоже давать — тому же человеку или другому, кому бы то ни было.
Я очень компанейский человек в глубоко отрицательной форме. Я — воплощение безобидности. Но и не более того — я не хочу быть чем-то большим, я не могу быть чем-то большим. Ко всему сущему я испытываю зрительную нежность, ласку разума — но ничего в сердце. Я ничему не верю, ни на что не надеюсь, не занимаюсь никакой благотворительностью. Мне до тошноты и исступления противны все искренние люди со всей их искренностью и все мистики со всем их мистицизмом или, если точнее выразиться, искренность всех искренних людей и мистицизм всех мистиков. Эту тошноту я ощущаю почти физически, когда этот мистицизм активен, когда они пытаются убедить чужой разум или сподвигнуть чужую волю, найти истину или преобразовать мир.
Я считаю себя счастливцем, потому что у меня уже нет родственников. Благодаря этому я не считаю себя обязанным кого-либо любить — меня это неизбежно тяготило бы. Тоску по чему бы то ни было я испытываю только в литературном смысле. Я вспоминаю свое детство со слезами, но слезы эти — ритмические, в них уже готовится проза. Я вспоминаю его как нечто внешнее и посредством внешних вещей; я вспоминаю только внешние вещи. В детстве меня умиляет не тот покой, который я ощущал провинциальными вечерами, а приготовление стола к чаепитию, очертания мебели вокруг дома, лица и физические жесты людей. Я тоскую по картинам. Поэтому мое детство умиляет меня так же, как детство кого-то другого: оба они в прошлом — а что есть прошлое, я не знаю — представляют собой чисто зрительные явления, которые я воспринимаю с литературным вниманием. Да, я умиляюсь, но не потому, что помню, а потому, что вижу.
Я никогда никого не любил. Больше всего я любил мои ощущения — состояния осознанного зрения, впечатления внимательного слуха, ароматы, посредством которых со мной общается смиренность внешнего мира, рассказывая мне что-то о прошлом (так просто вспоминать посредством запахов) — то есть то, что дает мне больше реальности, больше эмоций, чем обыкновенный хлеб, что печется в глубине булочной, как в тот далекий вечер, когда вернулся из изгнания мой дядя, так меня любивший и вызывавший во мне нежность облегчения, сам не знаю отчего.
Такова моя мораль, моя метафизика или сам я: вечный путник — даже в моей собственной душе — я ничему не принадлежу, ничего не желаю, ничем не являюсь — абстрактное средоточие безличных ощущений, упавшее чувствующее зеркало, обращенное к разнообразию мира. При этом я не знаю, счастлив ли я или нет; да мне это и неважно.
209.
Сотрудничать, связывать себя, действовать вместе с другими — это метафизически слабый импульс. Душа, данная индивиду, не должна быть подчинена его отношениям с другими. Божественный факт существования не должен ставиться в зависимость от дьявольского факта сосуществования.
Действуя вместе с другими, я теряю, по меньшей мере, одно — самостоятельное действие.
Когда я вступаю во взаимодействие, я себя ограничиваю, хотя кажется, что я расширяюсь. Жить вместе значит умирать. Для меня реально лишь мое самосознание; другие люди суть неясные явления в этом сознании, и вверять ему поистине подлинную реальность было бы проявлением слабости.
Ребенок, который непременно хочет вести себя как ему вздумается, находится ближе к Богу, потому что хочет существовать.
Наша взрослая жизнь сводится к тому, чтобы раздавать милостыню другим. Все мы живем за счет чужой милостыни. Мы растрачиваем нашу личность в оргиях сосуществования.
Каждое сказанное слово нас выдает. Единственное терпимое общение — это написанное слово, потому что это не камень, брошенный с моста в души, а луч света между звездами.
Объяснять означает не верить. Вся философия — это дипломатия под видом вечности ‹…›, как дипломатия, нечто ложное по сути своей, что существует не как вещь, а целиком и полностью ради некоей цели.
Единственная благородная доля для писателя, который издает свои произведения, заключается в том, чтобы не обладать той славой, которую он заслуживает. Но настоящая благородная доля выпадает тому писателю, который ничего не издает. Я не говорю о том, кто не пишет, потому что тогда он не писатель. Я говорю о том, кто по природе своей пишет и по своему духовному складу не предлагает то, что пишет.
Писать значит придавать грезам объективность, создавать внешний мир как очевидную награду (?) для нашего нрава созидателей. Издавать значит дарить этот внешний мир другим; но зачем, если общий для нас и для них внешний мир — это настоящий «внешний мир», материальный, зримый и осязаемый мир? Что имеют общего другие с вселенной, существующей во мне?
210.
Эстетика уныния
Издавать написанное значит обобществлять самого себя. Какая отвратительная необходимость! Но при этом далекая от действия — издатель зарабатывает, типограф производит. Заслуга непоследовательности, по крайней мере.
Одна из главных забот человека, достигшего разумного возраста, состоит в том, чтобы изваять себя, действующего и мыслящего, по образу и подобию своего идеала. Поскольку ни один идеал не воплощает так, как бездействие, всю логику нашей духовной аристократии на фоне современного шума и внешнего лоска, Бездеятельность, Праздность должна быть нашим идеалом. Несерьезно? Возможно. Но это будет казаться злом лишь тем, кого привлекает несерьезность.
211.
Энтузиазм — это хамство.
Выражение энтузиазма — это, прежде всего, нарушение прав нашей неискренности.
Мы никогда не знаем, когда мы искренни. Возможно, никогда. И даже если сегодня мы искренни, завтра мы можем быть искренни совсем по противоположному поводу.
Что до меня, то у меня не было убеждений. У меня всегда были впечатления. Я никогда не смог бы ненавидеть землю, где бы я увидел возмутительный закат.
Выражать впечатления скорее значит убеждать себя в том, что они у нас есть, чем иметь их.
212.
Иметь свое мнение значит продаться самому себе. Не иметь мнения значит существовать. Иметь все мнения значит быть поэтом.
213.
У меня все испаряется. Вся моя жизнь, мои воспоминания, мое воображение и то, что оно содержит, моя личность — все испаряется. Я постоянно чувствую, что был другим, чувствовал по-другому, думал иначе. То, при чем я присутствую, это спектакль с другими декорациями. И то, при чем я присутствую, есть я.
Иногда я обнаруживаю в заурядном беспорядке моих литературных ящиков листы бумаги, исписанные десять, пятнадцать лет назад, может быть, еще раньше. И многие из них кажутся мне чужими: я не узнаю в них себя. Был тот, кто их написал, и это был я. Я их прочувствовал, но это было словно в другой жизни, от которой я теперь пробудился, словно от чужого сна.
Я часто нахожу вещи, написанные мной, когда я был еще очень молод — отрывки, написанные в семнадцать или в двадцать лет. И в некоторых из них есть такая сила выражения, которую я за собой не помню в том возрасте. Есть в некоторых фразах, в различных периодах вещей, написанных в двух шагах от моего отрочества, что-то такое, что будто бы было написано мною таким, какой я есть сейчас, воспитанный годами и событиями. Я признаю, что нынче я такой же, каким был тогда. И, почувствовав, что сегодня я ушел далеко вперед, по сравнению с тем, каким был, я спрашиваю, где весь этот прогресс, если тогда я был таким же, какой я сегодня.
В этом есть тайна, которая лишает меня смелости и подавляет меня.
Несколько дней назад я испытал сильнейшее впечатление от короткой записи из моего прошлого. Я прекрасно помню, что мои сомнения, по крайней мере относительные, касательно языка возникли всего несколько лет назад. В одном из ящиков я обнаружил мою намного более давнюю запись, в которой подчеркивались эти сомнения. Я положительно не понял себя в прошлом. Как я дорос до того, чем я уже был? Как я познал в себе сегодня то, чего не знал вчера? И все это путает меня в лабиринте, в котором я сам с собой теряю себя.
Я предаюсь фантазиям, и при этом я уверен, что то, что я пишу, я уже написал. Я помню. И спрашиваю того, кто якобы есть во мне, нет ли в платонизме ощущений другого, более наклонного анамнеза, другого воспоминания о предшествующей жизни, которое являлось бы лишь воспоминанием об этой жизни…
Боже мой, боже мой, при ком я присутствую? Сколько меня есть? Кто я? Что это за промежуток, что есть между мною и мною?
214.
В другой раз я нашел мой отрывок, написанный по-французски еще пятнадцать лет назад. Я никогда не бывал во Франции, никогда не спорил с французами и, вследствие этого, никогда не упражнялся в этом языке, чтобы мочь от него отвыкнуть. Сегодня я читаю по-французски столько же, сколько и всегда. Я стал старше, опытнее в размышлениях: я должен был бы добиться прогресса. А этот отрывок из моего далекого прошлого показывает такую уверенность в использовании французского, которой ныне я не располагаю; он написан в плавном стиле, которого сегодня у меня не могло бы быть в этом языке; есть целые отрывки, полные фразы, формы и способы выражения, подчеркивающие владение этим языком, которого я лишился, даже не помня, что когда-то оно у меня было. Чем это объяснить? Кого я заменил в самом себе?
Я хорошо знаю, что легко сформулировать теорию плавности вещей и душ, понять, что мы — внутреннее течение жизни, представить, что то, чем мы являемся, есть большая величина, которую мы проводим через себя, что мы были многими… Но здесь есть и кое-что другое, что не является простым течением личности в собственных берегах: есть абсолютно иное, чужое существо, которое было мною. Потеряй я с возрастом воображение, эмоции, определенный вид мышления, определенный вид чувства — все это хотя и тяготило бы меня, но не изумило бы. Но чему я являюсь свидетелем, когда я читаю себя, словно чужого человека? На каком берегу я нахожусь, если вижу себя на дне?
В другие разы, находя какие-то отрывки, я не помню, что писал их — этого мало, чтобы изумить, — но не помню даже, что я мог их написать — и это вселяет в меня страх. Некоторые фразы — плод другого образа мыслей. Я как будто нахожу старинный портрет, без сомнения мой: я на нем другого роста, с неизвестными чертами — но это, безусловно, я, пугающе я.
215.
Я придерживаюсь самых противоположных мнений, самых различных верований. Дело в том, что я никогда не думаю, не говорю, не действую… За меня всегда думает, говорит, действует какая-нибудь моя мечта, в которой я в данный момент воплощаюсь. Я собираюсь говорить и говорю я-другой. От себя я ощущаю лишь огромную неспособность, безмерную пустоту, неосведомленность перед лицом всего того, что является жизнью. Мне неведомы жесты ни одного реального действия ‹…›
Я так и не научился существовать.
Я получаю все, чего желаю, главное, чтобы это все было во мне.
Я хочу, чтобы прочтение этой книги оставило у вас впечатление тоски, переливающейся в сладострастный кошмар.
То, что прежде было нравственным, сегодня для нас стало эстетическим… То, что было общественным, сегодня стало личным…
Зачем глядеть в сумерки, если во мне тысячи различных сумерек — некоторые из них таковыми не являются, — и если вместо того, чтобы высматривать их в себе, я внутри ими и являюсь?
216.
Закат разбрызган по обособленным облакам, которые расползлись по всему небу. Отблески всех цветов, мягкие отблески наполняют разнообразие высокого воздуха, отсутствующе плывут в просторной печали вышины. На вершинах вознесенных крыш — полуцвет, полутени, последние медленные лучи уходящего солнца обретают формы цвета, не принадлежащие ни им, ни тому, что они озаряют. Великий покой царит над шумным уровнем города, который тоже постепенно успокаивается. Все дышит за пределами цвета и звука, глубоким и немым дыханием.
На расцвеченных домах, которые солнце не видит, цвета начинают отливать их серыми оттенками. От разнообразия этих цветов веет холодом. Легкое беспокойство спит в ложных низинах улиц. Спит и лежит спокойно. И мало-помалу, в самых низких из высоких облаков появляются отблески тени; лишь в том маленьком облаке, что парит надо всем, словно белый орел, солнце сохраняет издалека свое смеющееся золото.
Все, чего я искал в жизни, я сам перестал искать. Я подобен человеку, который рассеянно ищет то, что забыл, пока спал среди поисков. Становится реальнее, чем отсутствующая искомая вещь, реальное движение зримых ищущих рук, которые переворачивают, переставляют, перекладывают и — существуют, белые и длинные, ровно с пятью пальцами на каждой из них.
Все, что было у меня, подобно этому высокому, по-разному одинаковому небу, лохмотьям небытия, озаренным далеким светом, обрывкам ложной жизни, которую смерть золотит издалека своей грустной улыбкой полной истины. Все, что у меня было, действительно было неумением искать, феодальным сеньором вечерних болот, пустынным властителем города пустых курганов.
Все, чем я являюсь, или чем я был, или чем я думаю, что являюсь или был, все это вдруг лишается — в этих моих мыслях и во внезапном исчезновении света из высокого облака — тайны, истины, удачи, быть может, которые могли бы быть в чем-то, что жизнь таит. Это все, словно недостающее солнце, и есть то, что у меня остается, и на высоких крышах свет по-иному дает соскальзывать своим падающим рукам, и на обозрение выступает, в единстве крыш, сокровенная тень всего.
Словно неясная трепещущая капля, вдали загорается первая звезда.
217.
Все движения чувствительности, какими бы они ни были приятными, суть всегда прерывания какого-то состояния, которое неизвестно в чем заключается и которое представляет собой внутреннюю жизнь этой самой чувствительности. От себя нас отвлекают не только большие заботы, но даже мелкие раздражения нарушают покой, к которому все мы, сами того не зная, стремимся.
Мы живем почти всегда снаружи себя, и сама жизнь — это постоянное рассеяние. Однако мы тяготеем к самим себе, как к центру, вокруг которого мы совершаем, словно планеты, нелепые и далекие эллиптические движения.
218.
Я старее Времени и Пространства, потому что обладаю сознанием. Вещи проистекают из меня; вся Природа есть первенец моего ощущения.
Я ищу — и не нахожу. Хочу — и не могу.
Без меня солнце рождается и гаснет; без меня льется дождь и стонет ветер. От меня не зависят времена года, течение месяцев, протекание часов.
Я — господин мира в самом себе, как и земель, которые не могу унести с собой ‹…›
219.
Моя душа, это деятельное средоточие ощущений, иногда сознательно гуляет со мной по ночным улицам города в тоскливые часы, когда я чувствую себя грезой среди грез другого рода, при свете ‹…› газовых фонарей, среди преходящего шума автомобилей.
В то самое время, когда телом я углубляюсь в улочки и переулки, моя душа превращается в сложный лабиринт ощущений. Все то, что может породить тревожное понимание нереальности и притворного существования, все, что говорит слогами, не обращаясь к рассудку, но конкретно и ‹…›, чем пустее место вселенной, объективно проявляется в моем отстраненном духе. Меня тревожит, сам не знаю почему, эта объективная протяженность узких и широких улиц, эта ‹…› череда фонарей, деревьев, освещенных и темных окон, закрытых и открытых парадных, разнородных ночных очертаний, которые мое близорукое зрение, придавая им еще большую неточность, помогает сделать субъективно чудовищными, непонятными и нереальными.
Словесные обрывки зависти, похоти, обыденности режут мне слух. Бормочущий шепот ‹…› извивается, проникая в мое сознание.
Мало-помалу я теряю отчетливое осознание того, что сосуществую в пространстве всего этого, что я действительно двигаюсь, слыша и плохо видя среди теней, представляющих существа и места, в которых эти существа располагаются. Постепенно мне становится мрачно и безразлично непонятно, как все это может существовать перед лицом вечного времени и безграничного пространства.
Вследствие пассивной ассоциации соединения идей я начинаю думать о людях, у которых было аналитическое осознание этого пространства и этого времени и которые его, разумеется, утратили. Мне кажется гротескной мысль о том, что среди таких людей, безусловно, в такие ночи, как эта, в городах, наверняка не отличающихся по сути от того, в котором я думаю, Платоны, Скоты Эриугены, Канты, Гегели смогли забыть обо всем этом, сумели стать отличными от этих людей ‹…› И они принадлежали тому же человечеству.
Сам я, прогуливающийся здесь с этими мыслями и размышляющий о них — с какой ужасающей четкостью я чувствую себя далеким, чужим, смятенным и ‹…›
Я завершаю мое одинокое паломничество. Всеохватное молчание, восприятие которого не нарушают мелкие звуки, словно набрасывается и подчиняет меня. Безмерная усталость от простых вещей, от самого пребывания здесь, от ‹…› моего состояния давит на меня духовно и телесно ‹…› Я почти удивляюсь своему желанию кричать, чувствуя, что тону в океане ‹…›, чья безмерность не имеет ничего общего с бесконечностью пространства, с вечностью времени или с чем-либо, что может иметь размер и имя. В такие мгновения возвышенно молчаливого ужаса я не знаю, кто я материально, что я обычно делаю, что я привык хотеть, чувствовать и думать. Я чувствую себя потерянным в самом себе, вне досягаемости для меня самого. Нравственная тревога борьбы, умственное усилие систематизации и понимания, беспокойное художественное стремление создать нечто, чего я сейчас не понимаю, но что я, как помню, понимал прежде и что называю красотой — все это ускользает от моего инстинкта настоящего, все это представляется мне недостойным даже того, чтобы мыслить о нем как о чем-то бесполезном, пустом и далеком. Я чувствую себя лишь пустотой, иллюзией некоей души, местопребыванием некоего существа, темнотой сознания, в котором странное насекомое ‹…› напрасно ищет хотя бы теплого воспоминания о свете.
220.
Болезненный интервал
Мечтать — зачем?
Что я сделал с собой? Ничего.
Если я одухотворюсь в Ночи, если ‹…›
Внутренняя статуя без очертаний, Внешняя Мечта, которая не мечталась.
221.
Я всегда был ироничным мечтателем, не выполнявшим внутренних обещаний. Я всегда наслаждался, словно посторонний и другой, поражениями моих фантазий, чувствуя себя случайным свидетелем того, кем я, как я думал, был. Я никогда не доверял тому, во что верил. Я наполнил руки песком, назвал его золотом и раскрыл руки, дав ему высыпаться. Фраза была единственной истиной. Сказанная фраза делала все; прочее было песком, который был всегда.
Если бы не постоянные мечтания, не жизнь в вечном отчуждении, я бы мог по праву называть себя реалистом, то есть человеком, для которого внешний мир — это независимое государство. Но я предпочитаю не давать себе имен, быть тем, что я есть, с некоторой неясностью и держать при себе лукавство, заключающееся в моем неумении себя предугадывать.
У меня есть своего рода обязанность все время мечтать, поскольку, будучи лишь зрителем самого себя и не желая быть ничем иным, я должен созерцать лучший спектакль, какой только может быть. Так я выстраиваю себя из золота и шелков, в воображаемых залах, на ложной сцене, среди старинных декораций — это греза, созданная среди игры мягкого света и видимой музыки.
Внутри я храню, словно память о приятном поцелуе, детское воспоминание о театре, где декорации в синеватых и лунных оттенках изображали террасу невозможного дворца. Вокруг был обширный парк, тоже нарисованный, и я истратил свою душу на то, чтобы прочувствовать все это как нечто настоящее. Музыка, которая мягко звучала в этом духовном событии из моего жизненного опыта, превращала эти декорации в лихорадочную реальность.
Декорации были решительно синими и лунными. Я не помню, кто появлялся на сцене, но сегодня мне кажется, что пьеса, которую я помещаю в запомненный пейзаж, состояла из стихов Верлена и Пессаньи[29]; она, попавшая на живую сцену по эту сторону той музыкально-голубой реальности, была не из тех, что я забываю. Был моим и плавным тот бесконечный лунный маскарад, завершенная интерлюдия из серебра и лазури.
Потом пришла жизнь. В ту ночь меня отвели на ужин в «Лев». Я до сих пор храню память о вкусе отбивных на нёбе ностальгии — таких отбивных, каких, как я знаю или предполагаю, сегодня никто не делает или каких я не ем. И все у меня смешивается — детство, прожитое на расстоянии, вкусная вечерняя еда, лунные декорации, будущий Верлен и настоящий я — в расплывчатой диагонали, в ложном пространстве между тем, чем я был, и что я есть.
222.
Как в дни, когда назревает гроза и уличный шум громко говорит одиноким голосом.
Улица хмурилась насыщенным и бледным светом, и тусклая чернота содрогнулась от востока до запада мира от грохота раскатистых взрывов… Суровая грусть грубого дождя усугубила черный воздух некрасивой насыщенностью. Холодный, теплый, горячий — всё одновременно — воздух повсюду был неправильным. А затем в просторном зале клин металлического света прорвался в покой человеческих тел и россыпь звуков обрушила со всех сторон внезапный ледяной удар, рассыпаясь в жесткую тишину. Звук дождя ослаб, как более мягкий голос. Шум улиц ослаб тревожно. Новый свет с резкими желтоватыми тонами драпирует глухую черноту, но теперь проявилось возможное дыхание до того, как кулак дрожащего звука мгновенно отразился эхом с другой стороны; словно прерванное прощание, гроза начинала исчезать.
…Долго, затухающе шепча, без света в нарастающем свете, трепет грозы успокаивался в далеких просторах — он перекатывался в Альмаду…
Внезапно расплющился яркий свет. Все вдруг замерло. Сердца на мгновение остановились. Все люди очень чувствительны. Тишина ужасает так, как если бы в ней была смерть. Звук нарастающего дождя приносит облегчение, как слезы. Наползает свинец.
223.
Меч вялой молнии печально ввалился в широкую комнату. И последовавший за ним звук, словно глубокий задержанный вздох, прогремел, проникая вглубь. Громко заплакал шум дождя, как плакальщицы в промежутках между разговорами. Мелкие звуки беспокойно зашелестели здесь, внутри.
224.
…тот эпизод воображения, который мы называем реальностью.
Уже два дня из серого холодного неба льет дождь — его цвет удручает душу. Уже два дня… Мне грустно чувствовать, и я размышляю об этом у окна, под шум капающей воды и льющего дождя. Мое сердце подавлено, а воспоминания преобразуются в тревоги.
Без сна, без причины, чтобы хотеть спать, я испытываю сильное желание спать. Некогда, когда я был счастливым ребенком, во дворе соседнего с нашим дома жил голос разноцветного зеленого попугая. В дождливые дни его речь никогда не становилась грустной и выражала, не сомневаясь найти убежище, любое постоянное чувство, которое парило над грустью, словно преждевременно появившийся граммофон.
Я подумал об этом попугае потому, что мне грустно и о нем мне напоминает далекое детство? Нет, я подумал о нем по-настоящему, потому что из нынешнего соседнего двора доносятся прерывистые крики попугая.
Все меня путает. Когда я полагаю, что помню, я думаю о чем-то другом; если вижу, не замечаю, а когда отвлекаюсь, вижу отчетливо.
Я поворачиваюсь спиной к серому окну, чьи стекла обдают холодом касающуюся их руку. И, благодаря чарам полумрака, я вдруг уношу с собой интерьер старого дома, за которым, в соседнем дворе, кричал попугай; и мои глаза засыпают от всей неисправимости пережитого.
225.
Да, закат. Неторопливо и рассеянно я дохожу до конца Таможенной улицы, и, когда передо мной открывается Террейру-ду-Пасу, я отчетливо вижу бессолнечность западного неба. Это зеленовато-голубое небо переливается в серо-белый оттенок там, слева, где над горами на другом берегу скученно таится каштановый туман с мертвенно-розовым отливом. Великий покой, которого нет у меня, холодно разлит в абстрактном осеннем воздухе. Я страдаю оттого, что не испытываю смутного удовольствия от предположения о его существовании. Но, на самом деле, нет ни покоя, ни его отсутствия: лишь небо, небо всех млеющих цветов — бело-голубого, все еще синевато-зеленого, бледно-серого между зеленым и голубым, смутные тона цветов облаков, желтовато затемненных ушедшим красным. И все это — образ, который растворяется в то же мгновение, когда его видишь, в промежутке между ничем, крылатый, помещенный в вышине, в тонах неба и тревоги, пространный и неопределенный.
Чувствую и забываю. Ностальгия, которую испытывают все люди по всему, вливается в меня из холодного воздуха, словно опиум. Во мне — экстаз созерцания, сокровенный и поддельный.
Со стороны отмели, где закат солнца все больше клонится к концу, свет затухает в мертвенной белизне, голубеющей в холодной зеленоватости. В воздухе висит оцепенение того, что недостижимо. Пейзаж неба громко молчит.
В этот час, когда меня переполняют чувства, я хотел бы обладать полноценным лукавством выражения, вольной прихотью определенного судьбой стиля. Но нет, лишь высокое небо есть все, далекое, упраздняющее себя, и испытываемое мною переживание, которое состоит из многих, сомкнувшихся и спутавшихся, это лишь отражение этого ничтожного неба в некоем озере внутри меня — озере, заточенном среди торчащих утесов, молчаливом, как взгляд мертвеца, в котором созерцает себя забытая вышина.
Сколько, сколько раз меня, как сейчас, тяготило чувство того, что я чувствую — чувство словно тревоги от самого бытия, беспокойство от пребывания здесь, тоска по чему-то другому, что осталось непознанным, закат всех переживаний, чувство того, как я желтею, увядая в серой грусти, в моем внешнем осознании себя.
О кто меня спасет от существования? Не смерти я хочу и не жизни, а того другого, что блестит на дне тревоги, словно алмаз в пещере, в которую нельзя спуститься. Это — вся тяжесть и вся тревога этой реальной и недосягаемой вселенной, этого неба, подобного штандарту неведомого войска, этих оттенков, что бледнеют в притворном воздухе, из которого воображаемая растущая луна выплывает в замершей электрической белизне, перекроенная в нечто далекое и бесчувственное.
Пустой труп высокого неба и закрытой души — это полное отсутствие настоящего Бога. Бесконечная тюрьма — потому что ты бесконечна, сбежать от тебя нельзя!
226.
С каким сладострастием ‹…› и с каким трансцендентным «я», гуляя иногда по улицам ночного города и взирая из глубины души на очертания зданий, на различия строений, на детали их архитектуры, на свет в некоторых окнах, на горшки с растениями на подоконниках, — так вот, созерцая все это, с каким интуитивным наслаждением я чувствовал, как к губам сознания поднимается искупительный крик: да ведь во всем этом нет ничего настоящего!
227.
Я предпочитаю прозу стихам как метод искусства по двум причинам, из которых одна — моя личная, заключающаяся в том, что у меня нет выбора, потому что я неспособен писать стихами. Зато вторая причина есть у всех, и я уверен, что она не является тенью или маской первой. Ее стоит разобрать, потому что она затрагивает сокровенную сущность всей ценности искусства.
Я считаю стихи чем-то промежуточным, переходом от музыки к прозе. Подобно музыке, стихи ограничены законами ритма, которые, хотя и не являются строгими законами правильного стихосложения, все же существуют в качестве защиты, принуждения, автоматических приспособлений подавления и наказания. В прозе мы изъясняемся свободно. Мы можем включить в нее музыкальные ритмы и при этом думать. Мы можем включить поэтические ритмы и при этом находиться вне их. Случайный ритм стиха не мешает прозе; случайный ритм прозы нарушает стих.
Проза вбирает в себя все искусство — отчасти потому, что в слове содержится весь мир, отчасти потому, что в свободном слове содержится вся возможность высказать и помыслить его. В прозе мы передаем все через перестановку: цвет и форму, которые живопись может передать лишь непосредственно, в них самих, без внутреннего измерения; ритм, который музыка может передать лишь непосредственно, в нем самом, без формального тела, без того второго тела, коим является идея; структуру, которую архитектор должен составлять из твердых, заданных, внешних элементов, а мы возводим в ритмы, в нерешительность, в текучесть и плавность; реальность, которую скульптор должен оставлять в мире, без облика и без пресуществления; поэзию наконец, в которой поэт, словно посвященный из тайного ордена, является рабом, пусть и добровольным, степени и ритуала.
Я считаю, что в идеальном цивилизованном мире не существовало бы иного искусства, кроме прозы. Мы бы оставили закаты самим закатам, заботясь в искусстве лишь о том, чтобы понять их словесно, перенося их таким образом во внятную музыку сердца. Мы бы не ваяли тела, которые, при взгляде на них и при прикосновении к ним, сохраняли бы свою подвижную рельефность и мягкую теплоту. Мы бы строили дома лишь для того, чтобы жить в них, ведь, в конце концов, для этого они и существуют. Поэзия осталась бы уделом детей для того, чтобы приблизиться к будущей прозе; ведь очевидно, что поэзия есть нечто детское, мнемоническое, вспомогательное и начальное.
Даже менее значимые искусства или те, которые мы можем так назвать, отражаются, шепча, в прозе. Есть проза, которая танцует, поет, декламирует саму себя. Есть словесные ритмы, которые танцуются, в которых мысль извилисто обнажается, преисполненная просвечивающей и совершенной чувственности. И в прозе есть также судорожные тонкости, в которых великий актер, Слово, ритмически преображает в свою телесную сущность неосязаемую тайну вселенной.
228.
Все взаимопроникает. Чтение классиков, которые не говорят о закатах, объяснило мне многие закаты во всех их цветах. Есть взаимосвязь между синтаксической грамотностью, в которой выражается ценность существ, звуков и форм, и способностью понимать, когда синева неба на самом деле зеленая и какая часть желтого присутствует в зеленой синеве неба.
По сути это одно и то же — способность различать и мудрствовать. Без синтаксиса не бывает длительных эмоций. Бессмертие есть производная грамматиков.
229.
Читать значит грезить чужими руками. Читать плохо и вслух значит освобождаться от руки, которая нас ведет. Поверхностность эрудиции — лучший способ читать хорошо и быть глубоким человеком.
Как гнусна и ничтожна жизнь! Заметь, что для того, чтобы она была гнусной и ничтожной, достаточно, чтобы ты ее не любил, чтобы она была тебе дана, чтобы ничего не зависело от твоей воли и даже от твоей иллюзии о твоей воле.
Умереть значит стать совершенно другими. Поэтому самоубийство — это трусость, оно означает полную отдачу себя жизни.
230.
Искусство — это уклонение от действий или от жизни. Искусство — это интеллектуальное выражение переживания, отличающееся от жизни, которая представляет собой волевое выражение переживания. Тем, чего у нас нет, или на что мы не отваживаемся, или чего не добиваемся, мы можем владеть в мечте, и при помощи этой мечты мы творим искусство. В другие мгновения переживание настолько сильно, что, даже если оно сведено к действию, действие, к которому оно сводится, не удовлетворяет его; из остающегося переживания, не нашедшего выражения в жизни, образуется произведение искусства. Таким образом, есть два типа творческих людей: те, кто выражает то, чего у них нет, и те, кто выражает то, что у них осталось.
231.
Создать произведение и затем признать его плохим — одна из трагедий души. Она особенно велика, когда признают, что это произведение — лучшее, что можно было сделать. Но намереваться написать произведение, заранее зная, что оно должно быть несовершенным и неправильным; видеть, создавая его, что оно несовершенно и неправильно — это худшая из пыток и верх духовного унижения. Я не только чувствую, что стихи, которые я пишу, не удовлетворяют меня, я знаю, что стихи, которые я собираюсь написать, тоже меня не удовлетворят. Я знаю это и в философском, и в плотском смысле, благодаря темному и острому ви́дению.
Зачем же я тогда пишу? Потому что, проповедуя отречение, я еще не научился полностью отрекаться. Я не научился отказываться от склонности к стихам и к прозе. Я должен писать, словно отбывая наказание. А худшее наказание заключается в осознании того, что я пишу нечто совершенно никчемное, неудачное и неясное.
В детстве я писал стихи. Тогда я писал очень плохие стихи, но считал их совершенными. Я никогда больше не испытаю ложного удовольствия от создания совершенного произведения. То, что я пишу сегодня, намного лучше. Даже лучше того, что могли бы написать лучшие. Но это неизмеримо ниже того, что я, сам не знаю почему, чувствую, что мог бы — или, возможно, должен был бы — написать. Я плачу над моими плохими детскими стихами, как над умершим ребенком, над умершим сыном, над последней надеждой на что бы то ни было.
232.
Чем дальше мы движемся по жизни, тем больше убеждаемся в двух истинах, которые, однако, друг другу противоречат. Первая состоит в том, что перед реальностью жизни бледнеют все вымыслы литературы и искусства. Конечно, они приносят нам более благородное удовольствие, чем то, что дает жизнь; однако они подобны снам, в которых мы испытываем те чувства, что не испытываем в жизни, и в которых сопрягаются те формы, что в жизни не встречаются; при всем том это — сны, от которых пробуждаешься, сны, не оставляющие воспоминаний или ностальгии, с которыми мы затем могли бы прожить вторую жизнь.
Вторая истина заключается в том, что всякая благородная душа желает пройти всю жизнь целиком, испытать все, извлечь опыт из всех вещей, всех мест и всех чувств, но это невозможно, а значит, жизнь можно прожить целиком лишь субъективно, лишь в отрицании ее полной сущности.
Эти две истины невозможно свести друг к другу. Мудрец воздержится от того, чтобы их сопрягать, но он воздержится и от того, чтобы отвергать одну или вторую. При этом ему придется следовать одной из них, тоскуя по второй, которой он не следует; или отвергнуть обе, возвысившись над собой в собственной нирване.
Счастлив тот, кто требует от жизни лишь того, что она произвольно дает ему, руководствуясь инстинктом кошек: они ищут солнце, когда оно светит, а когда солнца нет, они ищут тепло, где бы оно ни было. Счастлив тот, кто отрекается от своей личности посредством воображения и наслаждается созерцанием чужих жизней, проживая не все впечатления, а внешнее проявление всех чужих впечатлений. Счастлив, наконец, тот, кто отрекается от всего и кого нельзя ни прогнать, ни унизить, потому что он от всего отрекся.
Крестьянин, читатель романов, чистый аскет — все эти трое счастливы в жизни, потому что все они отрекаются от личности — один потому, что живет посредством безличностного инстинкта, второй потому, что живет посредством воображения, которое является забвением, третий потому, что не живет и, не умерев, спит.
Ничто меня не удовлетворяет, ничто не утешает, все, что было и чего не было, меня пресыщает. Я не хочу иметь душу и не хочу от нее отрекаться. Желаю того, чего не желаю, и отрекаюсь от того, чего у меня нет. Я не могу быть ничем и не могу быть всем: я связующий мост между тем, чего у меня нет, и тем, чего я не хочу.
233.
…торжественная грусть, что обретается во всем великом — на вершинах и в великих жизнях, в глубоких ночах и в вечных поэмах.
234.
Мы можем умереть, только если любили.
235.
Лишь однажды я был по-настоящему любим. Симпатию я вызывал всегда и у всех. Даже самому случайному человеку нелегко было быть со мной грубым или резким или даже холодным. Некоторые симпатии с моей помощью — по крайней мере, вероятно — могли бы превратиться в любовь или привязанность. Мне никогда не хватало терпения или душевного внимания даже для того, чтобы пожелать предпринять это усилие.
Заметив это в себе, я поначалу решил — как же плохо мы знаем себя — что в этом случае в моей душе имелась причина, продиктованная робостью. Но затем я обнаружил, что ее не было; была тоска от переживаний, отличавшаяся от тоски от жизни, нетерпимость к мысли о том, что я свяжу себя каким-то постоянным чувством, особенно если его нужно будет сопровождать длительным усилием. К чему? — думало во мне то, что не думает. У меня хватает тонкости, психологического такта, чтобы знать «как»; но «как именно» всегда от меня ускользало. Слабость моей воли всегда проистекала от слабости желания обладать волей. Так у меня происходило в переживаниях, так происходит и в разуме, и в самой воле, и во всем том, что есть жизнь.
Но после того раза, когда лукавство благоприятного случая заставило меня поверить в то, что я люблю, и действительно убедиться в том, что я любим, я сначала был ошеломлен и смущен, как если бы выиграл большую премию в неконвертируемых деньгах. Затем я ощутил некоторое тщеславие, поскольку ни один человек не может его не испытывать; однако эта эмоция, казавшаяся мне самой естественной, быстро прошла. После этого меня посетило чувство, которое трудно определить, но в котором неприятно сочетались тоска, унижение и утомление.
Тоска, как если бы Судьба дала мне задание для неведомой ночной работы. Тоска, как если бы новый долг — долг ужасной взаимности — иронически наделил меня привилегией, которую я должен был терпеть через силу, благодаря за нее Судьбу. Тоска, как если бы мне не хватало непрочного однообразия жизни и я наложил на него неизбежное однообразие определенного чувства.
И унижение, да, унижение. Я не сразу понял, почему меня посетило это чувство, которое внешне так мало оправдывалось своей причиной. Должно быть, передо мной явилась любовь к тому, что я любим. Я должен был бы гордиться тем, что кто-то внимательно наблюдает за моим существованием, как за существованием любимого существа. Но, вслед за кратким мгновением подлинного тщеславия — я все еще не знаю, не было ли в нем больше изумления, чем собственно тщеславия, — я испытал в себе ощущение унижения. Я почувствовал, что мне была дана своего рода награда, предназначенная другому — да, ценная награда тому, кто естественным образом ее заслуживал.
Но утомление, прежде всего утомление — утомление, которое превосходит тоску. Тогда я понял фразу Шатобриана, которая всегда меня обманывала из-за того, что мне недоставало собственного опыта. Шатобриан, воплощаясь в Рене, говорит, что «любовь к нему его утомляла» — «on le fatigait en l’aimant»[30]. Я с изумлением осознал, что этот опыт был тождествен моему, а значит, его истинность я не имел права отрицать. Утомление оттого, что ты любим, любим по-настоящему!
Утомление оттого, что ты — предмет бремени чужих переживаний! Превратить того, кто хотел быть свободным, всегда свободным, в мальчика на побегушках у ответственности соответствовать, у соблюдения приличий, требующих не исчезать, чтобы не возникало предположений, что ты — властитель переживаний и что ты отвергаешь всю полноту того, что может дать тебе человеческая душа. Утомление оттого, что существование оказывается полностью зависимым от отношений с чувствами другого человека! Утомление, в любом случае, от навязчивой необходимости чувствовать, от навязчивой необходимости тоже немного любить, пусть и без взаимности!
Это состояние покинуло меня, удалившись в тень, так же, как и пришло ко мне. Сегодня от него ничего не осталось ни в моем разуме, ни в моих чувствах. Оно не принесло мне никакого опыта, которого я не мог бы извлечь из законов человеческой жизни, инстинктивное знание которых я храню в себе, потому что я — человек. Оно не подарило мне и наслаждения, о котором я вспоминал бы с грустью, или горечи, о которой я тоже вспоминал бы с грустью. У меня сложилось впечатление, что это было нечто, о чем я где-то прочитал, случай, произошедший с другим, роман, который я прочитал наполовину и у которого второй половины не было — и мне было совершенно неважно, что ее не было, потому что то, что я прочитал, было написано хорошо, и, хотя смысла в нем не было, оно уже было таким, что недостающая часть не могла бы придать ему смысла, каким бы ни был сюжет.
Во мне лишь сохраняется благодарность той, которая меня любила. Но эта благодарность абстрактная, ошеломленная, идущая больше от разума, чем от какого-либо чувства. Мне жаль, что кто-то страдал по моей вине; и жаль мне только этого, ничего другого мне не жаль.
Будет неестественно, если жизнь устроит мне новую встречу с естественными переживаниями. Я почти что хочу, чтобы это произошло, чтобы увидеть, как я прочувствую это во второй раз, после того как я провел обстоятельный анализ первого опыта. Возможно, я буду чувствовать меньше; возможно, я буду чувствовать больше. Если Судьба мне это даст, пусть дает. Переживания мне любопытны. Факты, какими бы они ни были, не вызывают у меня ни малейшего любопытства.
236.
Не подчинять себя ничему — ни человеку, ни любви, ни идее, обладать такой отстраненной независимостью, которая состоит в том, чтобы не верить в истину и, если она существует, в пользу обладания ею — таково состояние, в котором, на мой взгляд, должна протекать сама по себе внутренняя умственная жизнь тех, кто не живет без размышлений. Принадлежать — вот банальность. Кредо, идеал, женщина или профессия — все это тюремная камера и оковы. Быть значит быть свободным. Даже устремления, если они — пустая гордость и страсть, являются бременем, и мы бы не гордились ими, если бы понимали, что это — поводок, за который нас тащат. Нет, никаких уз даже с нами самими! Будучи свободны от себя и от других, созерцая без экстаза, мысля без заключений, мы будем проживать, освобожденные от Бога, маленький перерыв, который рассеянность палачей дарит нашему исступлению. Завтра нас ждет гильотина. Если ее не будет завтра, она нас будет ждать послезавтра. Прогуляемся под солнцем перед концом, сознательно не отдавая себе отчета в целях и последствиях. Солнце позолотит наши лица без морщин, а легкий ветер подарит свежесть тем, кто перестанет ждать.
Я бросаю перо на письменный стол, и оно катится обратно по наклонной плоскости, на которой я работаю, а я его не трогаю. Я вдруг все почувствовал. И моя радость проявляется в этом жесте злости, которой я не чувствую.
237.
Заметки для жизненного правила
Нуждаться в том, чтобы господствовать над другими, значит нуждаться в других. Начальник — зависим.
Расширять личность, не включая в нее ничего чужого — не прося у других, не приказывая другим, а будучи другим, когда другие нужны.
Свести потребности к минимуму для того, чтобы ни в чем не зависеть от других.
Конечно, в абсолютном смысле такая жизнь невозможна. Но она не является невозможной в смысле относительном.
Возьмем в качестве примера начальника конторы. Он обязан иметь возможность заменять всех; он обязан уметь печатать на машинке, разбираться в бухгалтерии, уметь подметать контору. Поэтому пусть его зависимость от других будет лишь необходимостью не терять времени, а не необходимостью, обусловленной собственной некомпетентностью. Пусть он говорит практиканту «отнесите это письмо на почту» потому, что не хочет терять время, которое ему потребовалось бы, чтобы самому отнести его на почту, а не потому, что он не знает, где находится почта. Пусть он говорит служащему «разберитесь там с этим делом» потому, что он не хочет тратить на него время, а не потому, что не может сам с ним разобраться.
238.
Никакой определенной награды не приносит добродетель, никакого определенного наказания не приносит грех. И было бы несправедливо, если бы были такая награда или такое наказание. Добродетель или грех являются неизбежными проявлениями организмов, приговоренных к тому или другому и отбывающих наказание, заключающееся в том, чтобы быть хорошими или быть дурными. Поэтому все религии помещают вознаграждения и наказания, заслуженные теми, кто не был и не мог быть никем и потому оказался неспособен ничего заслужить, в другие миры, сведения о которых не может дать никакая наука и образ которых не может передать никакая вера.
Поэтому отречемся от всякой искренней веры, как и от всякой заботы повлиять на другого.
Жизнь, говорит Тард[31], это поиск невозможного при помощи бесполезного. Будем же искать всегда невозможное, потому что таков наш рок; будем искать это при помощи бесполезного, потому что путь не пролегает где-то еще; тем не менее, поднимемся к осознанию того, что не следует искать ничего, чего можно было бы достичь, и проходить там, где есть что-либо, заслуживающее ласки или ностальгии.
Мы устаем от всего, но не устаем понимать, сказал схолиаст. Будем же понимать, понимать всегда и лукаво плести венки или гирлянды, которые тоже увянут, из призрачных цветов этого понимания.
239.
Мы устаем от всего, за исключением понимания. Смысл этой фразы иногда трудно постичь.
Мы устаем, когда мыслим, стремясь прийти к какому-то заключению, потому что чем больше думаешь, тем больше анализируешь, тем больше различаешь и тем меньше приходишь к заключению.
Тогда мы впадаем в то состояние бездеятельности, в котором больше всего мы хотим как следует понять то, что выставлено напоказ, — это эстетическое поведение, поскольку мы хотим понять, не интересуясь, не заботясь о том, истинно ли понятое, или нет, не видя в том, что мы понимаем, что-либо помимо абстрактной формы, в которой это было выражено, не замечая положения рациональной красоты, которой оно для нас обладает.
Мы устаем от мыслей, от собственных мнений, от стремления думать ради действия. Мы, однако, не устаем, когда, пусть и ненадолго, выражаем чужие мнения ради единственной цели — почувствовать их влияние и не следовать их импульсу.
240.
Дождливый пейзаж
На всю ночь, на целые часы снаружи опустился стук дождя. Всю ночь, пока я полуспал, полубодрствовал, его холодная монотонность настойчиво стучала мне в окна. То порыв ветра в вышине щелкал, словно кнут, и звук воды колебался, а дождь будто проводил быстрыми руками по стеклу; то глухой звук лишь наводил сон в безликом внешнем пространстве. Моя душа была такой же, как и всегда, среди простыней, как среди людей, болезненно осознавая мир. День задерживался, как счастье, и в тот час казалось, что он задерживался бесконечно.
Если бы день и счастье так никогда и не наступили! Если бы я мог надеяться, не испытывая разочарования от обретения того, на что надеялся.
Случайный звук запоздалой машины, грузно подскакивавшей на камнях, нарастал из глубины улицы, грохотал под стеклом, затухал в глубине улицы, в глубине неясного сна, который ко мне так и не приходил. Время от времени стучала дверь на лестнице. Иногда слышалось жидкое топанье шагов, трение мокрой одежды. Порой, когда шагов было больше, оно звучало громко и досаждало. Затем, когда шаги затухали, возвращалась тишина и продолжал лить обильный дождь.
Когда я открывал глаза посреди притворного сна, по смутно различимым стенам моей комнаты плыли обрывки снов, которые еще предстояло увидеть, неясные огни, черные полосы, несуществующие предметы, которые поднимались и опускались. Мебель, казавшуюся крупнее, чем днем, смутно пачкала нелепость мрака. Дверь обозначалась чем-то не более белым и не более черным, чем сама ночь, но чем-то иным. Что до окна, то я его только слышал.
Слышался новый, текучий, нечеткий дождь. Мгновения застывали от его звуков. Одиночество моей души росло, ширилось, наводняло то, что я чувствовал, то, чего я хотел, то, о чем я собирался мечтать. Смутные предметы в тени, соучастники моей бессонницы, обретали место и боль в моей опустошенности.
241.
Треугольный сон
Свет окрасился чрезмерно медленной желтизной, желтизной, запачканной мертвенной бледностью. Увеличились расстояния между предметами, и звуки, ставшие по-новому долгими, воспроизводились бессвязно. Послышавшись, они прекращались внезапно, словно их прерывали. Жара, которая как будто усилилась, казалась холодом. Через небольшую щель оконных ставней было видно чрезмерное ожидание единственного видимого дерева. Его зелень была иной. Молчание проникло в ее цвет. В атмосфере закрылись лепестки. И в самом составе пространства иное взаимоотношение чего-то вроде плоскостей изменило и нарушило то, как звуки, огни и цвета используют свое пространство.
242.
Помимо заурядных грез, этого постоянного стыда навозных куч души, в которых никто не осмелится признаться и которые, словно грязные привидения, вязкость и сальные волдыри подавленной чувствительности, угнетают бессонные ночи, сколько всего смехотворного, пугающего и невыразимого может распознать душа в своих закоулках, пусть и с некоторым усилием!
Человеческая душа — это сумасшедший дом карикатур. Если бы душа могла проявиться по-настоящему и не было бы более глубокого целомудрия, чем весь известный и определенный стыд, она была бы, как говорят об истине, колодцем, но колодцем мрачным, полным неясных отзвуков, населенным неблагородными жизнями, безжизненной липкостью, несуществующими слизняками, паучьей слюной субъективности.
243.
Тому, кто захотел бы составить каталог чудовищ, было бы достаточно лишь сфотографировать при помощи слов то, что ночь приносит сонным душам, которые не могут уснуть. Этим образам свойственна вся непоследовательность сна, при этом у них нет анонимного оправдания, состоящего в том, что душа спит. Они витают, словно летучие мыши, над пассивностью души, или как вампиры, что высасывают кровь подчиненности.
Это личинки упадка и расточительности, это тени, наполняющие долину, остатки судьбы. Иногда они — черви, вызывающие отвращение у самой души, которая их питает и воспитывает; иногда они — призраки, что зловеще вьются вокруг небытия; иногда они выползают, словно змеи, из нелепых пещер утраченных переживаний.
Будучи балластом лжи, они нужны лишь для того, чтобы мы не были нужны. Это заброшенные в душу сомнения бездны, что волочатся сонными и холодными морщинами. Они длятся, сколько длится дым, оставляют следы, и есть только их присутствие в бесплодной сущности, оставшейся от их осознания. Некоторые из них подобны фейерверку: какое-то время они сыплют искрами среди снов, в остальном же они — бессознательность сознания, с которой мы их увидели.
Душа, как распущенная лента, не существует в самой себе. Широкие пейзажи предназначены для завтрашнего дня, а мы уже отжили. Прерванный разговор не состоялся. Кто бы сказал, что жизнь должна быть такой?
Я теряю себя, если нахожу, сомневаюсь, если сужу, не обладаю, если получаю. Я сплю, как если бы гулял, но при этом бодрствую. Я просыпаюсь, как если бы спал, и не принадлежу себе. Жизнь, в конце концов, сама по себе является большой бессонницей, и есть изящная сонливость во всем том, что мы думаем и делаем.
Я был бы счастлив, если бы мог поспать. Это мнение относится к данному мгновению, потому что я не сплю. Ночь — это огромная тяжесть позади моего удушья под немым одеялом грез. У меня несварение души.
Когда-нибудь, намного позднее, наступит этот день, но будет поздно, как всегда. Все спят, все счастливы, но только не я. Я немного отдыхаю, но не осмеливаюсь поспать. И большие головы бестелесных чудовищ неявно поднимаются из глубины моего существа. Это восточные драконы из бездны с алыми языками, вырывающимися из логики, с глазами, что безжизненно глядят на мою мертвую жизнь, которая на них не смотрит.
Крышку мне, Христом Богом прошу, крышку! Прекратите мою бессознательность и мою жизнь! К счастью, сквозя через холодное окно с открытыми внутрь створками, грустная полоса бледного света начинает устранять тень с горизонта. К счастью, начинает прорезаться день. Я отдыхаю или почти отдыхаю от усталости, навеянной непокоем. Посреди города нелепо поет петух. Мертвенно-бледный день начинается в моем смутном сне. Когда-нибудь я посплю. Стук колес выдает телегу. Мои веки спят, но не я. Все, в конечном счете, есть Судьба.
244.
Быть отставным майором представляется мне идеалом. Жаль, что нельзя вечно быть просто отставным майором.
Жажда быть целостным оставила меня в этом состоянии бесполезной печали.
Трагическая никчемность жизни.
Мое любопытство, сестра жаворонков.
Коварная тревожность закатов, робкая оснастка в утреннюю зарю.
Присядем здесь. Отсюда видно больше неба. Безбрежная ширь этой звездной высоты утешает. Жизнь причиняет меньше боли, когда смотришь на нее; по нашему горячему лику жизни пробегает свежее приветствие легкого веера.
245.
Человеческая душа — настолько неизбежная жертва боли, что испытывает боль от болезненной неожиданности, даже когда она должна была ее ожидать. Человек, который всю жизнь говорил о непостоянстве и переменчивости женщин, как о чем-то естественном и характерном, испытает все томление грустной неожиданности, когда его предают в любви — именно его, а не другого, как если бы он всегда считал правилом или надеждой преданность и неприступность жены. Другой, который считает все пустым и никчемным, узрит внезапную вспышку, обнаружив, что написанное им никто не ценит, или что его попытки учить бесплодны, или что возможность передавать свои переживания обманчива.
Не следует считать, что люди, с которыми происходят подобные несчастья и другие, подобные этим, не были искренни в том, что говорили или писали и что эти несчастья можно было с уверенностью предугадать. Искренность умного утверждения не имеет ничего общего с естественностью произвольного переживания. И это, по-видимому, так и есть, душа, судя по всему, может сталкиваться с неожиданностями лишь для того, чтобы испытывать достаточно боли, чтобы позор не оставлял ее, чтобы у нее не было недостатка в тревоге как полноправной доле в жизни. Все мы равны в способности ошибаться и страдать. Этого не происходит только с теми, кто не чувствует; и именно те, кто стоит выше, самые благородные, самые предусмотрительные испытывают и страдают от того, что они предвидели и презирали. И именно это и называется Жизнью.
246.
Считать все то, что с нами происходит, случайностью или эпизодами романа, в котором мы присутствуем не посредством нашего внимания, а посредством нашей жизни. Лишь такой подход поможет нам преодолеть лукавство дней и прихоти событий.
247.
Практическая жизнь всегда мне казалась наименее удобным из самоубийств. Действие для меня всегда было жестоким проклятием несправедливо проклятой мечты. Оказывать влияние на внешний мир, менять вещи, переставлять предметы, влиять на людей — все это всегда казалось мне более туманной субстанцией, чем мои фантазии. Никчемность, присущая всем видам действия, с самого детства была для меня одной из самых любимых мер моего безразличия даже по отношению к себе.
Действовать значит реагировать в пику самому себе. Влиять значит выходить из дома.
Я всегда размышлял над тем, насколько это нелепо, что, если сущностная реальность представляет собой череду ощущений, существуют настолько усложненно простые вещи, как магазины, промышленность, общественные и семейные отношения, столь безотрадно непонятные, в сравнении с внутренним отношением души к идее истины.
248.
Из моего уклонения от соучастия в существовании внешнего мира возникает, среди прочего, любопытное психическое явление.
Полностью уклоняясь от действия, не проявляя интереса к Вещам, я могу наблюдать внешний мир, когда обращаю на него внимание, совершенно объективно. Поскольку ничто меня не интересует и не побуждает его изменить, я его не меняю.
И так я добиваюсь.
249.
С середины восемнадцатого века ужасный недуг постепенно охватил цивилизацию. Семнадцать веков постоянно заблуждающегося христианского вдохновения, пять веков вечно недооцениваемого языческого вдохновения — католицизм, провалившийся как христизм, возрождение, провалившееся как язычество, реформация, провалившаяся как универсальное явление. Крах всего, о чем мечталось, стыд от всего, что было достигнуто, нищета существования без достойной жизни, которую другие могли бы вести с нами, и без жизни других, которую могли бы достойно вести мы.
Это ворвалось в души и отравило их. Ужас перед действием, перед необходимостью быть низменным в низменном обществе наводнил души. Высшая деятельность души занемогла; лишь низшая деятельность, более жизненная, не пришла в упадок; поскольку первая оставалась бездеятельной, вторая стала править миром.
Так родились литература и искусство, состоявшие из второстепенных элементов мышления — романтизм; и общественная жизнь, которая состояла из второстепенных элементов деятельности — современная демократия.
Душам, рожденным повелевать, оставалось лишь воздерживаться. У душ, рожденных создавать, в обществе, где иссякали творческие силы, оставался лишь один мир, поддававшийся их воле — социальный мир их мечтаний, направленная внутрь бесплодность собственной души.
Мы одинаково называем «романтиками» великих, которые потерпели крах, и малых, которые раскрыли себя. Но сходство между ними имеется лишь в очевидной сентиментальности; в одних сентиментальность показывает невозможность деятельного использования разума; в других она показывает отсутствие самого разума. Шатобриан и Гюго, Виньи и Мишле[32] — плоды одной и той же эпохи. Но Шатобриан — это большая душа, которая измельчала; Гюго — малая душа, которая расширяется благодаря веянию времени; Виньи — гений, которому пришлось бежать; Мишле — женщина, которой пришлось быть гениальным мужчиной. В Жан-Жаке Руссо, отце их всех, объединены обе тенденции. В нем был разум созидателя и чувствительность раба. Он в равной степени утверждает то и другое. Но присущая ему социальная чувствительность отравила его теории, которые разум лишь ясно изложил. Присущий ему разум служил лишь для того, чтобы стонать от жалкого сосуществования с такой чувствительностью.
Ж.-Ж. Руссо — человек современный, но более целостный, чем любой другой современный человек. Из слабостей, которые привели его к краху, он извлек — бедный он и бедные мы! — силы, которые привели его к триумфу. То, что вышло из него, победило, но внизу на его победном штандарте, когда он вошел в город, можно было увидеть слово «Поражение». Среди того, что осталось позади него, среди того, что неспособно совершить усилие, чтобы победить, были венки и скипетры, возвышенность повелевания и слава победы, достигнутой благодаря внутренней судьбе.
* * *
Мир, в котором мы рождаемся, вот уже полтора века страдает от отречения и от насилия — от отречения высших и от насилия низших, которое есть их победа.
Ни одно высшее свойство не может утвердиться ныне ни в действии, ни в мыслях, ни в политической, ни в мыслительной сферах.
Крах аристократического влияния создал атмосферу зверства и безразличия к искусствам, в которой тонкой чувствительности негде укрыться. Все больше боли причиняет соприкосновение души с жизнью. Усилие становится все более болезненным, потому что все более ненавистными становятся внешние условия усилия.
Крах классических идеалов превратил всех в возможных, а потому плохих художников. Когда мерилом искусства была прочная структура, бережное соблюдение правил — мало кто мог пытаться стать художником, и большинство из них очень хороши. Но когда искусство перестало восприниматься как созидание и стало считаться выражением чувств, каждый получил возможность стать художником, потому что чувства есть у всех.
250.
Даже если бы я захотел творить, ‹…›
Единственное настоящее искусство — искусство построения. Но современная обстановка делает невозможным появление качеств, необходимых для построения духа.
Поэтому получила развитие наука. Единственное, в чем сегодня есть построение, это машина; единственный довод, в котором есть последовательная связь, это математическое доказательство.
Способность творить нуждается в точке опоры, в костыле реальности.
Искусство — это наука…
Оно ритмически страдает.
Я не могу читать, потому что моя чрезвычайно обостренная критика замечает лишь изъяны, несовершенства, возможности что-нибудь улучшить. Я не могу мечтать, потому что так явственно ощущаю мечту, что сравниваю ее с реальностью и сразу чувствую, что она нереальна; так ее ценность исчезает. Я не могу забавляться невинным созерцанием вещей и людей, ведь жажда идти вглубь — неизбежна, и, поскольку мой интерес не может без нее существовать, он должен либо умереть от ее рук, либо иссякнуть.
Я не могу заниматься метафизическими рассуждениями, потому что по своему опыту слишком хорошо знаю, что можно отстоять любую систему и любая система возможна, с интеллектуальной точки зрения; и для того, чтобы наслаждаться интеллектуальным искусством построения систем, мне не хватает умения забывать о том, что цель метафизического размышления заключается в поиске истины.
Счастливо прошлое, вспоминая о котором, я мог бы стать счастливым; не имея в настоящем ничего, что меня радовало бы или интересовало, не имея мечты или предположения о будущем, которое отличалось бы от этого настоящего или могло бы обладать прошлым, отличным от этого, я покоюсь в моей жизни, подобной сознательному призраку рая, где я никогда не был, живому трупу моих грядущих надежд.
Счастливы те, кто страдает цельно! Те, кого тревога волнует, но не разделяет, кто верит, пусть и в безверии, и кто может устроиться под солнцем без потаенных мыслей.
251.
Отрывки автобиографии
Сначала меня забавляли метафизические размышления, затем — научные идеи. Наконец меня привлекли идеи ‹…› социологические. Но ни на одной из этих стадий моего поиска истины я не обрел уверенности и не испытал облегчения.
Я мало что читал о каждом из этих предметов. Но в том немногом, что я читал, меня утомляло множество противоречивых теорий, в равной степени покоящихся на развернутых доводах, в равной степени вероятных и согласующихся с определенным набором фактов, каждый из которых, казалось, вбирал в себя все факты. Если я поднимал от книг усталые глаза или если мое смятенное внимание отвлекалось от моих мыслей, обращаясь к внешнему миру, передо мной представало лишь одно, что опровергало для меня всю пользу чтения и размышлений и отрывало у меня один за другим все лепестки мысли об усилии: бесконечная сложность вещей, безбрежное количество ‹…› многословная недосягаемость тех самых немногих фактов, которые можно было бы счесть необходимыми для создания какой-либо науки.
* * *
Огорчение оттого, что я ничего не нахожу, я обнаружил в себе постепенно. Я видел смысл и логику лишь в скептицизме, который даже не ищет логики, чтобы защитить себя. Я не сообразил позаботиться об этом — почему я должен был об этом заботиться? И что значит быть здоровым? Насколько я мог быть уверен в том, что это состояние души должно быть присуще болезни? Кто убедит нас в том, что болезнь — если это болезнь — менее желательна или менее логична или менее ‹…› чем здоровье? Если здоровье предпочтительнее, зачем я болел, если не ради того, чтобы болеть естественно, а коли я болел естественно, зачем идти против Природы, которая ради какой-то цели, если у нее есть цель, явно хотела, чтобы я болел?
Я нашел доводы лишь в пользу бездействия. День за днем я все больше проникался мрачным осознанием моего бездействия отрекающегося. Искать способы бездействия, решить избегать каких-либо усилий, какой-либо социальной ответственности — из этого материала я изваял обдуманную статую моего существования.
Я перестал читать, отказался от случайных прихотей того или иного эстетического образа жизни. Из того немного, что я читал, я научился извлекать одни лишь элементы для мечтаний. Из того немного, чему я был свидетелем, я пытался извлекать лишь то, что могло продлиться во мне далеким и неверным отблеском.
Я предпринял усилия для того, чтобы все мои мысли, все повседневные главы моего существования приносили мне только ощущения. Я придал своей жизни эстетическое направление. И направил эту эстетику в чисто индивидуальную сферу. Я сделал ее исключительно моей.
Затем в искомом течении моего внутреннего гедонизма я стал стремиться ускользать от социальной чувствительности. Постепенно я заковал себя в броню, защищавшую меня от того, чтобы чувствовать себя смешным. Я научил себя оставаться бесчувственным как к зову инстинктов, так и к просьбам.
Я свел к минимуму мое общение с другими. Я сделал все возможное, чтобы утратить всякую привязанность к жизни. Постепенно я снял с себя само стремление к славе, подобно тому, кто, сильно устав, раздевается для того, чтобы отдохнуть.
От изучения метафизики ‹…›, наук я перешел к духовным занятиям, оказывавшим более сильное воздействие на мое нервное равновесие. Я провел полные ужаса ночи, склонившись над книгами мистиков и каббалистов, которые у меня никогда не хватало терпения читать иначе как урывками, с содроганием ‹…› Обряды и доводы розенкрейцеров, символика Каббалы и Тамплиеров ‹…› долгое время я страдал, приближаясь ко всему этому. И лихорадку моих дней наполняли ядовитые размышления о дьявольском смысле метафизики — о магии ‹…› алхимии — я извлекал ложный стимул к жизни из болезненного ощущения предвкушения, будто я все время нахожусь на пороге познания высшей тайны. Я заблудился во второстепенных, возбужденных метафизических системах, полных ошеломительных аналогий, ловушек для здравого ума, просторных таинственных пейзажей, в очертаниях которых отблески сверхъестественного пробуждают тайны.
Я постарел от ощущений… Я извел себя, порождая мысли… И превратил свою жизнь в метафизическую лихорадку, постоянно открывая потаенный смысл вещей, играя с огнем таинственных аналогий, запутывая здравый разум и нормальный синтез, чтобы очернить себя ‹…›
Я впал в сложную умственную распущенность, полную равнодушия. Где я укрылся? У меня такое впечатление, будто я нигде и не укрывался. Я предался сам не знаю чему.
Я сосредоточил и ограничил мои желания, чтобы ошлифовать их. Чтобы достичь бесконечности — а я считаю, что ее можно достичь, — у нас должен быть порт, только один, надежный, откуда мы отправимся к Неопределенному.
Сегодня я — аскет моей религии себя. Чашка кофе, сигарета — и мои грезы отлично заменяют вселенную и ее звезды, труд, любовь и даже красоту и славу. У меня почти нет потребности в стимулах. Опиум у меня в душе.
Какие у меня мечты? Не знаю. Я постарался достичь такого состояния, в котором я уже не знаю, о чем думаю, о чем мечтаю, что воображаю. Мне кажется, что я мечтаю все дольше, что все чаще я мечтаю о неясном, неточном, непредставимом.
Я не строю теорий относительно жизни. Хороша она или плоха — я об этом не думаю. В моем представлении она сурова и грустна, но в ней есть место восхитительным мечтам. Какая мне разница, какой видят ее другие!
Жизнь других мне нужна лишь для того, чтобы я мог проживать жизнь каждого в таком виде, который, как мне кажется, ему подобает в моей грезе.
252.
Думать, пусть даже так, значит действовать. Лишь в абсолютной фантазии, в которую не вмешивается ничто активное, в которой даже наше осознание самих себя, в конце концов, увязает в тине — лишь там, в этом теплом и влажном небытии искусно достигается отречение от действия.
Не хотеть понимать, не анализировать… Видеть себя словно в природе; смотреть на свои впечатления, как на поле — в этом и состоит мудрость.
253.
…священный инстинкт, состоящий в том, чтобы не иметь теорий…
254.
Нередко, когда я медленно прогуливаюсь по вечерним улицам, мою душу внезапно и резко встряхивает очень странное присутствие устройства вещей. Задевают меня и приносят мне это сильное ощущение вовсе не природные вещи, а скорее линии улиц, вывески, разговаривающие и одетые люди, лавки, газеты, разум всего. Или скорее сам факт того, что существуют линии улиц, вывески, люди, общество и все это взаимодействует и движется вперед и прокладывает пути.
Я прямо смотрю на человека и вижу, что он так же несознателен, как собака или кошка; он говорит с несознательностью другого порядка; он организуется в общество с несознательностью другого порядка, намного более низкого, чем тот, которого придерживаются муравьи и пчелы в своей общественной жизни. И тогда так же или больше, чем из существования организмов, так же или больше, чем из существования строгих законов физики и разума, из очевидного света возникает разум, который создает и пронизывает мир.
Тогда, когда я это ощущаю, меня посещает старая фраза какого-то схоласта: Deus est anima brutorum, Бог — это душа скотов[33]. Так автор фразы, замечательной самой по себе, попытался объяснить уверенность, с которой инстинкт управляет низшими животными, в которых разум не просматривается или просматривается лишь намек на него. Но мы все — низшие животные: говорить и думать — это лишь новые инстинкты, менее надежные, чем прочие, вследствие своей новизны. И фраза схоласта, столь справедливая в своей красоте, расширяется, и я говорю, что Бог есть душа всего.
Я никогда не мог понять, как тот, кто однажды осознал этот великий факт вселенской механики, может отрицать часовщика, в которого не перестал верить даже Вольтер. Я понимаю, почему, обращая внимание на некоторые факты, выбивающиеся, на первый взгляд, из плана (а нужно было бы знать план, чтобы понимать, выбиваются ли они из него), этому высшему разуму приписывают какой-нибудь элемент несовершенства. Я это понимаю, хотя и не принимаю. Я даже понимаю, почему, учитывая, сколько в мире зла, нельзя принять бесконечную доброту этого созидательного разума. Это я понимаю, хотя и этого я не принимаю. Но отрицать существование этого разума, то есть Бога, мне кажется одной из тех глупостей, которые так часто настигают в определенной точке разума людей, которые во всех других его точках могут превосходить остальных; как те, кто всегда делает ошибки в сложении, или, если ввести в игру разум чувствительности, те, кто не чувствует музыки, или живописи, или поэзии.
Так вот, я не принимаю ни довод несовершенного часовщика, ни довод часовщика, лишенного благосклонности. Я не принимаю довод несовершенного часовщика потому, что те мелочи управления и настройки мира, которые нам кажутся оплошностями или бессмыслицей, не могут считаться таковыми, если нам неизвестен план. Мы ясно видим план во всем; мы видим некоторые вещи, которые кажутся нам бессмысленными, но стоит задуматься над тем, что, если во всем есть причина, в них тоже есть та же причина, что и во всем прочем. Мы видим причину, но не видим плана; тогда как мы можем говорить о том, что некоторые вещи выбиваются из плана, если мы о нем не имеем представления? Как поэт утонченных ритмов может использовать неритмичный стих ради ритмических целей, то есть ради тех самых целей, от которых он будто бы отходит, и самый строгий и прямолинейный критик назовет этот стих неправильным, так ведь и Создатель может использовать то, что наш узкий разум считает неритмичностью в величественном течении его метафизического ритма.
Я не принимаю и довод о часовщике, лишенном благосклонности. Я согласен с тем, что на этот довод ответить сложнее, но только на первый взгляд. Мы можем сказать, что не знаем как следует, что есть зло, и потому не можем утверждать, что та или иная вещь хороша или плоха. Однако очевидно, что боль, даже ради нашего блага, сама по себе является злом, и этого достаточно для того, чтобы в мире имелось зло. Достаточно зубной боли, чтобы утратить веру в доброту Создателя. Однако ключевая ошибка этого умозаключения, по-видимому, заключается в нашем полном незнании божественного плана и нашем столь же полном незнании того, чем может быть Интеллектуальная Бесконечность в облике умного человека. Одно дело — существование зла, другое — причина этого существования. Различие здесь, возможно, настолько тонкое, что кажется софистикой, но очевидно, что оно правильно. Существование зла невозможно отрицать, но злой умысел в существовании зла нельзя принять. Я признаю, что проблема остается, но остается она потому, что остается наше несовершенство.
255.
Если в этой жизни есть для нас что-то, за что мы, помимо самой жизни, должны благодарить Богов, так это дар нашего незнания: незнания себя и незнания друг друга. Человеческая душа — темная и вязкая бездна, колодец, который не используется на поверхности мира. Никто бы не любил себя, если бы знал себя по-настоящему, и тогда мы, лишенные тщеславия, этой крови духовной жизни, умерли бы от душевного малокровия. Никто не знает другого, и хорошо, что не знает, ведь если бы знал, он узнал бы в другом не мать, жену или сына, а сокровенного, метафизического врага.
Мы понимаем друг друга, потому что друг друга не знаем. Что произошло бы со многими счастливыми супругами, если бы они могли заглянуть друг другу в душу, если бы они могли понять, как говорят романтики, что им неведома опасность — пусть и никчемная — того, что они говорят. Все супруги мира женаты неудачно, потому что каждый хранит в себе, в тайнах, где душа принадлежит Дьяволу, утонченный образ желанного мужчины, а не того, за кем замужем, ветреную фигуру возвышенной женщины, которую жена не воплотила. Самые счастливые не видят в самих себе эти обманутые устремления; менее счастливые видят их, но не осознают, и только иногда какой-нибудь заурядный порыв, какая-нибудь грубость в обращении заставляет выплыть на случайную поверхность жестов и слов сокрытого Демона, древнюю Еву, Рыцаря и Сильфиду.
Проживаемая жизнь — это текучее непонимание, счастливая середина между величием, которого нет, и счастьем, которого быть не может. Мы довольны потому, что даже в мыслях и чувствах мы способны не верить в существование души. На маскараде, среди которого мы живем, нам достаточно красивого костюма, важнее которого на балу ничего нет. Мы — рабы огней и цветов, мы движемся в танце, словно в истине, и у нас нет — если только мы не одиноки и потому не танцуем — знания о великом холоде, царящем в высоте внешней ночи, о смертном теле, прикрытом тряпками, которые его переживут, знания обо всем том, что мы наедине с собой считаем частью себя, но что в конце концов является лишь тонкой пародией на предполагаемую нами истину.
Все то, что мы делаем или говорим, все то, о чем мы думаем или что чувствуем, облачено в ту же маску и являет собой все то же домино. Сколько бы мы ни снимали то, во что мы одеты, мы никогда не достигаем наготы, поскольку нагота — это явление души, а не результат снятия одежды. Так, одетые телесно и духовно во множество костюмов, которые прилеплены к нам так же прочно, как перья к птицам, мы живем счастливо или несчастливо или проживаем, даже не зная, кто мы есть, тот короткий промежуток, который дают нам боги, чтобы мы могли развлечься, словно дети, играющие в серьезные игры.
Тот или иной из нас, освобожденный или проклятый, внезапно видит — но и он видит изредка, — что все, чем мы являемся, есть то, чем мы не являемся, что мы обманываемся в том, что правильно, и что мы не правы в том, что считаем верным. И тот, кто на мгновение видит вселенную обнаженной, создает философию или измышляет религию; и философия распространяется, и религия разносится, и те, кто верит в философию, начинают использовать ее как облачение, которого они не видят, а те, кто верит в религию, начинают надевать ее как маску, о которой забывают.
И всякий раз, не зная себя и других и потому радостно понимая друг друга, мы кружимся в танце или непринужденно разговариваем в перерывах, такие человечные, никчемные, серьезные, под звуки величественного оркестра звезд, под презрительными и отстраненными взглядами устроителей спектакля.
Только они знают, что мы находимся в плену иллюзии, которую они создали. Но каков смысл этой иллюзии и почему существует эта или любая другая иллюзия или почему они, тоже находящиеся в плену иллюзии, дали ее нам, чтобы у нас была иллюзия, которую нам дали, — этого, разумеется, не знают и они сами.
256.
Я всегда испытывал почти физическое отвращение ко всему тайному — к интригам, дипломатии, тайным обществам, оккультизму. Особенно мне докучали две последние категории — претензия некоторых людей, что, по уговору с Богами, Магистрами или Демиургами, они знают — только в своем кругу, из которого мы все исключены — великие секреты, на которых зиждется мир.
Я не могу поверить в то, что это так. Я могу поверить, что кто-то так считает. Почему все эти люди не могут быть больны или обмануты? Потому что они отличаются? Но ведь бывают и коллективные галлюцинации.
Больше всего в этих магистрах и знатоках невидимого меня впечатляет то, что, когда они пишут что-то, чтобы рассказать нам свои тайны или намекнуть на них, они пишут плохо. Мой разум охватывает возмущение, когда человек, способный одолеть Дьявола, оказывается неспособен одолеть португальский язык. Почему поддерживать отношения с демонами должно быть легче, чем поддерживать отношения с грамматикой? Почему тот, кому благодаря долгим упражнениям, развивающим внимание и волю, удается, по его словам, узреть астральные образы, не может, прилагая меньшие усилия, узреть синтаксис? Что есть в догме и обрядах Высокой Магии такого, что мешает писать, я уж не говорю ясно, поскольку, возможно, тайному закону присуща темнота, но хотя бы элегантно и плавно, ведь это не противоречит его зауми? Почему нужно тратить всю энергию души на изучение языка Богов, не оставляя жалкого остатка на то, чтобы изучить цвет и ритм языка человеческого?
Я не доверяю магистрам, которые неспособны быть учителями в начальной школе. Для меня они подобны тем странным поэтам, которые неспособны писать так, как пишут другие. Я допускаю, что они странны; но мне бы хотелось, чтобы они мне доказали, что странность их проистекает из превосходства над обыкновенным, а не из бессилия перед ним.
Говорят, некоторые великие математики ошибаются в обыкновенном сложении; но здесь сравнивать нужно не с ошибками, а с незнанием. Я допускаю, что великий математик, прибавляя два к двум, может получить пять: это следствие рассеянности, такое может приключиться с каждым из нас. Но я не принимаю его величия, если он не знает, что значит складывать или что есть сумма. А это, в подавляющем большинстве, и происходит с магистрами тайного.
257.
Мысль может быть возвышенной, не будучи элегантной, и в той пропорции, в которой она лишена элегантности, она утрачивает силу воздействия над другими мыслями. Сила без умения — это просто тесто.
258.
Прикосновение к ногам Христа не оправдывает ошибки пунктуации.
Если человек пишет хорошо, только когда он пьян, я ему скажу: напейся. А если он мне скажет, что от этого страдает его печень, я отвечу: что есть твоя печень? Это нечто мертвое, что живет, пока живешь ты, а поэмы, которые ты пишешь, живут без «пока».
259.
Мне нравится говорить. Точнее, мне нравится сыпать словами. Слова для меня — это осязаемые тела, зримые русалки, воплощенная чувственность. Возможно, из-за того, что реальная чувственность для меня никогда не представляла никакого интереса — даже умственного или как предмет мечтаний, — желание во мне перенеслось на то, что создает во мне словесные ритмы или слышит их у других. Я трепещу, когда хорошо говорят. От той или иной страницы Фиальу[34] или Шатобриана вся моя жизнь вскипает в венах и я неистовствую в спокойной дрожи от недосягаемого наслаждения, которое испытываю в это мгновение. Даже страница Виейры в своем холодном совершенстве синтаксической инженерии заставляет дрожать меня, словно ветку на ветру, в пассивном исступлении чего-то движущегося.
Как всем по-настоящему влюбленным, мне нравится наслаждение от потери себя, в котором в полной мере испытывается удовольствие от отдачи себя. Поэтому часто я пишу, не желая думать, во внешней фантазии, позволяя словам играть со мной, как с маленьким ребенком на их руках. Эти лишенные смысла фразы мягко текут в плавности ощущаемой воды, забывая о реке, в которой волны смешиваются и рассеиваются, всякий раз становясь иными, следуя друг за другом. Так мысли, образы, дрожащие от выражения, проходят через меня, как звучные процессии из легкого шелка, в которых лунный свет мысли колеблется переливчато и сумбурно.
Я не плачу ни от чего, что жизнь дает или забирает. Однако есть страницы прозы, которые вызывали у меня слезы. Я вспоминаю, как если бы это было у меня перед глазами, ночь, когда я еще ребенком прочитал впервые в одном сборнике знаменитый отрывок из Виейры о царе Соломоне. «Построил Соломон дворец…» И я дочитал до конца, в дрожи и смятении; потом я разразился счастливыми слезами, как никакое настоящее счастье не заставит меня плакать, как никакая жизненная грусть не заставит меня изображать. Это священное движение нашего ясного величественного языка, это выражение мыслей неизбежными словами, течение воды по склону, это звуковое чудо, в котором звуки становятся идеальными цветами — все это инстинктивное опьянило меня, словно сильное политическое переживание. И, как я сказал, я заплакал; сегодня, вспоминая об этом, я все еще плачу. О нет, это не тоска по детству, по которому я не тоскую: это тоска по переживанию, испытанному тогда, печаль оттого, что я уже не могу прочитать, как в первый раз, эту великую симфоническую точность.
У меня нет никакого политического или социального чувства. Однако у меня есть сильное патриотическое чувство. Моя родина — это португальский язык. Меня бы нисколько не опечалило, если бы на Португалию напали или завоевали ее, при условии, что мне лично это не доставило бы неудобств. Но я ненавижу настоящей ненавистью, единственной ненавистью, которую я испытываю, не тех, кто плохо пишет по-португальски, не тех, кто не знает синтаксиса, не тех, кто пишет упрощенной орфографией, а плохо написанную страницу, как самого человека, неверный синтаксис, как людей, с которыми я должен сражаться, орфографию без игрека[35], как прямой плевок, который оскорбляет меня вне зависимости оттого, кто плюнул.
Да, потому что орфография — это тоже люди. Слово становится полноценным, когда его видят и слышат. И праздничные одежды греко-римской транслитерации для меня облекают его своей царской мантией, благодаря которой оно становится господином и царем.
260.
Искусство состоит в том, чтобы дать другим почувствовать то, что чувствуем мы, чтобы освободить их от них самих, предложив им нашу личность в качестве особого освобождения. То, что я чувствую, в настоящей сущности, в которой я это чувствую, совершенно непередаваемо; и чем глубже я это чувствую, тем менее это передаваемо. Поэтому, чтобы передать другому то, что я чувствую, я должен перевести свои чувства на его язык, то есть сказать нечто, как если бы я это чувствовал, чтобы он, читая это, чувствовал ровно то, что почувствовал я. И поскольку этот другой, согласно художественной гипотезе, является не тем или иным человеком, а всеми людьми, то есть тем человеком, который свойственен всем людям, то я, в конечном счете, должен преобразовать мои чувства в типичное человеческое чувство, пусть и исказив подлинную природу того, что я почувствовал.
Все абстрактное понять трудно, потому что трудно привлечь к этому внимание того, кто об этом читает. Поэтому я приведу простой пример, в котором созданные мною абстракции обретут конкретные формы. Предположим, что по какой-то причине, коей могут быть усталость от составления счетов или тоска оттого, что я не знаю, чем заняться, меня охватывает смутная грусть от жизни, тревога, которая меня беспокоит и сбивает с толку. Если я выражу эти переживания фразами, которые плотно их охватывают, то чем плотнее я их охватываю, тем больше я их представляю как свои переживания и тем меньше передаю их другим. А если их не нужно передавать другим, правильнее и проще их испытывать, но не описывать.
Однако предположим, что я хочу их передать другим, то есть превратить их в искусство, поскольку искусство — это передача другим нашего внутреннего отождествления с ними, без которого нет ни передачи, ни необходимости ее осуществлять. Я ищу, каким заурядным человеческим переживаниям присущ тон, вид и форма переживаний, которые я сейчас испытываю, по причинам особым и нечеловеческим, свойственным усталому бухгалтеру или скучающему лиссабонцу. И удостоверяюсь, что тем видом заурядных переживаний, который производит в заурядной душе те же самые переживания, является тоска по утраченному детству.
У меня есть ключ к двери моей темы. Я пишу и плачу по моему утраченному детству; с умилением останавливаюсь на чертах людей и мебели в старом загородном доме; описываю счастье оттого, что у меня нет ни прав, ни обязанностей, что я свободен, потому что не умею ни думать, ни чувствовать, — и это воспоминание, если оно хорошо выражено в виде прозы и образов, пробудит в моем читателе именно те переживания, которые испытал я и которые не имели ничего общего с детством.
Я солгал? Нет, я понял. Потому что ложь, за исключением лжи детской и произвольной, что рождается от желания мечтать, представляет собой лишь понимание реального существования других и необходимости приспособить это существование к нашему, которое не может к нему приспособиться. Ложь — это просто идеальный язык души, ведь подобно тому, как мы пользуемся словами, являющимися звуками, нелепо произнесенными для того, чтобы выразить настоящим языком самые сокровенные и тонкие движения переживаний и мыслей, которые слова явно никогда не смогут выразить, так же мы пользуемся ложью и вымыслом, чтобы понять друг друга, чего никогда нельзя было бы сделать при помощи правды, непосредственной и непередаваемой.
Искусство лжет, потому что оно общественно. И есть лишь две большие формы искусства — одна обращена к нашей глубокой душе, другая обращена к нашей внимательной душе. Первая — это поэзия, вторая — это роман. Первая начинает лгать в самой структуре; вторая начинает лгать в самом намерении. Одна стремится дать нам истину посредством по-разному разбитых строк, которые лгут строению речи; другая стремится дать нам истину посредством реальности, которой, как все мы хорошо знаем, никогда не было.
Притворяться значит любить. Всякий раз, когда я вижу приятную улыбку или значительный взгляд — чьим бы ни был этот взгляд или улыбка, — я внезапно начинаю размышлять над тем, каков в глубине души, чье лицо улыбается себе или на себя смотрит, тот государственный муж, который нас хочет купить, или та проститутка, которая хочет, чтобы ее купили мы. Но покупающий нас государственный муж, по крайней мере, получил удовольствие, покупая нас; а купленная нами проститутка, по крайней мере, получила удовольствие, когда мы ее купили. Мы не можем убежать, как бы нам этого ни хотелось, от вселенского братства. Мы все любим друг друга, и ложь — это поцелуй, которым мы обмениваемся.
261.
Во мне все симпатии поверхностны, но искренни. Я всегда был актером, причем всерьез. Всякий раз, когда я любил, я притворялся, что любил, и даже перед собой я притворяюсь в этом.
262.
Сегодня я вдруг пришел к нелепому и справедливому ощущению. Во внутренней вспышке я заметил, что я никто. Никто, совершенно никто. Когда сверкнула вспышка, то, что мне казалось городом, оказалось пустынной равниной; и мрачный свет, который показал мне меня, не высветил неба над собой. У меня украли возможность существовать до того, как появился мир. Если мне пришлось перевоплотиться, то я перевоплотился без себя, не перевоплотившись.
Я — окраины города, которого нет, пространный комментарий к книге, которую не написали. Я никто, совсем никто. Я не умею чувствовать, не умею думать, не умею хотеть. Я — персонаж ненаписанного романа, который проносится в воздухе и рассеивается, не став бытием, среди грез того, кто не смог меня довершить.
Я всегда думаю, всегда чувствую; но мое мышление не содержит рассуждений, мое переживание не содержит переживаний. Я лечу из отверстия там, наверху, через все бесконечное пространство, в падении без направления, бесконечном и пустом. Моя душа — это черный Мальстрём, обширный водоворот вокруг пустоты, движение бесконечного океана вокруг дыры небытия, и в водах, являющихся скорее круговоротом, чем водами, плавают все образы мира, которые я видел и слышал — проплывают дома, лица, книги, ящики, отзвуки музыки и слоги голосов в мрачном бездонном вихре.
А я, сам я являюсь средоточием, которое присутствует здесь лишь вследствие геометрии бездны; я — небытие, вокруг которого вращается это движение лишь для того, чтобы вращаться, и средоточие это существует лишь потому, что оно есть у всякого круга. Я, сам я — колодец без стен, но с вязкостью стен, средоточие всего, окруженное небытием.
И есть во мне, как если бы сам ад смеялся, даже без человечности смеющихся чертей, каркающее безумие мертвой вселенной, перекатывающийся труп физического пространства, конец всех миров, мрачно колышущийся на ветру, бесформенный, анахроничный, без Бога, который его мог бы создать, даже без него самого, перекатывающегося в сумерках сумерек, невозможного, единственного, всеохватного.
Мочь уметь думать! Мочь уметь чувствовать!
Моя мать умерла очень рано, и я ее так и не узнал…
263.
При моей предрасположенности к тоске любопытно, что до сего дня мне никогда не приходило в голову поразмышлять над тем, в чем она заключается. Сегодня я действительно нахожусь в том промежуточном состоянии души, когда мне не интересна ни жизнь, ни что-либо иное. И внезапное воспоминание о том, что я никогда не думал об этом, я использую, чтобы наряду с полумыслями-полувпечатлениями вообразить анализ, немного надуманный, того, что это за тоска.
На самом деле, я не знаю, соответствует ли тоска лишь пробужденной сонливости бродяги, или же представляет собой нечто более благородное, чем это оцепенение. Ко мне тоска приходит часто, но, насколько я знаю из моих наблюдений, ее приход не подчиняется каким-то правилам. Я могу провести бездеятельное воскресение, не испытывая тоски; я могу почувствовать ее внезапно, посреди работы, словно внешнее облако. Мне не удается соотнести ее с состоянием здоровья или с отсутствием такового; я не могу осмыслить ее как следствие причин, которые находятся в видимой части меня.
Фразы о том, что это замаскированная метафизическая тревога, что это неведомое большое разочарование, что это глухая поэзия скучающей души, выглядывающей в окно, через которое видна жизнь, — такие фразы или что-либо сродни им могут расцветить тоску, как ребенок, который, раскрашивая картинку, выходит за ее очертания и замарывает их, но мне они приносят лишь звук слов, что отражаются эхом в пещерах мышления.
Тоска… Думать не думая, устав от мыслей; чувствовать не чувствуя, испытывая тревогу от чувств; не хотеть, не испытывая нежелания и чувствуя к нему отвращение — все это присутствует в тоске, не будучи тоской, являясь лишь ее перифразой или метафорой. В непосредственном ощущении это выглядит так, как если бы над рвом замка души поднимался подъемный мост и между замком и землями оставалась лишь возможность смотреть на них, но не пройти по ним. В нас самих есть отчуждение от нас, но это отчуждение, в котором то, что отделяет, застоялось, как и мы, как грязная вода, окружающая наше непонимание.
Тоска… Страдать не страдая, хотеть не желая, думать не размышляя… Она подобна одержимости отрицательным демоном, околдованности небытием. Говорят, что когда колдуны или маленькие маги создают наши изображения и причиняют им зло, то это зло посредством астрального переноса отражается на нас. У меня тоска возникает в перенесенном ощущении этого образа, словно злонамеренное отражение козней сказочного демона, наведенных не на мое изображение, а на его тень. Именно к внутренней тени меня, снаружи внутренней стороны моей души приклеиваются бумаги, именно в нее втыкаются булавки. Я подобен человеку, продавшему душу, или, скорее, тени человека, который ее продал.
Тоска… Я работаю достаточно. Выполняю то, что моралисты действия назвали бы моим общественным долгом. Я исполняю этот долг или это предназначение без особых усилий или без особого ехидства. Но иногда посреди работы, иногда посреди отдыха, который я, согласно этим моралистам, заслужил и который должен быть мне приятен, мою душу переполняет желчь бездействия, и я устаю не от действия или от отдыха, а от меня самого.
Почему от меня, если я о себе не думал? От чего другого, если я об этом другом не думал? Это тайна вселенной, что снисходит до моих конторских записей или до моей сгорбленной спины? Вселенская боль от жизни, которая внезапно проявляется в моей полуединой душе? Зачем так облагораживать того, кто не знает, кто он есть? Это ощущение пустоты, голод без желания есть, столь же благородный, как эти ощущения простого мозга, простого желудка, вызванные чрезмерным курением или плохим пищеварением.
Тоска… Возможно, тоска — это сокровенная неудовлетворенность души тем, что мы не дали ей веру, это грустное отчаяние ребенка, коим мы внутри являемся, вызванное тем, что мы ему не купили божественную игрушку. Возможно, это неуверенность того, кому нужна ведущая его рука и кто чувствует на черном пути глубокого ощущения только бесшумную ночь, в которой нет места мыслям, пустую дорогу, где нет места чувствам…
Тоска… Тот, у кого есть Боги, никогда не испытывает тоски. Тоска — это отсутствие мифологии. Для того, у кого нет верований, невозможно даже сомнение, и даже у скептицизма нет сил сомневаться. Да, тоска в этом и состоит: душа теряет способность обольщаться, мысль лишается несуществующей лестницы, по которой она могла бы уверенно взойти к правде.
264.
Мне знакомо в перенесенном виде ощущение переедания. Оно знакомо мне через ощущение, а не посредством желудка. Бывают дни, когда во мне переедается. Я отягощен телесно и неуклюж в движениях; мне хочется ни за что не покидать этого состояния. Но в этих случаях среди моего нетронутого полузабытья обычно выступает неблагоприятным фактом обрывок утраченного воображения. И я строю планы на фоне незнания, выстраиваю вещи на гипотетических основаниях, и то, что не должно произойти, обретает для меня величественный блеск.
В эти странные часы не только моя материальная жизнь, но и моя собственная нравственная жизнь — это лишь мои приложения; меня не заботит ни мысль о долге, ни мысль о бытии, и я испытываю физическое чувство сна за всю вселенную. Я просыпаю то, что знаю, и то, о чем мечтаю, настолько одинаково, что чувствую тяжесть в глазах. Да, в эти часы я знаю о себе больше, чем знал когда бы то ни было, и весь я представляю собой полуденный сон всех бродяг среди деревьев Ничейного сада.
265.
Мысль о путешествиях соблазняет меня перенесением, как если бы это была подходящая идея, способная соблазнить кого-то, кем я не являюсь. Вся обширная видимость мира протекает, в движении расцвеченной тоски, через мое пробужденное воображение; я обрисовываю желание, как тот, кто больше не хочет совершать движений, и предвкушаемая усталость от возможных пейзажей удручает меня, словно неуклюжий ветер, цветок моего застывшего сердца.
И как путешествия, так и чтение, а как чтение, так и все… Я мечтаю об эрудированной жизни среди немой простоты древних и современников, которая обновляет переживания чужими переживаниями, наполняет меня противоречивыми мыслями, противоречащими мыслителям и тем, кто почти думал и кто представляет собой большинство писавших. Но уже сама мысль о чтении улетучивается, если я беру со стола любую книгу, физический факт необходимости читать уничтожает мое чтение… Точно так же во мне увядает мысль о путешествиях, если я вдруг приближаюсь к месту, где можно сесть на корабль. И, будучи и сам ничтожным, я возвращаюсь к двум ничтожным вещам, в которых уверен: к моей повседневной жизни неведомого прохожего и к моим грезам, порождениям бессонницы пробужденного.
И как чтение, так и все… Стоит лишь вообразить что-то, что будто бы по-настоящему прерывает немое течение моих дней, и я поднимаю глаза в знак бурного протеста по отношению к принадлежащей мне сильфиде, этой бедняжке, которая, возможно, была бы сиреной, если бы научилась петь.
266.
Когда я впервые приехал в Лиссабон, с верхнего этажа дома, где мы жили, доносился звук пианино; на нем монотонно разучивала гаммы девочка, которую я никогда не видел. Сегодня я обнаруживаю, что, вследствие неведомых мне процессов впитывания, в погребах моей души все еще слышны, если там внизу открыть дверь, повторяющиеся гаммы, наигрываемые девочкой, которая теперь уже стала женщиной или умерла и оказалась запертой в белом месте, где зеленеют темные кипарисы.
Я был ребенком, теперь я уже не ребенок; однако в воспоминании звук постоянно присутствует, оставаясь таким же, каким был в действительности; если он поднимается оттуда, где притворно спит, звучит все тот же медленный наигрыш, все та же ритмичная монотонность. Когда я думаю о нем или чувствую его, меня наводняет грусть — расплывчатая, тревожная, моя.
Я не плачу по утраченному детству; я плачу потому, что все, в том числе (мое) детство, утрачивается. Не конкретный бег принадлежащего мне времени, а абстрактный бег времени причиняет мне боль в физическом мозгу своим невольным постоянным повторением на пианино гамм на верхнем этаже, ужасно безликих и далеких. Вся тайна, заключающаяся в том, что ничто не долговечно, постоянно молотит то, что не становится музыкой, а остается ностальгией в нелепой глубине моих воспоминаний.
Незаметно перед моим взглядом появляется небольшой зал, который я никогда не видел и в котором незнакомый мне ученик и сегодня, осторожно переставляя палец за пальцем, составляет всегда одинаковые гаммы того, что уже мертво. Я вижу, вижу все больше, восстанавливаю картину зрением. И вся семья, живущая этажом выше, ностальгирующая сегодня, но не вчера, вымышленно предстает перед моим рассеянным созерцанием.
Я полагаю, однако, что во все это я перенесен, что испытываемая мною ностальгия мне не принадлежит и не является абстрактной, а представляет собой перехваченные переживания кого-то другого, для которого эти переживания, во мне являющиеся литературными, были, как сказал бы Виейра, дословными. Я испытываю боль и тревогу в моем предположении ощущений, а через воображение и инаковость я испытываю ностальгию, от ощущения которой у меня затуманиваются глаза.
И всегда с постоянством, проистекающим из глубины мира, с метафизической настойчивостью разучивания звучат, звучат, звучат гаммы того, кто учится игре на пианино, по позвоночнику моего воспоминания. Старые улицы с другими людьми — сегодня это те же улицы, но другие; это умершие люди, что говорят со мной через прозрачность своего сегодняшнего отсутствия; это угрызения от того, что я сделал и не сделал, журчание ручьев в ночи, шумы там, внизу, в тихом доме.
Внутри головы мне хочется кричать. Я хочу остановить, раздавить, разломать эту невозможную грампластинку, что звучит внутри меня в чужом доме, неосязаемо пытая меня. Я хочу приказать душе остановиться, чтобы она, как автомобиль, который уже заняли, просто проехала вперед и оставила меня. Я схожу с ума оттого, что должен слышать. И, наконец, я сам, в моем ненавистно чувствительном мозгу, в моей коже, похожей на пленку, в моих нервах, вылезших наружу, становлюсь клавишами, о ужасное и личное пианино наших воспоминаний.
И всегда, всегда, словно в ставшей независимой части мозга, звучат, звучат, звучат гаммы там внизу, там наверху, в первом лиссабонском доме, в котором я поселился.
267.
Это последняя смерть Капитана Немо. Скоро я тоже умру.
Все мое прошедшее детство в это мгновение оказалось лишено возможности длиться.
268.
Обоняние — это странное зрение. Оно вызывает в памяти сентиментальные пейзажи посредством произвольного творчества подсознания. Я это испытывал много раз. Я прохожу по улице. Ничего не вижу или, вернее, глядя на все, вижу так, как видят все. Я знаю, что прохожу по улице, и не знаю, что у нее есть стороны, состоящие из различных домов, построенных людьми. Я прохожу по улице. Из булочной доносится запах хлеба, сладкий до тошноты: и тогда из определенного далекого квартала возникает мое детство, и передо мной появляется другая булочная из этого сказочного царства, которое является всем тем, что у нас умерло. Я прохожу по улице. Внезапно слышится запах фруктов, выставленных на наклонной полке в тесной лавке; и в моей недолгой жизни за городом, не знаю когда и где, появляются деревья, а в моем сердце, безусловно остающемся ребенком, воцаряется покой. Я прохожу по улице. Мне неожиданно попадается запах ящиков плотника: о мой Сезариу! Ты появляешься передо мной, и я наконец-то счастлив, потому что благодаря воспоминанию я вернулся к единственной истине, коей является литература.
269.
То, что я уже прочитал «Записки Пиквикского Клуба», — одна из великих трагедий моей жизни (я не могу снова прочитать их, как в первый раз).
270.
Искусство иллюзорно избавляет нас от мерзости бытия. Когда мы чувствуем беды и обиды Гамлета, принца датского, мы не чувствуем свои беды и обиды, гнусные, потому что они наши, и гнусные, потому что они гнусные.
Любовь, мечта, наркотики и отравляющие вещества — простейшие формы искусства или, скорее, формы, производящие то же действие, что и искусство. Но в любви, мечтах и наркотиках есть свое разочарование. Любовь наскучивает или разочаровывает. От мечты пробуждаешься, а когда ты спал, ты не жил. Наркотики оплачиваются разрушением той самой физической природы, для которой они должны служить стимулом. А в искусстве нет разочарования, потому что иллюзия признавалась с самого начала. От искусства не нужно пробуждаться, потому что в нем мы не спим, хотя и мечтаем. За наслаждение искусством не нужно платить налог или штраф.
Поскольку удовольствие, которое оно нам предлагает, в некотором смысле не наше, не мы должны платить за него или раскаиваться в нем.
Под искусством понимается все то, что нас услаждает, не будучи нашим — след прошедшего, улыбка, адресованная другому, закат, поэма, объективная вселенная.
Обладать значит терять. Чувствовать не обладая значит хранить, потому что значит извлекать из чего-то его суть.
271.
Ценна не любовь, а то, что ее окружает.
Подавление любви освещает ее феномены с намного большей ясностью, чем сам опыт любви. Есть девственность, обладающая глубоким пониманием. Действие вознаграждает, но смущает. Обладать значит быть обладаемым и потому теряться. Лишь мысль достигает познания реальности, не теряя себя.
272.
Христос — это форма переживания. В пантеоне есть место для богов, которые друг друга исключают, и у всех есть место и власть. Каждый может быть всем, потому что здесь нет пределов, даже логических, и в празднестве многих вечных мы наслаждаемся сосуществованием различных бесконечностей и различных вечностей.
273.
История отвергает точные вещи. Есть периоды порядка, когда все низменно, и периоды беспорядка, когда все возвышенно. Упадки плодотворны, с точки зрения умственной мужественности; эпохи силы — с точки зрения слабости духа. Все смешивается и пересекается, и истина существует лишь в предположении.
Сколько благородных мыслей падает в навоз, сколько подлинных тревог теряется в отбросах!
Для меня боги или люди равны в пространной путанице неясной судьбы. В этой комнате, затерянной на пятом этаже, они шествуют передо мной чередой снов и для меня представляют собой не больше, чем то, чем они были для тех, кто в них верил. Идолы негров с неуверенными и ошалевшими глазами, боги-звери дикарей из закоулков джунглей, аллегорические символы египтян, ясные божества греков, грубоватые боги римлян, Митра, повелитель Солнца и переживаний, Иисус, повелитель последствий и милосердия, различные черты самого Христа, новые святые, боги новых городов — все участвуют в траурном марше (в паломничестве или в похоронах) заблуждения и иллюзии. Все шагают, и за ними шагают пустыми тенями мечты, которые, будучи тенями на почве, с точки зрения худших мечтателей, твердо стоят на земле — скудные понятия без души и образа, Свобода, Человечество, Счастье, Лучшее Будущее, Общественная Наука, и влачатся в одиночестве сумерек, словно листья, которые слегка подвигает вперед шлейф королевской мантии, украденной бродягами.
274.
О, есть болезненная и грубая ошибка в том различии, которое революционеры проводят между буржуазией и народом, или между дворянами и народом, или между управляющими и управляемыми. Различие пролегает между приспособившимися и неприспособившимися: прочее — литература, причем плохая. Бродяга, если приспособится, завтра может стать королем, однако при этом он потеряет добродетель бродяги. Он перейдет границу и потеряет национальность.
Это утешает меня в тесной конторе, чьи плохо вымытые окна выходят на безрадостную улицу. Это утешает меня, поскольку у меня в братьях ходят создатели сознания мира — непутевый драматург Уильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, бродяга Данте Алигьери ‹…› и даже, если позволите мне эту цитату, тот Иисус Христос, который в мире был ничем, вследствие чего история сомневается в его существовании. Другие принадлежат другому роду — государственный советник Вольфганг фон Гёте, сенатор Виктор Гюго, вождь Ленин, вождь Муссолини.
Мы же, находясь в тени, среди посыльных и парикмахеров, составляем человечество.
По одну сторону стоят короли с их престижем, императоры с их славой, гении с их аурой, святые с их нимбами, народные вожди с их властью, проститутки, пророки и богачи… По другую сторону стоим мы — посыльный на углу, непутевый драматург Уильям Шекспир, парикмахер, травящий анекдоты, школьный учитель Джон Мильтон, рассыльный из лавки, бродяга Данте Алигьери, те, кого смерть забывает или освящает и кого жизнь забыла, не освятив.
275.
Управление миром начинается в нас самих. Миром правят не те, кто искренен, но и не те, кто неискренен. Им правят те, кто создает в себе настоящую искренность при помощи искусственных и автоматических средств; в этой искренности заключается их сила, и именно она излучается в менее фальшивой искренности других. Уметь как следует обманывать себя — первое качество государственного мужа. Лишь поэты и философы могут обладать практическим видением мира, потому что только им дано не испытывать иллюзий. Ясно видеть значит не действовать.
276.
Мнение — это грубость, даже когда оно не искренно.
Всякая искренность есть нетерпимость. Не бывает искренних либералов. Впрочем, и либералов не бывает.
277.
Все там разломано, безымянно и никому не принадлежит. Я видел там сильные порывы нежности, которые, как мне показалось, раскрывали глубину бедных грустных душ; я обнаружил, что эти порывы длились не дольше того часа, пока были словами, и что корнем их была — сколько раз я замечал это в проницательности молчаливых — аналогия с чем-то благочестивым, которая утрачивалась из-за быстроты, с которой проходит новизна наблюдения, а иногда вино на ужине умиленного. Всегда существовала систематическая связь между гуманностью и плодовой водкой, и на многих величественных жестах сказался лишний стакан или плеоназм жажды.
Все эти создания продали душу дьяволу адского плебса, жадного до гнусностей и до нечистоплотности. Они проживали отравление тщеславием и праздностью и умирали вяло среди подушек слов и сморщенности выплюнутых скорпионов.
Самым поразительным во всех этих людях была их полная ничтожность во всех отношениях. Одни были редакторами главных газет и умудрялись не существовать; другие занимали видные государственные должности и упоминались в ежегодных справочниках, но умудрялись никак не проявлять себя в жизни; третьи были поэтами, даже признанными, но от все той же пепельной пыли их невежественные лица становились мертвенно-бледными, и все обращалось в груду окоченевших подбоченившихся мумий, застывших в прижизненных позах.
От того недолгого времени, на которое я застыл в этой ссылке живого ума, я храню воспоминание о приятных мгновениях искренней радости, о многих однообразных и грустных мгновениях, о некоторых профилях, вырезанных из ничего, о некоторых жестах, адресованных случайным служанкам, и в итоге тоску от физической тошноты и память о нескольких остроумных шутках.
В них вплетались, словно пространства, люди старшего возраста, некоторые со старомодными высказываниями, которые говорили так же плохо, как и другие, и о тех же людях.
Я никогда не испытывал столько симпатии к обделенным общественной славой, как когда видел, как их изобличают эти обездоленные, не стремясь к этой жалкой славе. Я распознал причину триумфа потому, что парии Великого торжествовали по отношению к ним, а не по отношению к человечеству.
Несчастные горемыки, вечно томимые жаждой — жаждой воды, жаждой известности или жаждой сладостей жизни. Тот, кто слышит их, но не знает, считает, что слушает учителей Наполеона и наставников Шекспира.
Есть те, кто первенствует в любви, есть те, кто первенствует в политике, есть те, кто первенствует в искусстве. У первых есть преимущество повествования, потому что в любви можно уверенно победить, не имея полного знания о том, что произошло. И, разумеется, когда некоторые из этих личностей рассказывают о своих сексуальных марафонах, то ближе к седьмой дефлорации в нас закрадывается смутное сомнение. Любовники дам титулованных или очень известных (впрочем, таковы почти все) так разбазаривают графинь, что статистика их завоеваний лишила бы серьезности и скромности даже образ пращуров нынешних титулованных особ.
Другие специализируются на физическом конфликте — они как-то раз убили чемпионов Европы по боксу во время ночного кутежа на перекрестке в Шиаду[36]. Третьи влиятельны и вхожи ко всем министрам всех министерств, и они внушают меньше всего сомнений, поскольку их рассказы не так противны.
Одни — большие садисты, другие — большие педерасты, третьи высоким голосом признаются с грустью, что грубо обращаются с женщинами. Они довели их сюда, погоняя кнутом, по дорогам жизни. В конце концов, они вынуждены заказывать кофе в долг.
Есть поэты, есть ‹…›
Я не знаю лучшего средства от всего этого потока теней, чем прямое познание текущей человеческой жизни в ее торговой реальности, например, которая проявляется в конторе на улице Золотильщиков. С каким облегчением я возвращался из этого сумасшедшего дома марионеток к реально присутствующему Морейре, моему начальнику, настоящему и знающему бухгалтеру, плохо одетому — его держали в черном теле, но он был тем, что называется человеком, чего никому из тех других не удавалось…
278.
Большинство людей спонтанно проживает вымышленную и чужую жизнь. Большинство людей суть другие люди, сказал Оскар Уайльд и сказал правильно. Одни тратят жизнь на поиски чего-то, чего не хотят; другие усиленно ищут то, чего хотят и что им не нужно; третьи теряются ‹…›
Но большинство счастливо и наслаждается жизнью, не обращая на это внимания. В целом человек плачет мало, а когда жалуется, то создает свою литературу. Пессимизм как демократическая формула мало осуществим. Те, кто оплакивает зло в мире, изолированы — они оплакивают лишь собственный мир. Леопарди[37], Антеру[38] не любили и не были любимы? Вселенная — зло. Виньи любили плохо или недостаточно? Мир — тюрьма. Шатобриан мечтает больше, чем это возможно? Человеческая жизнь — тоска. Иов покрыт волдырями? Земля покрыта волдырями. Наступают на мозоли того, кто исполнен печали? Бедные ноги, бедные звезды и бедные солнца!
Чуждое этому, оплакивая лишь необходимое и в течение как можно меньшего времени, — когда умирает ребенок, которого оно через несколько лет будет вспоминать только в дни рождения; когда оно теряет деньги и плачет, пока не найдет другие или не приспособится к их утрате, — человечество продолжает переваривать и любить.
Жизненная сила возмещает и оживляет. Мертвые остаются в земле. Утраты остаются утратами.
279.
Сегодня уехал, говорят, что окончательно, в свои родные края так называемый конторский посыльный, тот самый человек, которого я привык считать частью этого человеческого дома, а потому и частью меня и моего мира. Сегодня он уехал. В коридоре, когда мы случайно встретились ради ожидаемого сюрприза расставания, я обнял его, и он в ответ робко обнял меня, и у меня хватило сил, чтобы не расплакаться, как того хотели, в моем сердце и без моей воли, мои пылающие глаза.
Все то, что было нашим, даже вследствие случайностей сосуществования или взгляда, становится нами, потому что было нашим. Поэтому тот, кто сегодня уехал в неведомую мне галисийскую землю, не был для меня конторским посыльным: он был зримой и человеческой, а потому жизненной частью сущности моей жизни. Сегодня я уменьшился. Я уже не тот, что прежде. Конторский посыльный уехал.
Все, что происходит там, где мы живем, происходит в нас. Все, что прекращается в том, что мы видим, прекращается в нас. Все, что было, если мы это видели, пока оно было, было вырвано из нас, когда ушло. Конторский посыльный уехал.
За высоким письменным столом я чувствую себя тяжелее, старее и с меньшей охотой продолжаю вносить запись, начатую вчера. Но сегодняшняя смутная трагедия прерывает автоматический процесс правильного внесения записей размышлениями, которые я должен насильно подавлять. У меня хватает духу работать лишь потому, что я могу с активной бездеятельностью быть рабом самого себя. Конторский посыльный уехал.
Да, завтра, или в другой день, или когда угодно, когда зазвонит по мне беззвучный колокол смерти или ухода, я тоже буду тем, кого уже нет тут, старый переписчик, которого положат в шкаф под лестничной площадкой. Да, завтра или когда повелит Судьба, окончится то, что во мне притворялось мною. Отправлюсь ли я в родные края? Я не знаю, куда отправлюсь. Сегодня трагедия зрима вследствие отсутствия, ощутима потому, что недостойна того, чтобы ее ощущать. Боже мой, Боже мой, конторский посыльный уехал.
280.
О ночь, когда звезды притворяются, будто источают свет, о ночь, единственное, что есть значимого во Вселенной, преврати меня, мою душу и тело, в часть твоего тела, чтобы я потерялся, став простыми сумерками, и тоже превратился в ночь, без снов, которые были бы звездами во мне, без долгожданного солнца, которое освещало бы будущее.
281.
Сначала звук, который производит другой звук в ночной вогнутости вещей. Затем неясный вой, сопровождаемый скрежетом качающихся уличных вывесок. Затем внезапно раздается высокая нота в ревущем голосе пространства — и все сотрясается и не колеблется, и посреди всего этого страха воцаряется тишина, как глухой страх, который видит другой страх, уже прошедший.
Затем не остается ничего, кроме ветра — только ветер, и во сне я замечаю, что закрепленные двери сотрясаются, а окна издают звук сопротивляющегося порыву стекла.
Я не сплю. Я полу-есмь. У меня остаются обрывки сознания. Меня тяготит сон, но не тяготит бессознательность… Меня нет. Ветер… Я просыпаюсь и засыпаю вновь, и я еще не спал. Царит пейзаж высокого мрачного звука, за пределами которого я себя не узнаю́. Я осмотрительно наслаждаюсь возможностью поспать. Я действительно сплю, но не знаю, сплю ли. В том, что мы считаем сном, всегда есть звук конца всего, всегда есть ветер в темноте и — если я еще слушаю — шум моих легких и сердца.
282.
После того как последние звезды, побледнев, растворились в утреннем небе и легкий ветер стал не таким холодным в едва тронутой оранжевыми тонами желтизне света над редкими низкими облаками, я, так и не поспав, наконец смог медленно поднять истощенное ничем тело с кровати, на которой я думал о вселенной.
Я подошел к окну с глазами, пылавшими оттого, что я их не сомкнул. Над плотными крышами свет переливался разными оттенками бледной желтизны. Я замер, созерцая все, с оцепенением, навеянным отсутствием сна. В возвышающихся очертаниях высоких домов желтизна была воздушной и никчемной. Далеко на западе, куда был обращен мой взгляд, горизонт уже был бело-зеленым.
Я знаю, что день для меня будет тяжелым, как непонимание всего. Я знаю, что все то, что я сделаю сегодня, станет частью не усталости от сна, которого у меня не было, а от бессонницы, что я испытал. Я знаю, что испытаю более отчетливый, более осязаемый лунатизм не только потому, что не спал, но и потому, что не смог уснуть.
Бывают философские дни, которые подсказывают нам толкования жизни, подобные заметкам на полях, полным настоящей критики, в книге вселенской судьбы. Я чувствую, что сегодня — один из таких дней. Как это ни абсурдно, мне кажется, что мои отягощенные глаза и мой ничтожный мозг, словно абсурдный карандаш, вырисовывают буквы бесполезного и глубокого комментария.
283.
Свобода — это возможность уединения. Ты свободен, если можешь отстраниться от людей и тебя не заставит их искать потребность в деньгах, или стадное стремление, или любовь, или слава, или любопытство, которые не могут подпитываться в тишине и в одиночестве. Если ты не можешь жить один, ты родился рабом. Ты можешь обладать величием духа и души: ты благородный раб или умный слуга: ты не свободен. И у тебя нет трагедии, потому что трагедия, заключающаяся в том, что ты родился таким, проистекает не от тебя, а от Судьбы, и только от Судьбы. Впрочем, горе тебе, если сам гнет жизни принуждает тебя быть рабом. Горе тебе, если нужда заставляет тебя, родившегося свободным, способным быть самодостаточным и обособляться, жить с кем-то. Эта трагедия — твоя, и ты несешь ее с собой.
Родиться свободным — главное величие человека, ставящее смиренного отшельника выше королей и даже богов, которые самодостаточны благодаря силе, но не благодаря презрению к ней.
Смерть — это освобождение, потому что умереть значит не нуждаться в другом. Бедный раб насильственно освобождается от своих удовольствий, от своих печалей, от своей желанной и непрерывной жизни. Король освобождается от своих владений, которые не хотел оставлять. Те женщины, что сеяли любовь, освобождаются от своих триумфов, которые их обожают. Победители освобождаются от побед, для которых была предназначена их жизнь.
Поэтому смерть облагораживает, облекает в неведомые праздничные одежды бедное нелепое тело. Просто в них — вольноотпущенник, хотя он и не хотел освобождения. Просто в них нет раба, хотя он и оплакивал свое утраченное рабство. Как Король, чья главная роскошь — это его титул короля и чья человеческая личность может вызывать смех, но при этом как король он стоит выше, так и мертвец может быть безобразен, но он стоит выше, потому что смерть освободила его.
Я устало закрываю створки моих окон, исключаю мир и на мгновение обретаю свободу. Завтра я снова стану рабом; но сейчас, не имея ни в ком потребности, опасаясь лишь того, что чей-нибудь голос или присутствие прервут меня, я обретаю мою маленькую свободу, мои возвышенные мгновения.
На стуле, на который я присаживаюсь, я забываю о гнетущей меня жизни. Мне причиняет боль лишь тот факт, что мне было больно.
284.
Не будем касаться жизни даже кончиками пальцев.
Не будем любить даже мысленно.
Пусть ни один поцелуй женщины, даже в мечтах, не будет нашим ощущением.
Искусники изнеженности, давайте отточим свои навыки разочарования в себе. Влекомые любопытством к жизни, давайте будем подглядывать со всех стен, предвосхищая утомление от знания о том, что мы не увидим ничего нового или красивого.
Ткачи отчаяния, давайте ткать только саваны — белые саваны для грез, которыми мы никогда не грезили, черные саваны для дней, когда мы умираем, серые саваны для жестов, о которых мы лишь мечтаем, императорские — пурпурные — саваны для наших бесполезных ощущений.
По дубовым рощам, и по долинам, и по берегам ‹…› болот охотники преследуют волка, и косулю ‹…›, и еще диких уток. Давайте возненавидим их не потому, что они охотятся, а потому, что они получают удовольствие (а мы нет).
Пусть выражением наших лиц будет бледная улыбка, как у того, кто готов расплакаться, туманный взгляд, как у того, кто не хочет видеть, презрение, рассеянное по всем чертам, как у того, кто презирает жизнь и живет лишь для того, чтобы что-нибудь презирать. И пусть наше презрение будет обращено к тем, кто трудится и сражается, а наша ненависть — к тем, кто надеется и верит.
285.
Я почти убежден в том, что я никогда не бодрствую. Я не знаю, не грежу ли, когда живу, не живу ли, когда грежу, или же грезы и жизнь во мне перемешаны, переплетены, отчего мое сознающее существо образуется посредством взаимопроникновения.
Иногда посреди активной жизни, в которой я, разумеется, ощущаю себя так же ясно, как и все остальные, в мое воображение приходит странное ощущение сомнения; я не знаю, существую ли я; чувствую, что я, возможно, сон другого, мне представляется почти во плоти, что я мог бы быть героем романа, двигаясь по длинным волнам некоего стиля, по придуманной истине повествования.
Я часто замечаю, что некоторые герои романов обретают в наших глазах значимость, которой никогда не могли бы достичь наши знакомые или друзья, те, кто говорит с нами и слышит нас в зримой и реальной жизни. И вследствие этого мне грезится вопрос о том, не является ли все в целостности мира чередой переплетенных друг с другом грез и романов, подобных ящичкам внутри других ящичков — одни внутри других, другие внутри третьих — и все это есть история со многими историями, как Тысяча и одна ночь, ложно текущая в вечной ночи.
Если я думаю, мне все кажется нелепым; если чувствую, все мне кажется странным; если я желаю, то желаю чего-то внутри меня. Всякий раз, когда во мне есть действие, я признаю, что это был не я. Если я мечтаю, кажется, что меня пишут. Если я чувствую, кажется, что меня рисуют. Если я желаю, кажется, что меня сажают в машину, словно отправляемый товар, и что я перемещаюсь при помощи движения, которое считаю своим, туда, куда я не захотел ехать лишь после того, как там оказался.
Как все запутано! Насколько лучше видеть, чем думать, насколько лучше читать, чем писать! То, что я вижу, возможно, обманывает меня, однако я не считаю это своим. То, что я читаю, возможно, тяготит меня, но не сбивает меня с толку, как нечто, написанное мной. Какую боль причиняет все, если мы думаем об этом, как те, кто думает осознанно, как духовные существа, в которых осуществилось это второе раздвоение сознания, посредством которого мы знаем, что знаем! Даже если день прекрасен, я не могу перестать так думать… Думать или чувствовать или что-то третье среди отложенных в сторону сценариев? Тоска от сумерек и смятения, сложенные веера, усталость оттого, что пришлось жить…
286.
Мы проходили, еще молодыми, под высокими деревьями и под неясным шепотом леса. Лунный свет превращал в озера внезапно возникавшие из случайности дороги поляны, а берега, опутанные ветвями, были большей ночью, чем сама ночь. Неясный ветер больших лесов шумно дышал среди деревьев. Мы говорили о невозможном; и наши голоса были частью ночи, лунного света и леса. Мы слышали их так, будто они принадлежали другим.
Неясный лес не то чтобы был лишен дорог. Были тропинки, которые мы, сами того не желая, знали, и наши шаги колебались на них среди сеток теней и вялого мерцания сурового и холодного света луны. Мы говорили о невозможном, и весь реальный пейзаж тоже был невозможным.
287.
Мы обожаем совершенство, потому что не можем его обрести; мы бы гнушались им, если бы оно у нас было. Совершенное — нечеловечно, потому что человеческое — несовершенно.
Глухая ненависть к раю — желание, подобное желанию несчастного бедняка иметь поле на небесах. Да, ни экстаз абстрактного, ни чудеса абсолютного не могут очаровать чувствующую душу: ее могут очаровать очаги и склоны гор, зеленые острова среди синего моря, тропинки между деревьями и долгие часы отдыха в садах предков, даже если у нас их никогда не бывает. Если на небе нет земли, то уж лучше, чтобы и неба не было. Тогда пусть все будет ничем и закончится роман, у которого нет сюжета.
Чтобы достичь совершенства, была бы нужна внешняя холодность человека, и тогда не нашлось бы человеческого сердца, которое смогло бы любить собственное совершенство.
Мы изумляемся и восхищаемся стремлением великих художников к совершенству. Мы любим их приближение к совершенному, но мы любим его потому, что это лишь приближение.
288.
Какая трагедия не верить в возможность совершенствования человека!
— И какая трагедия в нее верить!
289.
Если бы я написал «Короля Лира», я бы испытывал угрызения совести всю мою последующую жизнь. Это такое великое произведение, что его изъяны выглядят огромными, его чудовищные изъяны, пусть даже это ничтожные вещи, заключенные между некоторыми сценами и их возможным совершенством. Это не солнце с пятнами; это сломанная греческая статуя. Все то, что сделано, полно ошибок, отсутствия перспективы, невежества, признаков дурного вкуса, слабостей и невнимательности. Написать произведение искусства настолько выверенное, чтобы стать великим, и настолько совершенное, чтобы стать несравненным, — ни у кого нет божественного дара, чтобы это сделать, никому не посчастливилось это совершить. То, чего нельзя сделать в одном порыве, страдает от запутанности нашего духа.
Если я думаю об этом, мое воображение наполняется огромной безутешностью, болезненной уверенностью в том, что я никогда не смогу сделать ничего хорошего и полезного для Красоты. Нет иного способа достичь совершенства, кроме как быть Богом. Наше самое большое усилие длится некоторое время; в течение времени, которое оно длится, оно пересекает различные состояния нашей души, и каждое состояние души, будучи таким, а не иным, запутывает своей личностью индивидуальность произведения. Когда мы пишем, мы уверены только в том, что пишем плохо; единственное великое и совершенное произведение — то, которое никогда не мечтаешь осуществить.
Послушай меня еще и пожалей себя. Послушай это, а потом скажи мне, ценнее ли мечта, чем жизнь. Труд никогда не приносит результата. Усилие никогда ничего не достигает. Лишь воздержание благородно и возвышенно, потому что оно признает, что осуществление всегда стоит ниже и что созданное произведение всегда представляет собой гротескную тень произведения задуманного.
Быть способным написать на бумаге словами, которые затем можно будет прочитать вслух и услышать, диалоги героев моих воображаемых драм! У этих драм — совершенный непрерывающийся сюжет, безупречные диалоги, но ни сюжет не вырисовывается во мне целостно, чтобы я мог спланировать его воплощение, ни слова не соответствуют тому, что образует суть этих сокровенных диалогов, чтобы, прослушав их внимательно, я мог перенести их в письменную форму.
Я люблю некоторых лирических поэтов за то, что они не были поэтами эпическими или драматическими, за то, что они обладали необходимой интуицией и не стремились воплотить что-либо, помимо мгновения ощущения или мечты. То, что можно написать бессознательно, — так измеряется возможное совершенство. Ни одна из драм Шекспира не приносит такого удовлетворения, как лирика Гейне. Лирика Гейне совершенна, а любая драма — Шекспира или кого-либо другого — всегда несовершенна. Быть способным строить, возводить Всецелое, составлять нечто, что будет подобно человеческому телу и в чем будут совершенно сочетаться части и жизнь, жизнь, исполненная единства и целостности и объединяющая разрозненные черты обеих частей!
Ты, что слышишь меня и слушаешь плохо, ты не знаешь, что это за трагедия! Потерять отца и мать, не достичь ни славы, ни счастья, не иметь ни друга, ни любви — все это можно вынести; но невозможно вынести мечтания о чем-то прекрасном, чего нельзя получить ни в действии, ни в словах. Сознание совершенного труда, пресыщение полученным произведением — как сладок сон под тенью этого дерева спокойным летом.
290.
Фразы, которые я никогда не напишу, пейзажи, которые я никогда не смогу описать, с какой ясностью я диктую их моей бездеятельности и описываю в моих размышлениях, когда лежу и лишь отдаленно принадлежу жизни. Я ваяю целые фразы, совершенные в каждом слове, в моей душе рассказываются стройные текстуры драм, я чувствую размеренное словесное движение великих поэм в каждом их слове, и могучий энтузиазм, словно раб, которого я не вижу, следует за мной в полутьме. Но если я делаю шаг от стула, на который я слагаю почти воплощенные ощущения, к столу, на котором я хотел бы их записать, слова убегают, драмы умирают и от жизненной связи, соединившей размеренный лепет, остается лишь далекая ностальгия, последние отблески солнца на далеких горах, ветер, взметающий листья близ пустынного порога, никогда не раскрываемая родственная связь, чужая оргия, женщина, которая, как утверждает наша интуиция, обернулась бы и которая никогда не воплощается в реальности.
Проекты у меня были всякие. Сочиненная мною «Илиада» обладала такой логичной структурой, таким органическим сцеплением эподов, которых не смог добиться Гомер. Выверенное совершенство моих стихов, которое нужно дополнить словами, заставляет бледнеть точность Вергилия и размывает силу Мильтона. Все мои аллегорические сатиры превзошли Свифта в символической точности идеально связанных деталей. Сколькими Верленами я был!
И всякий раз, когда я вставал со стула, на котором, на самом деле, эти вещи мне совсем не пригрезились, я испытывал двойную трагедию, потому что знал, что они не существовали и что не все они были грезой, что кое-что из них осталось на абстрактном пороге, где я мыслил о них и был ими.
Я был гением больше в мечтах и меньше в жизни. В этом состоит моя трагедия. Я был бегуном, упавшим почти у финиша, до которого я добежал первым.
291.
Если бы в искусстве было ремесло усовершенствователя, у меня в жизни (моего искусства) была бы функция…
Брать произведение, созданное другим, и работать лишь над его совершенствованием… Так, возможно, была создана «Илиада»…
Главное — не совершать усилия изначального творчества!
Как я завидую тем, кто пишет романы, кто их начинает и создает и завершает! Я умею представлять их, главу за главой, иногда с фразами диалогов и фразами между диалогами, но я не смог бы воплотить на бумаге эти мечты о писании ‹…›
292.
Любое действие, будь то война или рассуждение, ложно; любое отречение тоже ложно. Если бы я только знал, как не действовать и не отрекаться от действия! Это стало бы венцом-мечтаний о моей славе, скипетром-молчания моего величия.
Я даже не страдаю. Мое презрение ко всему так велико, что я презираю сам себя, и, поскольку я презираю чужие страдания, я презираю и страдания собственные и так раздавливаю своим презрением мое собственное страдание.
Да, но так я страдаю еще больше… Потому что если придавать ценность собственному страданию, оно освещается золотом солнца гордости. Если страдать много, можно создать иллюзию, что ты — Избранник Боли. Так ‹…›
293.
Болезненная пауза
Как тот, кому простой и естественный ясный свет солнца режет глаза после того, как он отрывается от долгого ‹…› книги, мне, когда я иногда отрываю глаза от наблюдения за собой, больно смотреть на ясность и независимость-от-меня очевидно внешней жизни, на существование других, на положение и соотношение между собой движений в пространстве. Я сталкиваюсь с реальными чувствами других, антагонизм их душевного склада и моего сбивает меня с толку и путает мне шаги, я поскальзываюсь и чувствую себя ошалело над и среди звучания их странных слов, услышанных во мне, среди их уверенной и прочной поступи по настоящему полу, среди их действительно существующих жестов, среди их разных и сложных способов быть другими людьми, не будучи разновидностями моей личности.
Тогда я обнаруживаю себя в этих душах, в которые я иногда проваливаюсь, беззащитный и пустой, я словно умер и еще живу, я подобен страдающей бледной тени, которую первый же порыв ветра повалит на землю и первое же прикосновение обратит в пыль.
Тогда я спрашиваю себя, имеет ли какую-то ценность то усилие, что я предпринял, чтобы обособиться и возвыситься, имеет ли какую-то религиозную ценность то медленное хождение по мукам, в которое я себя превратил ради моей Славы Распятия? И, даже если бы я знал, что оно стоило того, меня в этот миг тяготит чувство, что оно того не стоило и стоить никогда не будет.
294.
Деньги, дети (сумасшедшие) ‹…›
Богатству нужно завидовать только платонически; богатство — это свобода.
295.
Деньги прекрасны, потому что они суть освобождение.
Хотеть умереть в Пекине и не иметь такой возможности — одна из тех вещей, которые тяготят меня, как мысль о грядущем катаклизме.
Покупатели бесполезных вещей всегда мудрее, чем считается — они покупают маленькие мечты. В приобретении вещей они — дети. Всеми мелкими бесполезными предметами, привлекательность которых заставляет нас их купить, когда мы знаем, что у нас есть деньги, они счастливо обладают, как ребенок, который собирает ракушки на пляже — образ, который больше, чем что-либо, передает все возможное счастье! Собирает ракушки на пляжах! Для ребенка не бывает двух одинаковых ракушек. Он засыпает, держа две самые красивые ракушки в руке, а когда их теряют или выбрасывают — это преступление! Все равно что украсть у него внешние части души! Оторвать куски от мечты! — он плачет, словно Бог, у которого украли только что созданную вселенную.
296.
Мания к абсурду и к парадоксу — животная радость грустящих. Как нормальный человек говорит глупости, повинуясь жизненной силе, и, повинуясь инстинкту, хлопает по спине других, те, кто неспособен на энтузиазм и радость, выделывают пируэты в уме и, на свой лад, совершают обычные для жизни жесты.
297.
Reductio ad absurdum[39] — один из моих любимых напитков.
298.
Нелепо все. Один тратит жизнь на зарабатывание денег и хранит их, хотя у него нет ни детей, которым он мог бы их оставить, ни надежды, что небо дарует ему трансцендентность этих денег. Другой тратит силы на зарабатывание славы, которая придет к нему после смерти, и не верит в то посмертное существование, в котором он мог бы знать об этой славе. Третий истрачивает себя на поиски того, что на самом деле ему не нравится. Потом находится тот ‹…›
Один читает, чтобы знать, но напрасно. Еще один наслаждается, чтобы жить, но напрасно.
Я еду в трамвае и, по своему обыкновению, медленно и детально разглядываю людей, находящихся передо мной. Для меня детали — это вещи, голоса, буквы. Платье девушки, что сидит напротив меня, я раскладываю на ткань, из которой оно состоит, труд, при помощи которого оно было изготовлено, — ведь я вижу в нем платье, а не ткань, — и легкий узор, окаймляющий вырез вокруг шеи, разделяется для меня на шелковые крученые нити, которыми он вышит, и на труд, потребовавшийся для его вышивания. И сразу же, словно в учебнике по политической экономике, передо мной разворачиваются фабрики и труд — фабрика, где была изготовлена ткань; фабрика, где были изготовлены крученые нити более темного оттенка, которые обозначают витыми штучками свое место около шеи; и я вижу цеха фабрики, станки, рабочих, швей, мои обращенные внутрь глаза проникают в конторы, я вижу управляющих, старающихся сохранять спокойствие, отслеживаю по книгам отчетность всего; но это не все: дальше я вижу домашнюю жизнь тех, кто проживает свою общественную жизнь на этих фабриках и в этих конторах… Все разворачивается перед моими глазами лишь потому, что я вижу перед собой, под смуглой шеей, у которой с другой стороны есть лицо, не знаю какое, неровную темно-зеленую кайму на светло-зеленом платье.
Вся общественная жизнь лежит перед моими глазами.
Помимо этого, я угадываю любовные истории, сокровенные тайны, душу всех тех, кто работал, чтобы эта женщина, сидящая передо мной в трамвае, украсила свою смертную шею извилистой банальностью темно-зеленых шелковых крученых нитей и зеленого платья более светлого оттенка.
Я чувствую себя оглушенным. Трамвайные скамейки с их переплетением жесткой измельченной соломы уносят меня в далекие края, плодя во мне заводы, рабочих, дома рабочих, жизни, реальности, все.
Я выхожу из вагона в лунатическом изнеможении. Я прожил целую жизнь.
299.
Каждый раз, когда я путешествую, я путешествую безмерно. Усталость, которую я привожу с собой из путешествия на поезде до Кашкаиша, такая же, как если бы за это короткое время я просмотрел сельские и городские пейзажи четырех-пяти стран.
Каждый дом, мимо которого я проезжаю, каждое шале, каждый обособленный домик, покрытый белой известью и тишиной — в каждом из них я на мгновение представляю, что живу, сначала счастливо, затем тоскуя, потом утомленно; и я чувствую, что, покинув этот дом, я увожу с собой огромную ностальгию по времени, когда я там жил. Поэтому все мои путешествия — это болезненный и счастливый урожай больших радостей, безмерной тоски, бесконечной притворной ностальгии.
Затем, проезжая мимо домов, вилл, шале, я проживаю в себе все жизни находящихся в них существ. Я проживаю все эти домашние жизни одновременно. Я — отец, мать, дети, двоюродные братья, служанка и двоюродный брат служанки, одновременно и все вместе благодаря особому искусству, позволяющему мне испытывать одновременно несколько различных ощущений, проживать одновременно — одновременно снаружи, видя их, и изнутри, чувствуя их — жизни различных существ.
Я создал в себе разные личности. Я постоянно создаю личности. Каждая моя мечта мгновенно, сразу после того, как я ее представил, воплощается в другом человеке, который начинает ее представлять, а я нет.
Ради созидания я уничтожил себя; я настолько обособился наружно внутри себя, что внутри себя я существую только внешне. Я живая сцена, по которой проходят разные актеры, играющие разные пьесы.
300.
Треугольная мечта
В моем сне на палубе я содрогнулся — дело в том, что по моей душе Далекого Принца прошла судорога предчувствия.
Шумная, угрожающая тишина наводняла, словно мертвенный ветер, зримую атмосферу маленького зала.
Все это — от чрезмерного беспокойного блеска в лунном свете над океаном, который не убаюкивает, а сотрясает; стало очевидно — а я их еще не слышал, — что возле дворца Принца растут кипарисы.
Меч первой молнии смутно сверкнул вдали… Лунный свет над открытым морем — цвета молнии, и все это значит, что мой дворец принца, в котором я никогда не был, уже превратился в руины и стал далеким прошлым…
В зловещем шуме, в котором корабль приближается по водам, зал мертвенно темнеет; и он не умер, нигде не пленен, не знаю, что стало с ним — с принцем, — чем леденящим и неизвестным стала теперь для него судьба?..
301.
Единственный способ испытывать новые ощущения — построить себе новую душу. Напрасными будут твои усилия, если ты захочешь чувствовать что-то другое, не чувствуя себя иначе, и чувствовать себя иначе, не меняя души. Потому что вещи таковы, какими мы их чувствуем — как давно ты это знаешь, не зная этого? — и единственный способ получать что-то новое, испытывать что-то новое — это новизна в их переживании.
Измени душу. Как? Выясни это сам.
С нашего рождения и до смерти мы медленно меняем душу, как и тело. Найди способ ускорить эту перемену, ведь при определенных болезнях или при определенном выздоровлении наше тело меняется быстро.
Никогда не опускаться до того, чтобы читать лекции, чтобы люди не думали, что у нас есть свое мнение или что мы опускаемся до уровня публики, чтобы поговорить с ней. Если она хочет, пусть она нас читает.
К тому же, лектор похож на актера — существо, которое хороший художник презирает, эдакий мальчик на побегушках на службе у Искусства.
302.
Я обнаружил, что всегда думаю и всегда внимаю, то и другое одновременно. До определенной степени, я полагаю, это происходит со всеми. Некоторые впечатления так туманны, что лишь потом, вспоминая о них, мы осознаем, что они у нас были; из этих впечатлений, на мой взгляд, образуется часть — возможно, внутренняя часть — двойственного внимания всех людей. Со мной случается так, что две реальности, которым я уделяю внимание, обладают одинаковой значимостью. В этом заключается моя оригинальность. В этом, возможно, заключается моя трагедия и ее комедия.
Я пишу внимательно, согнувшись над бухгалтерской книгой, в которой я посредством записей составляю бесполезную историю темной фирмы; и, в то же время, моя мысль с таким же вниманием следит за курсом несуществующего судна среди пейзажей Востока, которого нет. И то, и другое в равной степени отчетливо, в равной степени зримо перед моим взором: лист, на котором я осторожно пишу на разлинованных строках стихи торговой эпопеи «Вашкеш и Ко», и палуба, на которой, стоя немного в стороне от просмоленной линии стыков между досками, я осторожно смотрю на выстроенные в ряд шезлонги и выпирающие ноги тех, кто отдыхает, путешествуя.
(Если меня собьет детский велосипед, этот детский велосипед станет частью моей истории.)
В картину вмешивается выступ зала для курения; поэтому видны только ноги.
Я подношу перо к чернильнице, и из двери зала для курения — почти рядом с тем местом, где я, по моим ощущениям, нахожусь — выходит неизвестная фигура. Этот человек поворачивается ко мне спиной и двигается по направлению к другим. У него медленная походка, а ляжки мало что выражают. Он англичанин. Я начинаю другую запись. Пытаюсь понять, почему она была неправильной. Она в дебете, а не в кредите счета г-на Маркеша (я вижу его, толстого, обходительного острослова, и судно мгновенно исчезает).
303.
Мир принадлежит тому, кто не чувствует. Ключевое условие для того, чтобы быть практичным человеком, состоит в отсутствии чувствительности. Основное качество в практике жизни — это то качество, которое ведет к действию, то есть воля. Но есть две вещи, мешающие действию — чувствительность и аналитическое мышление, которое, в конце концов, есть не что иное, как мышление, соединенное с чувствительностью. По природе своей любое действие — это проекция личности на внешний мир, а поскольку внешний мир, по большей части, состоит из людей, из этого следует, что проекция личности, по сути, состоит в том, что мы перегораживаем путь и мешаем другим, раним и раздавливаем их в зависимости от того, как ведем себя.
Так вот, для действия необходимо, чтобы мы не представляли себе с легкостью чужие личности, их боли и радости. Тот, кто испытывает симпатию, останавливается. Человек действия считает, что внешний мир состоит исключительно из инертной материи — она инертна либо сама по себе, как камень, на который наступают или который отодвигают с дороги, либо как человеческое существо, неспособное ему сопротивляться, и потому нет разницы, камень это или человек, ведь, как и камень, его отодвинули или на него наступили.
Военачальник — лучший пример практичного человека, поскольку он соединяет в себе чрезвычайную сосредоточенность действия с ее чрезвычайной важностью. Вся жизнь — это война, а сражение есть синтез жизни. Но военачальник — это человек, играющий жизнями, как шахматист играет фигурами. Что стало бы с военачальником, если бы он думал о том, что каждый его ход в игре приносит ночь в тысячу очагов и скорбь в три тысячи сердец? Что стало бы с миром, если бы мы были человечны? Если бы человек чувствовал по-настоящему, цивилизации не было бы. Искусство служит выходом для чувствительности, о которой действию пришлось забыть. Искусство — это Золушка, которая осталась дома, потому что так должно было быть.
Любой человек действия — бодрый оптимист, потому что тот, кто не чувствует, счастлив. Человека действия можно распознать по тому, что он никогда не бывает в дурном настроении. Тот, кто работает, даже если он не в духе, является прислужником действия; в жизни, в большой целостности жизни он может быть помощником бухгалтера, каковым, в ее частном случае, являюсь я. Но он не может управлять вещами или людьми. Управлению свойственна бесчувственность. Правит тот, кто весел, поскольку, чтобы грустить, нужно чувствовать.
Шеф Вашкеш сегодня заключил сделку, которой разорил больного человека и его семью. Как только он ее заключил, он напрочь забыл, что этот индивид, в котором он видел исключительно контрагента, существует на самом деле. После заключения сделки на него нашла чувствительность. Но только после, ведь очевидно, что, появись она раньше, сделку бы никогда не заключили. «Мне жаль этого типа, — сказал он мне. — Он останется в нищете». Затем, зажигая сигару, он добавил: «В любом случае, если ему от меня что-нибудь понадобится», — имея в виду какую-нибудь милостыню — «я не забуду, что обязан ему хорошей сделкой и солидной прибылью».
Шеф Вашкеш не разбойник: он человек действия. Тот, кто проиграл ход в этой игре, действительно может в будущем — ведь шеф Вашкеш щедрый человек — рассчитывать на милостыню от него.
Все люди действия таковы, как шеф Вашкеш — промышленные и торговые боссы, политики, военные деятели, религиозные и общественные идеалисты, великие поэты и великие художники, красивые женщины, дети, которые делают что хотят. Приказывает тот, кто не чувствует. Побеждает тот, кто думает только о том, что необходимо для победы. Прочее, коим является неопределенное человечество в целом, бесформенное, чувствительное, хрупкое и обладающее воображением, представляет собой лишь декорации, на фоне которых выделяются эти находящиеся на сцене фигуры, пока не закончится представление марионеток; доску с квадратиками, на которой возвышаются шахматные фигуры, пока их не переставит Великий Игрок, который, воображая себя двойной личностью, играет и развлекает всегда сам себя.
304.
Вера — это инстинкт действия.
305.
Моя жизненная привычка ничему не верить, особенно инстинктам, и мое естественное неискреннее поведение суть отрицание препятствий к тому, чтобы делать это постоянно.
Суть состоит в том, что я превращаю других в мою грезу, подчиняясь их мнениям, чтобы, расширив их посредством моих рассуждений и моей интуиции, сделать их моими и (не имея мнения, я могу придерживаться как их мнений, так и каких-либо других) приноровить их к моему вкусу и превратить их личности в нечто подобное моим грезам.
Таким образом, я ставлю мечту перед жизнью, о которой мне удается и дальше грезить в словесной форме (другой у меня нет), удерживаясь посредством чужих мнений и чувств других на зыбкой линии моей бесформенной индивидуальности.
Любой другой человек — это канал или желоб, по которому морская вода течет только по их желанию, отмечая сверканием воды под солнцем изогнутое русло ее направления более реально, чем было бы, если бы желоб был сухим.
Из моего быстрого анализа порой может показаться, что я паразитирую на других, но в действительности дело в том, что я заставляю их быть паразитами моих последующих переживаний. Мое существование обретается в оболочке их индивидуальностей. Я делаю слепки их следов в глине моего духа, и, копируя их внутри моего сознания, я последовал по их следам и прошел по их пути дальше, чем они сами.
В целом, вследствие имеющейся у меня привычки отслеживать, раздваиваясь, две различные умственные операции одновременно, по мере того как я избыточно и отчетливо приспосабливаюсь к их образу чувств, я анализирую в себе неизвестное состояние их душ — чисто объективный анализ того, чем они являются и о чем думают. Так, пребывая среди грез и не отказываясь от моих непрерывных фантазий, я не просто проживаю за них усовершенствованную сущность их порой угасших переживаний, но и понимаю и классифицирую взаимосвязанную логику различных сил их духа, которые порой покоились в простом состоянии их души.
И посреди всего этого от меня не ускользают их физиономия, их одежда, их жесты. Я одновременно проживаю их мечты, глубины инстинкта, тело и манеру поведения. В широком и цельном рассеянии я помещаю себя в них и создаю и являюсь в каждом моменте беседы множеством существ, сознательных и бессознательных, анализируемых и анализирующих, которые соединяются, словно в открытом веере.
306.
Я принадлежу к поколению, которое унаследовало неверие в христианскую веру и создало в себе самом неверие во все прочие веры. У наших отцов еще был импульс веры, который они переносили с христианства на другие формы иллюзий. Одни были пламенными приверженцами социального равенства, другие были влюблены только в красоту, третьи верили в науку и в ее пользу, были и иные, еще большие христиане, которые отправлялись на Востоки и на Запады в поисках других религиозных форм, при помощи которых они могли поддерживать сознание простого существования, пустое без этих форм.
Мы всё это утратили, мы родились сиротами всех этих утешений. Каждая цивилизация следует по своему сокровенному пути религии, который ее отражает: перейти в другие религии значит потерять его и, в конечном счете, потерять все пути.
Мы потеряли его и другие тоже.
Затем мы оказались предоставлены каждый самому себе, опустошенные ощущением жизни. Судно кажется предметом, целью которого является плавание; но его цель — не плавать, а добраться до порта. Мы обнаружили, что плывем, но не имеем представления о порте, в котором должны бросить якорь. Так мы воспроизвели в болезненной форме приключенческую формулу аргонавтов: плыть нужно, жить не нужно.
Лишенные иллюзий, мы жили лишь за счет мечты, которая представляет собой иллюзию того, у кого иллюзий быть не может. Живя самими собой, мы уменьшились, потому что целостный человек — это человек, который себя игнорирует. Без веры у нас нет надежды, а без надежды у нас нет и самой жизни. Не имея представления о будущем, мы не имеем и представления о сегодняшнем дне, потому что сегодняшний день для человека действия — это лишь пролог к будущему. Энергия борьбы в нас оказалась мертворожденной, потому что мы родились без энтузиазма борьбы.
Некоторые из нас застряли в глупом покорении обыденности, заурядные и низменные, в поисках хлеба насущного, который они стремятся получить без ответственного труда, без осознанного усилия, без благородства достижения.
Другие из нас, принадлежащие к лучшей расе, воздержались от политики, ничего не желая и ни к чему не стремясь и пытаясь вознести на голгофу забвения крест нашего простого существования. Непосильное усилие для того, у кого, как у несущего Крест, нет божественного происхождения в сознании.
Третьи, хлопочущие за пределами души, предались культу смятения и шума, считая, что они живут тогда, когда их слышно, веря, что любят, когда сталкиваются с внешними проявлениями любви. Жизнь причиняла нам боль, потому что мы знали, что мы живы; смерть не пугала нас, потому что мы утратили нормальное понимание смерти.
Но у других, у Расы Конца, духовного предела Мертвого часа, даже не хватило смелости для отвержения и для того, чтобы укрыться в самих себе. Они жили в отрицании, в недовольстве и в безутешности. Но мы прожили это внутри себя, без жестов, всегда замкнутые, по крайней мере, в образе жизни, в четырех стенах комнаты и четырех стенах неумения действовать.
307.
Эстетика уныния
Раз уж мы не можем извлекать красоту из жизни, попытаемся извлекать красоту хотя бы из невозможности извлекать красоту из жизни. Обратим наш провал в победу, в нечто возвышенное и положительное, с колоннами, в духовную величественность и признание.
Если жизнь дала нам лишь тюремную камеру, попытаемся украсить ее пусть даже тенями наших грез, разноцветными рисунками, отражающими наше забвение на застывшей наружности стен.
Как и всякий мечтатель, я всегда чувствовал, что мое дело — творить. Поскольку я никогда не умел предпринимать усилий или осуществлять намерения, творчество во мне всегда совпадало с мечтанием, желанием или устремлением, а совершение жестов — с мечтанием о жестах, которые я хотел бы иметь возможность совершить.
308.
Мое неумение жить я окрестил гением, свою трусость я прикрыл, назвав ее утонченностью. Я поставил сам себя, Бога, покрытого фальшивым золотом, на алтарь из картона, раскрашенного так, чтобы он казался мрамором.
Но я не обманул ни себя, ни осознание, что я себя обманываю.
309.
Удовольствие от восхваления самих себя…
Дождливый пейзаж
Для меня мысль обо всех идеалах пахнет холодом, печалью: она пахнет тем, что все пути невозможны.
Современные женщины так пекутся о своей осанке и внешнем виде, что производят болезненное впечатление эфемерных и незаменимых…
Их ‹…› и украшения так их раскрашивают и расцвечивают, что они становятся скорее декоративными предметами, чем полнокровными живыми существами. Драпировка, панно, картины — в реальности зрения они не представляют собой ничего особенного…
Сегодня простое накидывание шали на плечи представляет собой жест, выполняемый с бóльшим осознанием зрелищности, чем в прежние времена. Раньше шаль была частью одеяния; сегодня это деталь, вытекающая из предвкушения чистого эстетического наслаждения.
Так, в наши дни, столь насыщенные, потому что они все превращают в искусство, все отрывает лепестки у сознательного и вливается ‹…› в переменчивость статичности.
Все эти женские фигуры сбежали с ненаписанных картин… Порой в них есть избыточные детали… Некоторые профили обладают чрезмерной отчетливостью. Они играют, притворяясь нереальными из-за избыточности, с которой они, как чистые линии, отделяются от окружающего фона.
310.
Моя душа — это таинственный оркестр; я не знаю, какие инструменты — струны и арфы, литавры и барабаны — играют и скрежещут внутри меня. Я знаю себя только как симфонию.
Всякое усилие — преступление, потому что всякий жест — это мертвая мечта.
Твои руки — это плененные горлицы. Твои губы — это немые горлицы (которые приходят ворковать у меня на глазах).
Все твои жесты — птицы. Ты ласточка, когда склоняешься ко мне, кондор, когда смотришь на меня, орел в твоих восторгах равнодушной спесивицы. Ты вся — хлопанье крыльев, как ‹…›, лагуна, в которой я тебя вижу.
Ты вся окрыленная, вся ‹…›
Дождь льет, и льет, и льет…
Льет, постоянно стеная ‹…›
Мое тело заставляет дрожать душу от холода… Не от холода, присутствующего в пространстве, а от холода, ощущаемого, когда смотришь на дождь…
Всякое удовольствие — порок, потому что все в жизни стремятся к удовольствию, а единственный ужасный порок — делать то, что делают все остальные.
311.
Иногда, когда я того не ожидаю или не должен ожидать, удушье от заурядности хватает меня за горло, и я испытываю физическую тошноту от голоса и от жестов так называемого мне подобного. Непосредственную физическую тошноту, ощущаемую непосредственно в желудке и в голове, глупое чудо бодрствующей чувствительности… Каждый человек, говорящий со мной, каждое лицо, чьи глаза смотрят на меня, задевает меня, словно оскорбление или гнусность. Я переполняюсь ужасом от всего. Я шалею оттого, что чувствую, что их чувствую.
И в такие мгновения желудочного опустошения почти всегда случается так, что передо мной возникает мужчина, женщина или даже ребенок, который словно по-настоящему представляет гнетущую меня заурядность. Представляет не вследствие моих переживаний, субъективных и осмысленных, а вследствие объективной истины, которая снаружи соответствует тому, что я чувствую внутри; эта истина возникает по волшебству подобия и приносит мне пример для того правила, о котором я думаю.
312.
Бывают дни, когда всякий человек, которого я встречаю, более того, люди, с которыми я вынужденно сосуществую каждый день, обретают черты символов и, будь то обособленно или взаимосвязанно, образуют поэтические или таинственные строки, которые описывают тенями мою жизнь. Контора превращается для меня в страницу со словами людей; улица — это книга; слова, замененные на привычных мне людей или на людей незнакомых, которых я встречаю, складываются в предложения, для которых мне не хватает словаря, но которые мне удается отчасти понять. Они говорят, выражают, хотя они говорят не о себе и не себя выражают; так вот, они — слова, и они не показывают, а просвечивают. Но моим сумрачным зрением я смутно различаю, что через эти внезапные стекла, оказавшиеся на поверхности вещей, видно внутреннее пространство, скрываемое и раскрываемое ими. Я понимаю не зная, как слепец, с которым говорят о цветах.
Порой, проходя по улице, я слышу обрывки доверительных разговоров, и почти все они ведутся о другой женщине, другом мужчине, о чьем-то молодом человеке или о его любовнице ‹…›
Когда я просто слушаю эти тени человеческих бесед, которыми, в конце концов, только и занимается большинство сознательных жизней, меня наводняет тоска от отвращения, тоска того, кого сослали к паукам, и внезапное осознание моей стесненности в обществе настоящих людей; я словно осужден на то, чтобы быть соседом, равным по имуществу и месту проживания другим обитателям района и смотрящим с отвращением через заднюю решетку магазинного склада на чужую грязь, что накапливается под дождем у подъезда, которым и является моя жизнь.
313.
Меня раздражает счастье всех этих людей, которые не знают о своем несчастье. Их человеческая жизнь полна всего того, что было бы чередой тревог для подлинной чувствительности. Но, поскольку их настоящая жизнь — растительная, то, что они переживают, проходит мимо них, не затрагивая душу, и они проживают жизнь, которую можно сравнить только с жизнью страдающего от зубной боли человека, получившего состояние — настоящее состояние, заключающееся в том, чтобы жить не замечая, самый большой дар, который даруют боги, потому что это дар подобия им, превосходящий, как и они (хотя и иначе), радость и боль.
Поэтому, несмотря ни на что, я всех вас люблю. Мои любимые растения!
314.
Я бы хотел составить кодекс бездействия для высших людей в современных обществах.
Общество управлялось бы произвольно и самостоятельно, если бы в нем не было людей, обладающих чувствительностью и умом. Поверьте, это единственное, что обществу вредит. У первобытных обществ было более или менее такое счастливое существование.
Жаль, что изгнание высших людей в обществе приведет к их смерти, потому что работать они не умеют. И, возможно, они умерли бы от тоски, оттого, что между ними не было бы пространства глупости. Но я говорю с позиции человеческого счастья.
Каждый высший человек, который обнаруживался бы в обществе, изгонялся бы на Остров высших людей. Высших людей кормило бы, как животных в клетке, нормальное общество.
Поверьте, если бы не было умных людей, указывающих на многочисленные человеческие недостатки, человечество эти недостатки и не замечало бы. А чувствительные создания заставляют других страдать вследствие симпатии.
Пока же, поскольку мы живем в обществе, единственная обязанность высших людей состоит в том, чтобы свести к минимуму свое участие в жизни племени. Не читать газет или читать их только для того, чтобы знать то немногое важное и любопытное, что происходит. Никто и представить себе не может, какое удовольствие я извлекаю из краткой сводки провинциальных новостей. Сами названия открывают передо мною двери к неопределенности.
Высшее честное состояние для высшего человека состоит в том, чтобы не знать, кто является главой его государства или живет ли он при монархии или при республике.
Все, что ему следует делать, это располагать душу таким образом, чтобы происходящие события и вещи ему не докучали. В противном случае ему придется интересоваться другими, чтобы заботиться о самом себе.
315.
Потеря времени подразумевает эстетику. Для тонко чувствующих есть сборник бездействия, который включает в себя рецепты для всех разновидностей здравого ума. Стратегия борьбы с понятием общественных приличий, с порывами инстинктов, с требованиями чувства, требует исследований, которые не под силу какому-нибудь обычному эстету. За тщательной этиологией сомнений должен следовать иронический диагноз раболепия перед нормальностью. Кроме того, нужно развивать расторопность на случай вторжения жизни; осторожность ‹…› должна защитить нас от чувствительности к чужим мнениям, а вялое безразличие должно укрыть нашу душу от глухих ударов сосуществования с другими.
316.
Эстетический квиетизм жизни, посредством которого мы добиваемся того, чтобы оскорбления и унижения, наносимые нам жизнью и живущими, достигали лишь презренной периферии чувствительности, дальних подступов сознающей души.
У всех нас есть то, за что нас можно презирать. Каждый из нас несет в себе содеянное преступление или преступление, которое его просит совершить душа.
317.
Одна из моих постоянных забот заключается в том, чтобы понять, как существуют другие люди, как могут быть души, отличные от моей, сознания, чуждые моему сознанию, которое, будучи сознанием, кажется мне единственным. Я хорошо понимаю, что человек, который стоит передо мной и говорит со мной теми же словами, что и я, и делает такие же жесты, какие делаю или мог бы делать я, в некоторой степени на меня похож. Однако то же самое происходит с журнальными иллюстрациями, о которых я грежу, с героями, которых я вижу в романах, с драматическими личностями, которые сменяются на сцене посредством изображающих их актеров.
Никто, я полагаю, на самом деле не признает реальность существования другого человека. Можно допустить, что этот человек жив, что он чувствует и думает, как ты; но всегда будет оставаться безличный элемент различия, материализованный недостаток. Есть фигуры ушедших времен, образы-духи в книгах, которые являются для нас более реальными, чем те воплощенные безразличия, что говорят с нами с балкона или случайно бросают на нас взгляды в трамваях или задевают нас, проходя по мертвой случайности улиц. Другие для нас — лишь пейзаж, почти всегда — невидимый пейзаж знакомой улицы.
Я больше воспринимаю как свои, как родственные и близкие некоторые фигуры, описанные в книгах, некоторые образы, увиденные на гравюрах, чем многих людей, которых называют реальными и которые состоят из той метафизической бесполезности, что называют кровью и плотью. И словосочетание «кровь и плоть» действительно хорошо их описывает: они похожи на нечто разделанное и выложенное на мраморный прилавок мясной лавки, на мертвецов, сочащихся кровью, словно жизнь, ноги и ребра Судьбы.
Я не стыжусь этих ощущений, потому что видел, что все так чувствуют. То презрение, что, как кажется, есть между людьми, то равнодушие, что позволяет людям убивать друг друга, не чувствуя, что они убивают, как убийцам, или не думая, что они убивают, как солдатам, является следствием того, что никто не уделяет должного внимания факту, кажущемуся заумным и заключающемуся в том, что другие люди — это тоже души.
В некоторые дни, в некоторые часы, которые приносит мне неведомый ветер и которые открываются мне оттого, что открывается неведомая дверь, я вдруг чувствую, что лавочник на углу — духовное существо, что подмастерье плотника, который в это мгновение высовывается из двери над мешком с картошкой, — на самом деле душа, способная страдать.
Когда вчера мне сказали, что продавец из табачной лавки наложил на себя руки, у меня возникло ощущение лжи. Бедняга, он тоже существовал! Мы все об этом забыли, мы все, знавшие его так же, как все те, кто его не знал. Завтра мы забудем о нем еще больше. Но ведь у него была душа, была, чтобы наложить на себя руки. Страсти? Тревоги? Без сомнения… Но у меня, как и у всего человечества, осталась лишь память о глупой улыбке над шерстяной кофтой, грязной и кривой в плечах. Это все, что у меня осталось от человека, который был так чувствителен, что убил себя от чувств, потому что, в конечном счете, из-за чего-либо другого человеку не стоит себя убивать… Однажды, покупая у него сигареты, я подумал, что он рано полысеет. В конце концов, ему не хватило времени, чтобы полысеть. Это одно из моих воспоминаний о нем. Какое еще воспоминание у меня должно было остаться, если это, в конечном счете, принадлежит не ему, а моей мысли о нем?
Передо мной внезапно возникает образ трупа, гроба, в который его положили, могилы, совершенно чужой, в которую его должны были отнести. И я вдруг вижу, что кассир из табачной лавки с его кривой кофтой был в определенном смысле всем человечеством.
Это длилось всего мгновение. Сегодня, сейчас, он умер, это очевидно, как то, что я — человек. Больше ничего.
Да, другие не существуют… Именно для меня замирает этот закат, грузный и окрыленный, с его блеклыми и жесткими цветами. Для меня под закатом трепещет большая река, течения которой я не вижу. Для меня была сделана эта площадь над рекой, поднимающейся из-за прилива. Сегодня в общей могиле был похоронен кассир из табачной лавки? Сегодняшний закат не для него. Но, если подумать, он теперь и не для меня, хотя и против моей воли…
318.
Корабли, что проплывают в ночи и не приветствуют и не знают друг друга.
319.
Сегодня я признаю, что потерпел неудачу; меня только изумляет иногда, как я этого не предвидел. Что было во мне такого, что предвещало триумф? У меня не было слепой силы победителей или уверенного мировоззрения безумцев… Я был ясен и грустен, словно холодный день.
Отчетливые вещи ободряют, и вещи под солнцем ободряют. Созерцание в безмятежный день, как проходит жизнь, вознаграждает меня за многое. Я постоянно забываю, забываю больше, чем мог помнить. Мое просвечивающее и воздушное сердце проникается достаточностью вещей, и мне достаточно смотреть на них с нежностью. Я всегда был лишь бестелесным зрением, лишенным всякой души, за исключением смутного воздуха, который прошел и который я видел.
Во мне есть нечто от цыганского духа, благодаря чему я позволяю жизни течь, как чему-то ускользающему из рук ровно тогда, когда движение, направленное на то, чтобы ее получить, спит в самой мысли о том, чтобы это сделать. Но я не получил внешнего вознаграждения цыганского духа — простой небрежности непосредственных и покинутых переживаний. Я всегда был лишь обособленным цыганом, что само по себе абсурд; или цыганом мистическим, что само по себе невозможно.
Некоторые прожитые мною часы-промежутки, часы, проведенные перед лицом Природы, высеченные в нежности уединения, навсегда останутся со мной, словно медали. В такие мгновения я забывал все мои жизненные устремления, все цели, которых желал достичь. Я наслаждался тем, что был ничем, со всей полнотой духовного благополучия, падая в голубое лоно моих чаяний. Я, наверное, никогда не наслаждался таким незабываемым часом, в который я был бы свободен от духовного фона провала и уныния. Во все мои свободные часы дремала некая боль, невнятно цветшая за стенами моего сознания, в других садах; но аромат и сам цвет этих грустных цветов интуитивно проникали сквозь стены, и та сторона их, где цвели розы, всегда оставалась в смятенной тайне моего существа этой стороной, затушевавшейся в дремоте моей жизни.
Река моей жизни впала во внутреннее море. Вокруг моего воображаемого двора для всех деревьев уже наступила осень. Этот круговой пейзаж — терновый венец моей души. Самыми счастливыми мгновениями моей жизни были мечты, мечты грустные, и я видел себя в их озерах слепым Нарциссом, который наслаждался прохладой у воды, чувствуя себя склоненным над ней благодаря предшествующему ночному видению, отделенному от абстрактных переживаний и прожитому в закоулках воображения с материнской заботой о самом себе.
Твои ожерелья из поддельного жемчуга любили вместе со мной мои лучшие часы. Гвоздики были любимыми цветами, возможно потому, что они не обозначали изящества. Твои губы сдержанно праздновали иронию своей собственной улыбки. Хорошо ли ты понимала свою судьбу? Тайна, записанная в грусти твоих очей, так затемняла твои отстраненные губы потому, что ты ее знала, но не понимала. Наша Родина была слишком далека от роз. В водопадах наших садов вода была пронизана тишиной. В маленьких шероховатых ложбинках камней, по которым текла вода, хранились секреты, которые у нас были в детстве, мечты неизменного размера наших оловянных солдатиков, которых можно было поставить на камни водопада для статического воплощения значительных военных действий так, чтобы при этом у наших снов ничего не было в недостатке и ничто не сдерживало наше воображение.
Я знаю, что потерпел провал. Я наслаждаюсь неопределенным наслаждением провала, как тот, кто, изнемогая, ценит пленившую его лихорадку.
У меня был определенный талант дружбы, но друзей у меня никогда не было, то ли потому, что у меня их не хватало, то ли потому, что дружба в таком виде, как я ее понимал, была заблуждением моих грез. Я всегда жил обособленно и тем более обособленно, чем больше внимания обращал на себя.
320.
После того как последняя летняя жара лишилась своей суровости под подернутым дымкой солнцем, началась еще не наступившая осень, с легкой грустью, пространно неопределенной, как будто солнце не желало улыбаться. Лазурь была то более светлой, то более зеленой от самого отсутствия сущности насыщенного цвета; она была разновидностью забвения облаков, по-разному пурпурных и расплывчатых; это было уже не оцепенение, а тоска во всем неподвижном одиночестве, по которому проплывают облака.
Наступление настоящей осени затем возвещалось холодом внутри еще нехолодного воздуха, блеклостью цветов, которые еще не поблекли, чем-то сумеречным и отдаленным в том, что было оттенком пейзажей и рассеянным обликом вещей. Ничто еще не умирало, но все, словно в улыбке, которой тоже недоставало, превращалось в ностальгию по жизни.
Наконец наступала настоящая осень: воздух становился холодным от ветра; слышался шорох сухих листьев, даже если они еще не высохли; вся земля обретала цвет и неосязаемую форму неопределенного болота. То, что было последней улыбкой, раскрывалось в усталости век, в безразличии жестов. И так все то, что чувствует или что мы предполагаем, что чувствует, бережно прижимало к груди свое собственное расставание. Звук вихря во дворе плыл по нашему осознанию чего-то другого. Было бы приятно начать выздоравливать, чтобы почувствовать жизнь по-настоящему.
Но первые зимние дожди, пришедшие еще в самый разгар осени, безо всякой жалости смывали эти полутона. Сильные ветра, скрежетавшие в том, что замерло, сметавшие то, что было неподвижно, волочившие то, что двигалось, возносили среди неровного клокотания дождя отсутствующие слова безымянного протеста, грустные и почти злобные звуки бездушного отчаяния.
И, наконец, осень завершилась среди холода и серости. Теперь наступала зимняя осень, пыль, полностью ставшая грязью, но, в то же время, принесшая нечто хорошее, что приносит с собой зимний холод — окончание сурового лета, грядущую весну, осень, которая наконец перетекает в зиму. И в высоком небе, где влажные оттенки уже не помнили ни тепла, ни грусти, все благоприятствовало ночи и неопределенным размышлениям.
Таким было все для меня до того, как я об этом подумал. Сегодня я пишу это потому, что помню. Осень, которая у меня есть, это осень, которую я потерял.
321.
Возможность — как деньги, которые, впрочем, представляют собой не более чем возможность. Для того, кто действует, возможность — это эпизод воли, а воля меня не интересует. Для того, кто, подобно мне, не действует, возможность — это песнь отсутствия сирен. Ее следует презирать со сладострастием, положив куда-нибудь подальше, чтобы ею не пользоваться.
Представился случай… В этом поле расположится статуя отвержения.
О широкие поля под солнцем, зритель, для которого вы живы, наблюдает за вами из тени.
О алкоголь высоких слов и пространных фраз, которые, словно волны, вздымают дыхание своего ритма и исчезают со смехом в иронии пенных змей с грустным величием полумрака.
322.
Всякий жест, каким бы простым он ни был, являет собой нарушение некоей духовной тайны. Всякий жест — это революционное действие; быть может, изгнание из истины ‹…› наших намерений.
Действие — это недуг мышления, рак воображения. Действовать значит изгонять себя. Всякое действие неполно и несовершенно. В поэме, о которой я мечтаю, изъяны появляются лишь тогда, когда я пытаюсь ее написать. В мифе об Иисусе это написано; Бог, став человеком, не может закончить иначе, как мученичеством. У высшего мечтателя сыном является высшее мученичество.
Прерывистые тени листвы, трепетное пение птиц, раскинутые руки рек, чье свежее сверкание подрагивает под солнцем, зелень, маки и простота ощущений — чувствуя это, я чувствую ностальгию по этому, как если бы, чувствуя, я этого не чувствовал.
Часы, словно машина наступающим вечером, возвращаются, скрипя, по теням моих мыслей. Если я вздымаю глаза над моим мышлением, эти часы блистают зрелищем мира.
Чтобы осуществить мечту, о ней нужно забыть, отвлечь от нее внимание. Поэтому осуществлять значит не осуществлять. Жизнь полна парадоксов, как роза — шипов.
Я хотел бы достичь апофеоза новой непоследовательности, которая стала бы отрицательной конституцией новой анархии душ. Мне всегда казалось, что для человечества было бы полезно составить сборник моих мечтаний. Именно поэтому я воздержался от того, чтобы попытаться это сделать. Мысль о том, чтобы сделать нечто, способное принести пользу, меня задела и обеспокоила.
В окрестностях жизни у меня есть сады. Я провожу мгновения отсутствия в городе моего Действия среди деревьев и цветов моих фантазий. До моего зеленого и тихого пристанища не долетают даже отголоски жизни моих жестов. Я просыпаю свою память, как бесконечные процессии. Из кубков моих размышлений я пью лишь улыбку золотистого вина; я пью ее только глазами, закрыв их, и Жизнь проходит, словно парус вдали.
Солнечные дни для меня похожи на то, чего у меня нет. Голубое небо и белые облака, деревья, флейта, которой там нет, — не завершенные из-за шелестящих ветвей эклоги… Все это — немая арфа, которой я касаюсь легкостью моих пальцев.
Растительная академия молчаний… твое имя, звучащее, как маки… пруды… мое возвращение… сумасшедший священник, обезумевший во время мессы. Эти воспоминания — из моих мечтаний… Я не закрываю глаза, но ничего не вижу… Того, что я вижу, здесь нет… Вóды…
В смятении запутанностей зелень деревьев становится частью моей крови. Моя жизнь бьется в далеком сердце… Я не был предназначен для реальности, а жизнь захотела меня навестить.
Пытка судьбы! Кто знает, умру ли я завтра! Кто знает, не случится ли со мной сегодня что-нибудь ужасное для моей души… Иногда, когда я думаю об этих вещах, меня пугает высшая тирания, которая заставляет нас смотреть незамутненным взором, не зная о том, навстречу какому событию шагает моя неуверенность.
323.
…Дождь все еще грустно лил, но уже тише, словно охваченный вселенской усталостью; не было молний, и лишь иногда далеким звуком доносилось суровое ворчание короткого грома, и порой он, тоже устав, словно прерывался. Как будто внезапно дождь ослабел еще больше. Один из служащих открыл окна, выходящие на улицу Золотильщиков. Свежий воздух с потухшими остатками жара проник в большую залу. Громко прозвучал голос шефа Вашкеша, говорившего по телефону в кабинете: «Так ты что, все еще разговариваешь?» И послышался сухой звук разговора и — в сторону — непристойное (разумеется) замечание в адрес далекой телефонистки.
324.
Уметь не придерживаться иллюзий совершенно необходимо для того, чтобы грезить. Так ты достигнешь высшей точки мечтательного воздержания, в которой восприятие смешивается, чувства переливаются через край, мысли взаимопроникают. Равно как и цвета и звуки похожи друг на друга, ненависть похожа на любовь, конкретные вещи — на абстрактные, а абстрактные — на конкретные. Обрываются связи, которые, связывая все, в то же время все разделяли, обособляя каждый элемент. Все сливается и смешивается.
325.
Вымыслы интерлюдии, расцвечивающие маразм и беспечность нашего сокровенного безверия.
326.
Впрочем, я не мечтаю и не живу; я воображаю реальную жизнь. Все корабли становятся кораблями, как только мы получаем власть мечтать о них. Мечтатель гибнет, если не живет, когда мечтает; действующий страдает, если не мечтает, когда живет. Я смешал в одном цвете счастья красоту мечты и реальность жизни. Как бы мы ни владели сном, им невозможно владеть так же полноценно, как платком, что лежит в кармане, или, если хотите, как нашей собственной плотью.
Как бы ни была исполнена жизнь безмерного ‹…› и торжествующего действия, никогда не исчезают ‹…› соприкосновения с другими, сталкивание с препятствиями, пусть и мелкими, ощущение течения времени.
Убивать мечту значит убивать нас самих. И калечить нашу душу. Мечта — это то, что в нас есть по-настоящему нашего, непроницаемо и неодолимо нашего.
Вселенная, Жизнь — будь то реальность или иллюзия — принадлежит всем, все могут видеть то, что вижу я, и владеть тем, чем владею я — или, по крайней мере, можно помыслить себя видящим это и владеющим этим…
Но то, о чем я мечтаю, не может видеть никто, кроме меня, и никто, кроме меня, не может этим владеть. И если мое видение внешнего мира отличается от видения других, это обусловлено тем, что из своих мечтаний я вкладываю в его видение то, что без моего желания просачивается из моих мечтаний в мои глаза и уши.
327.
В великой ясности дня покой звуков — тоже на вес золота. То, что происходит, исполнено нежности. Если бы мне сказали, что идет война, я бы сказал, что войны нет. В такой день ничто не может довлеть над тем фактом, что нет ничего, кроме нежности.
328.
Сомкни руки, вложи их в мои и послушай меня, любовь моя.
Мягким, обволакивающим голосом, как у исповедника, который раздает советы, я хочу рассказать тебе, какое тревожное желание достижения остается за пределами того, чего мы добиваемся.
Я хочу прочесть с тобой, соединив мой голос с твоим вниманием, литанию отчаяния.
Нет произведения художника, которое не могло бы быть совершеннее. В великой поэме, прочитанной стих за стихом, есть мало стихов, которые не могли бы быть лучше, мало эпизодов, которые не могли бы быть насыщеннее, и никогда ее совокупность не бывает настолько совершенной, чтобы она не могла стать намного более совершенной.
Несчастен тот поэт, который это замечает! Который однажды об этом подумает! Никогда больше его труд не будет радостным, никогда больше сон не принесет ему покоя. Он становится юношей без юношества и стареет в недовольстве.
Да и для чего выражать себя? То немногое, что говорится, лучше бы оставалось невысказанным.
Если бы я мог действительно проникнуться тем, насколько прекрасно отречение, насколько болезненно счастливым я стал бы навсегда!
Потому что ты не любишь то, что я говорю, теми ушами, которыми я слышу, что говорю это. Если я сам слышу, как говорю вслух, уши, которыми я слышу, как говорю вслух, не слушают меня так же, как внутренний слух, которым я слышу, как обдумываю слова. Если я себя обманываю, слыша себя, и если я должен много раз спрашивать самого себя, что я хотел сказать, то насколько меня будут не понимать другие!
Из каких сложных непониманий сделано понимание нас другими.
Наслаждение оттого, что тебя понимают, не может испытать тот, кто хочет быть непонятым, потому что это случается только со сложными и непонятыми; а другие, простые, те, кого могут понять другие — они никогда не испытывают желания быть понятыми.
329.
Ты уже думала, о Другая, о том, насколько мы невидимы друг для друга? Ты уже размышляла над тем, насколько мы друг друга не знаем? Мы видим друг друга и не видим. Мы слышим друг друга, и каждый слушает лишь голос, раздающийся внутри него.
Слова других — ошибки нашего слуха, крушения нашего понимания. Как мы доверяем тому смыслу, которым наделяем слова других. Сладострастие, которое другие вкладывают в слова, для нас отдает смертью. Мы прочитываем сладострастие и жизнь в том, что другие роняют с губ, не намереваясь придавать этому глубокий смысл.
Голос ручейков, который ты истолковываешь, чистая объяснительница, голос деревьев, бормотание которых мы наделяем смыслом, — о моя неведомая любовь, насколько же все это — мы и фантазии, сотворенные из пепла, что сыплется у решеток нашей камеры!
330.
Поскольку, вероятно, не все ложно, пусть ничто, любовь моя, не вылечит нас от почти судорожного удовольствия лжи.
Последняя изощренность! Наивысшая извращенность! Нелепая ложь обладает всем очарованием извращенности с последним и еще большим очарованием невинности. Извращенность невинного устремления — кто превзойдет, о ‹…›, наивысшую изощренность этого? Извращенность, которая не стремится принести нам наслаждение и не обладает такой яростью, чтобы причинить нам боль; извращенность, которая падает на землю между удовольствием и болью, бесполезная и нелепая, как плохо сделанная игрушка, с которой хочет поиграть взрослый!
Тебе незнакомо, о Восхитительная, удовольствие от покупки ненужных вещей? Знаком ли тебе вкус путей, по которым мы если бы и отправились, то только по ошибке? Какое человеческое действие окрашено в такой же красивый цвет, что и подложные действия ‹…› которые лгут своей собственной природе и изобличают то, что является их намерением?
Возвышенность пустого растрачивания жизни, которая могла быть полезной, невоплощения произведения, которое точно было бы прекрасным, оставления на полпути дороги, ведущей к победе!
О любовь моя, слава произведений, которые утратились и никогда не будут найдены, трактатов, от которых сегодня остались одни названия, библиотек, что сгорели, статуй, что были разбиты.
Как были освящены Абсурдом художники, сжегшие прекрасное произведение, те, кто мог создать прекрасное творение и намеренно сделал его несовершенным, те высшие поэты Тишины, которые, признавая, что могут написать совершенное произведение, предпочитали увенчивать его венцом вечной незавершенности. (Если оно было несовершенно, то его можно было и закончить.)
Насколько прекраснее была бы Джоконда, если бы мы не могли ее видеть! А если бы кто-нибудь ее похитил и сжег, каким великим художником он был бы, более великим, чем тот, кто ее написал!
Почему искусство прекрасно? Потому что оно бесполезно. Почему жизнь некрасива? Потому она вся состоит из целей, намерений и устремлений. Все ее пути предназначены для того, чтобы перейти из одной точки в другую. Вот если бы у нас был готовый путь из места, откуда никто не отправляется, в место, куда никто не едет! Кто положил бы свою жизнь на то, чтобы построить дорогу, начинающуюся посреди одного поля и ведущую в середину другого; если бы ее продлили, она была полезной, но она возвышенно осталась дорогой лишь наполовину.
Красота руин? В том, что они уже ни на что не годятся.
Сладость прошлого? В воспоминании о нем, потому что вспоминать о нем значит превращать его в настоящее, а оно им не является и не может являться — абсурд, любовь моя, абсурд.
И я, говорящий это — почему я пишу эту книгу? Потому что я признаю ее несовершенство. Если бы я ее умолчал, она была бы совершенством; будучи написанной, она теряет совершенство; поэтому я ее и пишу.
И, прежде всего, потому что я защищаю бесполезность, абсурд ‹…› — я пишу эту книгу, чтобы солгать самому себе, чтобы предать свою собственную теорию.
И высшая слава всего этого, любовь моя, заключается в том, чтобы думать, что это, возможно, не истина и что я это истиной не считаю.
А когда ложь начнет приносить нам удовольствие, давайте скажем правду, чтобы солгать ей. А когда она начнет вызывать в нас тревогу, остановимся, чтобы страдание не означало для нас удовольствия даже в извращенной форме…
331.
У меня болит голова и вселенная. Физические боли, более отчетливые, по сравнению с нравственными, разворачивают посредством душевного рефлекса трагедии, которые в них не содержатся. Они выражают нетерпение всего, которое, будучи нетерпением всего, не исключает ни одну из звезд.
Я не разделяю, никогда не разделял и, наверное, никогда не смог бы разделить то ущербное представление, согласно которому мы как души являемся следствиями материальной вещи, называемой мозгом и существующей с рождения в другой материальной вещи, называемой черепом. Я не могу быть материалистом — по-моему, так это называется, — потому что я не могу установить отчетливую связь — зримую связь, я бы сказал — между видимой массой серой материи или любого другого цвета и тем «я», что за моим взглядом видит небеса, и осмысляет их, и представляет небеса, которые не существуют. Но, хотя я никогда не смогу пасть в бездну предположения о том, что одна вещь может быть другой просто потому, что они находятся в одном и том же месте, как стена и моя тень на ней, или что тот факт, что душа зависит от мозга, обладает большим значением, чем тот факт, что я в своем перемещении завишу от транспортного средства, на котором еду, я все еще полагаю, что между тем, что в нас есть только от духа, и тем, что в нас есть от духа тела, имеются отношения сосуществования, в которых могут возникать споры. И обычно спор возникает оттого, что более заурядная личность докучает личности менее заурядной.
Сегодня у меня болит голова и, возможно, болит из-за желудка. Но боль, перейдя от желудка к голове, прервет размышления, которым я предаюсь ввиду наличия мозга. Тот, кто закрывает мне глаза, не ослепляет меня, но мешает мне видеть. Так и теперь, из-за того что у меня болит голова, я не нахожу никакой ценности и благородства в спектакле, однообразном и нелепом в данный момент, того, что есть снаружи и что я неохотно рассматриваю как мир. У меня болит голова, и это означает, что я осознаю оскорбление, которое наносит мне материя и которое, возмущая меня, как и любое оскорбление, располагает меня к тому, чтобы чувствовать себя неуютно со всеми людьми, включая тех, кто находится рядом со мной и кто меня не оскорблял.
Я хочу умереть, по крайней мере временно, но, как я сказал, это желание связано только с головной болью. И в это мгновение я вдруг вспоминаю, с каким благородством сказал бы это один из величайших прозаиков. Период за периодом, он раскрыл бы безымянную горечь мира; перед его глазами, придумывающими абзацы, возникли бы различные человеческие драмы, происходящие на земле, и, благодаря лихорадочной пульсации висков, на бумаге выстроилась бы целая метафизика несчастья. Однако у меня нет стилистического благородства. У меня болит голова, потому что у меня болит голова. У меня болит вселенная, потому что болит голова. Но по-настоящему болит у меня не настоящая вселенная, которая существует потому, что не знает, что существую я, а та непосредственно моя вселенная, которая, если я провожу руками по волосам, словно заставляет меня чувствовать, что все волосы страдают только для того, чтобы причинить страдания мне.
332.
В какое изумление приводит меня моя способность тревожиться. Не будучи по природе своей метафизиком, я проводил дни в острой, даже физической тревоге, томимый нерешенностью метафизических и религиозных проблем… Я быстро удостоверился, что то, что я считал решением религиозной проблемы, было решением эмоциональной проблемы в категориях разума.
333.
Ни у одной проблемы нет решения. Никто из нас не распутывает гордиев узел; все мы либо опускаем руки, либо разрубаем его. Мы решаем резко, с чувством, проблемы разума и поступаем так либо вследствие усталости от мыслей, либо вследствие боязни делать выводы, либо вследствие нелепой необходимости найти опору, либо вследствие стадного побуждения, заставляющего нас возвращаться к другим и к жизни.
Поскольку мы никогда не можем узнать все элементы какого-то вопроса, мы никогда не можем его решить.
Чтобы постичь истину, нам не хватает достаточного количества игральных костей и умственных приемов, которые исчерпывающе истолкуют эти кости.
334.
Прошли месяцы с последнего раза, когда я что-то писал. Я погрузился в сон понимания, благодаря которому я был другим в жизни. Меня часто посещало ощущение перенесенного счастья. Я не существовал, я был другим, я жил не думая.
Сегодня я внезапно вернулся к тому, что я есть или чем я себя воображаю. Это была минута сильной усталости после малозначительной работы. Я положил голову на руки, опершись локтями на высокий наклоненный стол. И, закрыв глаза, я вновь обрел себя.
В далеком притворном сне я вспомнил все то, чем я был, и с ясностью увиденного пейзажа передо мной вдруг возникла, до или после всего, широкая сторона старого сада, в которой, посередине видéния, возвышалось пустое гумно.
Я немедленно почувствовал бесполезность жизни. Видеть, чувствовать, вспоминать, забывать — все смешалось в неясной боли в локтях, под смутное бормотание близкой улицы и мелкие шумы спокойной работы в тихой конторе.
Когда, положив руки на верхнюю часть стола, я бросил взгляд, который должен был бы быть исполнен усталости мертвых миров, на то, что было видно оттуда, то первым делом я увидел слепня (то нечеткое жужжание, непривычное для конторы), севшего на чернильницу. Я смотрел на него из глубины бездны, безымянный и пробужденный. Он был темно-синего цвета с зеленым оттенком и отвратительно блестел, что не было некрасиво. Целая жизнь!
Кто знает, для каких высших сил, богов или демонов Истины, в тени которых мы блуждаем, я — лишь блестящий слепень, на мгновение садящийся перед ними? Простое рассуждение? Это наблюдение не ново? Философия без размышлений? Возможно, но я не думал, а чувствовал. Я провел смехотворное сравнение телесно, непосредственно, испытывая глубокий и мрачный ужас. Я был слепнем, когда сравнивал себя со слепнем. Я почувствовал себя слепнем, когда предположил, что я чувствую себя им. И почувствовал, что у меня душа слепня; я уснул слепнем, почувствовал себя замкнутым в слепне. И самый ужас состоит в том, что, в то же время, я чувствовал себя собой. Не желая того, я поднял глаза к потолку, опасаясь, как бы на меня не обрушилась божественная линейка, чтобы раздавить меня, так же, как я мог раздавить этого слепня. К счастью, когда я опустил глаза, слепень, не производя слышимого для меня шума, уже исчез. Бессознательная контора снова лишилась философии.
335.
«Чувствовать — утомительно». Эти случайные слова, сказанные сотрапезнику неизвестным мне человеком несколько минут назад, навсегда остались отпечатанными на поверхности моей памяти. Сама плебейская форма фразы делает ее соленой и перченой.
336.
Не знаю, многие ли созерцали таким взглядом, которого она заслуживает, пустынную улицу и людей на ней. Уже такая форма выражения словно означает что-то другое, и это действительно так. Пустынная улица — это не улица, по которой никто не проходит, а улица, по которой прохожие проходят так, как если бы она была пустынна. Это нетрудно понять, когда увидишь: зебра непредставима для того, кто видел только осла.
Ощущения внутри нас приспосабливаются к определенным уровням и видам их понимания. Есть способы понимания, у которых есть приемы, чтобы быть понятыми.
Бывают дни, когда во мне, словно с посторонней земли до самой головы, поднимается тоска, горечь, отвращение к жизни, которая не кажется мне невыносимой только потому, что на самом деле я ее выношу. Это удушение жизни во мне самом, желание быть другим человеком во всех пóрах, краткое известие о конце.
337.
В первую очередь, я испытываю усталость и тот непокой, что является близнецом усталости, когда у последней нет другой причины быть, кроме той, что она есть. Мне внушают сокровенный страх жесты, которые нужно обозначить, я умственно робею перед словами, которые нужно произнести. Все мне кажется заранее обреченным на неудачу.
Невыносимая тоска всех этих лиц, глупых от ума или от его отсутствия, карикатурных до тошноты в своем счастье или несчастье, ужасающих, потому что они существуют, обособленный прилив живого, которое мне чуждо…
338.
В те случайные часы освобождения, когда мы осознаем себя как индивидов, которые для других являются другими, меня всегда беспокоило, какое представление о моем физическом и даже нравственном облике сложится у тех, кто на меня смотрит и говорит со мной, будь то каждый день или случайно.
Мы все привыкли считать себя прежде всего ментальными реальностями, а остальных — реальностями физическими; мы смутно воспринимаем себя как физических людей в глазах других; мы смутно воспринимаем других как ментальные реальности, но лишь в любви или в конфликте мы по-настоящему осознаем, что у других прежде всего есть душа, как у нас самих.
Поэтому я иногда теряюсь в пустых фантазиях о том, что я за человек для тех, кто меня видит, какой у меня голос, какой образ я оставляю в невольной памяти других, каким образом мои жесты, мои слова, моя видимая жизнь врезаются в сетчатку чужого толкования. Мне никогда не удавалось увидеть себя снаружи. Нет такого зеркала, которое бы показало нас как нечто внешнее, потому что нет такого зеркала, которое бы вытаскивало нас из нас самих. Нужна была бы другая душа, другое расположение взгляда и мыслей. Если бы я был актером, давно снимающимся в кино, или записывал бы на граммофонные пластинки мой высокий голос, я уверен, что я все равно остался бы далек от познания того, чем я являюсь с той стороны, поскольку, как бы то ни было, что бы я ни записывал, я все равно нахожусь здесь, внутри, в огороженной высокими стенами усадьбе моего осознания себя.
Не знаю, таковы ли другие, не состоит ли наука жизни в том, чтобы быть настолько далеким от самого себя, дабы инстинктивно достичь удаления и иметь возможность участвовать в жизни как некто посторонний для сознания; или же другие, более погруженные в себя, чем я, являются только собой и внешне живут благодаря тому чуду, посредством которого пчелы образуют более организованные общества, чем любой народ, а муравьи общаются между собой при помощи языка мельчайших усиков, превосходящего по своим результатам наше сложное отсутствие понимания друг друга.
География осознания реальности — это география великой сложности берегов, испещренных горами и озерами. И, если я думаю об этом усерднее, все мне кажется разновидностью карты вроде карты «Страны Нежности»[40] или карты «Путешествий Гулливера», шуткой, которую точность записала в иронической или фантастической книге к удовольствию высших существ, знающих, где земли — это действительно земли.
Все сложно для того, кто думает, и, безусловно, мысль становится сложнее вследствие собственного сладострастия. Но у того, кто думает, есть потребность в том, чтобы оправдать свое отречение обширной программой понимания, изложенной, как и доводы тех, кто лжет, со всеми чрезмерными подробностями, которые раскрывают, разметывая землю, корни лжи.
Все сложно, или я есть тот, кто я есть. Но в определенном смысле это неважно, потому что, в определенном смысле, ничто неважно. Все это, все эти рассуждения, сбившиеся с большой дороги, растут в садах изгнанных богов, словно канаты вдоль стены. И той ночью, когда я бесконечно завершаю эти не сцепленные друг с другом рассуждения, я улыбаюсь от жизненной иронии, которая порождает их в человеческой душе, оставшейся сиротой больших доводов Судьбы на фоне звезд.
339.
На поверхности моей усталости держится что-то золотистое, что бывает над водой, когда заходящее солнце покидает ее. Я вижу себя озером, которое я вообразил, и то, что я вижу в этом озере, есть я. Я не знаю, как объяснить этот образ или этот символ или этого себя, в котором я себя представляю. Но я уверен в том, что вижу, как если бы я действительно это видел, солнце за горами, простирающее потерянные лучи над озером, которое получает их, как темное золото.
Одно из неудобств мышления — видеть, когда думаешь. Те, кто думает рассудком, рассеяны, те, кто думает переживаниями, спят, те, кто думает волей, мертвы. Я же руководствуюсь воображением, и все, что должно было бы быть во мне, будь то разум, горечь или побуждение, сводится для меня к чему-то равнодушному и далекому, как это мертвое озеро среди скал, по которому медленно плывут последние отблески солнца.
Я остановился, и воды вздрогнули. Я задумался, и солнце скрылось. Я смыкаю медленные, полные сна глаза, и внутри меня остается только озерный край, в котором ночь перестает быть днем в темно-каштановом отблеске вод, из которых всплывают водоросли.
Я писал, но не сказал ничего. У меня сложилось впечатление, что то, что существует, всегда находится в другой области, за горами, и что нас ждут большие путешествия, если у нас будет душа, способная шагать.
Я погас, как солнце в моем пейзаже. Из того, что было сказано или увидено, остается лишь густая ночь, полная мертвого блеска озер, на равнине без диких уток, мертвой, текучей, влажной и зловещей.
340.
Я не доверяю пейзажу. Да. Я говорю это не потому, что верю в высказывание Амьеля «пейзаж — это состояние души», один из удачных выраженных словами моментов самой невыносимой замкнутости в себе. Я так говорю, потому что в это не верю.
341.
День за днем в моей низкой глубокой душе я отмечаю впечатления, которые образуют внешнюю сущность моего осознания себя. Я выражаю их блуждающими словами, которые покидают меня, как только я их записываю, и бродят независимо от меня по склонам и травяным покровам образов, по грядам понятий, по тропинкам запутанностей. Мне это не приносит пользы, потому что мне ничто не приносит пользы. Но я успокаиваюсь, когда пишу, как тот, кто начинает дышать легче, хотя и не излечился от недуга.
Есть те, кто, отвлекаясь, чертит линии и пишет нелепые имена на черновике с загнутыми углами. Эти страницы — каракули моего умственного неосознания себя. Я прочерчиваю их в забытьи сонливости самоощущения, как кот на солнце, и иногда перечитываю их со смутным запоздалым изумлением, словно я вспомнил что-то, о чем всегда забывал.
Когда я пишу, я торжественно посещаю себя. У меня есть специальные залы, о которых другие вспоминают в промежутках представления и в которых я наслаждаюсь, анализируя то, чего не чувствую, и изучаю себя, словно картину в тени.
Еще до рождения я потерял свой старинный замок. До того как я появился, были проданы гобелены из дворца моих предков. Мое поместье, существовавшее до моей жизни, пришло в упадок, и лишь в некоторые мгновения, когда лунный свет поднимается во мне над речным тростником, меня леденит ностальгия по тем краям, где беззубые остатки стен чернеют на фоне темно-синего неба, подернутого молочной желтизной.
Я показываю себя в сфинксах. И с колен королевы, которой мне недостает, падает, словно бесполезный обрывок вышивки, забытый клубок моей души. Он катится под инкрустированный шкафчик, и что-то во мне взглядом следит за ним, пока он не теряется в великом могильном ужасе конца.
342.
Я никогда не сплю: я живу и мечтаю, или, скорее, я мечтаю в жизни и во сне, который тоже является жизнью. Мое сознание не прерывается: я чувствую то, что меня окружает, если еще не сплю или если сплю неглубоко; как только я засыпаю по-настоящему, я начинаю видеть сны. Так я становлюсь непрерывным разворачиванием образов, связанных и несвязанных, всегда притворяющихся внешними: одни из них помещаются между людьми и светом, если я бодрствую, другие — между привидениями и мраком, который виден, если я сплю. На самом деле, я не знаю, как отличить одно от другого, и не осмеливаюсь утверждать, что не сплю, когда бодрствую, и не пробуждаюсь, когда сплю.
Жизнь — это клубок, который кто-то запутал. В ней есть смысл, если она размотана и вытянута или как следует смотана. Но в том виде, в котором она пребывает, это проблема без своей катушки, наматывание без чего-то, на что можно наматывать.
Я чувствую это и потом это запишу, ведь я уже придумываю фразы, которые скажу, когда сквозь ночной полусон чувствую, вместе с неясными пейзажами снов, шум дождя там, снаружи, который делает их еще менее ясными. Эти фразы — загадки пустоты, трепещущие перед бездной, и сквозь них проскальзывает бесполезный внешний плач непрестанного дождя, обильная мелочь, проходящая сквозь слух. Надежда? Нисколько. С невидимого неба льется, с шумом боли, вода, которую вздымает ветер. Я продолжаю спать.
Безусловно, в тополиных аллеях парка случилась трагедия, из которой возникла жизнь. Их было двое, они были красивы и хотели стать чем-то другим; их любовь задерживалась в тоске будущего, а ностальгия по тому, чем она должна была бы быть, была дочерью любви, которой они не испытали. Так, в лунном свете близлежащих лесов, сквозь которые просачивалась луна, они гуляли, держась за руки, без желаний и надежд, по одиночеству, свойственному покинутым аллеям. Они были совсем детьми, потому что не были ими на самом деле. От аллеи к аллее, словно вырезанные из бумаги силуэты между деревьями, проплывали они по этим ничьим декорациям. И так они исчезли близ прудов, становясь все ближе друг к другу и все обособленнее, и шум неясного прекращающегося дождя — это журчание фонтанов, к которым они шли. Я — любовь, которая была между ними, и поэтому я умею их слышать теми ночами, когда я не сплю, и поэтому умею жить несчастным.
343.
День (зигзаг)
Не быть наложницей в гареме! Как мне жаль, что этого со мной не произошло!
В конце концов, от этого дня остается то, что осталось от вчерашнего дня и что останется от завтрашнего: неутолимая и безмерная жажда быть всегда тем же самым и другим.
По ступеням моих грез и усталостей спустись из твоей нереальности, спустись и замени собой мир.
344.
Прославление бесплодных
Если бы однажды я избрал супругу из женщин земли, да будет такой твоя молитва обо мне — пусть она так или иначе будет бесплодной. Но попроси также, если будешь за меня молиться, чтобы я никогда не отправлялся похищать для себя эту предполагаемую супругу.
Лишь бесплодность благородна и достойна. Лишь убивать то, чего никогда не было, есть извращение и абсурд.
345.
Я не мечтаю обладать тобой. Зачем? Это значило бы опошлить мою мечту. Обладать телом значит быть заурядным. Мечтать об обладании телом, возможно, еще хуже, хотя это непросто: это означает мечтать о том, чтобы быть заурядным, — непревзойденный ужас.
И если уж мы хотим быть бесплодными, то давайте будем целомудренными, потому что не может быть ничего более неблагородного и низкого, чем, отвергая в Природе то, что в ней оплодотворено, сохранять из нее то, что нам нравится в том, что мы отрицаем. Не бывает благородства урывками.
Будем же целомудренными, как отшельники, чистыми, как воображаемые тела, смиримся с тем, чтобы быть всем этим, словно обезумевшие монашки…
Пусть наша любовь будет молитвой… Даруй мне помазание созерцания тебя, которое я создам из тех мгновений, когда я буду представлять тебя четками, в которых моя тоска превратится в «Отче наш», а мои скорби — в «Аве Марию»…
Останемся же навеки мужской фигурой в витраже напротив женской фигуры в другом витраже… Между нами — тени, чьи шаги звучат холодно, это проходящее человечество… Шепот молитв, тайны ‹…› будут проходить между нами… Иногда воздух наполняется ароматом ‹…› ладана. Иногда фигура статуи, молясь, будет окроплять… А мы будем все теми же витражами, расцвеченными при свете солнца, очертаниями, когда опускается ночь… Столетия не затронут нас, замерших в стеклянном молчании… Снаружи будут проходить одна за другой цивилизации, вспыхивать бунты, проноситься вихрями праздники, проплывать день за днем кроткие народы… А мы, о моя нереальная любовь, будем оставаться во все той же бесполезной позе, вести все то же ложное существование, и то же ‹…›
Пока, наконец, однажды, по истечении многих веков империй, церковь не рухнет и все не закончится…
Но мы, не знающие об этом, останемся еще, не знаю как, не знаю в каком пространстве, не знаю насколько, вечными витражами, часами невинного рисунка, созданного каким-то художником, который уже давно спит под готической могильной плитой, на которой два ангела, взявшись за руки, заморозили во мраморе идею смерти.
346.
У воображаемых вещей есть только эта сторона… Нельзя увидеть их другую сторону… Их нельзя обойти по кругу… Горечь жизненных вещей в том, что мы можем видеть их со всех сторон… У воображаемых вещей есть только та сторона, которую мы видим… Им присуща любовь такая же чистая, как наши души.
347.
Письмо не для отправления
Я освобождаю ее от появления в моем представлении о ней.
Ее жизнь ‹…›
Это не моя любовь; это лишь ее жизнь.
Я люблю ее, как закат или лунный свет, желая, чтобы мгновение продлилось, но чтобы оно было моим лишь в ощущении, что я его прожил.
348.
Ничто так не тяготит, как чужая привязанность — с ней не сравнится даже чужая ненависть, ведь она более прерывиста, чем привязанность; будучи неприятным переживанием, ненависть, как правило, вследствие инстинкта того, кто ее испытывает, случается реже. Но и любовь, и ненависть нас подавляют; и та, и другая преследуют и ищут нас, не оставляя нас одних.
Моим идеалом было бы проживать все в романе, отдыхая в жизни — читать о моих переживаниях, проживать мое презрение к ним. Для того, кто обладает развитым воображением, приключения героя романа сами по себе являются достаточным переживанием и даже чем-то большим, потому что они принадлежат и ему, и нам. Нет приключения большего, чем любовь к Леди Макбет, любовь настоящая и непосредственная; что делать тому, кто испытал ее, кроме как не любить никого в этой жизни, чтобы отдохнуть?
Я не знаю, какой смысл в том путешествии, что я был принужден совершить, между одной ночью и другой, в компании целой вселенной. Я знаю, что могу читать, чтобы отвлечься. Я считаю чтение самым простым способом разнообразить это путешествие, как и все прочие; и время от времени я поднимаю глаза от книги, в которой я по-настоящему чувствую, и вижу, словно посторонний, мелькающий пейзаж — поля, города, мужчины и женщины, привязанности и ностальгии, — и все это для меня лишь эпизод моего отдыха, бездеятельное отвлечение, посредством которого я даю отдых глазам от слишком зачитанных страниц.
Лишь то, о чем мы мечтаем, есть то, чем мы на самом деле являемся, потому что остальное, будучи осуществленным, принадлежит миру и всем людям. Если бы я осуществил какую-нибудь мечту, я бы ревновал к ней, потому что она предала бы меня, позволив себе осуществиться. Я осуществил все, что хотел, говорит слабак, но это ложь; истина в том, что он пророчески мечтал обо всем том, что жизнь в нем осуществила. Мы ничего не осуществляем. Жизнь швыряет нас, словно камни, а мы говорим в воздухе: «Вот здесь я и кручусь».
Чем бы ни была эта пародийная интерлюдия под прожектором солнца и блестками звезд, неплохо знать, что она — просто интерлюдия; если то, что находится за дверями театра, есть жизнь, мы будем жить; если это смерть, мы умрем, и пьеса с этим никак не связана.
Поэтому я никогда не чувствую себя столь близко к истине, столь ощутимо посвященным, как в те редкие разы, когда я бываю в театре или в цирке: тогда я знаю, что наконец присутствую при идеальном представлении жизни. А актеры и актрисы, паяцы и фокусники — важны и никчемны, как солнце и луна, любовь и смерть, чума, голод, война среди людей. Всё — театр. А, так я хочу истины? Продолжу роман…
349.
Самая низменная из всех потребностей — потребность в доверии, в исповеди. Это потребность души в том, чтобы быть внешней.
Ладно, исповедуйся; но исповедуйся в том, чего не чувствуешь. Ладно, избавь душу от тяжести ее тайн, рассказав о них, но при условии, что секретов, которые ты раскрываешь, у тебя никогда не было. Лги самому себе прежде, чем высказать эту истину. Выражать всегда означает заблуждаться. Будь сознателен: пусть выражать для тебя будет означать лгать.
350.
Я не знаю, что такое время. Я не знаю, какова его истинная мера, если она вообще есть. О мере часов я знаю, что она ложна: они делят время пространственно, извне. О мере переживаний я тоже знаю, что она ложна: она делит не время, а ощущение времени. Мера грез ошибочна; в них мы касаемся времени, то подолгу, то в спешке, и то, что мы проживаем, поспешно или медленно в соответствии с каким-то свойством протекания, природа которого мне неизвестна.
Иногда я полагаю, что ложно все и что время — это лишь рамка для обрамления того, что является для него чуждым. В воспоминаниях о моей прошедшей жизни времена распределены по нелепым уровням и плоскостям, так что я оказываюсь моложе в некотором эпизоде, случившемся в мои великолепные пятнадцать лет, чем в эпизоде из детства в окружении игрушек.
У меня запутывается сознание, если я думаю об этих вещах. Я ощущаю ошибку во всем этом; однако я не знаю, где она находится. Как если бы я присутствовал при своего рода фокусе и знал, что меня обманывают, но не понимал, в чем заключается техника или механика обмана.
Тогда меня посещают нелепые мысли, которые мне все-таки не удается отвергнуть как полную нелепость. Я думаю о том, быстро или медленно двигается человек, медленно размышляющий внутри быстро едущей машины. Я думаю о том, одинаковы ли равные скорости, с которыми падают в море самоубийца и человек, сорвавшийся с насыпи. Я думаю о том, действительно ли синхронны движения, длящиеся столько же времени, сколько у меня уходит на то, чтобы выкурить сигарету или написать этот фрагмент, рассеянно размышляя.
О двух колесах, прикрепленных к одной оси, мы можем подумать, что одно всегда находится немного впереди, пусть даже на доли миллиметра. Микроскоп раздул бы это смещение настолько, что оно превратилось бы в невероятное, невозможное, если бы не было реальным. И почему микроскоп не может быть прав в споре с плохим зрением? Такие размышления бесполезны? Я это прекрасно знаю. Это иллюзии размышлений? Допускаю. Но что представляет собой то, что измеряет нас, не обладая мерой, и убивает нас, не обладая бытием? В такие мгновения, когда я даже не знаю, существует ли время, я ощущаю его как личность и мне хочется спать.
351.
Пасьянсы
Старые тетушки, у кого они были, по вечерам в нежилых загородных домах, при свете керосиновых ламп, коротали время, пока служанка спала под нарастающий шум кипятильника ‹…› раскладывая карточные пасьянсы. Во мне кто-то, кто занимает мое место, тоскует по этому бесполезному покою. Приносят чай, а на краю стола аккуратно сложена старая колода. Огромный сервант сгущает тень в столовой, окутанной полумраком. Сочится сном лицо служанки, медленно спешащей закончить. Я вижу все это в себе с тревогой и тоской, не связанными с чем-либо. И я невольно начинаю размышлять над тем, каково состояние духа тех, кто раскладывает карточные пасьянсы.
352.
Приход весны я вижу не в широких полях и не в больших садах, а в редких хилых деревьях на маленькой городской площади. Там зелень бросается в глаза, словно дар, и кажется веселой, словно приятная грусть.
Я люблю эти пустынные площади, затесавшиеся среди улиц, на которых мало движения, и на них самих движения не больше, чем на улицах. Они — бесполезные поляны, нечто, что ждет среди далекой толчеи. Они — деревенские площади в городе.
Я прохожу по ним, поднимаюсь по какой-нибудь из прилегающих улиц, потом снова спускаюсь по этой улице, чтобы вернуться к ним. С другой стороны открывается другой вид, но все тот же покой золотит внезапной ностальгией — в лучах заходящего солнца — сторону, которую я не увидел уходя.
Все бесполезно, и я все таким и чувствую. То, что я пережил, забылось, как если бы я услышал это в рассеянности. То, чем я буду, меня не помнит, как если бы я это прожил и забыл.
Закат легкой печали смутно парит вокруг меня. Все остывает, не потому, что стало прохладно, а потому, что я вышел на узкую улицу и площадь закончилась.
353.
Утро, полухолодное, полусырое, расправляло крылья над редкими домами на склонах на краю города. Легкий туман, полный пробуждения, разрывался без очертаний в сонном спокойствии склонов. (Холод чувствовался разве только в необходимости вновь начинать жить.) И все это — вся эта медленная свежесть легкого утра — было аналогично радости, которой у него никогда не могло быть.
Машина медленно спускалась, двигаясь к проспектам. По мере того как она приближалась к самому крупному скоплению домов, ощущение утраты смутно охватывало душу. Начинала пробиваться человеческая реальность.
В эти утренние часы, когда тень уже исчезла, но не исчез еще ее легкий вес, духу, который отдает себя во власть побуждений, приятны прибытие и старый порт под солнцем. Он бы приносил радость не в том случае, если бы этот миг застыл, как в торжественных мгновениях пейзажа или в спокойном лунном свете над рекой, а если бы жизнь была другой, чтобы это мгновение могло иметь иной вкус, который бы ему больше подходил.
Неясный туман становился все реже. Солнце все больше проникало повсюду. Вокруг все отчетливее слышались звуки жизни.
В такой час, как этот, было бы правильно никогда не добираться до человеческой реальности, для которой предназначена наша жизнь. Нашему желанию искать укрытие, пусть даже без причины для его поисков, было бы приятнее всего оставаться невесомо подвешенным между туманом и утром не в духе, а в одухотворенном теле, в настоящей окрыленной жизни.
Тонкое чувствование делает нас безразличными ко всему, за исключением того, чего нельзя достичь — ощущения, еще не посетившие душу, которая для них еще находится в зачаточном состоянии, человеческие действия, соответствующие глубоким чувствам, страстям и переживаниям, утраченным среди достижений другого рода.
Деревья, выстроившиеся в ряд вдоль проспектов, не зависели от всего этого.
Этот миг закончился в городе, как склон на другом берегу реки, когда корабль касается причала. Не коснувшись берега, он принес с собой пейзаж, открывающийся на другом берегу и прилепленный к фальшборту; пейзаж отделился, когда послышался удар фальшборта о камни. Человек с подвернутыми выше колена штанами зацепил крюком канат естественным жестом, решительным и окончательным. В нашей душе он метафизически превратился в невозможность продолжать испытывать радость от сомнительной тревоги. Сорванцы на пристани смотрели на нас, как смотрели бы на любого другого человека, который не испытывал той неподходящей эмоции по отношению к тому полезному, что есть в погрузке на корабль.
354.
Жара, словно невидимая одежда, порождает желание ее сбросить.
355.
Я сразу почувствовал себя неспокойно. Внезапно тишина перестала дышать.
Вдруг бесконечный стальной день раскололся. Я, словно животное, съежился за столом, вонзив мои бесполезные руки-когти в гладкую доску. Бездушный свет проник в углы и в души, и сверху обрушился звук близлежащей горы, с криком разрывая шелка бездны. У меня остановилось сердце. Застучало горло. Мое сознание увидело лишь чернильную кляксу на бумаге.
356.
После того как жара спала и дождь, сначала легкий, усилился настолько, что его стало слышно, в воздухе осталось спокойствие, которого не было в воздухе прошедшей жары, новый покой, в котором вода веяла своим ветром. Радость этого мягкого дождя, не сопровождавшегося ни грозой, ни темнотой, была такой ясной, что те, у кого не было зонтика или подходящей одежды, то есть почти все, разговаривали и смеялись, быстро шагая по блестящей улице.
В промежутке вялости я подошел к открытому окну конторы — жара заставила его открыть, дождь не заставил его закрыть — и с насыщенным и равнодушным вниманием, в свойственной мне манере, посмотрел на то, что я только что точно описал до того, как увидел. Да, там шагала радость двух заурядных людей, разговаривавших и улыбавшихся мелкому дождю, шедших скорее быстрым, чем торопливым шагом, в прозрачной ясности подернутого дымкой дня.
Но вдруг, из-за неожиданности угла, который уже там был, в поле моего зрения выкатился жалкий старик, бедный, но несмирившийся, который нетерпеливо шел под слабеющим дождем. Этот человек, которого я совершенно точно не замечал прежде, хотя бы проявлял нетерпение. Я посмотрел на него с вниманием, уже не рассеянным, которое уделяется вещам, а определяющим, которое уделяется символам. Он был символом никого; поэтому он торопился. Он был символом того, кто был никем; поэтому он страдал. Он был не частью тех, кто с улыбкой воспринимает неудобную радость дождя, а частью самого дождя — бессознательной настолько, что он чувствовал реальность.
Однако я хотел сказать не это. Между моим наблюдением за прохожим, которого я сразу потерял из виду, потому что не стал больше на него смотреть, и связью, объединявшей эти наблюдения, просочилась в меня некая загадка невнимания, некое появление души, которая не позволила мне продолжить. И в глубине моего разъединения я слышу, не слыша их, звуки разговоров упаковщиков там, в глубине конторы, в той части, где начинается склад, и вижу, не видя, бечевки для упаковки почтовых посылок, дважды обернутые вокруг прочной серой упаковочной бумаги, на столе под окном, выходящим во двор, среди шуток и ножниц.
Видеть значит увидеть заранее.
357.
Таков закон жизни: мы можем и должны учиться у всех. Есть в жизни серьезные вещи, которым мы можем научиться у шарлатанов и разбойников, есть философии, которые нам преподают глупцы, есть уроки твердости и закона, которые возникают из случайности и из тех, кого случайность выбрала. Все присутствует во всем.
В некоторые очень ясные мгновения размышлений, например когда вечерами я блуждаю по улицам и наблюдаю, каждый человек приносит мне какую-нибудь новость, каждый дом сообщает мне что-то новое, каждая вывеска содержит объявление для меня.
Моя молчаливая прогулка — это постоянная беседа, и все мы — люди, дома, камни, вывески и небо — представляем собой толпу друзей, толкающих друг друга словами в великой процессии Судьбы.
358.
Вчера я видел и слышал великого человека. Я имею в виду не человека, называемого великим, а человека, который действительно велик. У него есть ценность, если таковая присутствует в этом мире; они знают, что он ценен; и он знает, что они это знают. Затем, у него есть все условия для того, чтобы я назвал его великим человеком. И я действительно так его и называю.
Внешне он выглядит уставшим торговцем. На лице его — следы утомления, но они могли бы быть скорее следами чрезмерных размышлений, чем следами нездорового образа жизни. Его жесты непримечательны. Во взгляде есть некоторая живость — привилегия, доступная тем, кто не близорук. Голос немного стесненный, как если бы начинающийся общий паралич коснулся этого передатчика души. А передаваемая душа рассуждает о партийной политике, об обесценивании эскудо и о том, что есть презренного в товарищах по величию.
Если бы я не знал, кто он, я не узнал бы его по облику. Я хорошо знаю, что о великих людях не следует придерживаться того героического представления, которое составляют простые души: что великий поэт должен обладать телом Аполлона и красноречием Наполеона; или, при менее строгих требованиях, быть выдающимся человеком с выразительным лицом. Я хорошо знаю, что подобные вещи суть естественные и нелепые человеческие свойства. Но если от них и не ждут всего или почти всего, то чего-то от них все-таки ждут. И когда мы переходим от увиденного образа к высказанной душе, бесспорно, не стоит ожидать яркого духа или живости, но нужно, по крайней мере, рассчитывать на ум или хотя бы на намек возвышенности.
Все это — эти человеческие разочарования — заставляет нас думать о том, что может быть истинного в обыденном понятии вдохновения. Кажется, что это тело, которому суждено быть торговцем, и эта душа, которой суждено быть душой образованного человека, оказываясь наедине, проникаются чем-то внутренним, что для них является внешним, и что не они говорят, а говорят о них, и голос говорит то, что было бы ложью, если бы это сказали они.
Это случайные и бесполезные размышления. Мне становится стыдно, что я в них пускаюсь. Они не принижают ценность человека; они не увеличивают выразительность его тела. Но, на самом деле, ничто не меняет ничто, и то, что мы говорим или делаем, касается лишь вершин гор, в долинах которых спят вещи.
359.
Ни один человек не понимает другого. Мы, как сказал поэт, острова в море жизни; между нами протекает море, которое нас очерчивает и разделяет. Как бы ни старалась одна душа узнать другую душу, она узнает лишь то, что ей скажет слово — бесформенная тень на полу ее понимания.
Я люблю проявления чувств, потому что не знаю ничего о том, что они выражают. Я — как наставник Святой Марты: довольствуюсь тем, что мне дано. Я вижу, а это уже немало. Кто способен понимать?
Возможно, именно из-за этого скептицизма человека разумеющего я одинаково воспринимаю дерево и лицо, плакат и улыбку. (Все естественно, все искусственно, все одинаково.) Все, что я вижу, для меня представляет собой то единственное, что можно увидеть, будь то чистое небо, окрашенное в белесые зелено-синие тона утра, которое должно наступить, или фальшивая мина, которая искажает лицо того, кто переживает на глазах у свидетелей смерть любимого человека.
Куклы, иллюстрации, страницы, которые существуют и переворачиваются. В них нет моего сердца и почти нет моего внимания, которое ползет по ним снаружи, словно муха по бумаге.
Знаю ли я хотя бы, что чувствую, думаю, существую? Ничего: лишь объективная схема цветов, форм, выражений, для которых я являюсь бесполезным зеркалом, которое пора продавать.
360.
В сравнении с простыми и подлинными людьми, проходящими по улицам жизни, с их естественной молчаливой судьбой, эти фигуры в кафе приобретают оттенок, который я могу определить, лишь сравнив их с некоторыми духами из снов — фигуры, которые не порождены кошмаром или отвращением, но воспоминание о которых, когда мы просыпаемся, оставляет, по неведомым нам причинам, вкус минувшей мерзости, отвращение к чему-то, что присутствует с ними, но что нельзя определить как нечто принадлежащее им.
Я вижу, как черты гениев и настоящих победителей, пусть и маленьких, движутся в ночи вещей, не зная, что именно рассекают их надменные корабельные носы в этом саргассовом море упаковочной соломы и пробковой стружки.
К этому сводится все, словно на полу двора в здании, где находится контора, которая, если смотреть на нее сквозь зарешеченное складское окно, кажется кладовой для сбора мусора.
361.
Поиски истины — будь то субъективной истины убежденности, объективной истины реальности или социальной истины денег или власти — всегда приносят с собой, если их предпринимает тот, кто заслуживает награды, окончательное познание собственного несуществования. Великая удача жизни выпадает только на долю тех, кто купил лотерейный билет случайно.
У искусства есть ценность потому, что оно уносит нас отсюда.
362.
Законно всякое нарушение нравственного закона, которое совершается в соответствии с более высоким нравственным законом. Непростительно красть хлеб потому, что испытываешь голод. Но художнику простительно украсть десять тысяч эскудо, чтобы обеспечить себе жизнь и спокойствие на два года, если его произведение стремится к цивилизационной цели; если же это обычное эстетическое произведение, тогда этот довод не годится.
363.
Мы не можем любить, сын мой. Любовь — самая плотская из всех иллюзий. Послушай, любить значит обладать. А чем обладает тот, кто любит? Телом? Чтобы обладать им, нужно было бы сделать нашей его материю, съесть его, включить его в нас… И эта невозможность была бы временной, потому что наше собственное тело непостоянно, оно преобразуется, потому что мы не обладаем нашим телом (мы обладаем лишь нашим ощущением его) и потому что, когда бы мы овладели этим любимым телом, оно стало бы нашим, перестало бы быть другим и потому любовь с исчезновением другого существа исчезла бы…
Обладаем ли мы душой? Послушай меня в тишине: мы ею не обладаем. Даже наша душа не принадлежит нам. Как, впрочем, можно обладать душой? Между одной душой и другой — бездна душевного бытия.
Чем мы обладаем? Чем мы обладаем? Что побуждает нас любить? Красота? А обладаем ли мы ею любя? Самое свирепое и властное обладание телом — чем оно обладает в нем? Ни телом, ни душой, ни даже красотой. Обладание красивым телом обнимает не красоту, оно обнимает плоть из клеток и жира; поцелуй касается не красоты рта, а влажной плоти тленных и слизистых губ; собственно соитие — это лишь контакт, близкий контакт, состоящий в трении, но вовсе не настоящее проникновение одного тела в другое… Чем мы обладаем? Чем?
Хотя бы нашими ощущениями? По крайней мере, любовь — это наш способ обладать собой в наших ощущениях? Это хотя бы способ отчетливо мечтать о себе и потому славнее лелеять мечту о собственном существовании? И, по крайней мере, когда исчезает ощущение, память о нем навсегда остается с нами, и таким образом мы по-настоящему обладаем…
Не будем себя обманывать и в этом. Мы не обладаем даже нашими ощущениями. Молчи. Память, в конце концов, представляет собой ощущение прошлого… А всякое ощущение — иллюзия.
— Слушай меня, слушай меня всегда. Слушай меня и не смотри в открытое окно на пологий противоположный берег реки, на сумерки ‹…›, этот свисток поезда, что прорезает неясную даль ‹…› — Слушай меня в тишине.
Мы не обладаем нашими ощущениями… Мы не обладаем собою в них.
(Наклоненный сосуд, сумерки льют на нас масло ‹…› где разрозненно плавают часы, как лепестки роз.)
364.
Я не обладаю своим телом — как я могу обладать при помощи него? Я не обладаю своей душой — как я могу обладать при помощи нее? Я не понимаю своего духа — как понимать через него?
Мы не обладаем ни телом, ни какой-либо истиной — ни даже какой-либо иллюзией. Мы — призраки неправд, тени иллюзий, а наша жизнь пуста снаружи и внутри.
Знает ли кто-нибудь границы своей души, чтобы иметь возможность сказать — я это я?
Но я знаю, что то, что я чувствую, чувствую именно я.
Когда другой обладает этим телом, обладает ли он в нем тем же, чем обладаю я? Нет. Он обладает другим ощущением.
Владеем ли мы чем-то другим? Если мы не знаем, кто мы, как мы можем знать, чем мы владеем?
Если бы о том, что ты ешь, ты сказал «я обладаю этим», я бы понял тебя. Потому что, без сомнений, ты включаешь в себя то, что ешь, ты преобразуешь это в свою материю, ты чувствуешь, как оно входит в тебя и становится твоим. Но о том, что ты ешь, ты не говоришь как об «обладании». Что ты называешь обладанием?
365.
Безумие под названием «утверждать», болезнь под названием «верить», позор под названием «быть счастливым» — все это пахнет миром, отдает той грустью, коей является земля.
Будь равнодушен. Люби закат и рассвет, потому что в любви к ним нет расчета даже для тебя. Облачай свое тело в золото застывшего вечера, как короля, свергнутого в розовое утро, когда май плывет в белых облаках, а улыбка дев таится в далеких садах. Пусть твоя тревога умрет среди мирта, пусть твоя тоска улетучится среди тамариндов, а журчание воды сопровождает все это, как наступление вечера у берегов, и унесет реку, не имеющую другого смысла, кроме вечного течения, к далеким морям. Прочее — это жизнь, нас покидающая, пламя, умирающее в нашем взгляде, пурпур, износившийся до того, как мы в него облачились, луна, скрывающая нашу небрежность, звезды, простирающие свою тишину над нашим часом разочарования. Усердная скорбь, бесплодная и дружественная, с любовью прижимающая нас к груди.
Вырождение — вот моя судьба.
Некогда моими владениями были глубокие долины. Журчание вод, которые никогда не чувствовали крови, просачивается в слух моих грез. Кроны деревьев, забывающие жизнь, были всегда зелены в моих забвениях. Луна была текучей, словно вода среди камней. В ту долину никогда не приходила любовь, и потому все там было счастливо. Ни мечта, ни любовь, ни боги в храме — там все жило между бризом и полуденным часом и не знало ностальгии по самым пьянящим, самым потаенным верованиям.
366.
Бесполезные пейзажи, как те, что опоясывают китайские чашки, начинаясь с ручки и внезапно заканчиваясь у ручки. Чашки всегда так малы… Куда бы продлился и как ‹…› фарфора пейзаж, который не продлился дальше ручки чашки?
Некоторым душам дано почувствовать глубокую боль из-за того, что у пейзажа, нарисованного на китайском веере, не три измерения.
367.
…и хризантемы истощают свою истомленную жизнь в садах, окутанных сумерками оттого, что они в них растут.
…японское сладострастие, заключающееся в том, чтобы иметь всего два измерения.
…цветистое существование на влажных прозрачностях японских фигур на чашках.
…для меня стол, накрытый для скромного чаепития — простой предлог для совершенно бесплодных разговоров, — всегда обладал чем-то сродни существу и наделенной душой индивидуальности. Он, словно организм, образует синтетическое целое! Которое не является чистой суммой составляющих его частей.
368.
А диалоги в фантастических садах, что окружают совершенно неопределенно некоторые чашки? Какими возвышенными словами, должно быть, обмениваются две фигуры, что сидят с той стороны чайника! А у меня нет ушей, пригодных для того, чтобы их услышать, я — мертвец в многоцветии человечества!
Восхитительная психология по-настоящему статичных вещей! Вечность ее ткет, а жест нарисованной фигуры презирает, с высоты своей зримой вечности, нашу преходящую лихорадку, которая никогда не застывает у окон какого-то поведения и не медлит на пороге гримасы.
Каким должен быть любопытным фольклор цветастого народа гобеленов! Любовь вышитых фигур — двухмерная любовь с ее геометрическим целомудрием — должно быть, служит развлечением для опытных психологов.
Мы не любим, а лишь притворяемся, что любим. Настоящая любовь, бессмертная и бесполезная, принадлежит тем фигурам, которых не затрагивают перемены вследствие их статичной природы. С тех пор как я его знаю, японец, что сидит на выпуклом боку моего чайника, нисколько не изменился… Он никогда не припадал к рукам женщины, что стоит в неверном шаге от него. Опоясывающая выцветшая расцветка, словно расцветка выпотрошенного солнца, вечно делает нереальными склоны этой горы. И все это подчиняется мимолетному сожалению — сожалению более верному, чем то, что бесполезно наполняет хрупкость моих изможденных часов.
369.
В эту металлическую эру варваров только методически чрезмерный культ наших способностей мечтать, анализировать и привлекать может служить защитой нашей личности, предохраняя ее от распада, или от ничтожества, или от того, чтобы стать такой же, как и прочие.
В наших ощущениях реально как раз то, что в них не исходит от нас. Реальность образует то, что есть общего в ощущениях. Поэтому наша индивидуальность в наших ощущениях находится лишь в ошибочной их части. Какую радость я испытал бы, если бы увидел алое солнце. Это солнце было бы полностью моим, только моим!
370.
Я никогда не сообщаю своим чувствам, что я заставлю их почувствовать… Я играю с моими ощущениями, как отчаянно скучающая принцесса со своими большими котами, юркими и жестокими…
Я внезапно закрываю внутри себя двери, через которые эти ощущения могли пройти, чтобы осуществиться. Я резко удаляю с их пути духовные предметы, которые могли бы прояснить им определенные жесты.
Короткие фразы без смысла, вставленные в разговоры, которые мы, как нам кажется, ведем; нелепые утверждения, сделанные из пепла других, которые сами по себе уже ничего не означают…
— В вашем взгляде есть что-то от музыки, которую играют на борту корабля, посередине таинственной реки, чей противоположный берег порос лесами…
— Не говорите, что лунная ночь холодна. Я терпеть не могу лунные ночи… Есть те, кто действительно привык играть музыку лунными ночами…
— Это тоже возможно… И прискорбно, разумеется… Но в вашем взгляде действительно есть желание тосковать по чему-то… Ему не хватает чувства, которое бы выражало… Я нахожу в фальшивости его выражения множество иллюзий, что я испытал…
— Поверьте, я иногда чувствую то, что говорю, и даже несмотря на то, что я женщина, то, что я говорю взглядом…
— Не жестоки ли вы по отношению к самой себе? Действительно ли мы чувствуем то, что думаем, что чувствуем? Этот наш разговор, например, напоминает реальность? Нет. В романе он был бы недопустим.
— Это верно… Я совершенно не уверена, что говорю с вами, прошу заметить… Несмотря на то что я женщина, я создала себе обязанность быть гравюрой в книге впечатлений безумного рисовальщика… Во мне есть чрезмерно отчетливые детали… Создается впечатление чрезмерной и несколько натянутой реальности, и я это прекрасно знаю… Я полагаю, что единственное, что достойно современной женщины, это идеал, заключающийся в том, чтобы быть гравюрой. В детстве я хотела быть королевой любой масти в старой карточной колоде, которая была у меня дома… Я считала, что необходима по-настоящему сострадательная геральдика… Но в детстве нормально иметь подобные нравственные устремления… Лишь затем, в возрасте, когда все наши устремления становятся безнравственными, мы думаем об этом всерьез…
— Поскольку я никогда не говорю с детьми, я верю в их художественный инстинкт… Знаете, пока я говорю, прямо сейчас, я хочу проникнуть в сокровенный смысл того, о чем вы мне говорили… Вы извините меня?
— Не совсем… Никогда не стоит вторгаться в чувства, которые другие испытывают притворно. Они всегда слишком сокровенны… Поверьте, мне действительно больно вам признаваться в этих вещах, которые, хоть и поддельны все до одной, представляют собой настоящие лохмотья моей несчастной души… В глубине, поверьте, самое болезненное в нас то, чем мы, на самом деле, не являемся, и наши самые большие трагедии совершаются в нашем представлении о себе.
— Это совершенно справедливо… Зачем об этом говорить? Вы меня задели. Зачем лишать наш разговор его постоянной нереальности? Таков любой возможный разговор, который ведут за чаепитием красивая женщина и изобретатель ощущений.
— Да, конечно… Теперь мой черед просить прощения… Но учтите, что я была рассеяна и не заметила, что вы сказали одну правильную вещь… Сменим предмет разговора… Как же всегда поздно!.. Не сердитесь опять… Учтите, что в этой моей фразе нет совершенно никакого смысла…
— Не просите прощения, не обращайте внимания на то, о чем мы говорим… Всякий хороший разговор должен быть монологом двух человек… В конце концов, мы должны быть лишены уверенности в том, действительно ли мы с кем-то говорим или полностью воображаем себе разговор… Лучшие и самые сокровенные разговоры и особенно наименее поучительные, с нравственной точки зрения — те, что писатели вкладывают в уста двух героев своих романов… Как, например…
— Умоляю! Вы же не собирались приводить мне примеры… Это делают только в учебниках по грамматике; не знаю, помните ли вы, что мы их никогда не читали.
— Вы когда-нибудь читали учебник по грамматике?
— Никогда. Я всегда испытывала глубокое отвращение к знанию о том, как нужно говорить вещи… Единственное, что вызывало у меня симпатию в грамматиках, это исключения и плеоназмы… Избегать правил и говорить что-то бесполезное отлично подытоживает современное по своей сути поведение… Разве не так говорят?
— Совершенно верно… В грамматиках неприятно (вы уже заметили восхитительную невозможность нашего разговора на эту тему?), самое неприятное в грамматиках — это глагол, глаголы… Это слова, которые придают фразам смысл… Честная фраза всегда должна иметь возможность допускать разные смыслы… Глаголы!.. Один мой друг, покончивший с собой, — всякий раз, когда я веду сколько-нибудь долгий разговор, я заставляю покончить с собой какого-нибудь друга, — намеревался посвятить всю свою жизнь разрушению глаголов…
— А почему он покончил с собой?
— Погодите, я еще не знаю… Он стремился раскрыть и закрепить способ не заканчивать фразы так, чтобы этого не было заметно. Он имел обыкновение говорить мне, что ищет микроба значения… Он, разумеется, покончил с собой, потому что однажды обратил внимание на то, какую огромную ответственность взял на себя… Важность проблемы уничтожила его мозг… Револьвер и…
— О нет… Этого никак не может быть… Разве вы не понимаете, что револьвером никак нельзя было?.. Такой человек никогда не пускает себе пулю в лоб… Вы плохо разбираетесь в друзьях, которых у вас никогда не было… Это большой недостаток, знаете?.. Моя лучшая подруга — придуманная мной восхитительная девушка…
— Вы ладите друг с другом?
— Насколько это возможно… Но эта девушка, вы не представляете ‹…›
Конечно, между двумя созданиями, сидевшими за чаем, этого разговора не было. Но они были так опрятно и так хорошо одеты, что было бы жаль, если бы они так не говорили… Поэтому я написал этот разговор, чтобы он у них был… Их поведение, их мелкие жесты, их озорные взгляды и улыбки, мгновения разговора, которые прокладывают промежутки в нашем ощущении существования, отчетливо сказали то, что я ложно пытаюсь передать… Когда однажды оба они будут женаты, без сомнения, каждый по отдельности — на более усердных попытках жениться друг на друге, — если они случайно взглянут на эти страницы, я верю, что они узнают то, чего так и не высказали, и всегда будут мне благодарны за то, что я так удачно выразил не только то, чем они на самом деле являются, но и то, чем они никогда не хотели быть и не знали, что являлись…
Если они меня прочтут, пусть они поверят, что именно это они на самом деле сказали. В кажущемся разговоре, в котором они друг друга слушали, так многого недоставало ‹…› — недоставало запаха времени, аромата чая, значения жеста с веткой, которую она прижимала к груди… Все это, что составило разговор, они забыли высказать… Но все это было там, и я выполняю скорее не литературную работу, а работу историка. Я восстанавливаю, дополняя… и в их глазах это извинит меня за то, что я так пристально прислушивался к тому, что они говорили и не хотели сказать.
371.
Апофеоз абсурда
Я говорю всерьез и с грустью; эта тема — не для радости, потому что радости мечты противоречивы и грустны и потому так особенно и таинственно приятны.
Иногда я бесстрастно слежу в себе за этими изумительными и нелепыми вещами, которые я не могу видеть, потому что на вид они нелогичны — мосты, ведущие неизвестно откуда неизвестно куда, дороги без начала и конца, перевернутые пейзажи ‹…› — абсурд, нелогичность, противоречивость, все то, что нас отрывает и отдаляет от реальности и от ее бесформенной свиты практических мыслей и человеческих чувств и стремлений к полезным и плодотворным действиям. Абсурд, несмотря на тоску, помогает достичь того состояния души, которое начинается с ощущения сладостного неистовства мечтаний.
И я обретаю неизвестно какой способ видеть эти абсурды — я не могу этого объяснить, но я вижу эти вещи, которые зрению недоступны.
372.
Апофеоз абсурда
Обратим жизнь в абсурд, от востока и до запада.
373.
Жизнь — это экспериментальное путешествие, совершаемое поневоле. Это путешествие духа сквозь материю, и, поскольку путешествует дух, мы живем именно в нем. Поэтому есть созерцательные души, которые живут более насыщенной, более пространной, более бурной жизнью, чем те, что живут вовне. Результат — это всё. То, что было прочувствовано, было тем, что было прожито. От сна пробуждаешься таким же усталым, как от зримого труда. Никогда не проживаешь столько, как когда много думаешь.
Тот, кто находится в углу бальной залы, где все мы танцуем. Он видит все, и, поскольку он все видит, он все проживает. Поскольку все, вкратце и в конечном счете, является нашим ощущением, соприкосновение с телом равноценно его созерцанию или даже простому воспоминанию о нем. Поэтому я танцую, когда вижу, как танцуют другие. Я говорю, как английский поэт, который, лежа на траве вдали, рассказывал о трех жнецах, созерцаемых им: «Мне кажется, с косцами я иду / Четвертым на нелегкую страду»[41].
Все это, что говорится так, как чувствуется, приходит в связи с большой усталостью, на вид беспричинной, которая сегодня внезапно охватила меня. Я чувствую себя уже не только уставшим, но и опечаленным, и эта печаль мне тоже неведома. От томления я вот-вот расплачусь — не слезами, которыми плачут, а слезами, которые подавляют, слезами, порожденными недугом души, а не ощущаемой болью.
Я столько прожил не живя! Я столько передумал не думая! Надо мной довлеют миры застывшего насилия, пережитых приключений без движения. Мне надоело то, чего у меня никогда не было и не будет, мне опостылели несуществующие боги. Я несу с собой раны, полученные во всех сражениях, которых я избежал. Мое мышечное тело перемолото усилием, которое я и не думал совершать.
Тусклое, немое, ничтожное… В вышине раскинулось небо мертвого, несовершенного лета. Я смотрю на него, как если бы его там не было. Я просыпаю то, о чем думаю, я лежу на ходу, страдаю не чувствуя. Я томим великой ностальгией по ничему, ничему, как высокое небо, которого я не вижу и на которое безлично смотрю.
374.
В отчетливом совершенстве дня застыл, тем не менее, воздух, напоенный солнцем. Это не нынешнее давление грядущей грозы, не недомогание недобровольных тел, не смутная тусклость по-настоящему голубого неба. Это ощутимая неуклюжесть намека на досуг, перо, легко касающееся засыпающего лица. Это раннее, но уже зрелое лето. Оно внушает тягу к полям даже тем, кому они не нравятся.
Если бы я стал другим, я думаю, для меня это был бы счастливый день, потому что я почувствовал бы это не думая. Я бы завершил с радостью предвкушения мою нормальную работу — которая каждый день представляется однообразно ненормальной. Договорившись с друзьями, сел бы в машину до Бенфики. Мы бы отужинали на закате солнца, среди садов. Радость, которую мы испытывали бы, была бы частью пейзажа, и все, кто нас видел бы, признавали бы ее таковой.
Однако, поскольку это я, я немного наслаждаюсь той малостью, что заключается в том, чтобы представлять себе этого другого. Да, сразу после он-я под навесом или деревом съест вдвое больше того, что я обычно ем, выпьет вдвое больше того, что я решаюсь выпить, будет смеяться вдвое дольше того, сколько я могу представить. Сразу после он, сейчас я. Да, на мгновение я стал другим: я увидел, пережил — в другом — эту скромную человеческую радость, состоящую в том, чтобы существовать как животное в рубашке с рукавами. Велик этот день, который внушил мне такие грезы! Все сине и возвышенно в вышине, как моя скоротечная мечта стать здоровым посыльным в лавке, наслаждающимся досугом на закате дня.
375.
Поле — это то, где нас нет. Там, только там есть настоящие тени и настоящие деревья.
Жизнь есть колебание между восклицанием и вопросом. В сомнении есть последняя точка.
Чудо — это леность Бога или, скорее, леность, которую мы приписываем ему, изобретая чудо.
Боги суть воплощение того, чем мы никогда не сможем стать.
Усталость от всех предположений…
376.
Легкое опьянение от слабой лихорадки, когда ощущаешь вялое холодное пронизывающее неудобство в ноющих костях снаружи и горячее неудобство в глазах, под пульсирующими висками — я люблю это неудобство, как раб любимого тирана. Оно дарит мне ту дрожащую надломанную пассивность, в которой я созерцаю образы, захожу за углы идей и запутываюсь в чередовании чувств.
Думать, чувствовать, хотеть — все становится одним запутанным целым. Верования, ощущения, воображаемые и действительные вещи перепутаны, подобны смешанному на полу содержимому нескольких перевернутых ящиков.
377.
В ощущении выздоровления, особенно если недуг, ему предшествовавший, неблагоприятно отразился на нервах, есть что-то вроде грустной радости. Бывает осень в переживаниях и мыслях или, скорее, одно из тех начал весны, которые, за исключением того, что листья не опадают, в воздухе и небе подобны осени.
У усталости приятный вкус, и приятность этого вкуса немного болит. Мы чувствуем себя немного в стороне от жизни, хотя и оставаясь в ней, как на веранде жилого дома. Мы созерцаем не думая, чувствуем, не испытывая переживаний, которые можно определить. Воля спокойно отдыхает, потому что в ней нет необходимости.
Именно тогда некие воспоминания, некие надежды, некие смутные желания медленно поднимаются по круче сознания, как праздные экскурсанты, которых видно с вершины горы. Воспоминания о никчемных вещах, надежда на вещи, чье отсутствие не причинило боли, желания, которые были совершенно лишены неистовства природы или передачи и которые никогда не могли желать существовать.
Когда день подлаживается к этим ощущениям, как день сегодняшний — будучи летним, он наполовину затуманен синевой, и дует неясный ветер, который, не будучи теплым, почти пробирает холодом, — тогда это состояние души обостряется в том, о чем мы думаем, что чувствуем, как переживаем эти впечатления. Не то чтобы наши воспоминания, надежды, желания стали яснее. Но чувствуешь больше, и все в своей неопределенной целостности нелепым образом слегка давит на сердце.
В это мгновение во мне есть что-то далекое. Действительно, я нахожусь на веранде жизни, но не совсем этой жизни. Я нахожусь над ней и вижу ее оттуда, откуда вижу. Она раскинулась передо мной, спускаясь ступенями и соскальзывая, словно иной пейзаж, до дыма, курящегося над белыми деревенскими домами в долине. Закрывая глаза, я продолжаю видеть, потому что не вижу. Если я их открою, я больше ничего не увижу, потому что не видел. Я весь — смутная ностальгия, но не по прошлому и не по будущему: я — ностальгия по настоящему, безымянная, пространная и непонятая.
378.
Классификаторы вещей, то есть те люди науки, чья наука заключается в одном лишь классифицировании, как правило, не ведают, что классифицируемое бесконечно и потому его невозможно классифицировать. Но меня изумляет то, что они игнорируют существование неведомого классифицируемого, атрибутов души и сознания, которые находятся в зазорах знания.
Возможно, из-за того что я слишком много думаю или слишком много мечтаю, правда в том, что я не провожу различия между существующей реальностью и мечтой, которая представляет собой реальность несуществующую. Так, в мои размышления о небе и земле я вставляю то, что не блестит на солнце и на что не наступить ногой — текучие чудеса воображения.
Я золочу себя предполагаемыми закатами, но предполагаемое живо в предположении. Я радуюсь воображаемому ветру, но воображение живет, когда воображаешь. Моя душа расположена к различным гипотезам, но у этих гипотез есть собственная душа, и потому они дарят мне ту душу, что у них есть.
Не существует проблем, кроме проблемы реальности, которая нерешаема и жива. Что знаю я о разнице между деревом и мечтой? Я могу коснуться дерева; я знаю, что у меня есть мечта. Что это на самом деле?
Что это? Это я, который, один в пустынной конторе, может жить, воображая без ущерба для разума. Мои размышления не прерываются, даже когда я думаю об оставленных папках и об отделе посылок с его бумагами и мотками веревок. Я сижу не на моем высоком табурете, а откинувшись, благодаря будущему повышению, на стуле Морейры с круглыми подлокотниками. Возможно, под влиянием места я проникаюсь рассеянностью. Очень жаркие дни наводят сон; я сплю без сна из-за отсутствия сил. И потому я размышляю таким образом.
379.
Болезненный интервал
Меня уже утомляет улица, хотя нет, не утомляет — в жизни все есть улица. Напротив есть кабак, который я вижу, если смотрю через правое плечо; и напротив же есть монастырь, который я вижу, если смотрю через левое плечо; а посередине, где я ничего не увижу, если не развернусь полностью, обувщик наполняет размеренным звуком вестибюль конторы Африканской Компании. Другие этажи не определены. На четвертом этаже есть пансион, говорят, безнравственный, но это, как и все прочее, есть жизнь.
Устал ли я от улицы? Я устаю, только когда думаю. Когда я смотрю на улицу или чувствую ее, я не думаю; я работаю с большим внутренним отдохновением, будучи последним в этом углу, письмоводительским никем. У меня нет души, ни у кого нет души — в просторном помещении конторы все есть работа. Там, где наслаждаются миллионеры, тоже есть работа, всегда отстраненная от них и тоже нет души. От всего остается какой-нибудь поэт. Быть может, от меня останется одна фраза, что-то сказанное, о чем сказали бы «хорошо сделано!», как цифры, которые я переписываю в книгу всей моей жизни.
Я думаю, что никогда не перестану быть помощником бухгалтера на складе тканей. Со свирепой искренностью я желаю никогда не дорасти до бухгалтера.
380.
Уже давно — не знаю, много дней или много месяцев — я не записываю никакие впечатления; я не думаю и потому не существую. Я забыл, кто я есть; я не умею писать, потому что не умею быть. Из-за уклончивой дремоты я стал другим. Узнать, что я не помню, значит проснуться.
Я на время лишился чувств, выпав из моей жизни. Я возвращаюсь в сознание, не помня, кто я есть, а память о том, кем я был, пострадала оттого, что ее прервали. Во мне присутствует запутанное представление о неведомом промежутке, напрасное усилие части памяти, стремящейся найти другую часть. Мне не удается восстановить себя. Если я живу, то я забыл, что знаю об этом.
И не то чтобы этот первый день ощутимой осени — первый день несвежего холода, который облекает умершее лето в меньшее количество света — давал мне, в отчужденной прозрачности, ощущение мертвого замысла или ложного стремления. И не то чтобы в этой интерлюдии утраченных вещей не было неясных следов бесполезной памяти. Есть тоска, более болезненная, чем эти следы, от попыток вспомнить то, чего не помнишь, уныние оттого, что сознание потеряло среди водорослей или тростников, на берегу неизвестно чего.
Я знаю, что в чистый и неподвижный день положительное голубое небо не так ясно, как глубокая синева. Я знаю, что солнце, неопределенно менее золотистое, чем прежде, золотит стены и окна влажными отблесками. Я знаю, что еще спит прохлада в неопределенном городе, хотя нет ветра или бриза, который бы о ней напоминал и ее отрицал. Я знаю все это, не думая и не желая, и чувствую сон лишь от воспоминания и ностальгию лишь от непокоя.
Бесплодный и далекий, я выздоравливаю от недуга, которым не страдал. Бодрый от пробуждения, я готовлю себя к тому, на что не осмеливаюсь. Что за сон не дал мне спать? Что за лесть не пожелала со мной говорить? Как хорошо быть другим, делая этот холодный глоток могучей весны! Как хорошо хотя бы подумать об этом, лучше жизни, в то время как вдали, в припомненном образе темно-зеленый тростник склоняется над рекой, хотя нет ветра!
Сколько раз, вспоминая, кем я не был, я представляю себя молодым и забываю! И были другими пейзажи, которых я никогда не видел; они были новыми и при этом не были пейзажами, которые я на самом деле видел! Какая мне разница? Я оказался среди случайностей и промежутков и, пока солнце наполняет день своей свежестью, в закате, который я вижу, хотя его нет, спит темный тростник у реки.
381.
Никто еще не определил, что есть тоска, таким языком, который понял бы тот, кто ее не испытывал. То, что одни называют тоской, является не более чем скукой; то, что другие называют ею, есть не более чем неудобство; третьи же называют тоской усталость. Но тоска, хотя и сопричастна усталости, проистекает и от неудобства, и от скуки и вбирает их, как вода вбирает водород и кислород, из которых состоит. Она включает их, но на них не похожа.
Если одни придают тем самым тоске ограниченный и неполный смысл, другие наделяют ее значением, которое в некотором отношении выходит за ее рамки — например, когда называют тоской внутреннее и духовное отвращение к разнообразию и нечеткости мира. То, что заставляет зевать, есть скука; то, что заставляет сменить положение, есть неудобство; то, что не дает двигаться, есть усталость — ничто из этого не является тоской, но не является ею и глубокое чувство пустоты вещей, вследствие которого неудовлетворенное устремление освобождается, разочарованная тревога поднимается и в душе образуется зародыш, из которого рождается мистик или святой.
Да, тоска — это скука, порожденная миром, неудобство, созданное жизнью, усталость от прожитого; тоска — это действительно плотское ощущение пространной пустоты вещей. Но тоска — это нечто большее, это скука, порожденная другими мирами, существуют они или нет; неудобство от необходимости жить, пусть даже иным, пусть даже иначе, пусть даже в другом мире; усталость не только от вчерашнего дня и от дня сегодняшнего, но и от завтрашнего, от вечности, если она есть, и от небытия, если им является вечность. И не от пустоты вещей и существ болит душа, охваченная тоской: она болит и от пустоты чего угодно другого, что не является вещами или существами, от пустоты самой души, которая чувствует пустоту, чувствует себя пустой, и сердится, и отвергает себя.
Тоска — это физическое ощущение хаоса и того, что все есть хаос. Скучающий, испытывающий неудобство или усталость человек чувствует себя заточенным в тесную камеру. Испытывающий отвращение к тесноте жизни чувствует себя словно в наручниках в большой камере. Но тот, кто испытывает тоску, чувствует себя заточенным в заурядной свободе в бесконечной камере. Над тем, кто скучает или чувствует неудобство или усталость, могут рухнуть стены камеры и погрести его под собой. С того, кому противна малость мира, могут спасть наручники, и он сможет убежать; либо он будет страдать оттого, что не может от них избавиться, и, чувствуя боль, снова начать жить без отвращения. Но стены бесконечной камеры не могут нас погрести, потому что не существуют; даже наручники не могут оживить нас при помощи причиняемой ими боли, потому что никто их на нас не надевал.
И именно это я чувствую на фоне спокойной красоты этого вечера, который непреходяще подходит к концу. Я смотрю на высокое и ясное небо, где смутные розовые вещи, словно тени облаков, образуют неосязаемую перину окрыленной и далекой жизни. Я опускаю глаза к реке, где вода, лишь немного подрагивая, отливает такой синевой, что в ней словно отражается самое глубокое небо. Я вновь возвожу глаза к небу: среди той смутной расцветки, что истрепливается без лохмотьев в невидимом воздухе, уже есть ледяной оттенок тусклой белизны, как если бы что-то из того высокого и заурядного, что есть там, испытывало собственную материальную тоску, невозможность быть тем, что оно есть, как невесомое тело тревоги и опустошенности.
Но что? Что есть в высоком воздухе, помимо высокого воздуха, который не является ничем? Что есть в небе большего, чем цвет, который ему не принадлежит? Что есть в этих лохмотьях меньшего, чем облака, в которых я уже сомневаюсь, помимо материально второстепенных отблесков света уже покорившегося солнца? Что есть во всем этом, кроме меня? О, но тоска есть только это, только это. Ведь то, что есть во всем этом — в небе, земле, мире, — это лишь я!
382.
Я достиг той точки, когда тоска становится личностью, воплощенным вымыслом моего сосуществования со мной.
383.
Внешний мир существует, как актер на сцене: он там, но является чем-то иным.
384.
И все есть неизлечимая болезнь.
Праздность чувств, неудовольствие от необходимости не уметь ничего делать, неспособность действовать, словно ‹…›
385.
Туман или дым? Поднимался от земли или спускался с неба? Неизвестно: это было больше похоже на недуг воздуха, чем на нисхождение или испарение. Иногда это казалось больше болью в глазах, чем реальностью природы.
Чем бы это ни было, по всему пейзажу разливалось мутное беспокойство, сотканное из забвения и затухания. Как если бы тишина недоброго солнца сочла своим какое-то несовершенное тело. Можно было бы сказать, что должно было что-то произойти и что повсюду было некое чутье, из-за которого видимое скрывалось.
Было трудно сказать, были ли на небе облака, или скорее это был туман. Это было сырое онемение, окрашенное тут и там, с невесомым желтовато-пепельным отливом, за исключением тех мест, где оно рассыпалось в ложно-розовый цвет или где замирало, переливаясь в синеву, но нельзя было разобрать, открывалось ли там небо или его покрывала другая синева.
Ничто не было ни определенным, ни неопределенным. Поэтому хотелось назвать дымом туман, потому что он не походил на туман, или задаться вопросом, туман ли это, или дым, потому что это было невозможно разобрать. Сам жар воздуха подпитывал сомнения. Это не была ни жара, ни холод, ни прохлада; казалось, он составлял свою температуру из элементов, выуженных не из жары, а из чего-то другого. Действительно, можно было бы сказать, что холодный на вид туман был горячим на ощупь, как если бы осязание и зрение были двумя чувствительными сторонами одного чувства.
Не было это и затушевыванием выступов или граней вокруг очертаний деревьев или углов зданий, которое приносит с собой настоящий туман, застывая, или полуоткрывает, полузатемняет настоящий естественный дым. Все предметы словно отбрасывали тень, неопределенно дневную во всех смыслах, ибо не было ни света, который объяснял бы это как тень, ни точки, из которой она бы отбрасывалась и которая оправдывала бы зримость этого.
Это даже не было зримо: это было словно исходным моментом, когда что-то начинает просматриваться, но повсюду одинаково, как если бы то, что открывалось, сомневалось, стоит ли ему появляться, или нет.
А какое было в этом чувство? Невозможность его иметь, сердце, истерзанное в голове, смешанные чувства, онемение пробужденного существования, усовершенствование чего-то в душе, словно слуха для окончательного и бесполезного откровения, всегда вот-вот появляющегося, словно истины, всегда словно истины, близнеца никогда не осуществляющегося появления.
Даже желание спать, которое напоминает мышление, не приходит, потому что простой зевок кажется усилием. Даже если отвести взгляд, это вызывает боль в глазах. И в бесцветном отречении всей души только внешние звуки вдалеке представляют собой недосягаемый мир, который все еще существует.
О иной мир, иные вещи, иная душа, которая чувствовала бы их, иное мышление, которое бы познавало эту душу! Все, даже тоска, кроме этого общего испарения души и вещей, эта синеватая неприкаянность неопределенности всего!
386.
Мы шагали, вместе и порознь, среди неожиданных лесных развилок. Движение наших шагов, бывших чем-то посторонним в нас, было едино, поскольку они были созвучны в мягком шуршании желтых и полузеленых листьев, устилавших неровности земли. Но было оно и разъединенно, потому что мы были двумя мыслями и общего между нами было лишь то, чем мы не были и что созвучно ступало по одной и той же слышимой почве.
Уже наступило начало осени, и, помимо листьев, по которым мы ступали, мы слышали, как постоянно падали, в резком сопровождении ветра, другие листья или звуки листьев, повсюду, куда мы направлялись или где прошли. Единственным пейзажем был лес, который заслонял все прочие пейзажи. Однако его как места и пространства хватало для тех, для кого, как для нас, жизнь была лишь созвучным и различным шаганием по поблекшей почве. Был, кажется, конец дня, любого дня или, пожалуй, всех дней, в одной осени — всей осени — в символическом и настоящем лесу.
Какие дома, какие обязанности, какую любовь мы покинули — мы и сами не смогли бы сказать. В это мгновение мы лишь шагали между тем, о чем забыли, и тем, чего не знали, пешие рыцари покинутого идеала. Но в этом, как в постоянном шуршании листьев, по которым мы ступали, и во всегда резком шуме неясного ветра заключался смысл нашего ухода или нашего возвращения, поскольку, не зная пути и не зная, почему мы оказались на этом пути, мы не знали, возвращаемся ли мы, или уходим. И всегда вокруг нас, не знавших, где и как они падают, шуршание наваленных листьев убаюкивало лес грустью.
Ни один из нас не хотел знать о другом, хотя ни один из нас не продолжил бы путь без другого. Компания, которую мы друг другу составляли, была разновидностью сна, который видел каждый из нас. Звук созвучных шагов помогал каждому думать без Другого, и сами одинокие шаги разбудили бы его. Лес целиком состоял из ложных полян, он сам словно был ложным или будто подходил к концу, но не заканчивались ни ложность, ни лес. Наши шаги продолжали звучать в унисон, и вокруг того, что мы слышали от листьев, по которым ступали, лился смутный шум падающих листьев в лесу, ставшем всем, в лесу, тождественном вселенной.
Кем мы были? Нас было двое или мы были двумя формами одного? Мы не знали и не спрашивали. Должно было существовать неясное солнце, потому что в лесу не царила ночь. Должен был существовать неясный конец, потому что мы шагали. Должен был существовать какой-то мир, потому что существовал лес. Однако мы были далеки от того, что было или могло быть, вечные путники, шагающие в унисон по опавшей листве, безымянные и невозможные слушатели падающей листвы. Ничего больше. Шепот, то резкий, то мягкий, неведомого ветра, бормотание, то громкое, то глухое, листьев, оказавшихся под ногами, отрывок, сомнение, исчезнувшее намерение, иллюзия, которой даже не было — лес, оба путника, и я, я, не знающий, кем из них я был, был ли я обоими, или никем, и присутствовал ли, не увидев конца, при трагедии отсутствия чего-либо, кроме осени, и леса, и ветра, всегда резкого и неясного, и листьев, всегда опавших или опадающих. И всегда, как если бы снаружи точно было солнце и день, было отчетливо видно, без какой-либо цели, шумное молчание леса.
387.
Я полагаю, что я — тот, кого называют декадентом, и что есть во мне, будто внешнее определение моего духа, это грустное мерцание поддельной отстраненности, которое дополняет неожиданными словами мою тревожную и мятущуюся душу. Я чувствую, что я таков и что я нелеп. Поэтому я стремлюсь, подражая гипотезе классиков, по крайней мере, представить в некоей выразительной математике декоративные ощущения моей замененной души. В определенный момент письменного размышления я уже не знаю, на чем сосредоточено мое внимание — на разрозненных ощущениях, которые я пытаюсь описать, как неведомые ковры, на словах, в которых я, желая описать само описание, запутываюсь, сбиваюсь и вижу нечто другое. Во мне образуются ассоциации идей, образов, слов — все отчетливо и расплывчато, — и я столь же говорю о том, что чувствую, сколь предполагаю, что чувствую; я не отличаю то, что подсказывает мне душа, от того, что образы, оброненные душой, взращивают на полу, и не различаю даже, звук ли грубого слова, или ритм вставленной фразы отвлекают меня от уже неясной темы, от уже зарождающегося ощущения и избавляют меня от необходимости думать и говорить, как большие путешествия, совершаемые, чтобы немного отвлечься. И все то, что, если я это повторяю, должно было бы принести мне ощущение никчемности, краха, страдания, придает мне лишь золотые крылья. Когда я говорю об образах, возможно, оттого, что злоупотребление ими предосудительно, у меня рождаются образы; когда я поднимаюсь над собой, чтобы отвергнуть то, чего не чувствую, я уже это чувствую, и само отвержение представляет собой ощущение с узорами; когда, потеряв веру в усилие, я хочу предаться потере — классический термин, пространственное и строгое прилагательное, — передо мной внезапно и ясно, словно солнечный свет, возникает как будто сонно написанная страница и буквы, выведенные чернилами моего пера, представляют собой нелепую карту волшебных знаков. И я откладываю себя, как перо, и свертываюсь, склоняясь без связи, далекий, промежуточный и кошмарный, достигший конца, словно тот, кто, потерпев кораблекрушение, тонет, видя чудесные острова в тех самых золотисто-фиолетовых морях, о которых он действительно мечтал в далеких постелях.
388.
Сделать чисто литературной восприимчивость чувств и переживаний, когда они случайно проявляются, обратить их в появившуюся материю, чтобы изваять из них статуи из текучих и лижущих слов…
389.
Девиз, который сегодня больше всего необходим моему духу, это девиз создателя безразличий. Больше, чем чего-либо другого, я хотел бы, чтобы мои действия в жизни заключались в том, чтобы учить других чувствовать все больше для себя и все меньше в соответствии с динамическим законом коллектива… Обучение этой духовной антисептике, благодаря которой станет невозможно заразиться пошлостью, кажется мне самой блестящей судьбой педагога сокровенности, коим я хотел бы быть. Если бы те, кто меня читает, научились — пусть и постепенно, как того требует предмет — не испытывать никаких ощущений от чужих взглядов и мнений других, то это в достаточной мере украсило бы оцепенение моей жизни.
Невозможность действовать всегда была для меня болезнью, имеющей метафизическую этиологию. Совершение жеста всегда было для моего чувствования вещей помехой, раздвоением во внешней вселенной; мысль о том, чтобы приняться за дело, всегда создавала у меня впечатление, будто я не оставил бы нетронутыми звезды и неизменными небеса. Поэтому метафизическое значение самого мелкого жеста рано получило внутри меня изумительное развитие. По отношению к действию я приобрел брезгливость трансцендентальной честности, которая с тех пор, как я закрепил ее в моем сознании, не дает мне поддерживать сильно обостренные отношения с осязаемым миром.
390.
Умение быть суеверным — это еще одно из тех искусств, которые, будучи доведены до пика, отличают высшего человека.
391.
С тех пор как я, насколько могу, размышляю и наблюдаю, я замечаю, что люди ни в чем не знают истины или нисколько не согласны в том, что является действительно возвышенным в жизни или полезным в проживании ее. Самая точная наука — математика, живущая в заточении собственных правил и законов; да, ее применение полезно для прояснения других наук, но она проясняет то, что они открывают, а не помогает открыть. В других науках очевидно и общепринято лишь то, что никак не влияет на возвышенные цели жизни. Физика прекрасно знает, какой у железа коэффициент расширения; но не знает, какова подлинная механика строения мира. И чем выше мы поднимаемся в том, что мы желали бы знать, тем больше мы опускаемся в то, что мы знаем. Метафизика, которая была бы наилучшим критерием, потому что она и только она направлена к высшим целям истины и жизни, является не научной теорией, а лишь грудой кирпичей, образующих в тех или иных руках бесформенные дома, которые не скрепляет никакой связующий раствор.
Также я замечаю, что между жизнью людей и жизнью животных нет иной разницы, кроме способа обманывать себя или игнорировать жизнь. Животные не ведают, что творят: они рождаются, растут, живут, умирают без мышления, отраженного или действительно относящегося к будущему. Но сколько людей живут иначе? Все мы спим, и разница заключается лишь в снах, в уровне и качестве сновидений. Возможно, смерть пробуждает нас, но и на это нет иного ответа, чем тот, что дает вера тем, для кого верить значит иметь, надежда тем, для кого желать значит обладать, милосердие тем, для кого давать значит получать.
В этот холодный грустный зимний день льет дождь, как если бы он лил так же однообразно с первой страницы мира. Льет дождь, и мои чувства, словно подчинившись дождю, обращают свой тяжелый взгляд на землю города, по которой течет вода, ничего не питающая, ничего не омывающая, ничем не радующая. Льет дождь, и я внезапно чувствую безмерный гнет оттого, что я — животное, которое не знает, чем является, воображает мысли и переживания и, забившись, словно в каморку, в пространственную область бытия, довольствуется скудным теплом, словно вечной истиной.
392.
Народ — славный малый.
Народ никогда не бывает человечным. Самое основное в народном существе — это внимание, обращенное исключительно к своим интересам, и тщательное исключение чужих интересов настолько, насколько это возможно.
Когда народ утрачивает традицию, это означает, что разорвалась социальная связь; а когда разрывается социальная связь, оказывается, что разрывается социальная связь между меньшинством и народом. А когда разрывается связь между меньшинством и народом, приходит конец искусству и подлинной науке, прекращают действовать основные побуждения, из которых проистекает цивилизация.
Существовать значит отрицать себя. Что есть я сегодня, живущий сегодня, если не отрицание того, чем я был вчера, того, кем я был вчера? Существовать значит опровергать себя. Нет ничего более символичного в жизни, чем те сообщения в газетах, которые сегодня опровергают то, о чем эти же газеты сообщили вчера.
Хотеть значит не мочь. Кто что-то смог, захотел сделать это что-то только после того, как сделал. Тот, кто хочет, никогда не сможет сделать, потому что он теряется в желании. Я считаю, что это основополагающие принципы.
393.
…Обыденные, как цели жизни, которую мы проживаем, цели, которых мы даже не желали.
Большинство людей, если не все, живет обыденной жизнью, обыденной во всех ее радостях и обыденной почти во всех ее болях, за исключением тех, которые зиждутся на смерти, потому что в них участвует Тайна.
Я слышу шумы, которые, просачиваясь сквозь мое невнимание, текуче и разрозненно вздымаются, словно набегающие друг на друга случайные волны, прибывающие из другого мира: крики продавцов, продающих что-то природное вроде овощей или что-то общественное вроде лотереи; круглый скрежет колес — быстрые подскакивающие телеги и машины; автомобили, которые больше слышно в движении, чем на поворотах; вытряхивание каких-то тканей в каком-то окне; свист мальчика; хохот на верхнем этаже; металлический стон трамвая на другой улице; то смешанное, что возникает из поперечных улиц; подъемы, спуски, молчание разнообразных движений; глухие раскаты транспорта; какие-то шаги; начала, середины и завершения разговоров — и все это существует во мне, спящем в мыслях об этом, словно камень среди травы, в некотором смысле подглядывающий за тем, что происходит вокруг.
Затем, со стороны, внутри дома эти звуки сливаются с другими: шаги, тарелки, метла, прерванное пение (почти что фаду); запланированная вечеринка на балконе; раздражение оттого, что чего-то не хватает на столе; просьба передать сигареты, оставшиеся на комоде, — все это реальность, анафродизиаковая реальность, которая не проникает в мое воображение.
Легкие шаги горничной в туфлях без задника, которые я представляю с ало-черным шнуром; и если я так их представляю, звук обретает нечто от ало-черного шнура; уверенные, твердые шаги сапог сына хозяина дома, который уходит и громко прощается, захлопывая дверь и обрывая тем самым эхо слога «ка», следующего за «по»; покой, как если бы мир кончался на этом высоком пятом этаже; звуки посуды, которую собираются мыть; струящаяся вода; «так я тебе не сказала, что…» И тишина, свистящая с реки.
Я впадаю в дрему, переваривая и представляя. У меня есть время между синестезиями. И чудесно думать, что я не хотел бы — если бы меня сейчас спросили и я бы ответил — лучшей краткой жизни, чем эти медленные минуты, это отсутствие мышления, переживаний, действия, почти ощущений, этот закат, рожденный из разрозненной воли. И тогда я размышляю, почти не думая, над тем, что большинство людей, если не все, живет так, громче или тише, замерев или шагая, но с тем же оцепенением по отношению к конечным целям, с тем же отказом от собственных устремлений, с тем же ощущением жизни. Всякий раз, когда я вижу кошку, греющуюся на солнце, она напоминает мне человечество. Всякий раз, когда я вижу спящего, я вспоминаю, что все есть сон. Всякий раз, когда кто-нибудь рассказывает мне, что он увидел во сне, я думаю, не думает ли он, что только и делал, что видел сны. Шум на улице нарастает, как если бы открылась дверь, и звенит звонок.
Ничего не произошло, потому что дверь сразу закрылась. Шаги утихли в конце коридора. Вымытые тарелки поднимают голос воды, а посуда ‹…› Проезжает грузовик, заставляя вибрировать донья, и когда все заканчивается, я отрываюсь от мыслей.
394.
И так же, как я мечтаю, я размышляю, если хочу, потому что это лишь другая разновидность мечтаний.
Принц лучших часов, некогда я был твоей принцессой и мы любили друг друга любовью другого рода, память о которой причиняет мне боль.
395.
Нежный и чарующий, час чернел, как черная чарка. Разумеется, в гороскопе нашей встречи взаимные выгоды достигали высшей точки. Неопределенная материя сна была столь шелковистой и тонкой, что проникала в наше осознание чувств. Полностью иссякло, словно какое угодно лето, наше терпкое понимание того, что жить не стоит. Возрождалась та весна, о которой мы, пусть и заблуждаясь, могли думать, что она у нас была. Умаляя наше сходство, пруды среди деревьев жаловались так же, как и розы в раскрытых клумбах, и неопределенная мелодия жизни — все безответственно.
Не стоит предчувствовать не зная. Все будущее представляет собой туман, который нас окружает, и завтра похоже на сегодня, когда просматривается. Мои судьбы — паяцы, которых бросил караван, причем не под лунным светом, а лишь при свете улиц, когда листва шелестела от ветра, а мы в неясный час прислушивались к ее шелесту. Далекий пурпур, ускользающие тени, всегда незавершенный сон и отсутствие веры в то, что его довершит смерть, лучи угасающего солнца, лампа в доме на склоне, тревожная ночь, запах смерти среди одиноких книг, пока снаружи течет жизнь, деревья, пахнущие зеленью в безбрежной ночи, больше усыпанной звездами с другой стороны горы. Так все твои скорби слились в благотворный союз; твои скупые слова нарекли королевским отплытие; никогда не вернется ни один корабль, даже настоящий, а дым жизни размыл очертания всего, оставив лишь тени и оправы, тяготы вод в гибельных озерах среди самшита в калитках Ватто[42] (видимых издалека), тревогу и никогда больше. Тысячелетия — лишь те, которых ты достигнешь, но у дороги нет поворотов, и поэтому ты никогда не сможешь прибыть. Чаши только лишь для неизбежной цикуты — она не только для тебя, но и для жизни всех и даже для фонарей, отступлений, неясных крыльев, которые только слышно, и в размышлении беспокойной, придушенной ночью, которая минута за минутой поднимается над собой и продвигается сквозь свою тревогу. Желтое, черно-зеленое, сине-любовное — все мертво, душа моя, все мертво, и все корабли — тот неотправившийся корабль! Молись за меня, возможно, Бог существует потому, что ты за меня молишься. Тихий, далекий источник, неясная жизнь, дым, гаснущий в доме, на который опускается ночь, зловещая память, далекая река… Дай мне поспать, дай мне забыться, владычица Неясных Намерений, Мать Ласк и Благословений, не примиряемых с существованием…
396.
После того как последние дожди покинули небо и остались на земле — чистое небо, влажная и блестящая земля — большая ясность жизни, которая вместе с синевой вернулась в вышину и в принесенной водой свежести возрадовалась внизу, оставила свое небо в душах, свою свежесть в сердцах.
Как бы мало мы этого ни желали, мы — рабы времени, его цветов и форм, подданные неба и земли. Тот из нас, кто больше прячется в себе самом, презирая то, что его окружает, не плутает по одним тем же путям, когда идет дождь и когда небо ясно. Непонятные превращения, ощущаемые, быть может, лишь в глубине абстрактных чувств, осуществляются потому, что дождь идет или прекратился, ощущаются не ощущаясь, потому что время ощутилось не ощутившись.
Каждый из нас — разнообразие, пространность, множество себя самого. Поэтому тот, кто презирает окружающее, — не тот же самый, кто радуется ему или страдает. В обширной колонии нашего бытия есть люди разных видов, которые думают и чувствуют по-разному. В то самое мгновение, когда я пишу во время положенного отдыха от сегодняшней неутомительной работы, я — тот, кто внимательно пишет, тот, кто доволен тем, что не должен работать в этот час, тот, кто видит небо снаружи, не видимое отсюда, тот, кто думает обо всем этом, тот, кто чувствует, что тело довольно, а руки все еще неопределенно холодны. И весь этот мой мир чуждых друг другу людей отбрасывает, словно разнообразная, но плотная толпа, одну тень — это спокойное пишущее тело, которым я склоняюсь, стоя над высоким письменным столом Боржеша, к которому я подошел, чтобы забрать одолженную ему промокательную бумагу.
397.
Среди домов, в чередованиях света и тени — или, скорее, света и меньшего света — на город льется утро. Кажется, что оно наступает не от солнца, а от города и что свет сверху отделяется от стен и крыш — не от них физически, а от того, что они там находятся.
Я чувствую, чувствуя его, большую надежду; но признаю, что надежда эта литературна. Утро, весна, надежда — они связаны музыкально единым мелодическим устремлением; они связаны душевно, общей памятью об одинаковом устремлении. Нет: если я наблюдаю за самим собой, как наблюдаю за городом, я признаю, что я должен надеяться на окончание этого дня, как и всех прочих дней. (Разум тоже видит зарю.) Надежда, которую я возложил на него, если она была, не была моей; это была надежда людей, проживающих проходящее время — их внешнее понимание я воплотил в это мгновение, сам того не желая.
Надеяться? На что мне надеяться? День не обещает мне большего, чем день, и я знаю, что он протекает и заканчивается. Свет оживляет меня, но не улучшает, ведь я уйду отсюда таким же, каким пришел сюда — я буду старше на несколько часов, веселее будет ощущение, грустнее мысль. В том, что рождается, мы можем чувствовать то, что рождается, и мыслить о том, что должно умереть. Теперь, под просторным и высоким светом, городской пейзаж подобен полю с домами — он естествен, широк, разнообразен. Но, даже глядя на все это, смогу ли я забыть, что существую? Внутри мое осознание города является моим осознанием себя.
Внезапно я вспоминаю себя ребенком, когда я видел, как не могу видеть сегодня, утро, сияющее над городом. Тогда оно сияло не для меня, а для жизни, потому что тогда я (не будучи сознательным) был жизнью. Я видел утро и радовался; сегодня я вижу утро и радуюсь и грущу… Ребенок остался, но умолк. Я вижу, как видел раньше, но из-за глаз я вижу себя видящего; и только поэтому передо мной затмевается солнце, и зелень деревьев стареет, и цветы увядают, еще не появившись. Да, некогда я был здешним; сегодня, к каждому пейзажу, каким бы новым он для меня ни был, я возвращаюсь, словно посторонний, гость и паломник его представления, чуждый тому, что вижу и слышу, постаревший от самого себя.
Я уже все видел, даже то, чего никогда не видел и чего никогда не увижу. В моих жилах бежит даже самый ничтожный из будущих пейзажей, и тревога оттого, что мне придется видеть его снова, становится для меня предвосхищением однообразия.
И когда я склоняюсь над перилами балкона, наслаждаясь днем над меняющимися объемами всего города, лишь одна мысль наполняет мою душу — сокровенное желание умереть, покончить, не видеть больше свет ни над каким городом, не думать, не чувствовать, оставить позади, словно оберточную бумагу, ход солнца и течение дней, снять, словно тяжелый костюм у изголовья кровати, недобровольное усилие бытия.
398.
Я интуитивно считаю, что для таких созданий, как я, никакие материальные обстоятельства не могут быть благоприятными, ни одна жизненная ситуация не может иметь благоприятного исхода. Хотя я отчуждаюсь от жизни и по другим причинам, эта причина также способствовала моему отчуждению. Те совокупности обстоятельств, которые для заурядных людей делали бы успех неизбежным, приносят любой другой результат, неожиданный и неблагоприятный, когда дело касается меня.
Из этой констатации во мне порой рождается болезненное впечатление божественной враждебности. Мне кажется, что только вследствие сознательного тасования фактов таким образом, чтобы они стали пагубными для меня, со мной могла произойти та череда несчастий, которая определяет мою жизнь.
Из всего этого вытекает, что я никогда не прилагаю ни к чему усилий, чрезмерных по отношению к моим возможностям. Пусть судьба, если захочет, побудет со мной. Я слишком хорошо знаю, что самое большое усилие с моей стороны не позволит достичь того, чего достигли бы другие. Поэтому я предаю себя судьбе, не надеясь получить от нее многое. К чему?
Мой стоицизм представляет собой органическую потребность. Я стараюсь уберечь себя от жизни. Поскольку никакой стоицизм не обходится без строгого эпикурейства, я желаю, когда это возможно, сделать так, чтобы мои невзгоды меня развлекали. Я не знаю, насколько у меня это получается. Я не знаю, насколько у меня вообще получается что-либо. Не знаю, насколько что-либо может получиться…
Там, где другой победил бы не за счет усилий, а вследствие неизбежности обстоятельств, я не побеждаю и не смогу победить ни из-за этой неизбежности, ни из-за этих усилий.
Возможно, духовно я родился в короткий зимний день. В моем бытии рано наступила ночь. Только в отчаянии и душевном надломе я могу осознавать свою жизнь.
По сути, ничто из этого не является стоическим. Лишь в словах присутствует благородство моего страдания. Я жалуюсь, словно больная служанка. Я страдаю, как домохозяйка. Моя жизнь совершенно ничтожна и совершенно грустна.
399.
Как Диоген у Александра, я попросил у жизни, чтобы она просто не отбирала у меня солнце. У меня были желания, но мне было отказано в причине их иметь. То, что я нашел, скорее стоило бы найти по-настоящему. Сон ‹…›
На прогулке я сочиняю идеальные фразы, которые потом не могу вспомнить дома. Я не знаю, является ли невыразимая поэзия этих фраз частью того, чем они были, или частью того, чем они никогда не были…
Я колеблюсь во всем, часто не зная почему. Сколько раз я ищу, словно прямую линию, мне присущую, воспринимая ее в уме как идеальную прямую линию, кратчайшее расстояние между двумя точками. Я никогда не обладал искусством вести активную жизнь. Я всегда допускал ошибки в жестах, в которых никто не ошибается; другие родились, чтобы делать то, что я всегда пытался не переставать делать. Я всегда стремился достичь того, что другие получали почти не желая. Между мной и жизнью всегда были матовые стекла: я их не видел и не осязал; я не жил этой жизнью или в этой плоскости, я был блужданием того, чем хотел быть, моя мечта началась в моей воле, моя цель всегда была первым притворством того, чем я никогда не был.
Я никогда не знал, была ли избыточной моя чувствительность для моего ума или мой ум — для моей чувствительности. Я всегда задерживался, не знаю, в уме или в чувствительности, возможно и в том, и в другом, или в них самих задерживалось что-то третье.
Те, кто мечтает об идеалах — социалисты, альтруисты, гуманисты всех родов, — у меня вызывают физическую тошноту в желудке. Они идеалисты без идеала. Они мыслители без мыслей. Они хотят поверхности жизни вследствие неизбежности грязи, которая плавает на поверхности воды и считает себя красивой, потому что на поверхности воды тут и там плавают еще и ракушки.
400.
Держать в руках дорогую сигару и сидеть с закрытыми глазами: вот что значит быть богатым.
Как тот, кто посещает места, где провел юность, я, закуривая дешевую сигарету, полноценно возвращаюсь в те места моей жизни, в которых я имел обыкновение их курить. И благодаря легкому вкусу дыма все прошлое оживает во мне. В другие разы это будет какая-нибудь сладость. Обыкновенная шоколадная конфета разрушает порой мне нервы обилием воспоминаний, которые их сотрясают. Детство! И кусая ее зубами, которые впиваются в темную и мягкую массу, я наслаждаюсь моей скромной радостью веселого товарища оловянных солдатиков, всадника со случайной тростью, становящейся моим конем. Мои глаза наполняются слезами, и к вкусу шоколада примешивается мое минувшее счастье, мое прошедшее детство, и я сладострастно отдаю себя во власть нежности моей боли.
И простота этого вкусового ритуала не делает его менее торжественным.
Но именно сигаретный дым, подобно духу, восстанавливает мои минувшие мгновения. Он лишь едва касается осознания того, что у меня есть нёбо. Поэтому он насыщеннее и точнее переносит меня в те часы, когда я умер, делает далекие часы присутствующими, более расплывчатыми, когда они меня обволакивают, более возвышенными, когда я придаю им телесный облик. Сигарета с ментолом, дешевая сигара покрывают нежностью некоторые пережитые мною мгновения. С какой тонкой достоверностью вкуса-аромата я восстанавливаю мертвые декорации и вновь придаю им цвета прошлого, настолько пропитанного восемнадцатым веком из-за лукавого и усталого отдаления, настолько пропитанного средневековьем из-за своей непоправимой утраченности.
401.
Я создал для себя, радуясь бесчестью, великолепие боли и угасания. Я не превратил свою боль в поэму, я превратил ее в шествие. Из окна внутри меня я ошеломленно созерцаю кроваво-красные закаты, неясные сумерки беспричинных болей, под покровом которых вышагивают в процессиях моей потерянности опасности, тяготы, неудачи моей врожденной неспособности существовать. Ребенок, которого из меня ничто не вытравило, в пеленках и охваченный жаром, все еще наблюдает за цирком, который я себе дарю. Он смеется над паяцами, которых не существует за пределами цирка; смотрит на фокусников и акробатов глазами того, кто видит в них всю жизнь. И так, без радости, но довольный, в четырех стенах моей комнаты, невинно спит со своей жалкой, некрасивой и истасканной ролью вся нежданная тревога человеческой души, переливающаяся через край, все безутешное отчаяние покинутого Богом сердца.
Я шагаю не по улицам, а по своей боли. Выстроившиеся в ряд дома — это непонимающие, которые окружают меня в душе; ‹…› мои шаги звучат на прогулке, как нелепый звон по покойному, как пугающий звук в окончательной ночи, как квитанция или клетка.
Я отделяюсь от себя и вижу, что я — дно колодца.
Умер тот, кем я никогда не был. Забыл Бога тот, кем я должен был быть. Лишь пустая интерлюдия.
Если бы я был музыкантом, я бы написал свой похоронный марш, еще как написал бы!
402.
Суметь перевоплотиться в камень, в пылинку — мою душу терзает это желание.
Всякий раз я нахожу все меньше вкуса во всем, даже в том, чтобы не находить ни в чем вкуса.
403.
Я не нахожу себе смысла… Жизнь гнетет… Все переживания для меня чрезмерны… Мое сердце — привилегия Бога… В каких шествиях я участвовал, что усталость от неизвестно какой роскоши убаюкивает мою ностальгию?
И какие балдахины? Какие последовательности звезд? Какие ирисы? Какие флажки? Какие витражи?
Из-за какой тайны под сенью деревьев прошли лучшие фантазии, которые в этом мире так вспоминают о водах, кипарисах и самшитах и находят балдахины для своих шествий только в последствиях своего воздержания?
Калейдоскоп
Не говори… Тебя слишком много… Мне неприятно тебя видеть…
Когда ты станешь лишь моей ностальгией? До тех пор сколькими ты не станешь! А моя необходимость считать, что я могу тебя видеть, это лишь старый мост, по которому никто не проходит… Жизнь в этом и состоит. Другие бросили весла… Нет больше дисциплины в когортах… Утром, под звон копий, ушли рыцари… Твои замки остались, надеясь опустеть… Никакой ветер не покинул верхушки рядов деревьев… Бесполезные портики, спрятанная утварь, предвестия пророчеств — это принадлежит простертым сумеркам в храмах и не сейчас, когда мы встречаемся, потому что у лип нет иных причин отбрасывать тень, кроме запоздалого движения твоих пальцев…
Избыточная причина для далеких земель… Договоры, заключенные витражами королей… Ирисы на религиозных картинах… Кого ждет процессия?.. Где воспрял потерянный орел?
404.
Обернуть мир вокруг наших пальцев, словно нить или ленту, которой играет женщина, мечтающая у окна.
В конце концов, все сводится к стремлению почувствовать тоску так, чтобы она не причиняла боли.
Было бы интересно быть двумя королями одновременно: быть не одной душой их обоих, а обеими душами.
405.
Жизнь для большинства людей — это скука, минующая так, что они ее не замечают, нечто грустное, состоящее из радостных промежутков, что-то вроде мгновений, когда те, кто совершает бдение при покойных, рассказывают анекдоты, чтобы провести спокойно ночь и выполнить обязанность бдения. Я всегда находил, что считать жизнь долиной слез никчемно: да, это долина слез, но плачут в ней редко. Гейне сказал, что после великих трагедий мы всегда сморкаемся. Будучи евреем, а значит, универсальным человеком, он ясно увидел универсальную природу человечества.
Жизнь была бы невыносима, если бы мы ее осознавали. К счастью, мы этого не делаем. Мы живем так же бессознательно, как и животные, так же никчемно и бесполезно, и если мы и предвосхищаем смерть — а можно предположить, хотя это и не точно, что они ее не предвосхищают, — то посредством стольких забвений, стольких отвлечений и отклонений, что едва ли можем сказать, что мы думаем о ней.
Так мы живем, и этого мало, чтобы считать себя выше животных. Наше отличие от них заключается в чисто внешней детали, заключающейся в том, что мы говорим и пишем и обладаем абстрактным разумом, благодаря которому мы отвлекаемся от того, что у нас есть и конкретный разум, и представляем себе невозможные вещи. Все это, впрочем, лишь случайности нашего основного организма. Речь и письмо не придают ничего нового нашему исходному инстинкту, состоящему в том, чтобы жить не зная как. Наш абстрактный разум служит лишь для того, чтобы составлять системы или полусистемные мысли относительно того, чем является для животных пребывание под солнцем. Наше воображение невозможного доступно, пожалуй, не только нам, ведь я видел, как кошки смотрят на луну, и я не знаю, не хотели бы ли они ее заполучить.
Весь мир, вся жизнь — это пространная система бессознательностей, действующих посредством индивидуальных сознаний. Подобно тому, как из двух газов, сквозь которые проходит электрический ток, образуется жидкость, из двух сознаний — сознания нашего конкретного существа и сознания нашего абстрактного существа, — сквозь которые проходят жизнь и мир, образуется высшая бессознательность.
Поэтому счастлив тот, кто не думает, потому что он посредством инстинкта и органической судьбы осознает то, что все мы должны осознавать посредством заблуждения и неорганической или социальной судьбы. Счастлив тот, кто больше похож на дикарей, потому что он без усилий является таким, какими мы становимся вследствие навязанного труда; потому что он знает дорогу домой, которую мы находим только благодаря тропинкам вымысла и возвращения; потому что, укорененный, как дерево, он является частью пейзажа, а значит, и красоты, а не как мы, мифы перехода, статисты, облаченные в живой костюм бесполезности и забвения.
406.
Я полностью верю в счастье животных лишь тогда, когда мне хочется поговорить о нем как о форме некоего чувства, предположение о котором его высвечивает. Чтобы быть счастливым, нужно знать, что ты счастлив. Нет счастья в том, чтобы спать без снов, оно есть лишь в том, чтобы просыпаться, зная, что ты спал без снов. Счастье наружно по отношению к счастью.
Не бывает счастья без знания. Но знание о счастье несчастливо; потому что знать, что ты счастлив, значит знать, что ты проходишь через счастье и что затем тебе придется его оставить позади. Знать значит убивать — в счастье, как и во всем. Однако не знать значит не существовать.
Лишь абсолют Гегеля сумел — на бумаге — быть тем и другим одновременно. Небытие и бытие не сливаются и не смешиваются в ощущениях и причинах жизни: они исключают друг друга путем синтеза наоборот.
Что делать? Вычленять мгновение как предмет и быть счастливым сейчас, в то мгновение, когда чувствуешь счастье, думая лишь о том, что чувствуешь, исключая прочее, исключая все. Заточить мысль в клетку ощущения ‹…›
Вот мое кредо на этот вечер. Завтра утром его не будет, потому что завтра утром я буду другим. Во что я буду верить завтра? Не знаю, потому что нужно было бы уже быть там, чтобы узнать. Даже вечный Бог, в которого я сегодня верю, узнает об этом завтра, а не сегодня, потому что сегодня это я, а завтра, возможно, окажется, что он никогда не существовал.
407.
Бог создал меня ребенком и навсегда оставил ребенком. Но почему он позволил, чтобы Жизнь била меня и отнимала у меня игрушки, оставляла меня одного на переменах теребить такими слабыми руками голубой передник, грязный от бесконечных слез? Если я не мог жить без ласки, почему предназначенную мне ласку выставили за дверь? О, всякий раз, когда я вижу на улице плачущего ребенка, ребенка, отстраненного от остальных, больше, чем грусть ребенка, мне причиняет боль внезапный ужас моего истощенного сердца. Мне больно всей продолжительностью прочувствованной жизни, и это мои руки скручивают край передника, это мои рты искривляются от настоящих слез, это моя слабость, мое одиночество, и смех взрослой жизни, что проходит, использует меня, словно свет спичек, которыми чиркают о чувствительную ткань моего сердца.
408.
Он пел очень нежным голосом песню из далекой страны. Музыка делала знакомыми неизвестные слова. Она казалась фаду для души, но нисколько на фаду не походила.
Завуалированными словами и человеческой мелодией песня рассказывала о том, что есть в душе каждого и что никому неведомо. Он пел в своего рода дремоте, не замечая взглядом слушающих, охваченный маленьким уличным экстазом.
Собравшийся народ слушал его без заметных насмешек. Песнь принадлежала всем, и слова иногда говорили с нами, раскрывая восточный секрет некоей затерянной расы. Шум города не слышался, если мы к нему прислушивались, и телеги проезжали так близко, что одна из них задела полу моего пиджака. Но я ее почувствовал, не слыша. Мы были поглощены песнью незнакомца, которая благотворно влияла на то, что в нас мечтает или не добивается. Это было уличное происшествие, и все мы заметили, как медленно вынырнул из-за угла полицейский и так же медленно приблизился. На какое-то время он остановился за юношей, продававшим зонты, как человек, смотрящий на что-то. В это мгновение певец замолк. Никто ничего не сказал. Тогда полицейский вмешался.
409.
Я не знаю, почему — я замечаю это внезапно — я один в конторе. Неопределенно я это уже предчувствовал. В какой-то грани моего осознания себя присутствовала обширность облегчения, более глубокое дыхание различных легких.
Это — одно из самых любопытных ощущений, которое нам может быть даровано случайностью встреч и ошибок: ощущение пребывания в одиночестве в доме, который обычно полон людьми, шумен или чужд. Мы вдруг обретаем ощущение полного обладания, легкой и широкой власти, обширности, как я сказал, облегчения и покоя.
Как хорошо, когда тебе просторно! Когда можно вслух говорить с собой, прохаживаться, не чувствуя назойливых взглядов, отдыхать, погружаясь в свои мечты, когда никто тебя не зовет! Весь дом превращается в поле, всякий зал обретает ширину сада.
Все звуки посторонни, они словно принадлежат близкой, но обособленной вселенной. Мы наконец-то короли. К этому, в конце концов, стремимся все мы, причем самые плебеи из нас — кто знает — с большей энергией, чем прочие, из поддельного золота. На мгновение мы становимся пенсионерами вселенной и живем, пунктуально получая назначенные деньги, без потребностей и хлопот.
О, но вот по шагам на лестнице я узнаю, что кто-то поднимается ко мне, кто-то, кто прервет мое отвлеченное одиночество. Моя неявная империя будет захвачена варварами. Конечно, эти шаги не говорят мне, кто идет, и не напоминают мне походку того или иного знакомого мне человека. В душе есть более глухой инстинкт, который сообщает мне, что именно сюда идет тот, кто поднимается, пока что слышны только шаги на лестнице, которую я внезапно вижу, потому что думаю о том, кто по ней поднимается. Да, это один из служащих. Он останавливается, хлопает дверь, он заходит. Я вижу его целиком. И, входя, он говорит мне: «Вы один, г-н Соареш?» А я отвечаю: «Да, уже давно…» И тогда он говорит, снимая пиджак и глядя на другой, старый, что висит на вешалке: «Как неприятно оставаться тут одному, г-н Соареш, и чем дальше, тем неприятнее…» — «Несомненно, очень неприятно», — отвечаю я. «Даже сон наводит», — говорит он, уже облачившись в старый пиджак и направляясь к письменному столу. «Наводит», — соглашаюсь я с улыбкой. Затем, протягивая руку к забытому перу, я возвращаюсь, благодаря письму, к безымянной расположенности нормальной жизни.
410.
Они садятся перед зеркалом всякий раз, когда могут. Говорят с нами и заигрывают глазками сами с собой. Иногда, как это случается с заигрываниями, отвлекаются от разговора. Я всегда был им симпатичен, потому что мое взрослое отвращение к моей внешности всегда вынуждало меня выбирать зеркало как предмет, к которому я поворачиваюсь спиной. Так и они инстинктивно это признавали и всегда со мной хорошо обращались, я был юношей-слушателем, который всегда давал свободу их тщеславию и предоставлял им трибуну.
В целом, они не были плохими ребятами; по отдельности они были лучше и хуже. Им были присущи щедрость и нежность, которых не заподозрить в человеке, подсчитывающем среднее арифметическое, и низость и гнусность, которые трудно угадать в любом нормальном человеке. Убожество, зависть и иллюзии — так я их характеризую и так охарактеризовал бы ту часть этой среды, которая просачивается в творчество достойных людей, порой превращавших эту обитель прибоя в выжженную землю обманутых (а в произведениях Фиальу она становилась жгучей завистью, заурядным хамством, тошнотворной неэлегантностью…).
Одни остроумны, другие остроумны да и только, третьи вообще не существуют. Остроумие в кафе делится на подтрунивание над отсутствующими и наглые шутки в адрес присутствующих. Такого рода остроумие обычно называют просто хамством. Ничто так не свидетельствует об умственной нищете, как умение проявлять остроумие только в насмешках над людьми.
Я прошел, увидел и, в отличие от них, победил. Потому что моя победа заключалось в том, чтобы видеть. Я определил сущность всех низших групп: я пришел сюда, в дом, где снимаю комнату, чтобы найти ту же гнусную душу, которую раскрыли мне кафе, за исключением, слава всем богам, понятия триумфа в Париже. Хозяйка этого дома решается пойти в Авенидаж-Новаш[43] в те мгновения, когда ее охватывает иллюзия, но отправиться за границу она не осмеливается, и мое сердце приходит в умиление.
От прохождения по этой могиле воли у меня осталось воспоминание о тошнотворной тоске и о некоторых остроумных анекдотах.
Они идут на похороны, и кажется, будто уже по дороге на кладбище прошлое было забыто в кафе, потому что сейчас оно идет молча.
…и потомки никогда не узнают о них, навсегда спрятавшихся под черной громадой знамен, завоеванных словесными победами.
411.
Гордость — это эмоциональная уверенность в собственном величии. Тщеславие — это эмоциональная уверенность в том, что другие видят в нас это величие или приписывают его нам. Оба чувства вовсе не обязательно сочетаются и не противостоят друг другу естественным образом. Они различны, но сочетаемы.
Гордость, когда присутствует только она, не будучи усилена тщеславием, проявляется, в конечном счете, в виде робости: тот, кто чувствует себя великим, не верит, тем не менее, в то, что другие считают его таковым, боится сравнить собственное мнение о себе с мнением о нем других.
Тщеславие, когда присутствует только оно, не будучи усилено гордостью, что возможно, хотя и редко встречается, проявляется, в конечном счете, в дерзости. Человек, уверенный в том, что другие видят в нем смелость, нисколько их не опасается. Возможна физическая отвага без тщеславия; возможна нравственная отвага без тщеславия; невозможна дерзость без тщеславия. А под дерзостью подразумевается вера в инициативу. Дерзость может не сопровождаться отвагой, физической или нравственной, поскольку характеристики этого рода относятся к иному порядку и с ней не совместимы.
412.
Болезненный интервал
Даже в гордости я не нахожу утешения. Чем мне гордиться, если я не являюсь создателем себя самого. И хотя мне есть чем чваниться, есть и много такого, чем чваниться не стоит.
Я покоюсь в своей жизни. И даже во сне мне не удается совершить движение, чтобы поднять себя, настолько я даже в душе лишен умения совершать усилия.
Составители метафизических систем и ‹…› психологических объяснений еще неопытны в страданиях. Систематизировать, объяснять — что это, если не ‹…› выстраивать? И все это — находить, располагать, упорядочивать — что это, если не осуществленный труд и доказательство того, что жизнь горестна!
Пессимист — нет, я не таков. Блаженны те, кому удается придать универсальность своему страданию. Я не знаю, грустен ли мир, или плох, и для меня это неважно, потому что то, от чего страдают другие, мне скучно и безразлично. Если они не плачут и не стонут, что меня раздражает и причиняет неудобство, я даже плечами не пожму, видя их страдания — настолько надо мной довлеет мое презрение к ним.
Но я даже не из числа тех, кто верит, что жизнь — наполовину свет, наполовину тень. Я не пессимист. Я не жалуюсь на ужас жизни. Я жалуюсь на ужас моей жизни. Единственный важный для меня факт — то, что я существую и страдаю и даже не могу представить себя полностью вне моего ощущения страдания.
Пессимисты — счастливые мечтатели. Они формируют мир по своему образу, и благодаря этому им удается всегда находиться дома. Больше всего мне причиняет боль разница между шумом и радостью мира — и моей грустью и моим скучным молчанием.
Жизнь со всеми ее болями и страхами и сутолокой должна быть красивой и радостной, как путешествие в старом дилижансе для того, у кого есть компания (и кто может ее видеть).
Я не могу воспринимать свое страдание даже как признак Величия. Я не знаю, что это. Но я страдаю от таких ничтожных вещей, меня ранят такие заурядные вещи, что я не осмеливаюсь этой гипотезой оскорбить гипотезу о том, что у меня, возможно, есть талант.
Великолепие прекрасного заката со всей его красотой удручает меня. Созерцая его, я всегда говорю: каким довольным должен себя чувствовать тот, кто счастлив, видя это!
Да и эта книга — стон. Теперь, когда она написана, «Один» уже не является самой грустной книгой в Португалии[44].
В сравнении с моей болью все прочие боли кажутся мне поддельными или ничтожными. Это боли счастливых людей или людей, которые живут и жалуются. Мои же боли — это боли человека, чувствующего себя заточенным в жизни, частью которой он является…
Между мной и жизнью…
Поэтому я вижу все то, что тревожит. А всего того, что радует, я не чувствую. И я заметил, что недуг скорее виден, чем чувствуется, а радость скорее чувствуется, чем видна. Потому что, когда не думаешь, не видишь, обретаешь некоторую удовлетворенность вроде той, что есть у мистиков, богемы и негодяев. Но все, в конце концов, проникает в дом через окно наблюдения и через дверь мышления.
413.
Если живешь мечтами и ради них, разбирая и вновь собирая Вселенную, (отвлеченно) сильнее привязываешься к мгновениям мечтаний. Делать это сознательно, очень сознательно, от бесполезности и ‹…› оттого, что делаешь это. Игнорировать жизнь всем телом, терять себя в реальности со всеми чувствами, отрекаться от любви всей душой. Наполнять бесполезным песком ведра, с которыми мы идем к источнику, и опорожнять их, чтобы снова наполнить и опорожнить, к вящей бесполезности.
Плести гирлянды, чтобы, едва доделав их, полностью и тщательно их расплести.
Взять краски и смешать их на палитре, не имея холста, на котором мы могли бы писать. Заказать камень для гравировки, не имея резца и не будучи скульптором. Обращать все в абсурд и делать бессмысленными все наши бесплодные часы… Играть в прятки с нашим осознанием жизни.
Слышать с зачарованной и недоверчивой улыбкой, как часы говорят нам, что мы существуем. Видеть, как Время рисует мир, и считать, что картина не только ложна, но и никчемна.
Думать о противоречащих друг другу фразах, произнося вслух звуки, не являющиеся звуками, и цвета, не являющиеся цветами. Говорить и понимать — что, впрочем, невозможно, — что у нас есть сознание отсутствия у нас сознания и что мы — не то, что мы есть. Объяснять это все потаенным и парадоксальным смыслом, говоря, что в облике вещей есть иная, божественная сторона, и не слишком доверять объяснению, чтобы нам не приходилось от него отказываться.
Ваять в несуществующей тишине все наши мечты о разговорах. Погружать в онемение все наши мысли о действиях.
И надо всем этим, словно единое синее небо, отстраненно витает ужас к жизни.
414.
Но воображаемые пейзажи — лишь дым знакомых пейзажей, и тоска, с которой мы их воображаем, почти так же велика, как тоска, испытываемая при созерцании мира.
415.
Воображаемые персонажи ярче и правдивее настоящих.
Мой воображаемый мир для меня всегда был единственным подлинным миром. У меня никогда не было такой настоящей любви, полной жизни, крови и энергии, как та, что я испытывал к персонажам, созданным мною самим. Какое безумие! Я тоскую по ним, потому что они, как и прочие, проходят…
416.
Иногда, в моих диалогах с собой изысканными вечерами Воображения, в усталых сумеречных разговорах в предполагаемых салонах я спрашиваю себя во время тех пауз в разговорах, когда я остаюсь наедине с собеседником, скорее являющимся мною, чем другими, по какой именно причине наша научная эпоха не распространила свое стремление к пониманию на искусственные предметы.
А один из вопросов, на котором я задерживаюсь с большей истомой, заключается в том, почему, по образцу обыкновенной психологии человеческих и подчеловеческих существ, не изучается также психология — а она должна существовать — искусственных фигур и созданий, чье существование протекает лишь на коврах и картинах. Печально представление о реальности у того, кто ограничивает ее органической стороной и не вкладывает мысль о душе в статуэтки и ткани. Где есть форма, есть и душа.
Эти мои размышления наедине с собой — не праздное времяпрепровождение, а научные измышления, как и любые другие. Поэтому прежде, чем получить ответ, и не получая его, я считаю возможное актуальным и предаюсь в моих внутренних рассуждениях воображаемому созерцанию возможных аспектов этого осуществленного desideratum[45]. Едва я задумываюсь над этим, как внутри моего духовного образа возникают ученые, склонившиеся над гравюрами и знающие, что эти гравюры представляют собой жизни; исследователи тканей с микроскопами вырастают из ковров; физики — из широких и колеблющихся очертаний рисунка; химики — да, из представления о формах и цветах в картинах; геологи — из стратиграфических слоев камей; психологи, наконец — и это самое важное, — отмечающие и обобщающие одно за одним те ощущения, которые должна испытывать статуэтка, мысли, которые должны проходить через узкую психику персонажа картины или витража, безумные порывы, неудержимые страсти, случайные сопереживания и ненависть и ‹…› которые они испытывают в этих особых застывших мирах смерти, в вечных жестах барельефов, в мертвых мирах персонажей тканей.
Литература и музыка больше прочих искусств открыты для изощренности психолога. Персонажи романов, как всем известно, столь же реальны, как и каждый из нас. Некоторым аспектам звуков присуща окрыленная и быстрая душа, но восприимчивая к психологии и социологии. Ведь — невеждам хорошо бы это знать — общества существуют в цветах, звуках, фразах, и есть режимы и революции, царства, политики и ‹…› — они существуют абсолютно, без метафизики — в инструментальной совокупности симфоний, в организованной целостности романов, в квадратных метрах сложной картины, где наслаждаются, страдают и смешиваются колоритные позы воинов, влюбленных или символических персонажей.
Когда разбивается чашка из моей японской коллекции, я представляю, что причиной этого была не неловкость рук служанки, а скорее беспокойство персонажей, обитавших на изгибах этой фаянсовой ‹…›; мрачная решимость совершить самоубийство, охватившая их, не пугает меня: они воспользовались служанкой, как один из нас воспользовался бы револьвером. Знать это значит находиться за рамками современной науки, и я это знаю совершенно точно!
417.
Я не знаю другого такого удовольствия, как чтение книг, хотя читаю я мало. Книги — это представления мечтам, а в представлениях не нуждается тот, кто, с легкостью жизни, вступает в беседу с ними. Я никогда не мог читать книгу, полностью погружаясь в нее; всегда, на каждом шагу, комментарий разума или воображения мешал последовательности повествования. Спустя несколько минут пишущим становился я, а то, что было написано, не находилось нигде.
Мое излюбленное чтение — это повторение заурядных книг, которые спят со мной рядом, у моего изголовья. Две из них не покидают меня никогда — «Риторика» отца Фигейреду[46] и «Размышления о португальском языке» отца Фрейре[47]. Эти книги я всегда внимательно перечитываю; и, если верно, что я их уже прочитал много раз, верно и то, что ни одну из них я не читал последовательно. Этим книгам я обязан дисциплиной, которую считаю для себя почти невозможной — правило писать объективно, закон разума, предписывающий, как должно писать.
Вычурный, затворнический, смиренный стиль отца Фигейреду — это дисциплина, ласкающая мое понимание. Длинноты, почти всегда лишенные дисциплины, отца Фрейре забавляют мой дух, не утомляя его, и воспитывают меня, не доставляя мне забот. Дух этих умиротворенных эрудитов благотворно влияет на мое отсутствующее стремление быть таким, как они или как любой другой человек.
Я читаю и отдаюсь во власть — не чтения, а себя. Читаю, и засыпаю, и словно во сне слежу за описанием риторических фигур отца Фигейреду, и в чудесных лесах я слышу, как отец Фрейре учит произносить «Магдалена», потому что «Мадалена» говорит только чернь.
418.
Ненавижу читать. Я заранее испытываю отвращение к незнакомым страницам. Я способен читать лишь то, что уже знаю. У моего изголовья всегда лежит «Риторика» отца Фигейреду, в которой я каждую ночь в тысячный раз читаю описание, выполненное в монастырском и точном португальском стиле, риторические фигуры, чьи названия я так и не запомнил, хотя слышал их тысячи раз. Но язык убаюкивает меня ‹…› и, если бы у меня не было иезуитских слов, начинающихся с «К», я бы спал неспокойно.
При этом я обязан книге отца Фигейреду, с ее избыточным пуризмом, той относительной щепетильностью — это все, что у меня может быть, — с которой я пишу на языке, обладающим таким свойством, которое ‹…›
И я читаю:
(фрагмент из отца Фигейреду)
— вычурный, пустой и холодный,
и это утешает меня в жизни.
Или же
(фрагмент о фигурах)
Который возвращает к предисловию.
Я не преувеличиваю ни на один словесный дюйм: я чувствую все это.
Как другие могут читать отрывки из Библии, я читаю отрывки из «Риторики». У меня есть преимущество спокойствия и отсутствия набожности.
419.
Никчемные вещи, присущие жизни, незначительные проявления обыденности и низменности, пыль, подчеркивающая стертой и гротескной чертой гнусность и низость моей человеческой жизни — Кассовая книга, открытая перед глазами, жизнь которых мечтает обо всех востоках; безобидная шутка начальника конторы, которая оскорбляет всю вселенную; напоминание шефу, чтобы он позвонил, что это его подруга, госпожа такая-то ‹…› посреди размышления о самом несексуальном периоде эстетической и ментальной теории.
Потом друзья, хорошие ребята, да, хорошие ребята, с ними так приятно говорить, обедать с ними, ужинать с ними, и все, не знаю почему, такое мерзкое, такое гнусное, такое мелкое, вечно на складе тканей, а не на улице, вечно перед бухгалтерской книгой, а не за рубежом, вечно с шефом, а не в бесконечности.
У всех есть начальник конторы, который шутит всегда не к месту и душа которого в ее совокупности — вне вселенной. У всех есть шеф и подруга шефа, и звонок по телефону всегда раздается в неподходящий момент, когда опускается восхитительный вечер и любовницы выдумывают отговорки… Или, скорее, отваживаются поговорить о друге, который пьет шикарный чай, как все мы знаем.
Но у всех тех, кто мечтает, пусть даже они мечтают не в конторах в Байше и не перед вывеской склада тканей — у всех перед глазами лежит Кассовая книга, идет ли речь о женщине, на которой женился, об управлении будущим, которое достанется им по наследству, или о чем бы то ни было, при условии, что оно положительно.
Все мы, мечтающие и думающие, являемся помощниками бухгалтера на Складе тканей или любого другого товара в какой бы то ни было Байше. Мы записываем и теряем; складываем и проходим; закрываем отчет, и невидимый баланс всегда не в нашу пользу.
Я пишу эти слова с улыбкой, но мое сердце готово разбиться, разбиться, как ломаются вещи, на куски, вдребезги, распасться на мусор, на осколки, которые относят в мусорном ведре, перекинутом через плечо, к вечному грузовику всех городских управ.
И все ждет, открытое и разукрашенное, Короля, который придет и уже прибывает, потому что пыль кортежа — это новый туман на медленном востоке, и копья уже блестят вдали в своем собственном утре.
420.
Похоронный марш
Священные фигуры неведомых иерархий, если они выстраиваются в ряд в коридорах в ожидании тебя — белокуро-нежные пажи, юноши ‹…› в рассеянном сверкании обнаженных пластин, в неровных отблесках шлемов и высоких уборов, в сумрачных отсветах темного золота и шелков.
Все, что удручает воображение, что отдает похоронами в торжествах и утомляет в победах, мистицизм небытия, аскеза полного отрицания.
Не семь пядей холодной земли, которые смыкаются над закрытыми глазами под горячим солнцем и рядом с зеленой травой, а смерть, которая одолевает нашу жизнь и сама является жизнью — мертвое присутствие в каком-то боге, в неведомом боге религии моих Богов…
Ганг протекает и по улице Золотильщиков. В этой узкой комнате присутствуют все эпохи — смешение, ‹…› многоцветная последовательность обычаев, удаленность народов и богатое разнообразие наций.
И там, в экстазе, на одинокой улице я умею ждать Смерть среди мечей и бойниц.
421.
Путешествие в голове
С моего пятого этажа, в правдоподобной сокровенности наступающего вечера, от окна до загорающихся звезд, мои мечты отправляются в гармонии с очевидным расстоянием путешествовать по неведомым, или воображаемым, или просто недосягаемым странам.
422.
Со стороны востока поднимается белый свет золотистой луны. Полоса, которую он прочерчивает на широкой реке, пускает змей по морю.
423.
Это пространный сатин, изумленный пурпур и империи следовали своей судьбе навстречу смерти среди вывешенных на широких улицах экзотических знамен и сладострастия балдахинов на остановках. Паллии прошли. Процессии следовали по мрачным или чистым улицам. Холодно искрилось поднятое оружие в болезненной медлительности бесполезных маршей. Забыты сады в пригородах и вода в трубах — это лишь простое продолжение брошенного, тогда как среди воспоминаний о свете раздается далекий смех — это не статуи говорят в аллеях и не теряются, среди череды различных оттенков желтого, пока оттенки осени окаймляют гробницы. Алебарды-перекрестки для помпезных эпох, черно-зеленый, кроваво-красный и гранатовый оттенок одежд; пустые площади среди презрения; и никогда больше среди клумб, где сейчас проходят, не пройдут тени, которые покинули очертания акведуков.
И барабаны, барабаны сотрясли дрожащий час.
424.
Каждый день в мире происходит что-то, чего не объяснить известными нам законами. Каждый день о них говорят и забывают, и та же тайна, что их принесла, уносит их, а загадка превращается в забвение. Таков закон того, что должно быть забыто, потому что не может быть объяснено. Под светом солнца продолжает размеренно существовать видимый мир. Чужое подглядывает за нами из тени.
425.
Даже мечта наказывает меня. Я обрел в ней такую ясность ума, что вижу как нечто реальное все то, что вижу в грезах. Следовательно, было ошибкой все то, что оценивало это как нечто пригрезившееся.
Представляю ли я себя знаменитым? Я чувствую всю наготу славы, всю ту потерю сокровенности и безличности, из-за которой она становится для нас болезненной.
426.
Считать нашу самую сильную печаль незначительным случаем не только в жизни вселенной, но и в жизни самой нашей души — это принцип мудрости. Считать так, будучи погруженным в эту печаль, — полноценная мудрость. В то мгновение, когда мы страдаем, нам кажется, что человеческая боль бесконечна. Но и человеческая боль не бесконечна, поскольку все человеческое не бесконечно, и наша боль не представляет собой ничего больше, чем боль, которая у нас есть.
Сколько раз, под гнетом тоски, кажущейся безумием, или скорби, которая словно выходит за свои пределы, я останавливаюсь в нерешительности перед тем, как взбунтоваться, и колеблюсь, останавливаясь, прежде чем обожествить себя. Боль от незнания того, в чем заключается тайна мира, боль оттого, что нас не любят, боль оттого, что к нам несправедливы, боль оттого, что жизнь тяготит нас, удушая и связывая, зубная боль, боль от жмущих ботинок — кто может сказать, какая из них сильнее — сама по себе, или по сравнению с другими, или же, в целом, из тех, что существуют?
Некоторые из тех, что говорят со мной и слышат меня, считают меня бесчувственным. Однако мне кажется, что я чувствительнее большинства людей. Тем не менее, я чувствительный человек, который знает себя, а значит, знает чувствительность.
О, это неправда, что жизнь причиняет боль или что причиняют боль мысли о жизни. Правда в том, что наша боль тяжела и серьезна лишь тогда, когда мы притворяемся, что это так. Если мы будем естественны, она уйдет так же, как пришла, улетучится так же, как возросла. Все есть ничто, в том числе и наша боль в этом ничем.
Я пишу это под гнетом тоски, которая словно не помещается во мне или нуждается в чем-то большем, чем моя душа, чтобы расположиться; под гнетом всех и вся, который меня душит и сводит с ума; под гнетом физического чувства чужого непонимания, которое меня смущает и раздавливает. Но я поднимаю голову к чужому голубому небу, подставляю лицо под бессознательно свежий ветер, опускаю веки, увидев, забываю лицо, почувствовав. Я не становлюсь лучше, но становлюсь иным. Созерцание себя освобождает меня от меня. Я почти улыбаюсь — не потому, что понимаю себя, а потому что, став другим, я лишился возможности понимать себя. В вышине неба, словно видимое ничто, плывет очень маленькое облако, словно белоснежное забвение всей вселенной.
427.
Мои мечты: когда я создаю друзей в мечтах, я остаюсь с ними. Их иное несовершенство.
Быть чистым не для того, чтобы быть благородным или сильным, а чтобы быть самим собой. Кто дарит любовь, любовь теряет.
Отречься от жизни, чтобы не отречься от самого себя.
Женщина — прекрасный источник грез. Никогда не прикасайся к ней.
Учись разделять мысли о сладострастии и об удовольствии. Учись наслаждаться во всем не тем, чем это является, а мыслями и мечтами, этим порождаемыми. (Потому что ничто не является тем, чем является, а мечты всегда остаются мечтами.) Для этого ты не должен ни к чему прикасаться. Если коснешься, твоя мечта умрет, предмет, которого ты коснулся, займет твои ощущения.
Видеть и слышать — единственные благородные вещи, которые есть в жизни. Прочие чувства — плотские и плебейские. Единственная аристократия — никогда не прикасаться. Не приближаться — вот благородство.
Бог милостив, но и дьявол не зол.
Несмотря ни на что, романтическое равновесие совершеннее французского XVII века.
428.
Эстетика безразличия
В любой ситуации мечтатель должен стремиться испытывать отчетливое равнодушие, которое она у него вызывает.
Уметь, благодаря мгновенному инстинкту, выделить в любом предмете или событии то, о чем можно мечтать, оставляя мертвым во Внешнем мире все реальное, что в нем есть, — вот что должен пытаться осуществить мудрец в себе самом.
Никогда не испытывать искренне собственные чувства, вознести свой бледный триумф настолько, чтобы равнодушно смотреть на собственные устремления, тревоги и желания; переступить через свои радости и скорби, как тот, кто переступает через вещи, ему не интересные.
Самое могучее самообладание — это равнодушие к себе самому, восприятие себя, своей души и тела, как дома и сада, в котором мы, по воле Судьбы, проводим свою жизнь.
Относиться к своим мечтам и сокровенным желаниям свысока, en grand seigneur[48], тщательно стараясь их не замечать. Стыдиться самого себя; понимать, что в нашем присутствии есть не только мы, что мы — свидетели самих себя и что поэтому важно действовать перед нами самими, как перед посторонним человеком, придерживаясь выверенного и спокойного внешнего поведения, равнодушного вследствие своего благородства и холодного вследствие своего равнодушия.
Чтобы не опуститься в собственных глазах, нам достаточно привыкнуть не иметь устремлений и страстей, желаний и надежд, порывов и беспокойства. Чтобы добиться этого, мы должны всегда помнить, что мы всегда находимся в собственном присутствии и никогда не бываем одни, чтобы чувствовать себя привольно. Так мы обуздаем страсти и устремления, потому что страсти и устремления оставляют нас беззащитными; у нас не будет ни желаний, ни надежд, потому что желания и надежды — низменные и неизящные жесты; у нас не будет порывов и беспокойства, потому что порыв в глазах других становится нетактичностью, а нетерпение — это всегда хамство.
Аристократ тот, кто никогда не забывает, что он никогда не бывает один; поэтому обычаи и протоколы являются атрибутом аристократий. Сделаем аристократа частью себя. Вырвем его из салонов и садов, заключим его в нашу душу и в наше сознание существования. Будем придерживаться перед самими собой протоколов и обычаев, делая заученные жесты, предназначенные для других.
Каждый из нас — это целое общество, целое предместье Тайны, поэтому жизнь этого предместья нам следует хотя бы сделать элегантной и иной, наполнить праздники наших ощущений изысканностью и сдержанностью, привнести строгую вежливость в пиршества наших мыслей. Вокруг нас другие души смогут возвести свои бедные и грязные предместья; обозначим ясно, где заканчивается и начинается наше, и сделаем так, чтобы от фасадов наших домов до альковов нашей робости все было благородным и безмятежным, изваянным из чуть показной строгости.
Уметь найти для каждого ощущения безмятежный способ его осуществить. Свести занятие любовью лишь к тени мечты о любви, к бледному и трепещущему промежутку между гребнями двух маленьких волн, освещенных лунным светом. Превратить желание в нечто бесполезное и безобидное, в своего рода тонкую улыбку души, оставшейся наедине с собой; превратить ее в нечто, что никогда не вознамерится осуществиться или проявиться. Убаюкать ненависть, как плененную змею, и сказать страху, чтобы из своих жестов он оставил лишь агонию во взгляде, а во взгляде нашей души — единственное поведение, приличествующее эстетике.
429.
Во всех местах жизни, во всех ситуациях и в любом сосуществовании с людьми я всегда для всех был чужаком. По крайней мере, я всегда был посторонним. Как родственники, так и знакомые всегда воспринимали меня как кого-то извне. Я не говорю, что я хотя бы один раз намеренно вел себя так. Но я был всегда посторонним вследствие усредненного произвольного отношения чужих характеров ко мне.
Ко мне все, всегда и везде относились с симпатией. Наверное, очень мало на кого так редко повышали голос, или кому хмурились, или с кем говорили на повышенных тонах или сквозь зубы. Но симпатия, с которой ко мне всегда относились, была всегда лишена теплоты. Для самых близких людей я всегда был гостем, с которым, поскольку он гость, хорошо обращаются, но всегда с таким вниманием, какое уделяется постороннему, и с отсутствием теплоты, которого заслуживает чужак.
Я не сомневаюсь, что такое отношение других вытекает прежде всего из некоей темной причины, связанной с моим собственным характером. По-видимому, мне свойственна такая холодность в общении, которая невольно заставляет всех других подражать моему поведению застенчивого человека.
В силу своего характера я легко завязываю знакомства. Симпатия других по отношению ко мне тоже не заставляет себя ждать. Но привязанности никогда не возникает. Преданности я никогда не знал. Любовь ко мне всегда казалась мне настолько же невозможной, как если бы посторонний человек стал обращаться ко мне на ты.
Не знаю, страдаю ли я от этого, принимаю ли как безразличную судьбу, которую не стоит ни принимать, ни страдать от нее.
Я всегда хотел нравиться другим. Меня всегда тяготило безразличие ко мне. Я — сирота Фортуны, и у меня, как и у всех сирот, есть потребность в том, чтобы быть предметом чьей-либо привязанности. Я всегда жаждал удовлетворить эту потребность. Я так приспособился к этой жажде, что иногда даже не чувствую потребность в питье.
С этим или без этого жизнь причиняет мне боль.
У других есть те, кто им себя посвящает. У меня никогда не было даже того, кто намеревался бы посвятить себя мне. Служат другим: ко мне хорошо относятся.
Я признаю, что у меня есть способность вызывать уважение, но не привязанность. К несчастью, я не сделал ничего, чтобы тот, кто его испытывает, мог оправдать в своих глазах это первоначальное уважение; как следствие, меня никогда не уважают по-настоящему.
Иногда мне кажется, что я наслаждаюсь страданиями. Но на самом деле я бы предпочел нечто другое.
У меня нет качеств ни Начальника, ни последователя. У меня нет даже качеств удовлетворенного человека, которые имеют ценность тогда, когда отсутствуют прочие.
Другие, не столь умные, как я, сильнее меня.
Они лучше прорубают свою жизнь среди людей; более умело распоряжаются своим умом. У меня есть все качества для того, чтобы оказывать влияние, за исключением мастерства, чтобы это делать, или стремления этого возжелать.
Если бы однажды я полюбил, я бы не был любим.
Достаточно мне захотеть чего-нибудь, как оно умирает. Однако у моей судьбы нет силы быть смертной ради чего-либо. У нее есть слабость быть смертной в том, что предназначено мне.
430.
Увидев, с какой здравостью и логической последовательностью некоторые сумасшедшие оправдывают себя и других, свои бредовые идеи, я навсегда потерял твердую уверенность в здравости моей здравости.
431.
Одна из великих трагедий моей жизни — впрочем, из тех трагедий, что разворачиваются в тени и украдкой, — заключается в том, что я не могу чувствовать что-либо естественно. Я способен любить и ненавидеть, как и все, робеть и воодушевляться, как и все; но ни моя любовь, ни моя ненависть, ни моя робость, ни мое воодушевление не являются именно тем, чем являются. Либо им чего-то не хватает, либо у них есть что-то лишнее. Очевидно то, что они являются чем угодно другим, и то, что я чувствую, явно не ладит с жизнью.
В тех душах, которые называют расчетливыми — и это слово очень хорошо их определяет, — чувства подвергаются ограничению расчета, эгоистических сомнений и кажутся другими. В тех душах, которые называют щепетильными, отмечается то же смещение естественных инстинктов. Во мне отмечается такое же расстройство точности чувства, но я при этом не расчетлив и не щепетилен. У меня нет извинения, чтобы чувствовать себя плохо. Я инстинктивно искажаю инстинкты. Не желая того, я желаю ошибочно.
432.
Раб характера, равно как и обстоятельств, оскорбленный безразличием людей, равно как и их привязанностью к тому, кем, как они полагают, я являюсь — ‹…› человеческими оскорблениями Судьбы.
433.
Я прошел среди них посторонним, но никто не увидел, что я был посторонним. Я жил среди них шпионом, но никто, даже я, не заподозрил, что я им был. Все держали меня за родственника: никто не знал, что меня подменили при рождении. Поэтому я был таким же, как другие, не будучи подобным, братом всех, не принадлежа семье.
Я был родом из чудесных краев, где пейзажи лучше жизни, но об этих краях я никогда не говорил ни с кем, за исключением себя, а о пейзажах, которые я видел в мечтах, я им никогда не рассказывал. Я шагал так же, как они, по паркету и каменным плитам, но мое сердце было далеко, хотя и билось близко, ложный хозяин изгнанного и чужого тела.
Никто не узнал меня под маской равенства, никто так и не понял, что это была маска, потому что никто не знал, что в этом мире есть те, кто носит маски. Никто не предположил, что рядом со мной всегда был другой, которым, в конечном счете, был я. Меня всегда считали тождественным мне.
Они приютили меня в своих домах, их руки пожимали мои, они видели, как я прохожу по улице, как если бы я находился там; но тот, кем я являюсь, никогда не был в этих залах, у того, в ком я живу, нет рук, которые другие могли бы пожать, у того, кого я знаю в себе, нет улиц, по которым он мог бы пройти, если только это не все улицы, и даже там я его не вижу, если только он сам не является всеми остальными.
Мы все живем обособленно и безымянно; наряженные, мы страдаем оттого, что нас не узнают. Однако одним это расстояние между существом и ними самими никогда не открывается; для других время от времени оно оказывается освещено, от ужаса или от томления, безграничной молнией; для третьих же это — болезненная и постоянная обыденность жизни.
Знать как следует, кем мы являемся, нам не дано, потому что то, что мы думаем или чувствуем, всегда представляет собой перевод, потому что того, чего мы хотим, не хотели ни мы, ни, возможно, никто другой: знать это все ежеминутно, ощущать в каждом чувстве — не означает ли это быть посторонним в собственной душе, быть изгнанником в собственных ощущениях?
Но маска, на которую я неподвижно смотрел, пока она говорила на углу с человеком без маски в последнюю ночь Карнавала, наконец протянула руку и распрощалась, смеясь. Естественный человек повернул налево и пошел по переулку, на углу которого сначала стоял. Маска — домино, лишенное обаяния, — двинулась прямо и затерялась среди теней и случайных просветов, окончательно и отстраненно прощаясь с тем, о чем я думал. Только тогда я заметил, что, помимо зажженных фонарей, на улице было что-то еще, что затемняло места, где фонарей не было, неясное, скрытое, немое место, полное небытия, как жизнь…
434.
Лунный свет
…как грязная тускло-коричневая жидкость
…в отчетливом соскальзывании наложенных друг на друга крыш, серо-белый, как грязная тускло-коричневая жидкость.
435.
…и распадается на сгустки тени, окаймленные белым с одной стороны, с синеватыми различиями холодного перламутра.
436.
(дождь)
И наконец над темнотой блестящих крыш холодный свет тепловатого утра брезжит, словно казнь Апокалипсиса. И вновь усиливается безмерная ночь ясности. И вновь извечный ужас — день, жизнь, ложная польза, безнадежная деятельность. И вновь моя физическая, видимая, социальная личность, которую передают ничего не говорящие слова и используют жесты других и чужое сознание. Я снова такой, каким я не являюсь. С первыми лучами мрачного света, наполняющего серыми сомнениями щели в окнах — Боже мой, нисколько не герметичных! — я чувствую, что больше не смогу оставаться в моем убежище, лежа в кровати, бодрствуя, хотя я могу еще спать, продолжая мечтать и не зная, существуют ли истина и реальность, между свежим теплом чистого белья и незнанием о существовании моего тела, за исключением лишь ощущения комфорта. Я чувствую, как ускользает от меня счастливая несознательность, посредством которой я наслаждаюсь моим сознанием, животная сонливость, посредством которой я слежу, сквозь веки лежащего на солнце кота, за движениями логики моего раскрепощенного воображения. Я чувствую, как испаряются преимущества полумрака, и медленные реки под деревьями едва видных ресниц, и шепот водопадов, затерянных среди звука медленной крови в ушах и затянувшегося вялого дождя. Я теряю даже себя живого.
Не знаю, сплю ли я, или только чувствую, что сплю. Я не воображаю определенный промежуток, но замечаю, как если бы я начинал пробуждаться от неувиденного сна, первые шумы городской жизни, которые поднимаются, словно паводок в неопределенном месте, там, внизу, где находятся сотворенные Богом улицы. Это веселые звуки, просачивающиеся сквозь грусть дождя, который льет или, возможно, уже прошел — сейчас я его не слышу; это лишь избыточная серость света, стелящегося дальше того места, где он падает на меня, в тенях рыхлой ясности, недостаточной для этого рассветного часа, которого я точно не знаю… Это веселые и разрозненные звуки, которые причиняют мне боль в сердце, как если бы они меня позвали с собой на экзамен или на казнь. Каждый день, если с кровати, где я его не чувствую, я слышу, как он брезжит, мне кажется, что настает день великого для меня события, которого у меня не хватит смелости встретить. Каждый день, если я чувствую, как он поднимается с ложа теней, роняя простыни по улицам и переулкам, он зовет меня на суд. Меня будут судить каждый сегодняшний день. И вечный приговоренный во мне хватается за кровать, словно за мать, которую он потерял, и ласкает подушку, как если бы кормилица защищала его от людей.
Счастливый полуденный сон большого животного под сенью деревьев, свежая усталость оборванца среди высокой травы, оцепенение негра далеким и теплым вечером, наслаждение от зевка, довлеющего над ослабевшими глазами, все то, что ласкает забвение, наводит сон, приносит спокойствие отдохновения в голове, притворив одну к другой створки окна в душе, дарит безымянную ласку сна.
Спать, быть далеко, не зная этого, быть на расстоянии, забыть своим собственным телом; обладать свободой бессознательности, убежищем забытого озера, застывшего среди ветвистых деревьев, затерянного в глубине лесов.
Едва заметное извне дыхание, легкая смерть, от которой просыпаешься с грустью и свежестью, расползание тканей души от массажа забвения.
Ах, и вновь, как возобновившийся протест неубежденного, я слышу, как резкий вопль дождя хлещет по прояснившейся вселенной. Я чувствую, как холод пробирает до воображаемых костей, как если бы я боялся. И, съежившись, ничтожный и человечный наедине с собой в последней полумгле, что еще остается, я плачу. Да, плачу, плачу от одиночества и жизни, и моя никчемная скорбь, как машина без колес, лежит на берегу реальности среди испражнений заброшенности. Я плачу по всему — по утрате лона, по смерти руки, которую мне давали, по объятиям, которые меня сжимали не знаю как, по плечу, на которое я никогда не мог опереться… И день, окончательно забрезживший, скорбь, брезжащая во мне, как суровая правда дня, то, о чем я мечтал, то, о чем думал, то, что забылось во мне — все это, в сплетении теней, вымыслов и угрызений, смешивается в борозде, по которой идут миры, и падает среди жизненных вещей, словно общипанная кисть винограда, съеденного за углом укравшими ее мальчишками.
Шум человеческого дня внезапно нарастает, словно призывный звук колокольчика. Внутри дома слышится мягкий звук засова первой двери, открывающейся жизни людей. Я слышу тапочки в нелепом коридоре, ведущем к моему сердцу. И резким движением, словно тот, кто наконец-то себя убивает, я сбрасываю с окоченевшего тела глубокие простыни той кровати, что меня укрывает. Я проснулся. Звук дождя улетучивается в неопределенной наружной вышине. Я чувствую себя счастливее. Я сделал нечто, чего не знаю. Я поднимаюсь, иду к окну, открываю створки храбро и решительно. Сверкает ясный дождливый день, наводняющий мои глаза тусклым светом. Я открываю сами окна. Свежий воздух увлажняет мою горячую кожу. Да, идет дождь, но какая разница, ведь дождь такой слабый! Я хочу освежиться, хочу жить и склоняю шею перед жизнью, словно перед огромным ярмом.
437.
В городе бывает сельский покой. Бывают мгновения, особенно в летний полдень, когда в этом залитом светом Лиссабоне сельская местность пронизывает нас, словно ветер. И прямо тут, на улице Золотильщиков, так приятно спится.
Как приятно душе видеть, как под высоким спокойным солнцем замолкают эти телеги с соломой, эти недоделанные ящики, эти медлительные прохожие, словно перенесенные из деревни! Я сам, глядя на них из окна конторы, где нахожусь один, переношусь: вот я в спокойном провинциальном поселке, останавливаюсь в неведомой деревушке, и я счастлив оттого, что чувствую себя другим.
Я прекрасно знаю: если я подниму глаза, передо мной окажется мрачный ряд домов, немытые окна всех контор Байши, бессмысленные окна на самых высоких, все еще обитаемых этажах, а в вышине, в углах чердаков, извечное белье, развешенное под солнцем, среди горшков и растений. Я знаю это, но так нежен свет, золотящий все, так бессмыслен спокойный воздух, обволакивающий меня, что у меня нет никакой причины, даже зрительной, чтобы отказываться от моей выдуманной деревни, от моего провинциального городка, где отношения — это покой.
Я знаю, отлично знаю… Пусть сейчас действительно обеденный час, или час отдыха, или перерыв. Все следует своим чередом по поверхности жизни. Я сам сплю, хоть и опираюсь на балкон, как если бы это был фальшборт корабля над новым пейзажем. Я сам даже не думаю, как если бы я был за городом. И внезапно нечто иное возникает передо мной, обволакивает и повелевает: заглядывая за полдень в городке, я вижу всю его жизнь во всех проявлениях; я вижу великое глупое счастье домашней жизни, великое глупое счастье жизни среди полей, великое глупое счастье покоя среди мерзости. Вижу, потому что вижу. Но не увидел и просыпаюсь. Смотрю вокруг, улыбаясь, и первым делом стряхиваю с локтей пиджака, к несчастью, темного, всю пыль балконного ограждения, которое никто не вытирал, не зная, что однажды, в какое угодно мгновение, оно, возможно, станет чистым от пыли фальшбортом корабля, совершающего бесконечный круиз.
438.
Белесая синева зеленой ночи придавала темно-коричневые очертания, неясно окутанные пожелтевшей серостью, холодной неправильности зданий, вырисовывавшихся на летнем горизонте.
Некогда мы овладели физическим морем, создав универсальную цивилизацию; теперь мы овладеем морем психическим, эмоциями, матерью-темпераментом, создав интеллектуальную цивилизацию.
439.
…Болезненная острота моих ощущений, даже тех, что вызваны радостью; радость остроты моих ощущений, даже если они вызваны грустью.
Я пишу поздним воскресным утром, в день, полный нежного света, когда над крышами прерванного города синева всегда необычного неба запирает в забвении таинственное существование светил…
Во мне тоже воскресенье…
Мое сердце тоже идет в церковь, не зная, где она находится, облаченное в детский бархатный костюм, с лицом, покрасневшим от первых впечатлений, улыбающимся без грустных глаз над слишком широким воротником.
440.
Каждый день затянувшегося лета небо пробуждалось в матовой зеленой синеве и вскоре окрашивалось в сероватую синеву немой белизны. На Западе, однако, оно было полностью того цвета, которым его обычно называют.
Говорить правду, находить то, на что надеешься, отрицать иллюзорность всего — как часто это используют в оседании и упадке и как знаменитые имена, словно имена географических земель, пачкают заглавными буквами проницательность строгих прочитанных страниц!
Косморама того, что завтра произойдет то, чего не могло произойти никогда! Ляпис-лазурь бессвязных переживаний! Сколько воспоминаний хранит ложное предположение, ты помнишь, всего лишь видение? И в перемежающемся бреду уверенностей легкое, прерывистое, нежное бормотание воды во всех парках рождается, как эмоция, в глубине моего осознания себя. Пусты старые скамейки, и аллеи, на которых они находятся, распространяют свою меланхолию пустых верениц.
Ночь в Гелиополисе! Ночь в Гелиополисе! Ночь в Гелиополисе! Кто скажет мне бесполезные слова, отплатит мне кровью и нерешительностью?
441.
Высоко в ночном одиночестве цветет неведомый светильник в каком-то окне. Все остальное в городе, который я вижу, темно, за исключением тех мест, где слабые отблески уличного света смутно поднимаются и создают тут и там опрокинутый, очень бледный цвет. Во мраке ночи сами дома едва различаются меж собой различными цветами или их оттенками: лишь смутные, можно было бы сказать абстрактные, различия вносят неправильность в сумбурную совокупность.
Невидимая нить связывает меня с безымянным хозяином светильника. Дело не в том общем для нас обстоятельстве, что мы оба не спим: в этом нет возможной взаимности, ведь я стою у окна в темноте, и он никогда не сможет меня увидеть. Это что-то другое, только мое, немного связанное с ощущением обособленности, сопричастное ночи и тишине, выбирающее этот светильник как точку опоры, потому это единственная имеющаяся точка опоры. Кажется, что ночь так темна потому, что он зажжен. Кажется, что он светит потому, что я бодрствую, мечтая в полумгле.
Все то, что существует, возможно, существует потому, что существует что-то другое. Нет ничего, все сосуществует: возможно, так правильно. Я чувствую, что я бы не существовал в этот час — не существовал бы, по крайней мере, так, как существую сейчас, с этим присутствующим во мне осознанием себя, которое, будучи присутствующим осознанием, в это мгновение полностью является мною, — если бы этот светильник не был зажжен где-нибудь в другом месте, фонарь, не указывающий ничего со своей господствующей высоты. Я чувствую это потому, что не чувствую ничего. Думаю об этом, потому что это есть ничто. Ничто, ничто, часть ночи и тишины и того, что я, будучи с ними, являюсь небытием, отрицательной величиной, промежутком, пространством между мной и мной, плодом забвения какого-то бога…
442.
Во время одной из тех сонливостей без сна, когда мы разумно развлекаем себя без разума, я перечитываю некоторые из страниц, которые в своей совокупности образуют мою книгу бессвязных впечатлений. И от них поднимается, словно запах чего-то знакомого, пустынное впечатление однообразия. Я чувствую, что, даже говоря, что я всегда разный, я всегда говорил одно и то же; что я больше похож на себя самого, чем хотел бы признать; что, в конечном счете, у меня даже не было ни радости выигрыша, ни переживания проигрыша. Я есть отсутствие баланса с самим собой, невольного равновесия, которое меня опустошает и ослабляет.
Все, что я написал, блекло. Можно было бы сказать, что моя жизнь, даже умственная, однажды была тягучим дождливым днем, когда все становится неслучившимся, полумраком, пустой привилегией и забытой причиной. Я чувствую себя безутешным, как разорванный шелк. Я погружаюсь в свет и тоску незнания себя.
Моя смиренная попытка хотя бы высказать, кто я, записать, как нервная машинка, мельчайшие впечатления моей субъективной и острой жизни — все это опорожнилось, словно ведро, об которое кто-то споткнулся и содержимое которого полностью разлилось по земле, как вода. Я изготовил себя ложными красками, я оказался в чердачной империи. Мое сердце, чьи важные события живой прозы я поверил этим страницам, которые я перечитываю с другой душой, сегодня кажется мне насосом в провинциальном саду, установленным инстинктом и управляемым по службе. Я утонул в штиль в таком море, где можно стоять.
И я спрашиваю у той сознательности, что еще остается у меня в этой путаной череде промежутков между несуществующими вещами, зачем я исписал столько страниц фразами, которые считал своими, переживаниями, которые чувствовал продуманными, знаменами и стягами войск, представляющими собой, в конечном счете, бумажки, которые дочь бродяги прилепила слюной под навесами крыш.
Я спрашиваю у того, что остается от меня, к чему все эти бесполезные страницы, посвященные мусору и ошибкам, потерянные еще до того, как они оказались среди порванных бумаг Судьбы.
Спрашиваю и продолжаю. Пишу вопрос и заворачиваю его в новые фразы, вытрясаю из него новые переживания. И завтра я снова буду записывать, продолжая мою глупую книгу, повседневные впечатления от моей холодной неубежденности.
Пусть они остаются такими, какие есть. После партии в домино и выигрыша или проигрыша кости перевернулись и закончившаяся игра стала черной.
443.
Сколько же во мне Адов, Чистилищ и Раев — и кто знает какой-нибудь мой жест, не сочетающийся с жизнью… жест меня, такого спокойного и приятного?
Я не пишу по-португальски. Я пишу по-своему.
444.
Все для меня стало невыносимым, за исключением жизни. Контора, дом, улицы — даже противоположное, если бы оно у меня было — меня пугают и подавляют; лишь их совокупность приносит мне облегчение. Да, любой вещи из всего этого достаточно, чтобы меня утешить. Луч солнца, который всегда проникал бы в мертвую контору; резкий выкрик, быстро взлетающий к окну моей комнаты; существование людей; наличие климата и смена погоды, пугающая объективность мира…
Луч солнца внезапно проник в мою сторону, и я его неожиданно увидел… Однако это была полоса очень острого света, почти бесцветного, который, словно обнаженный нож, прорезал черный деревянный пол, оживив там, где он прошел, старые гвозди и щели между досками, черный узор не-белого.
Несколько минут подряд следил за неощутимым эффектом проникновения солнца в спокойную контору… Тюремное времяпрепровождение! Лишь заключенные смотрят за движениями солнца так, как другой смотрит на муравьев.
445.
Говорят, что тоска — недуг бездеятельных людей или что она охватывает лишь тех, кому нечего делать. Однако это душевное недомогание коварнее: оно охватывает тех, кто к нему предрасположен, и щадит меньше тех, кто работает или притворяется, что работает (что в данном случае одно и то же), чем тех, кто действительно бездеятелен.
Нет ничего хуже, чем контраст между естественным великолепием внутренней жизни с их нетронутой Индией и неведомыми краями и гнусной заурядностью жизни, хотя она, на самом деле, не гнусна. Тоска больше гнетет тогда, когда нет оправдания для бездеятельности. Хуже всего тоска тех, кто всецело подчиняет себя какому-то занятию.
Тоской является не недуг скуки оттого, что нечего делать, а худший недуг, заключающийся в ощущении, что нет смысла ничего делать. И, когда это так, чем больше нужно делать, тем большую тоску приходится испытывать.
Сколько раз я поднимаю от книги, в которой веду записи, голову, опорожненную от всего мира! Уж лучше бы мне было быть бездеятельным, ничего не делая и не имея необходимости что-либо делать, потому что такую тоску, пусть и настоящую, я бы хотя бы мог смаковать. В моей нынешней тоске нет ни отдохновения, ни благородства, ни блаженства, присущего недомоганию: есть бескрайнее угасание всех совершаемых действий, а не скрытая усталость от действий, которые не нужно совершать.
446.
Омар Хайям
Тоска Омара Хайяма — это не тоска того, кто не знает, что делать, потому что, на самом деле, он ничего не может или не умеет делать. Такова тоска того, кто родился мертвым, и того, кто склоняется к морфию или к кокаину. Тоска персидского мудреца глубже и благороднее. Это тоска того, кто ясно мыслил и увидел, что все темно, того, кто взвесил все религии и философии и затем сказал, как Соломон: «Я увидел, что все тщета и уныние души», — или как, прощаясь с властью и миром, другой властитель, Септимий Север[49], бывший в нем императором: «Omnia fui, nihil…» — «Я был всем, и все это ни к чему».
Жизнь, говорил Тард, это поиск недосягаемого посредством бесполезного; так сказал бы Омар Хайям, если бы он это сказал.
Отсюда настойчивость перса в употреблении вина. Пей! Пей! В этом вся его практическая философия. Это не питие от радости, которая пьет, чтобы стать еще радостнее, чтобы стать еще больше собой. Это не питие от отчаяния, которое пьет, чтобы забыть, чтобы быть меньше собой. К вину присоединяется радость, действие и любовь; и следует заметить, что в Хайяме нет ни намека на энергию, ни единой фразы о любви. Та Саки, чья хрупкая фигура появляется (хотя появляется редко) в рубаи, — лишь «девушка, подающая вино». Поэт отмечает ее стройность так, как отметил бы стройность амфоры, наполненной вином.
Радость от вина говорит, как настоятель Олдрич[50]:
Насколько я могу понять, Чтоб выпить — поводов лишь пять: Гурманство; гости; день дурной; Безделье — повод неплохой; И, наконец, — любой другой[51].Практическая философия Хайяма сводится, тем самым, к мягкому эпикурейству, к предельно расплывчатому стремлению к удовольствию. Ему достаточно смотреть на розы и пить вино. Легкий бриз, бесцельный разговор ради разговора, кувшин вина, цветы — в этом и только в этом состоит самое большое желание персидского мудреца. Любовь будоражит и утомляет, действие распыляет и терпит крах, никто не умеет знать, а мышление все затуманивает. Поэтому лучше прекратить желать или надеяться, испытывать никчемное стремление объяснить мир или глупо пытаться его исправить или управлять им. Все есть ничто или, как говорится в «Греческой антологии», «все происходит от безрассудства», и говорит это грек, а значит, человек рациональный.
447.
Мы останемся равнодушны к истине или лжи всех религий, всех философий, всех гипотез, которые можно подвергнуть бесполезной проверке и которые мы называем науками. Нас также не будет заботить судьба так называемого человечества или то, страдает ли оно в своей совокупности, или нет. Милосердие, да, по отношению к «ближнему», как говорится в Евангелии, но не к человеку, о котором в нем не говорится. И до определенной степени все мы такие: насколько нас, лучшего из нас, заботит резня, случившаяся в Китае? Даже того из нас, у кого богаче воображение, больше гнетет несправедливая пощечина, которую влепили ребенку на улице у нас на глазах.
Милосердие со всеми, близость ни с кем. Так истолковывает Фитцджеральд� в отрывке из одного примечания что-то из этики Хайяма.
Евангелие призывает любить ближнего: оно не говорит о любви к человеку или к человечеству, о котором, на самом деле, никто не может позаботиться.
Возможно, возникнет вопрос, разделяю ли я философию Хайяма в том виде, в котором я, на мой взгляд точно, ее заново записал и истолковал. Я отвечу, что не знаю. Бывают дни, когда она мне кажется лучшей и даже единственной из всех практических философий. В другие дни она мне кажется ничтожной, мертвой, бесполезной, словно пустой стакан. Я не знаю себя, потому что думаю. Ведь я не знаю, что я на самом деле думаю. Этого бы не происходило, если бы у меня была вера; но не происходило бы и в том случае, если бы я был безумен. На самом деле, если бы я был иным, было бы иначе.
Помимо этих явлений заурядного мира, есть, конечно, тайные уроки орденов посвященных, тайны, очевидные, секретные или завуалированные, когда их представляют в общественных ритуалах. Есть то, что сокрыто или полусокрыто в больших католических ритуалах, будь то в Ритуале Марии в Римской церкви или в Церемонии Духа во франкмасонстве.
Но, в конце концов, кто нам скажет, что посвященный, проникший в глубины таинств, не является лишь жадной добычей нового облика нашей иллюзии? Какие у него могут быть убеждения, если большей убежденностью обладает сумасшедший относительно предмета своего безумия? Спенсер говорил, что то, что мы знаем, есть сфера, которая чем больше расширяется, тем в большем числе точек соприкасается с тем, чего мы не знаем. И из главы, говорящей о том, что можно обрести в посвящениях, я не забываю ужасные слова магистра Магии: «Я уже видел Изиду, — говорит он, — я уже коснулся Изиды: тем не менее, я не знаю, существует ли она».
448.
Омар Хайям
Омар был личностью; я, к счастью или к несчастью, никакой личностью не являюсь. От того, чем я являюсь в определенный час, я отделяюсь час спустя; о том, кем я был в предшествующий день, я забываю на следующий. Кто, подобно Омару, является тем, кем является, живет лишь в одном мире, коим является мир внешний; кто, подобно мне, не является тем, кем является, живет не только во внешнем мире, но и в последующем и разнообразном мире внутреннем. Его философия, хотя и стремится быть такой же, как философия Омара, автоматически не сможет быть такой же. Так, хотя я на самом деле не того желаю, во мне есть, словно разные души, философии, которые я могу изучать; Омар мог отвергнуть все философии, потому что они для него были внешними, я их отвергнуть не могу, потому что сам ими являюсь.
449.
Бывают столь тонкие и глубокие внутренние скорби, что мы не можем разобрать, проистекают ли они от души, или от тела, являются ли они неудобством от ощущения никчемности жизни, или представляют собой расстройство, происходящее от какой-нибудь органической полости — от желудка, печени или мозга. Как часто во мне затуманивается заурядное осознание себя самого в мутных осадках беспокойного оцепенения! Как часто мне больно существовать и я испытываю настолько неясную тошноту, что не могу различить, является ли она тоской или предвестником рвоты! Как часто…
Моя душа сегодня грустна до самого тела. У меня болит все — память, глаза, руки. Все мое существо словно охвачено ревматизмом. На мое существо не влияет прозрачная ясность дня, чистое широкое голубое небо, замерший прилив рассеянного света. Меня нисколько не смягчает легкое и свежее дуновение осени, придающее воздуху неповторимый колорит, как если бы лето не решалось уйти. Ничто для меня ничего не значит. Я грущу, но не определенной грустью и даже не неопределенной грустью. Я грущу там, снаружи, на улице, загроможденной ящиками.
Эти выражения не передают точно то, что я чувствую, потому что, несомненно, ничто не может точно передать то, что человек чувствует. Но, так или иначе, я пытаюсь передать впечатление о том, что чувствую, о смеси различных разновидностей меня и чужой улицы, которая, поскольку я ее вижу в определенном свете, который не могу анализировать, тоже мне принадлежит, является частью меня.
Я хотел бы жить, будучи разным человеком в разных странах. Я хотел бы умереть другим среди неведомых флагов. Я хотел бы, чтобы меня приветствовали как императора в другие эпохи, которые сегодня кажутся лучше, потому что они не сегодняшние и выглядят расплывчатыми и расцвеченными, непривычными и величественными, как сфинксы. Я хотел бы всего того, что может выставить меня в нелепом свете, именно потому, что оно выставляет меня в нелепом свете. Я хотел бы, хотел бы… Но всегда есть солнце, когда светит солнце, и ночь, когда наступает ночь. Всегда есть печаль, когда печаль гнетет нас, и мечта, когда мечта нас обволакивает. Всегда есть то, что есть, и никогда нет того, что должно было бы быть, не потому, что оно лучше или хуже, а потому, что оно другое. Всегда есть…
По улице, загроможденной ящиками, идут грузчики и расчищают ее. Отпуская шутки и сальности, они грузят ящик за ящиком на телеги. С высоты моего конторского окна я смотрю на них сонным взором из-под спящих век. И что-то тонкое, непонятное связывает то, что я чувствую, с погрузкой, которая происходит на моих глазах, какое-то неизвестное ощущение превращает в ящик всю эту мою тоску, или тревогу, или тошноту и, закидывая ее на плечи того, кто громко балагурит, отправляет на телегу, которой здесь нет. И свет дня, безмятежный, как всегда, светит косо из-за того, что улица узка, туда, где грузят ящики, озаряя не ящики, которые находятся в тени, а угол там, в глубине, где грузчики заняты неопределенным ничегонеделанием.
450.
Как зловещая надежда, воспарило что-то более предвосхищающее: сам дождь словно внушил себе робость; глухая чернота опустилась вокруг. И внезапно, словно крик, прорвался великолепный день. Холодный адский свет заглянул в содержимое всего и наводнил мозги и закоулки. Все было ошарашено. Со всего спала тяжесть оттого, что прошел грохот. Грустный дождь был веселым и шумел резко и скромно. Сердце невольно ощущало себя, а мышление стало ошеломлением. В конторе слагалась смутная религия. Никто не был тем, кем был, а шеф Вашкеш появился в дверях кабинета, чтобы собраться что-то сказать. Морейра расплылся в улыбке, вокруг которой все еще оставалась желтизна внезапного испуга. И его улыбка говорила, что, без сомнения, следующий раскат грома уже будет дальше. Быстрая машина громко ворвалась в шумы улицы. Невольно задрожал телефон. Вместо того чтобы отступить в контору, шеф Вашкеш двинулся к аппарату в большой зале. Воцарилось отдохновение и тишина, и дождь лил, словно кошмар. Шеф Вашкеш забыл о телефоне и больше его не касался. В глубине конторы засуетился посыльный, словно какой-то неудобный предмет.
Большая радость, полная отдохновения и освобождения, всех нас сбила с толку. Мы работали наполовину ошарашенные, обходительные, общительные с естественной чрезмерностью. Посыльный широко растворил окна, хотя никто ему об этом не сказал. Запах чего-то свежего проник, словно воздух воды, внутрь большого зала. Дождь, уже ослабевший, смиренно лил. Звуки улицы, остававшиеся прежними, были другими. Слышались голоса извозчиков, и они действительно были людьми. Отчетливо звеневшие колокольчики трамваев на соседней улице тоже общались с нами. Хохот одинокого ребенка раздался в гладкой атмосфере, как канареечная трель. Легкий дождь затих.
Было шесть часов. Контора закрывалась. Шеф Вашкеш сказал в полуоткрытую дверь: «Можете идти», — и произнес это, как коммерческое благословение. Тогда я встал, закрыл книгу и спрятал ее. Я положил перо, чтобы его было видно, в выемку чернильницы, и, подойдя к Морейре, сказал ему исполненное надежды «до завтра», и пожал ему руку, как после большого одолжения.
451.
Путешествовать? Чтобы путешествовать, достаточно существовать. Я еду изо дня в день, как от станции к станции, в поезде моего тела или моей судьбы, глядя на улицы и площади, на жесты и лица, всегда одинаковые и всегда разные, какими, в конце концов, и являются пейзажи.
Если я представляю, я вижу. Что еще я делаю, если путешествую? Лишь крайняя слабость воображения оправдывает необходимость перемещения для того, чтобы чувствовать.
«Любая дорога, даже эта дорога в Энтепфул приведет тебя на край мира». Но край мира, когда мир кончился, совершив полный оборот, это тот же Энтепфул, из которого мы отправились в путь. В действительности, край мира, как и начало, это наше представление о мире. Это в нас пейзажи становятся пейзажами. Поэтому, если я их себе представляю, я их создаю; если я их создаю, они есть; если они есть, я вижу их так же, как и другие. Зачем путешествовать? В Мадриде, в Берлине, в Персии, в Китае, на обоих полюсах — где бы я находился, если не в себе самом и в виде и роде моих ощущений?
Жизнь есть то, что мы из нее делаем. Путешествия суть путешественники. То, что мы видим, это не то, что мы видим, а то, чем мы являемся.
452.
Единственным путешественником с настоящей душой, которого я знал, был парень из другой конторы, в которой я некогда работал служащим. Этот мальчуган собирал рекламные проспекты городов, стран и транспортных компаний; у него были карты — одни были вырваны из газет, другие он выпрашивал тут и там; у него были иллюстрации пейзажей, гравюры экзотических нарядов, изображения кораблей и пароходов, вырезанные из газет и журналов. Он заходил в туристические агентства от имени гипотетической конторы или, возможно, от имени какой-нибудь существующей конторы, вероятно, той самой, при которой состоял, и просил брошюры о путешествиях в Италию, брошюры о путешествиях в Индию, брошюры о том, как добраться из Португалии в Австралию.
Он был не просто самым большим и самым настоящим путешественником, которого я знал: он также был одним из самых счастливых людей, которых мне довелось встретить. Жаль, что я не знаю, что с ним стало, или, на самом деле, я лишь предполагаю, что мне должно было бы быть жаль; в действительности, мне не жаль, ведь сегодня, десять или больше лет спустя после того короткого промежутка времени, когда я его знавал, он, должно быть, стал взрослым, глупым, исполняющим свои обязанности, вероятно, женатым, чьей-нибудь социальной опорой — в общем, мертвецом в своей собственной жизни. Возможно даже, что он совершил путешествие телом, он, который так хорошо путешествовал душой.
Внезапно я вспоминаю: он точно знал, по каким железным дорогам можно было добраться из Парижа в Бухарест, по каким железным дорогам можно было объездить Англию, и своим неправильным произношением странных названий он внушал блистательную уверенность в величии своей души. Да, сегодня он, должно быть, существует как мертвец, но, быть может, однажды, в старости он вспомнит, насколько не только лучше, но и правдивее мечтать о Бордо, чем в Бордо высаживаться.
И тогда, быть может, у всего этого было бы какое-нибудь другое объяснение, а он всего лишь подражал кому-то. Или… Да, иногда, размышляя над омерзительной разницей между умом детей и тупостью взрослых, я полагаю, что в детстве нас сопровождает дух-хранитель, который одалживает нам свой астральный разум, и что затем, вероятно, с досадой, но повинуясь некоему высшему закону, он оставляет нас, как матери животных оставляют выросших детенышей, на откорм, который является нашей судьбой.
453.
С террасы этого кафе я с трепетом смотрю на жизнь. Я мало что вижу — суматоху — в ее сосредоточении на этой площади, такой отчетливой и моей. Вялость, словно начало попойки, раскрывает передо мной душу вещей. Вне меня, в шагах прохожих и в упорядоченном неистовстве движений течет очевидная и единодушная жизнь. В этот час чувства во мне застыли и все мне кажется чем-то иным: мои ощущения — ясным и запутанным заблуждением; я раскрываю крылья, но не двигаюсь, словно воображаемый кондор.
Я человек мыслей, но кто знает, не является ли на самом деле моим главным устремлением не переставать занимать это место за этим столиком в этом кафе?
Все напрасно, как перемешивание пепла, неясно, как мгновение, когда рассвет еще не начался.
А свет так безмятежно и совершенно освещает предметы, так золотит их улыбающейся и грустной реальностью! Все таинство мира снисходит к моим глазам и воплощается в заурядности и в улице.
О сколько тайн касаются нашей повседневности! Как на озаряемой светом поверхности этой сложной людской жизни Час, как неясная улыбка, поднимается к губам Тайны! Как современно все это звучит! И, по сути, так старинно, так тайно, так преисполнено не тем смыслом, что светит во всем этом!
454.
Чтение газет, всегда тягостное с эстетической точки зрения, часто бывает тягостным и с точки зрения нравственной даже для того, у кого мало нравственных забот.
Войны и революции — что-нибудь из этого всегда происходит, — когда читаешь об их последствиях, вызывают не ужас, а тоску. Душу угнетает не жестокость всех этих умерших и раненых, не самопожертвование всех тех, кто умирает сражаясь или гибнет не в бою, а глупость, которая жертвует жизнями и собственностью ради чего-то неисправимо бесполезного.
Все идеалы и все устремления суть несуразица людей, их повивальных бабок.
Нет империи, которая бы стоила того, чтобы ради нее разбить куклу ребенка. Нет идеала, который заслуживал бы того, чтобы ради него жертвовали оловянным поездом.
Разве есть какая-то полезная империя или плодотворный идеал? Все есть человечество, а человечество всегда одинаково — оно может измениться, но улучшить его нельзя, оно колеблется, но не идет вперед. Перед неумолимым течением вещей жизнь, которую мы получили неизвестно как и потеряем неизвестно когда, десять тысяч шахматных партий, коими является жизнь общества и борьба, тоска от бесполезного созерцания того, что никогда не осуществится ‹…› — что может сделать мудрец, кроме как попросить об отдыхе, о том, чтобы не думать о жизни, ведь довольно и необходимости жить, небольшого места под солнцем, и воздуха, и хотя бы мечты о том, что по другую сторону гор царит мир.
455.
Все те несчастные происшествия нашей жизни, в которой мы проявили себя смешными, гнусными или отсталыми, — будем их считать, в свете нашей внутренней безмятежности, неудобствами путешествия. Вольные или невольные путешественники в этом мире между ничем и ничем или между всем и всем, мы лишь пассажиры, которые не придают особого значения напастям пути, встряскам на ухабах. Я утешаю себя этим, не знаю, оттого ли, что я утешаю себя, или оттого, что в этом есть нечто, что меня утешает. Но притворное утешение становится для меня настоящим, если я о нем не думаю.
Да и, к тому же, есть так много утешений! Есть высокое голубое небо, чистое и безмятежное, по которому всегда плывут несовершенные облака. Есть легкий ветер, который колышет крепкие ветви деревьев за городом и колеблет развешенное белье на пятых или шестых этажах в городе. Есть жара или прохлада, если они есть, и всегда в глубине приходят воспоминания с их ностальгией или с их надеждой, и волшебная улыбка в окне небытия, то, чего мы желаем, стучит в дверь того, чем мы являемся, как бродяги, являющиеся Христом.
456.
Как давно я не пишу! За несколько дней я прожил столетия неуверенного отречения. Я застыл, словно пустынное озеро, среди пейзажей, которых нет.
Между тем, приятно текла разнообразная монотонность дней, никогда не одинаковая последовательность одинаковых часов, жизнь. Текла себе. Если бы я спал, она не текла бы иначе. Я застыл, как озеро, которого нет, среди пустынных пейзажей.
Часто бывает, что я себя не узнаю — это часто случается с теми, кто себя знает. Я наблюдаю за собой в разных масках, с которыми я живу. Из того, что меняется, я обладаю тем, что всегда одинаково, из того, что делается, — всем тем, что есть ничто.
Я снова вспоминаю, удалившись в себя, как если бы я путешествовал внутри, монотонность, все еще такую разную, того загородного дома… Там я провел детство, но я не смог бы сказать, если бы захотел, провел ли я его более или менее счастливо, по сравнению с тем, как провожу сегодня свою жизнь. Тот я, который жил там, был другим: это разные жизни, различные и не сравнимые друг с другом. Те же монотонности, которые на вид их объединяют, без сомнения, были другими внутри. Это были не две монотонности, а две жизни.
С какой целью я вновь это вспоминаю?
Усталость. Воспоминания — это отдых, потому что в них нет действия. Как часто, желая лучше отдохнуть, я вспоминаю то, чем никогда не был, и нет ни отчетливости, ни ностальгии в моих воспоминаниях о провинциях, где я жил так же, как те, кто в них обитает; доска к доске в паркете, колеблюсь с колебанием других в просторных залах, где я никогда не жил.
Я настолько превратился в свой собственный вымысел, что любое мое естественное чувство, едва появившись, становится чувством воображения — память становится мечтой, мечта — забвением, познание себя — прекращением размышлений о себе.
Я настолько снял с себя собственное бытие, что существовать значит одеваться. Я становлюсь собой, только когда облекаюсь в маску. И вокруг меня все неведомые закаты золотят, умирая, пейзажи, которые я никогда не увижу.
457.
Современность — это:
1) эволюция зеркал;
2) гардеробы.
Мы стали одетыми существами, телесно и душевно.
И, поскольку душа всегда соответствует телу, возникло духовное облачение. Наша душа стала по сути своей одетой, так же как мы — люди, тела — перешли в категорию одетых животных.
Дело не только в том, что наше облачение становится частью нас. Дело еще и в искусственности этого облачения и в его любопытном свойстве, состоящем в том, что у него нет почти никакой связи с элементами природного изящества тела и с его движениями.
Если бы меня попросили, чтобы я дал социальное объяснение своему душевному состоянию, то вместо ответа я бы молча указал на зеркало, на вешалку и на перо, обмакнутое в чернила.
458.
В легкой дымке полувесеннего утра просыпается осоловевшая Байша, и солнце рождается как будто медлительно. В воздухе пополам с холодом царит покойная радость, и жизнь под легким дуновением ветра, которого нет, неясно дрожит от уже минувшего холода — даже больше от воспоминания о холоде, чем от холода, больше от сравнения с грядущим летом, чем от нынешней погоды.
Магазины, за исключением молочных лавок и кафе, еще не открылись, но в отдыхе нет онемения, как по воскресениям; это просто отдых. Светлая полоса предшествует самой себе в проясняющемся воздухе, и синева бледно окрашивается через рассеивающийся туман.
На улицах постепенно оживает движение, выделяется обособление пешеходов, а в немногих открытых высоких окнах тоже мелькают фигуры. Трамваи полувоздушно чертят свою желтую нумерованную борозду. И с каждой минутой улицы ощутимо становятся все менее пустынными.
Я плыву, внимая лишь чувствами, без мыслей и переживаний. Я проснулся рано и вышел на улицу без какого-либо плана. Я наблюдаю так, как если бы размышлял. Я вижу так, как если бы думал. И легкий туман переживаний нелепо поднимается во мне; мгла, что исчезает извне, как будто медленно просачивается в меня.
Я невольно чувствую, что задумался о своей жизни. Я этого не заметил, но так случилось. Я считал, что только видел и слышал и что на всем этом моем праздном пути я был лишь отражением внешних образов, белой ширмой, на которую реальность проецирует цвета и свет вместо теней. Но я был и чем-то большим, сам того не зная. Я был еще и душой, которая себя отрицает, и мое собственное абстрактное наблюдение было еще и отрицанием.
Хмурится воздух из-за отсутствия тумана, хмурится бледным светом, к которому словно примешался туман. Я вдруг замечаю, что шум стал намного сильнее, что стало намного больше людей вокруг. Походка прочих прохожих менее тороплива. Прерывая свое отсутствие и меньшую спешку других, появляется беглая походка торговок рыбой, покачивание булочников, кажущихся чудовищами с их корзинами, и разнообразная одинаковость продавщиц всего прочего различается только содержимым корзин, в которых цвета разнообразнее предметов. Молочники позвякивают, словно полыми и нелепыми ключами, неодинаковыми банками своего странствующего ремесла. Полицейские замерли на перекрестках, как будто изобличая от имени цивилизации невидимое движение наступления дня.
Как бы я хотел — в это мгновение я это чувствую — стать кем-то, кто может видеть это так, словно у него нет с этим никакой связи, кроме зрительной — наблюдать все так, как если бы я был взрослым путешественником, прибывшим сегодня на поверхность жизни! Не учиться с рождения задавать заданные смыслы всему, а иметь возможность отличать то выражение, которое есть у вещей, от того выражения, что им навязывается. Иметь возможность распознать в торговке рыбой ее человеческую реальность вне зависимости от того, что ее называют торговкой, и от того, что я знаю, что она существует и продает. Видеть полицейского так, как его видит Бог. Замечать во всем в первый раз, не в апокалиптическом смысле, как откровения Тайны, а непосредственно, как цветение Реальности.
Звучат удары колокола или больших часов — должно быть, их восемь, я их не считаю. Я пробуждаюсь из-за заурядности существования часов, этих препятствий, которые общественная жизнь накладывает на непрерывность времени, граничащего с абстрактным, соприкасающегося с неизвестным. Я пробуждаюсь и, глядя на все, уже полное жизни и привычного человечества, вижу, что туман, полностью исчезнувший с неба, за исключением того не совсем синего куска, что еще парит в синеве, по-настоящему проник мне в душу и, в то же время, проник в нутро всех вещей, через которое они контактируют с моей душой. Я потерял видение того, что видел. Я ослеп, оставшись зрячим. Я уже чувствую при помощи заурядности знания. Теперь это уже не Реальность: это просто жизнь.
…да, жизнь, которой я тоже принадлежу и которая тоже принадлежит мне; уже не Реальность, которая присуща только Богу или самой себе, которая не содержит ни тайны, ни истины, которая, будучи реальной или притворяясь таковой, где-то, должно быть, существует неизменно и свободна выбирать, быть ли ей временной, или вечной, абсолютным образом, идеей внешней души.
Я медленно направляю свои шаги, более быстрые, чем мне кажется, к двери, через которую я снова поднимусь домой. Но я не захожу; колеблюсь; иду дальше. Площадь Фигейра[52], зевая разноцветными лавками, закрывает мне горизонт их постоянными блуждающими клиентами. Я медленно, мертвецки иду вперед, и мое зрение уже не мое, оно уже ничто: это лишь зрение человеческого животного, которое невольно унаследовало греческую культуру, римский порядок, христианскую мораль и все прочие иллюзии, образующие ту цивилизацию, внутри которой я чувствую.
А где живые?
459.
Мне хотелось бы быть за городом, чтобы наслаждаться пребыванием в городе. Мне, тем не менее, нравится быть в городе, однако так я наслаждался бы вдвойне.
460.
Чем сильнее чувствительность и тоньше способность чувствовать, тем нелепее она дрожит и сотрясается от мелких вещей. Необходим недюжинный ум, чтобы испытывать тревогу в темный день. Человечество, будучи малочувствительным, не тревожится из-за погоды, потому что погода есть всегда; не замечает дождь, пока он не льет прямо на него.
Мокрый и вялый день пропитан теплой влажностью. Сидя один в конторе, я просматриваю свою жизнь, и то, что я в ней вижу, подобно дню, который меня гнетет и удручает. Я вижу себя ребенком, довольным безделицей, полным надежд подростком, мужчиной без радости и устремлений. И все это прошло в вялости и серости, как день, который заставляет меня это видеть или вспоминать.
Кто из нас, вернувшись на путь, с которого нельзя сойти, может сказать, что он шел по нему так, как должен был?
461.
Зная, как искусно могут меня терзать самые незначительные вещи, я намеренно избегаю соприкосновения с незначительными вещами. Как тот, кто, подобно мне, страдает, когда небо закрывает туча, может не страдать во мраке всегда пасмурного дня своей жизни?
Моя обособленность — это не поиск счастья, которого у меня не хватает сил достичь, или спокойствия, которое обретают лишь те, кто никогда его не терял… это поиск сна, угасания, маленького отречения.
Четыре стены моей утлой комнаты для меня являются одновременно камерой и расстоянием, кроватью и гробом. Мои самые счастливые часы — те, когда я ни о чем не думаю, ничего не хочу, даже не мечтаю, потерявшись в онемении странного растения, обыкновенного мха, растущего на поверхности жизни. Я наслаждаюсь без горечи нелепым осознанием того, что я — ничто, в котором предвкушаю смерть и угасание.
У меня никогда не было никого, кого я мог бы назвать Учителем. Ради меня не умер никакой Христос. Никакой Будда не указал мне путь. В вышине моих мечтаний никакой Аполлон или Афина не явились, чтобы озарить мою душу.
462.
Но исключение из целей и движений жизни, которое я себе навязал, разрыв моей связи с вещами, к которому я стремился, привели меня ровно к тому, от чего я старался убежать. Я не хотел чувствовать жизнь, касаться вещей, зная по опыту того, как реагирует мой характер на заражение миром, что ощущение жизни для меня всегда болезненно. Однако, избегая этой связи, я отстранился, а отстранившись, обострил мою и без того чрезмерную чувствительность. Однако полная отстраненность недостижима. Как бы мало я ни делал, я дышу; как бы мало я ни действовал, я двигаюсь. И так, сумев обострить мою чувствительность путем отстраненности, я добился того, что незначительные события, которые прежде на меня никак не повлияли бы, ранят меня, словно катастрофы. Я ошибся в выборе способа бегства. Я бежал по неудобному окольному пути в то же место, где находился, и к ужасу от жизни там присовокупилась усталость от пути.
Я никогда не рассматривал самоубийство как решение, потому что я ненавижу жизнь из любви к ней. Мне понадобилось время, чтобы убедить себя в этой прискорбной двусмысленности, в которой я живу с самим собой. Убедившись в ней, я испытал огорчение, которое всегда приходит ко мне, когда я в чем-то убеждаюсь, потому что убеждение во мне — это всегда утрата какой-либо иллюзии.
Я убил волю, анализируя ее. Кто вернул бы меня в детство, предшествующее анализу и даже предшествующее воле!
В моих парках — мертвый сон, сонливость прудов под солнцем в зените, когда жужжание насекомых постепенно нарастает и меня гнетет жизнь не как мука, а как физическая боль, которая должна закончиться.
Затерянные вдалеке дворцы, зачарованные леса, узкие аллеи вдали, мертвая красота каменных скамеек для тех, кто ушел — мертвая роскошь, увядшая красота, утраченная мишура. Мое забытое вожделение, как я хотел бы вновь обрести горечь, с которой мечтал о тебе!
463.
Наконец-то я обретаю покой. Все то, что было памятью и расточительством, стирается в моей душе, словно его там никогда и не было. Я остаюсь один, я спокоен. Мгновение, которое я проживаю, подобно тому мгновению, когда я обращусь в какую-нибудь религию. Однако ничто не влечет меня ввысь, как ничто и не удерживает меня внизу. Я чувствую себя свободным, как если бы я перестал существовать, сохранив осознание этого.
Обретаю покой, да, покой. Великое спокойствие, мягкое, как что-то бесполезное, опускается до самого дна моего существа. Прочитанные книги, исполненные обязанности, этапы и случайности жизни — все это стало для меня неясным полумраком, едва видимым ореолом, который окружает нечто спокойное, нечто мне не знакомое. Усилие, с которым я порой пытался предать забвению душу; мысль, с которой я порой пытался предать забвению действие — оба превращаются во мне в своего рода нежность без чувства, в заурядное и пустое сопереживание.
Это не день медленен и нежен, пасмурен и плавен. Это не ветер несовершенен, не он кажется почти ничем и мало чем отличается от воздуха, который ощущается. Это не цвет неба, едва синего тут и там, безымянен. Нет. Нет, потому что я ничего не чувствую. Я смотрю невольно и без надежды. Я внимательно слежу за несуществующим спектаклем. Чувствую не душу, а только покой. Внешние вещи, отчетливые и застывшие, даже те, что двигаются, для меня то же, чем для Христа был мир, когда с высоты всего его искушал Сатана. Они — ничто, и я понимаю, почему Христос не поддался искушению. Они — ничто, и я не понимаю, как Сатана, постаревший от такой учености, мог думать, что этим он может искусить.
Теки легко, жизнь, которая не чувствуется, речка в подвижной тишине под забытыми деревьями! Теки плавно, душа, не знающая себя, шепот, которого не видно за большими упавшими ветвями! Теки бесплодно, без причины, сознание того, что сознания нет, смутный блеск вдали, среди просветов в листьях, который течет неизвестно откуда и куда! Теки, теки и дай мне забыть!
Неясное дуновение того, что я не осмеливаюсь прожить, вялый глоток того, что я не смог почувствовать, бесполезный шепот того, о чем я не захотел думать, ступай медленно, ступай лениво, ступай по вихрям, которые тебя ждут, и по склонам, которые перед тобой предстают, ступай к тени или к свету, брат мира, ступай к славе или к бездне, сын Хаоса и Ночи, всегда помня в каком-нибудь твоем уголке о том, что Боги пришли потом, и о том, что Боги тоже проходят.
464.
Кто прочтет предшествующие страницы этой книги, без сомнения, придет к мысли о том, что я — мечтатель. Если он к ней пришел, он обманывается. Чтобы быть мечтателем, мне не хватает денег.
Великие меланхолии, полная тоски грусть могут существовать лишь в обстановке удобства и умеренной роскоши. Поэтому у По Эгеус, проводящий долгие часы в болезненном сосредоточении, делает это в древнем наследственном замке, где за дверями большого зала, в котором покоится жизнь, невидимые мажордомы управляют домом и подают еду[53].
Великая мечта требует определенных социальных обстоятельств. Однажды, когда я, восхищенный ритмическим и грустным движением собственного письма, подумал о Шатобриане, я немедленно вспомнил, что я — не виконт и даже не бретонец. В другой раз, когда я решил, что испытываю сходство с Руссо в том смысле, о котором он говорил, я снова сразу понял, что у меня нет не только привилегии быть дворянином и владельцем замка, но и привилегии быть швейцарским бродягой.
Но, в конце концов, и на улице Золотильщиков есть вселенная. Здесь Бог тоже заботится о том, чтобы жизни хватало таинственности. И поэтому если мечты, которые мне удается извлечь из колес и досок, и бедны, как пейзаж с телегами и ящиками, то для меня они — то, что есть, и то, что у меня может быть.
Без сомнения, красивые закаты наступают и в других местах. Но даже на этом пятом этаже над городом можно думать о бесконечности. Бесконечность со складом внизу, разумеется, но на фоне звезд… Это то, что мне приходит в голову на исходе этого вечера, у высокого окна, вместе с неудовлетворенностью мещанина, коим я не являюсь, и с грустью поэта, коим я никогда не смогу быть.
465.
Когда приходит лето, я грустнею. Кажется, что яркость, пусть и резкая, летних часов должна ласкать того, кто не знает, кто он. Но нет, меня она не ласкает. Слишком велик контраст между внешней жизнью, что бьет ключом, и тем, что я чувствую и думаю, не умея ни чувствовать, ни думать — вечно незахороненный труп моих ощущений. У меня впечатление, будто я живу на этой бесформенной родине под названием вселенная при политической тирании, которая, хотя и не угнетает меня непосредственно, все же оскорбляет некий скрытый принцип моей души. И тогда на меня глухо и медленно опускается предвосхищение тоски от невозможного изгнания.
В основном я хочу спать. Не тем сном, который, как и всякий сон, даже болезненный, приносит физическую привилегию покоя. Не тем сном, который, заставляя забыть о жизни и, быть может, даруя мечты, приносит на подносе, с коим он добирается до нашей души, приятные подношения великого отречения. Нет: это такой сон, который не дает спать, который довлеет над веками, не смыкая их, который сочетает в одном выражении, отдающем глупостью и отвержением, ощущаемые соединения недоверчивых губ. Это один из тех снов, что бесполезно довлеют над телом во время великой бессонницы души.
Только когда наступает ночь, мне так или иначе удается почувствовать не радость, а отдохновение, которое, по крайней мере по аналогии с другими отдохновениями, приносящими покой, чувствует себя довольным. Тогда сон проходит, беспорядок душевных сумерек, который принес этот сон, улетучивается, проясняется, почти освещается. На мгновение приходит надежда на нечто иное. Но эта надежда мимолетна. Затем приходит тоска без сна и надежды, тяжелое пробуждение того, кому не удалось поспать. И из окна моей комнаты я, несчастная душа, уставшая от тела, гляжу на множество звезд; множество звезд, пустота, ничто, но со множеством звезд…
466.
Человек не должен иметь возможности видеть собственное лицо. Это самое ужасное, что только может быть. Природа даровала ему возможность не видеть его, равно как и возможность не смотреть в собственные глаза.
Лишь в воде рек и озер он мог смотреть на свое лицо. И даже положение, которое ему приходилось для этого принимать, было символическим. Он должен был склоняться, опускаться, чтобы совершить позорное действие созерцания себя. Изобретатель зеркала отравил человеческую душу.
467.
Я слушал себя, пока читал свои стихи — которые в этот день я прочитал хорошо, потому что отвлекался, — и сказал себе с простотой естественного закона: «Ты, такой как есть и с другим лицом, был бы чрезвычайно обаятельным». Слово «лицо» больше, чем содержание, к которому оно отсылало, подняло меня на ноги, схватив за горло то мое «я», которого я не знаю. Я увидел зеркало моей комнаты, мое бедное лицо безбедного бродяги; и вдруг зеркало повернулось и призрак улицы Золотильщиков открылся предо мною, как нирвана почтальона.
Острота моих ощущений становится болезнью, которая мне чужда. Ею страдает другой, болезненной частью которого являюсь я, потому что мое чувствование зависит от большей способности чувствовать. Я словно особая ткань или даже клетка, над которой довлеет вся ответственность организма.
Если я думаю, то потому, что фантазирую; если мечтаю, то потому, что бодрствую. Все во мне путается со мной и не знает, как ему существовать.
468.
Когда мы постоянно живем в абстракции, будь то абстракция мышления или абстракция помысленного ощущения, очень скоро, вопреки самому нашему чувству или воле, становятся призрачными те предметы реальной жизни, которые мы, в согласии с самими собой, должны были бы ощущать более всего.
Каким бы близким — и настоящим — другом того или иного человека я ни был, знание о том, что он болен или что он умер, производит на меня лишь неясное, нечеткое, потухшее впечатление, которое мне стыдно испытывать. Лишь непосредственное созерцание случая, его пейзажа вызвало бы во мне переживания. Чем дольше живешь воображением, тем больше истрачивается сила воображения, особенно сила воображения реальности. Живя тем, чего нет и быть не может, мы в конце концов уже не можем мыслить о том, что может быть.
Сегодня мне сказали, что в больницу на операцию лег один мой старый друг, которого я давно не видел, но о котором я всегда искренне вспоминаю с чувством, которое мне представляется ностальгией. Единственное положительное и ясное ощущение, которое я испытал, — это то, как мне было бы неприятно, если бы пришлось его навестить, и ироническая альтернатива, заключавшаяся в том, что я бы не набрался терпения для посещения и затем в этом бы раскаивался.
Ничего больше… Я так долго сражался с тенями, что сам стал тенью — в том, что думаю, что чувствую, чем являюсь. Тогда в мою сущность проникает ностальгия нормального человека, коим я никогда не был. Но я чувствую это и только это. Я не испытываю жалости к другу, которого должны прооперировать. Я не испытываю жалости ко всем людям, которых должны прооперировать, ко всем тем, кто страдает и мучается в этом мире. Мне жаль лишь того, что я не умею быть тем, кто испытывает жалость.
И через мгновение я неизбежно думаю о чем-то другом вследствие неведомого мне импульса. И тогда во мне, словно в бреду, смешивается с тем, чего я не сумел почувствовать, с тем, чем я не смог быть, шум деревьев, звук воды, текущей в пруды, несуществующая усадьба… Я делаю усилие, чтобы чувствовать, но уже не знаю, как чувствовать. Я превратился в тень самого себя, которой я отдал свое существо. В отличие от Петера Шлемиля[54] из той немецкой сказки, я продал Дьяволу не свою тень, а свою сущность. Я страдаю оттого, что не страдаю, оттого, что не умею страдать. Я живу или притворяюсь, что живу? Сплю или бодрствую? Неясный свежий ветер, вытекающий из дневной жары, заставляет меня забыть обо всем. Мои веки приятно тяжелеют… Я чувствую, что это само солнце золотит поля, где меня нет и где я не хочу быть… Из городского шума вытекает великая тишина… Как она нежна! Но насколько, вероятно, она была бы нежнее, если бы я мог чувствовать!..
469.
Само письмо утратило для меня свою прелесть. Заурядным стало не только само действие выражения переживаний, но и оттачивание фраз, которые я пишу так, как другой ест или пьет, более или менее внимательно, но полуотчужденно и незаинтересованно, полувнимательно, без энтузиазма и блеска.
470.
Говорить значит испытывать чрезмерное уважение к другим. Через рот умирают рыба и Оскар Уайльд.
471.
Когда мы сможем воспринимать этот мир как иллюзию и призрак, мы сможем воспринимать все, что с нами случается, как сон, как нечто притворное, появившееся, пока мы спали. И тогда в нас рождается неуловимое и глубокое безразличие ко всем невзгодам и бедствиям жизни. Умершие свернули за угол, и потому мы перестали их видеть; страдающие проходят перед нами — как кошмар, если мы ощущаем, как неприятная фантазия, если думаем. И наше собственное страдание будет лишь этим ничем. В этом мире мы спим на левом боку и слышим во сне угнетенное существование сердца.
Больше ничего… Немного солнца, немного бриза, деревья, вырисовывающиеся на горизонте, желание быть счастливым, грусть оттого, что дни проходят, всегда неясная наука и истина, которую вечно предстоит открыть… Больше ничего, больше ничего… Да, больше ничего…
472.
Достичь в мистическом состоянии лишь того, что в этом состоянии есть приятного, не достигая того, что в нем есть требовательного; восхищаться несуществующим богом, стать мистиком или эпоптом[55] без посвящения; проводить дни в размышлении о рае, в который не веришь, — все это приятно душе, если она знает, что значит не знать.
Высоко плывут надо мной, как тело, укутанное в тень, молчаливые облака; высоко плывут надо мной, как душа, заточенная в теле, неведомые истины… Высоко плывет все… И все плывет в вышине, как и внизу, без облака, которое оставляло бы нечто большее, чем дождь, или истины, которая оставляла бы нечто большее, чем боль… Да, все то, что высоко, плывет в вышине и плывет; все то, что привлекает, далеко находится и далеко проходит… Да, все влечет, все чуждо, и все проходит.
Какая мне разница, под солнцем или дождем, телесно или душевно, что и я пройду? Никакой разницы, за исключением надежды на то, что все есть ничто, а значит, и ничто есть все.
473.
В любом нормальном духе существует вера в Бога. В любом нормальном духе не существует веры в определенного бога. Это любое существо, существующее и недосягаемое, которое всем управляет; его личность, если она имеется, никто не может определить; его цели, если они имеются, никто не может постичь. Называя его Богом, мы говорим всё, ведь, поскольку у слова «Бог» нет какого-либо точного смысла, мы утверждаем его, ничего не говоря. Такие ярлыки, как «бесконечный», «вечный», «всесильный», «необычайно справедливый» или «добрый», которые мы иногда ему приклеиваем, отклеиваются сами по себе, как и все ненужные прилагательные, когда достаточно одного существительного. И Он, которому мы, вследствие его неопределенности, не можем приписывать атрибуты, является по этой самой причине абсолютным существительным.
Та же точность и та же неясность существуют и в том, что касается выживания души. Все мы знаем, что умираем; все мы чувствуем, что не умрем. Вовсе не желание и не надежда приносит нам в темноте прозрение, что смерть есть недоразумение: это умозаключение, произведенное нутром и отвергающее ‹…›
474.
Один день
Вместо обеда — потребность, которую я должен удовлетворять каждый день — я отправился смотреть на Тежу и стал бродить по улицам, даже не предполагая, что я счел полезным для души смотреть на него. И тем не менее…
Жить не стоит. Стоит лишь смотреть. Возможность смотреть не живя принесла бы счастье, но она невоплотима, как и обычно невоплотимо все то, о чем мы мечтаем. Экстаз, который не подразумевал бы жизни!..
Создать хотя бы новый пессимизм, новое отрицание, чтобы у нас была иллюзия, будто от нас остается что-то, пусть даже плохое!
475.
— Над чем вы смеетесь? — спросил меня беззлобно голос Морейры с той стороны двух полок над моим столом в конторе.
— Я едва не перепутал два имени… — и успокоил легкие разговором.
— А, — быстро сказал Морейра, и пыльный покой снова опустился на контору и на меня.
Господин виконт де Шатобриан сводит здесь счеты! Господин профессор Амиель здесь за действительно высоким столом! Господин граф Альфред де Виньи записывает долги Гранделлы[56]! Сенанкур на улице Золотильщиков!
Даже не Бурже, бедняга, читать которого так же трудно, как подниматься по лестнице там, где нет лифта… Я поворачиваюсь за парапетом, чтобы снова как следует увидеть мой бульвар Сен-Жермен, и именно в это мгновение напарник пахаря плюет на землю. И пока я думаю обо всем этом, и курю, и не связываю как следует одно с другим, смех в уме встречает дым и, спотыкаясь в горле, раздается робким приступом слышимого смеха.
476.
Многим, должно быть, этот мой дневник, который я пишу для себя, покажется искусственным. Но для меня естественно быть искусственным. Чем я, в конце концов, должен заниматься, если не аккуратным записыванием этих духовных заметок? Впрочем, не так уж и аккуратно я их пишу. И даже собираю я их не шлифуя. Для меня естественно думать на этом моем изысканном языке.
Я — человек, для которого внешний мир представляет собой внутреннюю реальность. Я ощущаю это не метафизически, а обыкновенными чувствами, посредством которых мы воспринимаем реальность.
Наше вчерашнее легкомыслие сегодня оборачивается постоянной ностальгией, которая истачивает мою жизнь.
В этом часе есть монастыри. В уединении наступил вечер. В голубых глазах прудов последнее отчаяние отражает смерть солнца. Мы были такими значимыми в старинных парках; мы были так сладострастно вовлечены в присутствие статуй, в аллеи, постриженные на английский лад. Платья, кортики, парики, интриги и заигрывания настолько принадлежали сущности, из которой состоял наш дух! А кто эти мы? Всего лишь фонтан в опустевшем саду, окрыленная вода, которая поднимается все ниже в своей грустной попытке взлететь.
477.
…И ирисы на берегах далеких рек, холодные и торжественные, вечным вечером в глубине настоящих континентов.
Без чего-либо еще и притом настоящие.
478.
(lunar scene[57])
Нигде нет никакого пейзажа.
479.
Внизу, отстранившись от высоты, где я нахожусь в перепадах тени, спит под лунным светом весь ледяной город.
Отчаяние, тревога оттого, что я существую вблизи себя, выливается из меня, меня не одолевая, складывая мое существо из нежности, страха, боли и опустошенности.
Такой необъяснимый избыток нелепой печали, такая безутешная боль, такая сиротливая, такая метафизически моя ‹…›
480.
Перед моими глазами раскинулся неясный безмолвный город.
Дома выделяются из сжатой массы, а лунный свет с пятнами неопределенности замораживает своим перламутром мертвые встряски излишества. Есть крыши и тени, окна и Средневековье. Чему-либо вокруг неоткуда взяться. На том, что видно, покоится далекий отблеск. Над местом, откуда я смотрю, нависают черные ветви деревьев, и мое разуверившееся сердце спит за весь город. Лиссабон под светом луны и моя завтрашняя усталость!
Какая ночь! Тот, кто создал детали мира, позаботился о том, чтобы для меня не было лучшего состояния или мелодии, чем тот отдельный лунный момент, в который я не узнаю знакомого себя.
Ни ветер, ни люди не прерывают того, о чем я не думаю. Я ощущаю сон так же, как ощущаю жизнь. Лишь на вéках я словно чувствую нечто, что на них давит. Я слышу дыхание. Я сплю или бодрствую?
Свинец чувств мешает мне двигать ноги туда, где я живу. Ласка угасания, цветок, подаренный бесполезности, мое никогда не произносимое имя, мой непокой среди берегов, привилегия оставленных обязанностей и на последнем повороте знакомого парка — еще одно столетие, словно розарий.
481.
Я вошел к парикмахеру в обычном расположении духа, испытав удовольствие оттого, что мне легко заходить без стеснения в знакомые места. Моя чувствительность снова тревожит меня: я спокоен только там, где уже бывал.
Сев в кресло, я случайно спросил у помощника парикмахера, завязывавшего на моей шее холодное и чистое полотенце, как дела у его остроумного коллеги, который был старше него и обычно работал за креслом справа, но сейчас болел. Я спросил его, не испытывая потребности задать вопрос: меня к этому подтолкнуло пребывание в этом месте и Воспоминание. «Он вчера умер», — безучастно ответил голос, раздавшийся за моей спиной, пока его пальцы заканчивали подтыкать полотенце между моей шеей и воротником. Все мое беспричинное хорошее расположение духа мгновенно умерло, как и навеки исчезнувший парикмахер за соседним креслом. Мои мысли объял холод. Я ничего не сказал.
Ностальгия! Я испытываю ее даже по тому, что для меня было ничем, вследствие тоски по убегающему времени и недуга тайны жизни. Лица, которые я привык видеть на моих привычных улицах — если я перестаю их видеть, мне становится грустно; а ведь они для меня были ничем, разве что символом всей жизни.
Не представляющий интереса старик с грязными гамашами, которого я часто встречал в половину десятого утра? Хромой продавец лотерейных билетов, который понапрасну мне докучал? Круглый старикан, пожелтевший от табака, у дверей табачной лавки? Бледный хозяин табачной лавки? Что во всех них, которых я видел каждый день, есть такое, из-за чего они стали частью моей жизни? Завтра я опять погружусь в Серебряную улицу, в улицу Золотильщиков, в улицу Мануфактурщиков. Завтра я — чувствующая и думающая душа, вселенная, коей я для себя являюсь — да, завтра я тоже буду тем, кто перестал проходить по этим улицам, тем, о ком другие будут смутно вспоминать, говоря «что же с ним сталось?». И все то, что я делаю, все, что чувствую, все, чем живу, станет лишь прохожим, который исчез из уличной повседневности какого угодно города.
Часть вторая Большие фрагменты
В одной из заметок (см. раздел «Заметки и письма») Пессоа высказал мысль о том, чтобы отдельно издать большие фрагменты под названием «грандиозные», и упомянул в качестве одного из двух примеров фрагмент «Симфония беспокойной ночи», который не очень велик, несмотря на грандиозность его названия. В настоящем издании в этот раздел включены озаглавленные фрагменты, которые велики по размеру или по замыслу или же похожи на другие собранные здесь фрагменты.
Апокалиптическое чувство
Думая о том, что каждый шаг в моей жизни был соприкосновением с ужасом Нового и что каждый новый человек, с которым я знакомился, был новым живым фрагментом неизвестного, который я помещал на мой стол для ежедневного испуганного размышления, я решил воздержаться от всего, ни к чему не продвигаться, сократить действие до минимума, максимально избегать встреч как с людьми, так и с событиями, всемерно оттачивать воздержание и предаваться византийскому отречению. Настолько жизнь пугает и мучает меня.
Решиться, завершить что-либо, избавиться от сомнений и темноты — все это представляется мне катастрофами, вселенскими катаклизмами.
Я ощущаю жизнь как Апокалипсис и катаклизм. День за днем во мне растет неспособность даже обозначать жесты, представлять себя даже в ясных ситуациях реальности.
Присутствие других, к которому душа никогда не бывает готова, день за днем доставляет мне все больше боли и тревоги. Разговоры с другими вызывают у меня судороги. Если они проявляют ко мне интерес, я убегаю. Если они смотрят на меня, я содрогаюсь. Если ‹…›
Я постоянно нахожусь в обороне. Меня тяготит жизнь и другие люди. Я не могу смотреть прямо в глаза реальности. Даже солнце меня обескураживает и опустошает. Лишь ночью, когда я остаюсь наедине с собой, отстраненный, забытый, потерянный, лишенный связи с реальностью и пользой, я встречаюсь с собой и утешаю себя.
Мне холодно от жизни. Все в моей жизни — сырые пещеры и катакомбы без света. Я — великое поражение последнего войска, защищавшего последнюю империю. Я знаю, что нахожусь в конце древней могущественной цивилизации. Я одинок и покинут, я, привыкший повелевать остальными. У меня нет ни друга, ни вождя, у меня, которого всегда вели другие…
Что-то во мне вечно просит сочувствия — и оплакивает себя, словно умершего бога, без алтарей и почитания, когда на границах показался белый дым, обозначивший приход варваров, и жизнь пришла требовать у империи расплаты за то, как она поступила с радостью.
Меня всегда охватывает опасение, если говорят обо мне. Я во всем потерпел крах. Я не отважился даже подумать о том, чтобы стать чем-либо; подумать, что я этого захочу или просто буду мечтать об этом, потому что в самом мечтании я узнал о своей несочетаемости с жизнью, даже когда я пребываю в моем фантазерском состоянии обыкновенного мечтателя.
Никакое чувство не отрывает мою голову от подушки, в которую я зарываюсь, потому что не могу справиться с телом, с мыслью о том, что я живу, и даже с абсолютной мыслью о жизни.
Я не говорю на языке реальностей и среди жизненных вещей шатаюсь, словно больной, встающий в первый раз после долгого лежания. Лишь в постели я чувствую себя в нормальной жизни. Когда приходит лихорадка, она радует меня, как нечто естественное ‹…› в моем лежачем положении. Словно пламя на ветру, я трепещу и цепенею. Лишь в мертвом воздухе закрытых комнат я дышу нормальностью моей жизни.
От раковин на берегу морей у меня не остается никакой ностальгии. Я смирился с тем, что моя душа — монастырь, а я для себя — лишь осень среди сухих пустырей, где единственная живая жизнь — это отблеск некоего света, который тонет в путаной темноте прудов и в котором усилия и цвета не больше, чем великолепия фиалки-изгнания в завершающемся закате над горами.
В сущности, нет никакого другого наслаждения, кроме анализа боли, никакого другого сладострастия, кроме жидкого и болезненного извивания ощущений, когда они крошатся и распадаются — легкие шаги в неясной тени, мягкие на слух, а мы даже не оборачиваемся, чтобы узнать, чьи они, неясные далекие песни, чьи слова мы не стараемся уловить, но в которых нас больше убаюкивает нерешительность того, что они скажут, и неопределенность места, откуда они проистекают; тонкие тайны бледных вод, заполняющих легкими далями пространства ‹…› и ночные ‹…›; колокольчики далеких телег — откуда они возвращаются? И что за радости там внутри, радости, которых тут не слышно, сонные в теплом оцепенении вечера, когда лето забывается в осени… Умерли садовые цветы и, завянув, стали другими цветами — более древними, более благородными, более подобающими тайне, тишине и заброшенности в мертвой желтизне. У пузырей в воде, всплывающих на поверхность прудов, свои причины для грез. Далекое кваканье лягушек! О умершее во мне поле! О минувший в грезах сельский пейзаж! О моя никчемная жизнь, похожая на поденщика, который, пока аромат лугов проникает ему в душу, словно туман, спит на обочинах дорог ясным и свежим глубоким сном, полным при этом понимания, что ничто не связано ни с чем, спит, как уставший кочевник, забытый в ночи под полными холодного сочувствия звездами.
Я слежу за течением своих грез, превращая образы в ступени для других образов, раскрывая, словно веер, случайные метафоры в больших картинах, предстающих перед внутренним зрением; я отвязываю от себя жизнь и бросаю ее, словно костюм, который жмет. Я скрываюсь среди деревьев вдали от дорог. Я теряюсь. И в некоторые медленно текущие мгновения мне удается забыть вкус к жизни, отпустить ‹…› представление о свете и бурлении и осознанно покончить — нелепо, посредством внешних ощущений — с империей скорбящих развалин, и вступление среди знамен и победного боя барабанов в последний большой город, где я не буду ничего оплакивать, не буду ничего желать и не буду просить себя самого существовать.
Мне причиняет боль поверхность вод в прудах, которые я создал в мечтах. Над лесными пейзажами я вижу бледность луны, и эта бледность — моя. А осень застывших небес, которые я помню и которые никогда не видел, — это моя усталость. Меня тяготит вся моя мертвая жизнь, все мои недостаточные грезы, все мое, что не было моим, в синеве моих внутренних небес, в трепетном течении моих рек в душе, в обширном и беспокойном покое злаков на равнинах, которые я вижу и не вижу.
Чашка кофе, табак, который мы курим и чей запах нас пронизывает, почти закрытые глаза в полутемной комнате… Я не хочу от жизни ничего, кроме моих грез и этого… Мало ли это? Не знаю. Знаю ли я вообще, что такое «мало» и что такое «много»?
Как мне хотелось бы быть другим там, снаружи, летним вечером… Открываю окно. Там, снаружи, все мягко, но терзает меня, как неясная боль, как смутное ощущение неудовольствия.
И еще кое-что терзает меня, рвет, раздирает всю душу. Ведь я в этот час, у этого окна, перед этими грустными и нежными вещами должен был быть эстетической, красивой фигурой, как фигура на картине — а я не эта фигура, я даже не это…
Час, который пройдет и забудется… Ночь, которая придет и, нарастая, покроет все и никогда не уйдет. Пусть эта душа навсегда станет моей могилой и пусть ‹…› если оно станет абсолютным впотьмах и я никогда больше не смогу жить без чувств и желаний.
Богоматерь тишины
Иногда, когда я подавлен и смирен, и сама моя способность грезить рассыпается и иссыхает, и моим единственным мечтанием может быть лишь мысль о моих мечтах, я пролистываю их, словно книгу, которую листаешь вновь и вновь, читая лишь те слова, что попадаются на глаза. Тогда я задаюсь вопросом, кто ты, фигура, пронизывающая все мои прежние неторопливые видения далеких пейзажей и старинных интерьеров и пышных церемониалов тишины. Во всех моих грезах ты либо появляешься мечтой, либо сопровождаешь меня, как ложная реальность. С тобой я посещаю края, которые, быть может, являются твоими грезами, земли, которые, быть может, являются твоими телами отсутствия и бесчеловечности, твоим сущностным телом, лишенным очертаний на фоне спокойной равнины, и горой с холодными чертами в саду потаенного дворца. Быть может, единственная моя греза — это ты, быть может, прильнув моим лицом к твоему, я прочту в твоих глазах эти недосягаемые пейзажи, эту ложную тоску, эти чувства, что живут в тени моей усталости и в пещерах моего непокоя. Кто знает, не являются ли пейзажи моих грез моим способом не мечтать о тебе? Я не знаю, кто ты, но уверен ли я в том, кто я? Знаю ли я, что значит грезить, чтобы знать, что стоит называть тебя моей мечтой? Знаю ли я, не являешься ли ты частью меня, кто знает, насколько сущностной и реальной? И знаю ли я, не являюсь ли я грезой, а ты — реальностью, я — твоей грезой, а не ты — моим Мечтанием?
Что за жизнь ты ведешь? Как я тебя вижу? Твои черты? Они никогда не одинаковы, но никогда и не меняются. И я это говорю потому, что знаю, хотя и не знаю, что знаю это. Твое тело? Обнаженное, оно такое же, как одетое, сидя оно принимает то же положение, что лежа или стоя. Что означает это, не означающее ничего?
Моя жизнь так грустна, но я даже не думаю ее оплакивать; мои часы так притворны, но я даже не мечтаю о движении, которое бы их отстранило.
Как не грезить о тебе? Как не грезить о тебе? Богоматерь утекающих Часов, Мадонна стоячих вод и мертвых водорослей, Богиня-Покровительница открытых пустынь и черных пейзажей бесплодных скал — избавь меня от моей юности.
Утешительница безутешных, Слеза никогда не плачущих, Час, который никогда не пробивает — избавь меня от радости и счастья.
Опиум всей тишины, Лира, не предназначенная для игры, Витраж дали и заброшенности — сделай так, чтобы мужчины меня ненавидели, а женщины надо мной глумились.
Кимвал Елеосвящения, Ласка без движения, умерший в тени Голубь, Масло часов, проведенных в грезах — избавь меня от религии, потому что она нежна; и от безверия, потому что оно сильно.
Ирис, увядающий вечером, Сундук завядших роз, тишина между молитвами. Внуши мне отвращение к жизни, ненависть к моему здоровью, презрение к моей молодости.
Сделай меня бесполезным и бесплодным, о радушная Хозяйка всех неопределенных грез; сделай меня чистым без причины на то и фальшивым без любви к фальши, о Текучая Вода Пережитой Грусти; пусть мой рот будет ледяным пейзажем, мои глаза — двумя мертвыми озерами, мои жесты — медленным опаданием листвы со старых деревьев — о Литания Непокоев, о Молебен Усталости, о Венец, о Поток, о Вознесение!..
Как жаль, что я должен молиться тебе, как женщине, а не любить тебя ‹…›, как мужчина, и не могу поднять твои глаза от моих грез, как Аврору-наоборот несуществующего пола ангелов, которые никогда не попадали на небо!
* * *
Я молюсь тебе, любовь моя, потому что моя любовь — это уже молитва; но я тебя не воспринимаю как возлюбленную и не превозношу перед собой как святую.
Пусть твои действия станут статуей отречения, твои движения — пьедесталом безразличия, твои слова — витражами отрицания.
* * *
Великолепие небытия, имя бездны, покой Потустороннего…
Вечная дева до богов и отцов богов и отцов отцов богов, неплодородная во всех мирах, бесплодная во всех душах…
Тебе жертвуются дни и существа; звезды посвящаются твоему храму, и усталость богов возвращается под твой покров, как птица в гнездо, которое она свила, сама не зная как.
Пусть из апогея печали проглянет день, а если не проглянет, пусть сам апогей станет видимым днем!
Ярко свети, отсутствие солнца; блести, угасающий лунный свет…
Лишь ты, солнце, что не светишь, освещаешь пещеры, потому что пещеры — твои дочери. Лишь ты, луна, которой нет, даешь свет пещерам, потому что пещеры ‹…›
Ты принадлежишь полу воображаемых форм, отсутствующему полу фигур. Иногда просто профиль, иногда просто поведение, иногда лишь медленный жест: ты — мгновения, поведение, одухотворенное в поведении моем.
Никакое обаяние пола не подразумевается в моих грезах о тебе, под твоим неясным облачением мадонны внутренней тишины. Твои груди — не из тех, которые можно было бы желать поцеловать. Твое тело — целостная плоть-душа, но не душа и не тело. Материя твоей плоти не духовна — ею является сам дух. Ты — женщина, предшествующая Падению, скульптура из той глины, которую рай ‹…›
Мой страх перед настоящими женщинами, обладающими полом — дорога, по которой я шел тебе навстречу. Земные женщины, которые ради своего существования должны выдерживать подвижный вес мужчины — кто может их любить так, чтобы любовь не осыпалась в предвкушении наслаждения, которому служит пол?.. Кто может уважать Супругу, не думая о том, что она — женщина в другой позе соития… Кто не злится, что у него есть мать и что он происходит из влагалища, что его рождение было таким отвратительным? Разве не вызывает отвращение к нам мысль о плотском происхождении нашей души — из этого беспокойного слияния тел, из которого рождается наша плоть: какой бы прекрасной она ни была, она обезображена своим происхождением и внушает отвращение с самого рождения.
Ложные идеалисты настоящей жизни слагают стихи Супруге, преклоняются перед понятием Матери… Их идеализм — это прикрывающие одежды, а не созидающая греза.
Лишь ты чиста, Владычица Грез, которую я могу представить возлюбленной, не представляя запятнанной, потому что ты нереальна. Я могу представить тебя матерью и восхититься, потому что тебя никогда не пятнал ни ужас оплодотворения, ни ужас родов.
Как не восхищаться тобой, если только ты восхитительна? Как не любить тебя, если только ты достойна любви?
Кто знает, не создаю ли я тебя, грезя о тебе, настоящей, в другой реальности; если ты не будешь моей там, в другом, чистом мире, где мы будем любить друг друга без осязаемого тела, при помощи других объятий и других ключевых жестов обладания? Кто знает, не существовала ли ты уже и я тебя не создал и даже не увидел иным зрением, внутренним и чистым, в другом, совершенном мире? Кто знает, не были ли мои грезы о тебе простой встречей с тобой, не была ли моя любовь к тебе мыслью о тебе, не были ли мое презрение к плоти и мое отвращение к любви потаенной тревогой, с которой я ждал тебя, тебя не зная, и смутным стремлением, с которым я желал тебя, тебя не ведая?
Я даже не знаю, не любил ли я тебя уже в неясности, в которой ‹…› чьей грустью, возможно, является эта моя беспрерывная тоска. Возможно, ты — моя ностальгия, отсутствующее тело, присутствие Расстояния, женственная, быть может, вследствие каких-то иных причин. Я могу представлять тебя девственницей и матерью, потому что ты — не из этого мира. Ребенок, которого ты держишь на руках, никогда не был настолько младше, чтобы тебе пришлось его осквернить, держа в животе. Ты никогда не была другой, чем сейчас, а значит, как ты можешь не быть девственницей? Я могу любить тебя и обожать тебя, потому что моя любовь не обладает тобой, а мое обожание тебя не отталкивает.
Будь Вечным Днем, и пусть мои закаты будут лучами твоего солнца, обладаемыми в тебе.
Будь Невидимыми Сумерками, и пусть мои тревоги и непокой будут красками твоей нерешительности, тенью твоей неуверенности.
Будь Кромешной Ночью, стань Единственной Ночью, и пусть я буду теряться и забывать о себе в тебе, и пусть мои грезы будут светить, как звезды, в твоем отстраненном и отрицающем теле…
Пусть я буду складками твоего плаща, драгоценными камнями твоей тиары, иным золотом колец на твоих пальцах.
Я — пепел в твоем очаге, и разве имеет значение, что я — пыль? Я окно в твоей комнате, и разве имеет значение, что я — пространство? Я час на твоих водяных часах, и разве имеет значение, что я прохожу, если ради того, чтобы быть твоим, я останусь; что я умираю, если ради того, чтобы быть твоим, я не умру; что я тебя теряю, если потерять тебя значит тебя обрести?
Осуществительница абсурдов, Продолжательница бессвязных фраз. Пусть твое молчание укачает меня, пусть твоя ‹…› меня убаюкает, пусть само твое существо меня приголубит и смягчит и утешит, о геральдика Потустороннего, о властность Отсутствия; Дева-Матерь всякого молчания, Очаг для мерзнущих душ, Ангел-Хранитель для покинутых, человеческий и нереальный Пейзаж грустного и вечного Совершенства.
Ты — не женщина. Даже внутри меня ты не вызываешь ничего, что я могу ощущать как женское. Когда я говорю о тебе, слова называют тебя самкой, а выражения обозначают тебя женщиной. Поскольку я должен говорить с тобой нежно и с любовной грезой, слова находят звучание для этого, лишь обращаясь к тебе как к женщине.
Но в твоей смутной сущности ты — ничто. У тебя нет реальности, даже реальности исключительно твоей. Собственно, я тебя не вижу и даже не чувствую. Ты — словно чувство, которое является своим собственным предметом и полностью принадлежит своему сокровенному миру. Ты — всегда пейзаж, который я почти смог узреть, край платья, который я чуть было не увидел, пейзаж, потерянный в вечном Сейчас за поворотом дороги. Твои черты заключаются в том, чтобы быть ничем, а очертания твоего нереального тела рассыпают на отдельные жемчужины ожерелье мысли об очертании. Ты уже прошла, уже была, и я тебя уже любил — чувствовать твое присутствие значит чувствовать это.
Ты занимаешь промежутки между моими мыслями и зазоры в моих ощущениях. Поэтому я о тебе не думаю и тебя не чувствую, но мои мысли суть стрельчатые арки ощущения тебя, а мои чувства — готические колонны взывания к тебе.
Луна утраченных воспоминаний над отчетливо пустым черным пейзажем моего несовершенства, осознающего себя. Мое существо смутно ощущает тебя, как если бы оно было твоим поясом, ощущающим тебя. Я склоняюсь над твоим белым лицом, отраженным в ночных водах моего непокоя, в моем знании о том, что ты — луна на моем небе, создающая его, или странная подводная луна, притворно его показывающая, уж не знаю как.
Кто может создать Новый Взор, которым я смотрел бы на тебя, Новые Мысли и Чувства, которые должны были бы тебя помыслить и почувствовать!
Когда я желаю коснуться твоего плаща, мои выражения утомляются от протяженного усилия его движущихся рук и суровая болезненная усталость замерзает в моих словах. Поэтому, словно полет птицы, как будто приближающейся и никогда не подлетающей, кружит моя мысль вокруг того, что я хотел бы сказать о тебе, но материя моих фраз не умеет подражать сути либо звука твоих шагов, либо следа твоих взглядов, либо пустого и грустного цвета изгиба движений, которых ты никогда не совершала.
* * *
И если я вдруг разговариваю с кем-то далеким, и если, будучи сегодня облаком возможного, завтра ты прольешься на землю дождем реального, никогда не забывай о твоей изначальной божественности в моей мечте. В жизни будь всегда тем, кто может быть грезой отстраненного и никогда приютом для влюбленного. Выполняй свои обязанности обыкновенного бокала. Исполняй свое ремесло бесполезной амфоры. Пусть никто не говорит о тебе то, что душа реки может сказать о берегах, существующих для того, чтобы ее ограничивать. Лучше не бежать в жизни, лучше иссушить грезы.
Пусть твоим гением будет поверхностность, а твоя жизнь — искусством смотреть на нее, быть всегда разным взглядом. Никогда не будь ничем иным.
Сегодня ты — лишь созданное очертание этой книги, воплощенный час, обособленный от других часов. Если бы я был уверен в том, что ты им являешься, я бы выстроил религию из мечты о любви к тебе.
Ты — то, чего всему не хватает. Ты — то, чего не хватает каждой вещи, чтобы мы могли любить ее вечно. Утраченный ключ к дверям Храма, сокрытый путь к Дворцу, далекий Остров, который никогда не виден в тумане…
Божественная зависть
Всякий раз, когда я наслаждаюсь обществом других людей, я завидую той части этого ощущения, которая досталась им. Мне кажется бесстыдством, что они чувствуют то же, что и я, что они наводняют мою душу своею, чувствуя вместе со мною.
Гордость, которую дарит мне созерцание пейзажей, затруднена тем болезненным обстоятельством, что их уже несомненно созерцал кто-то другой таким же взглядом.
В разные часы, разумеется, и в разные дни. Но обратить на это мое внимание означало бы приласкать и успокоить меня посредством схоластики, которая слишком мелка, чтобы я ее заслуживал. Я знаю, что разница не имеет большого значения, что другие, глядя с тем же настроем, созерцали пейзаж не так же, как я, но схожим образом.
Поэтому я всегда стараюсь изменить то, что вижу, так, чтобы сделать неопровержимо моим — изменить при помощи лжи — прекрасное мгновение и сохранить столь же прекрасными очертания гор; заменить некоторые деревья и цветы другими, такими же, но совершенно иными; увидеть другие цвета, обладающие эффектом, похожим на закат, — и так я создаю благодаря своей утонченности и тем же взглядом, которым я спонтанно вижу, внутренний образ внешнего.
Впрочем, это лишь нижняя ступень замещения видимого. В лучшие мгновения погружения в грезы я придумываю намного больше.
Я заставляю пейзаж оказывать на меня музыкальное воздействие, вызывать во мне зрительные образы — это любопытный и чрезвычайно трудный триумф экстаза, достичь которого так трудно из-за того, что вызывающий ощущения фактор относится к тому же порядку ощущений, как и те, которые он должен вызывать. Моим самым большим триумфом такого рода было, когда в определенный двусмысленный час света, глядя на вокзал Каиш-ду-Содре, я отчетливо увидел китайскую пагоду со странными колокольчиками по краям крыш, похожих на нелепые шляпы — любопытная китайская пагода, нарисованная в пространстве, в пространстве-сатине, не знаю как, в пространстве, которое простирается в омерзительное третье измерение. И этот час для меня действительно пах тканью, стелющейся далеко и завидующей реальности…
В лесу отчуждения
Я знаю, что проснулся и что все еще сплю. Мое древнее тело, истерзанное тем, что я живу, говорит мне, что еще очень рано… Я чувствую жар издалека. Я сам себя тягощу, не знаю почему…
В прозрачном оцепенении, отягощенный и бестелесный, я коснею между сном и бодрствованием, в мечтании, которое представляет собой лишь тень грезы. Мое внимание колеблется между двумя мирами и слепо видит глубину моря и глубину неба; и эти глубины проникают друг в друга, смешиваются, и я не знаю, ни где нахожусь, ни о чем мечтаю.
Ветер теней дует пеплом мертвых намерений над тем, чем я стану, проснувшись. С неведомого небосвода льется теплая роса тоски. Неподвижная тревога треплет мне душу изнутри и волнует меня своей неясностью, словно ветер колеблет очертания бокалов.
В мягкой и теплой спальне рассвет снаружи кажется лишь дыханием полумрака. Я весь — спокойное смятение… Зачем должен забрезжить день?.. Мне тяжело знать, что он забрезжит, как если бы от меня требовалось усилие для того, чтобы он появился.
Я успокаиваюсь смятенно и медленно. Цепенею. Плыву в воздухе между бодрствованием и сном, и вот возникает другая разновидность реальности, и вот я посреди нее, не знаю, из каких краев, но не из этих…
Та реальность странного леса возникает, но не гасит эту реальность, реальность теплой спальни. В моем скованном внимании сосуществуют две реальности, словно два перемешивающихся дыма.
Как отчетлив в обеих реальностях этот трепетный прозрачный пейзаж!..
А кто эта женщина, которая вместе со мной облекает своим наблюдением этот чужой лес? Зачем я на мгновение задаюсь этим вопросом?.. Я не умею хотеть это знать…
Неясная спальня — это темное стекло, через которое я осознанно вижу этот пейзаж… И пейзаж этот я уже давно знаю, и уже давно с этой не знакомой мне женщиной я скитаюсь в другой реальности, через ее нереальность. Я чувствую внутри, что уже много веков знаю эти деревья, и эти цветы, и эти никуда не ведущие пути, и это мое существо, которое там блуждает, древнее и очевидное моему взгляду, который облекается в полумрак знанием о том, что я нахожусь в этой спальне…
Время от времени в лесу, где я вижу и чувствую себя нездешним, медленный ветер развеивает дым, и этот дым — отчетливый и темный образ неясной мебели и гардин и их ночного оцепенения, открывающийся из спальни, в которой я сейчас нахожусь. Потом этот ветер минует, и вновь остается один лишь пейзаж того, другого мира…
В другие разы эта узкая комната — лишь туманный пепел на горизонте этой разнообразной земли… И бывают мгновения, когда земля, по которой мы ступаем, является этой зримой спальней…
Я вижу грезы и теряюсь, раздваиваясь между собой и этой женщиной… Сильная усталость — это черный огонь, пожирающий меня… Пассивная сильная тревога — это ложная жизнь, меня подавляющая…
О тусклое счастье!.. Вечное пребывание на развилках дорог!.. Я грежу, и позади моего внимания кто-то грезит со мной… И, быть может, я — всего лишь сон этого Кого-то, которого не существует…
Там, снаружи, рассвет так далек! А лес так близок здесь, перед другими моими глазами!
И я, который, находясь вдали от этого пейзажа, почти его забываю, тоскую по нему, когда его вижу, плачу и рвусь к нему, когда по нему прохожу…
Деревья! Цветы! Ветвистые прятки дорог!..
Иногда мы прогуливались, держась за руки, под кедрами и багряниками, и никто из нас не думал о жизни. Наша плоть была для нас смутным ароматом, а наша жизнь — эхом журчащего источника. Мы брали друг друга за руки, и наши взгляды спрашивали, что значит быть чувственным и хотеть осуществить во плоти иллюзию любви…
В нашем саду были цветы самой разной красоты… — розы со свернутыми очертаниями, ирисы желтеющей белизны, маки, которые были бы сокрыты, если бы их присутствие не выдавал их красный окрас, немного фиалок на взъерошенном краю клумб, маленькие незабудки, лишенные аромата камелии… И, застыв на высоких стеблях, отдельные подсолнухи, словно глаза, пристально смотрели на нас.
Мы соприкасались душой, которая была полностью видна сквозь свежесть мхов, и, проходя среди пальм, проникались ясным осознанием других земель… И нас охватывал плач при воспоминании, потому что даже здесь, будучи счастливыми, мы не были счастливы…
Наши ноги спотыкались о мертвые щупальца корней дубов, полных узловатых веков… Столбами стояли платаны… А там, дальше, между деревьями вблизи, висели в тишине беседок чернеющие гроздья винограда…
Наша мечта о жизни неслась перед нами на крыльях, и мы улыбались ей одинаковой и отстраненной улыбкой, сочетавшейся в душах, хотя мы не смотрели друг на друга и не знали друг о друге ничего, кроме присутствия руки, опиравшейся на самозабвенно внимательную другую руку, ее чувствовавшую.
У нашей жизни не было нутра. Мы были снаружи и были другими. Мы не знали друг друга, мы словно явились нашим душам после путешествия сквозь грезы…
Мы забыли о времени, а безбрежное пространство съежилось в нашем внимании. Было ли за пределами этих близких деревьев, этих отдаленных беседок, этих последних гор на горизонте что-то реальное, достойное открытого взгляда, устремленного на существующие вещи?..
В клепсидре нашего несовершенства размеренно падавшие капли грез отмечали нереальные часы… Ничто не достойно, о моя далекая любовь, кроме знания о том, как приятно знать, что ничто не достойно…
Застывшее движение деревьев; беспокойное спокойствие источников; неопределимое дыхание внутреннего ритма жизненных соков; медленное наступление вечера вещей, которое словно идет изнутри для того, чтобы протянуть руки духовного согласия далекой грусти, а вблизи души — из высокой тишины неба; опадание листвы, равномерное и бесполезное, капли отчуждения, в которых пейзаж перетекает для нас в слух и грустнеет в нас, как воспоминание о родине, — все это, как развязывающийся ремень, неясно опоясывало нас.
Там мы проживали время, которое не умело течь, пространство, о возможности измерения которого не нужно было заботиться. Течение вне Времени, протяженность, которой были неведомы привычки пространственной реальности… Сколько часов, о бесполезная спутница моей тоски, сколько часов счастливого непокоя притворно принадлежали нам там!.. Часы духовного пепла, дни пространственной печали, внутренние века внешнего пейзажа… И мы не спрашивали себя, зачем все это, потому что наслаждались знанием того, что все это было ни к чему.
Там, благодаря интуиции, которой у нас, разумеется, не было, мы знали, что этот страдающий мир, в котором нас было бы двое, если бы он существовал, лежал за крайней линией, где горы суть дыхание форм, а за ней не было ничего. И вследствие противоречия этого знания наш час там был темен, как пещера в краю суеверных, а наше осязание этого часа было странным, как очертания мавританского города на фоне сумеречного осеннего неба…
На горизонте того, что охватывал наш слух, волны неведомых морей касались пляжей, которые мы никогда не смогли бы увидеть, и для нас было счастьем слышать и почти видеть в нас это море, которое, несомненно, бороздили каравеллы, преследуя цели, отличные от целей полезных и навязываемых Землей.
Как тот, кто замечает, что живет, мы вдруг замечали, что воздух полон пения птиц и что, словно старые ароматы на сатине, шелест соприкасающихся листьев проникал в нас глубже, чем осознание того, что мы его слышим.
Так, благодаря бормотанию птиц, шепоту аллей и однообразному и забытому фону вечного моря наша жизнь в одиночестве обретала ореол нашего незнания ее. Мы днями спали там бодрствуя, довольные тем, что не были ничем, что у нас не было ни желаний, ни надежд, что мы забыли цвет любви и вкус ненависти. Мы считали себя бессмертными…
Там мы проживали часы, ощущая их иначе, часы пустого несовершенства и потому такие совершенные, такие диагональные по отношению к прямоугольной определенности жизни… Низложенные имперские часы, часы, облеченные в изношенный пурпур, часы, упавшие в этот мир из мира другого, гордого тем, что в нем больше рухнувших тревог…
И нам было больно наслаждаться этим, было больно… Потому что этот пейзаж, хотя и были в нем нотки спокойного изгнания, создавал в нас впечатление, что мы принадлежим этому миру; весь пейзаж был влажен от великолепия неясной тоски, грустной и безбрежной и порочной, как упадок безвестной империи…
На занавесках нашей спальни утро — как тень света. Мои губы бледны, и я знаю об этом; каждая из губ ощущает, что у другой — вкус нежелания жизни.
Воздух в нашей безликой комнате тяжел, словно гардина. Наше сонное внимание к тайне всего этого вяло, как шлейф платья, влачащийся в сумеречной церемонии.
Ни у одной из наших тревог нет разумного основания. Наше внимание — абсурд, допускаемый нашим крылатым бездействием.
Не знаю, какие масла полумрака умащивают наше представление о собственном теле. Усталость наша есть тень усталости. Она приходит к нам издалека, как и наше представление о том, что наша жизнь существует…
Ни у кого из нас нет ни имени, ни правдоподобного существования. Если бы мы могли быть шумными настолько, чтобы представлять, как мы смеемся, мы, без сомнения, смеялись бы над тем, что считаем себя живыми. Теплая свежесть простыни ласкает (тебя, как и меня, наверное) наши ноги, которые одна рядом с другой чувствуют себя обнаженными.
Разочаруемся же, любовь моя, в жизни и в ее манерах. Убежим, чтобы быть собой… Не будем снимать с пальца волшебное кольцо, которое призывает, когда его покрутят, фей тишины и эльфов тени и гномов забвения…
И вот, когда мы собирались помечтать о том, как говорим в лесу, он вновь возникает перед нами, разнообразный, но еще более смятенный от нашего смятения и грустный от нашей грусти. От нее бежит, как развеивающийся туман, наша богиня реального мира, и я снова обладаю собой в моем странствующем сне, обрамленном этим таинственным лесом…
Цветы, цветы, которыми я жил там! Цветы, которые взор, зная их, переводил в названия и аромат которых принимала душа, не в них самих, а в мелодии названий… Цветы, чьи названия повторялись последовательно, словно оркестры звучных ароматов… Деревья, чье зеленое сладострастие дарило тень и свежесть тому, как они назывались… Плоды, которым давали название зубы, впивающиеся в душу их мякоти… Тени, которые были реликвиями минувших счастливых времен… Поляны, светлые поляны, которые были открытыми улыбками пейзажа, зевавшего вблизи… О многоцветные часы!.. Цветы-мгновения, деревья-минуты, о застывшее в пространстве время, мертвое время пространства, покрытое цветами и ароматом цветов и ароматом названий цветов!..
Безумие грез в той чуждой тишине!..
Наша жизнь была всей жизнью… Наша любовь была ароматом любви… Мы проживали невозможные часы, полные нашего бытия… И это потому, что мы знали всей плотью нашей плоти, что мы не были реальностью…
Мы были безличны, мы были пустотой себя, чем угодно другим… Мы были тем улетучивающимся пейзажем в собственном сознании… И подобно тому, как раздваивался этот пейзаж — пейзаж реальности и иллюзии — неясно раздваивались и мы, и ни один из нас точно не знал, не был ли другой самим собой, жил ли неясный другой…
Когда мы вдруг оказывались перед застывшими озерами, мы чувствовали, как хотим рыдать навзрыд… Там у этого пейзажа были глаза, остановившиеся глаза, полные слез и неисчислимой тоски бытия… Да, исполненные тоски бытия, необходимости быть чем-то, реальностью или иллюзией — и у этой тоски была своя родина и свой голос в немоте и в отчужденности озер… А мы все время шагали, того не зная и не желая, и даже так казалось, что мы останавливались на берегах этих озер, потому что так много от нас оставалось с ними, становясь символами и поглощенностью…
И каким свежим и счастливым был ужас оттого, что там никого не было! Даже нас, шагавших там, там не было… Потому что мы не были никем. Мы даже не были ничем…
У нас не было жизни, которую бы Смерти нужно было убить. Мы были так слабы и низменны, что уплывающий ветер оставил нас никчемными, и час проходил, лаская нас, как легкий бриз ласкает верхушку пальмы.
У нас не было ни эпохи, ни устремления. Все предназначение вещей и существ для нас осталось у двери этого рая отсутствия. Замерла, чтобы почувствовать, как мы чувствуем его, морщинистая душа стволов, широкая душа листьев, возмужавшая душа цветов, склонившаяся душа плодов…
И так мы умертвили нашу жизнь; мы так внимательно умертвили ее каждый по отдельности, что не заметили, что мы были одним, что каждый из нас был иллюзией другого и каждый внутри себя был простым эхом своего собственного бытия…
Жужжит муха, неуверенная и мелкая…
В моем внимании брезжат смутные, отчетливые и рассеянные звуки, заполняющие в наступившем дне мое осознание нашей комнаты… Нашей комнаты? Кого нас двоих, если я один? Не знаю. Все сливается, и остается лишь убегающая реальность-мгла, в которой моя неуверенность тревожится, а мое понимание себя, убаюкиваемое опиумом, засыпает…
Утро прорвалось, словно падение, с бледной верхушки Часа…
Перестали гореть, любовь моя, в очаге нашей жизни щепки наших снов…
Разочаруемся же в надежде, потому что она предает, в любви, потому что она утомляет, в жизни, потому что она докучает и не насыщает, и даже в смерти, потому что она приносит больше, чем хочешь, и меньше, чем ожидаешь.
Разочаруемся же, о Сокрытая, в нашей собственной тоске, потому что она стареет сама по себе и не решается быть всей печалью, которой она является.
Не будем ни плакать, ни ненавидеть, ни желать…
Покроем, о Молчаливая, простыней из тонкого льна строгий мертвый профиль нашего Несовершенства…
Водопад
Ребенок знает, что кукла — неживая, но обращается с ней как с живой, и плачет, и расстраивается, когда она ломается. Искусство ребенка — в том, что он предается нереальности. Благословенна эта пора заблуждений в жизни, когда любовь отвергается, потому что нет пола, когда отвергается реальность ради игры и нереальные вещи принимаются за настоящие!
Пусть я снова стану ребенком, и навсегда им останусь, и мне будет неважна ни ценность, которую люди придают вещам, ни отношения, которые люди выстраивают между вещами. В детстве я часто ставил оловянных солдатиков вверх ногами… И есть ли какой-либо убедительный, с точки зрения логики, довод, который доказывает, что настоящие солдаты не должны ходить головой вниз?
Ребенок видит в золоте не больше ценности, чем в стекле. Разве золото на самом деле ценнее? — Ребенок неосознанно считает нелепыми страсти, злость, страхи, которые видит в поведении взрослых. И разве на самом деле не абсурдны и не никчемны все наши страхи, вся наша ненависть и вся наша любовь?
О божественная и нелепая детская интуиция! Истинное видение вещей, которые мы облекаем в условности, когда видим их обнаженными, которые мы затуманиваем нашими мыслями, когда непосредственно их созерцаем!
Быть может, Бог — это очень большой ребенок? Разве вся вселенная не кажется игрушкой, забавой шаловливого ребенка? Такой нереальной, такой ‹…›, такой ‹…›
Я бросил вам со смехом эту мысль, и посмотрите, как, наблюдая за ней на расстоянии от себя, я вдруг вижу, насколько она ужасна (кто знает, нет ли в ней правды?). И она падает и рассыпается у моих ног пылью ужаса и осколками тревоги…
Я просыпаюсь, чтобы знать, что существую…
Неясная большая тоска ошибочно полощет горло у уха, водопадами, там, внизу, у пасеки, в глупой глубине сада.
Воспитание чувств
Для того, кто обращает грезу в жизнь, а взращивание своих ощущений в оранжерее — в религию и политику, первый шаг — то, что подтверждает в душе, что он сделал первый шаг, — состоит в том, чтобы чувствовать любые мелочи чрезмерно и исключительно. Это — первый шаг, и просто первый шаг есть не более, чем это. Уметь вкладывать в смакование чашки чая крайнее сладострастие, которое нормальный человек может найти лишь в крайней радости, проистекающей от неожиданно удовлетворенного устремления, или от внезапного исчезновения тоски, или же в заключительных плотских действиях любви; обнаруживать в образе заката или в созерцании декоративной детали то обостренное чувствование, которое обычно может подарить не что-то видимое или слышимое, а нечто пахнущее или приносящее удовольствие — та близость к предмету ощущения, которую лишь плотские ощущения — осязание, вкус, обоняние — ваяют на пути к сознанию; превращать внутреннее зрение, слух мечты — все предполагаемые чувства и чувства предполагаемого — в нечто получаемое и осязаемое как чувства, обращенные вовне: я выбираю эти ощущения и подобные им из тех, которые человеку, уже научившемуся чувствовать себя, удается обратить в спазмы так, чтобы они дали конкретное и близкое понятие того, что я пытаюсь сказать.
Однако достижение этой степени ощущений приносит любителю ощущений соответствующую тяжесть или физическое бремя, которое он, соответственно, чувствует с той же сознательной обостренностью, то болезненное ощущение, что довлеет извне, а иногда и изнутри над его мгновением сосредоточенности. Когда мечтатель таким образом замечает, что чрезмерное чувствование иногда означает чрезмерное наслаждение, но порой приводит к бескрайнему страданию, и поскольку он это замечает, он подходит к тому, чтобы сделать второй шаг на пути восхождения к самому себе. Я отложу рассмотрение шага, который он либо сделает, либо нет и который, в зависимости от того, сделает он его или нет, определит то или иное поведение, характер совершаемых им шагов в соответствии с тем, может он или нет полностью отстраниться от реальной жизни (что определяется тем, богат он или нет). Поэтому я считаю, что между строк того, о чем я повествую, подразумевается, что, в зависимости от того, возможно или нет для мечтателя отстраниться и предаться самому себе, он с большим или меньшим усердием должен сосредоточиться на болезненном пробуждении своего восприятия вещей и мечтаний. Тот, кто должен жить активно среди людей, встречаясь с ними — а необходимую близость с ними действительно можно свести к минимуму (по-настоящему вредна близость, а не простое общение с людьми), — должен будет заморозить всю свою поверхность сосуществования для того, чтобы всякий дружественный и социальный жест, обращенный к нему, соскальзывал и не проникал в него или не оставлял следа. Кажется, что это очень много, но это мало. Отдалиться от людей легко: достаточно лишь не приближаться к ним. В общем, я оставляю этот пункт и возвращаюсь к тому, что объяснял.
Придание остроты и непосредственной сложности самым простым и неизбежным ощущениям приводит, как я сказал, в случае неумеренного увеличения наслаждения, приносимого чувствованием, также к несообразному усилению страдания от чувствования. Поэтому вторым шагом мечтателя должно стать избегание страдания. Он не должен будет избегать его как стоик или ранний эпикуреец — покидая себя, потому что так он становится менее чувствительным как к наслаждению, так и к боли. Напротив, он должен будет искать удовольствия в боли и затем воспитывать себя в том, чтобы чувствовать ложную боль, то есть, испытывая боль, чувствовать определенное удовольствие. Для этого есть различные пути. Один из них — чрезмерно усердствовать в изучении боли, предварительно расположив дух к тому, чтобы, столкнувшись с удовольствием, не анализировать его, а лишь чувствовать; разумеется, для высших людей очевидно, что этот подход легче, чем представляется, когда о нем говорят. Анализировать боль означает привыкнуть к тому, чтобы инстинктивно, не задумываясь, подвергать ее анализу всякий раз, когда она возникает, усиливая удовольствие от боли удовольствием от ее анализа. Когда сила и инстинкт анализа развиты, короткое упражнение в нем поглощает все, и от боли остается лишь неопределенная материя для анализа.
Другой метод, более тонкий и более сложный, заключается в том, чтобы приучиться воплощать боль в определенной идеальной фигуре. Создать другое «Я», которое будет обязано страдать в нас, страдать от того, чем мы страдаем. Затем создать внутренний садизм, совершенно мазохистский, который будет наслаждаться своим страданием так, как если бы его испытывал кто-то другой. Этот метод — который, на первый взгляд, представляется невозможным — непрост, но вовсе не содержит трудностей для тех, кто поднаторел во внутренней лжи. Однако он, очевидно, осуществим. Если достичь этого, какой привкус крови и болезни, какую странную горечь далекого и упадочного наслаждения приобретают боль и страдание! Боль уподобляется беспокойному и досадному апогею судорог. Страданию, долгому и медленному, присуща внутренняя желтизна неясного счастья, вызываемого глубоко прочувствованным выздоровлением. И изощренность, истраченная на непокой и недуг, приближает то сложное ощущение беспокойства, которое вызывают удовольствия мыслью о том, что они ускользнут, и ту боль, которую наслаждения извлекают из предвкушения усталости, рождающейся от размышлений об усталости, которую они принесут.
Есть третий метод, чтобы обратить боль в удовольствие и превратить сомнения и беспокойства в мягкое ложе. Он состоит в том, чтобы посредством взбудораженного приложения внимания придать тревогам и страданиям такую насыщенность, что они будут приносить удовольствие от избытка за счет самого избытка, так же, как посредством насилия тот, кто в силу привычки и воспитания души всецело предается удовольствию, обретает удовольствие, которое причиняет боль вследствие своей силы, и наслаждение, пахнущее кровью, потому что ранит. И когда, как во мне — шлифовальщике, оттачивающем ложное изящество, архитекторе, выстраивающем себя из ощущений, утонченных посредством разума, отречения от жизни, анализа и самой боли — все три метода применяются вместе, когда боль, ощущаемая мгновенно и без промедлений для внутренней стратегии, анализируется вплоть до бесстрастности, помещается во внешнем «Я» вплоть до тирании и хоронится во мне вплоть до апогея боли, тогда я действительно чувствую себя триумфатором и героем. Тогда передо мной останавливается жизнь и искусство падает к моим ногам.
Все это составляет лишь второй шаг, который мечтатель должен сделать ради своей мечты.
Третий шаг, который ведет к богатому порогу Храма, — кто, кроме меня, смог его сделать? Он тяжело дается, потому что требует намного более трудного внутреннего усилия, чем усилие в жизни, но приносит вознаграждение душе, которого жизнь никогда не сможет дать. Этот шаг, когда все это произошло, когда все это сделано полностью и одновременно — да, путем исчерпывающего применения трех тонких методов, — заключается в том, чтобы мгновенно провести ощущение сквозь чистый разум, пропустить его через высший анализ, чтобы оно вылилось в литературную форму и обрело собственные очертания. Тогда я его полностью зафиксировал. Тогда я превратил нереальное в реальное и поставил недосягаемому вечный пьедестал. Тогда я внутри себя был коронован Императором.
Не думайте, что я пишу, чтобы издать это, или чтобы писать, или даже ради искусства. Я пишу, потому что в этом и состоит цель, высшая утонченность, темпераментно нелогичная утонченность ‹…› взращивания во мне состояний души. Если я ухватываю какое-нибудь свое ощущение и разматываю его настолько, что могу выткать для него внутреннюю реальность, которую я называю либо Лесом Отчуждения, либо Никогда Не Совершённым Путешествием, поверьте, я это делаю не для того, чтобы проза звучала ясно и звонко, и даже не для моего собственного наслаждения прозой — хотя и этого я хочу и добавляю этот окончательный штрих, подобный падению занавеса перед воображаемыми мною декорациями, — а для того, чтобы придать полную наружность внутреннему и осуществить тем самым неосуществимое, сопрячь противоречивое и, вернувшись к внешней мечте, наделить ее максимальной силой мечты чистой, чтобы сделал это я, вносящий оцепенение в жизнь, гравирующий неточности, болезненный паж моей души-Королевы, которой я читаю в сумерках не поэмы о моей жизни из книги, лежащей у меня на коленях, а поэмы, которые я выстраиваю и притворяюсь, будто читаю, а она притворяется, будто слушает, пока Вечер там, снаружи, не знаю где и как, гасит над этой метафорой, возведенной во мне в Абсолютную Реальность, последний слабый свет таинственного духовного дня.
Декларация отличия
Дела государственные и городские над нами не властны. Нас нисколько не интересует, что министры и власть предержащие притворно управляют делами нации. Все это находится там, снаружи, как уличная грязь в дождливые дни. Мы к этому не имеем никакого отношения, равно как и с нами это никак не связано.
Подобным же образом нас не интересуют великие потрясения вроде войн и кризисов в разных странах. Пока они не входят в наш дом, нас не интересует, в какие двери они стучат. Кажется, будто это зиждется на презрении к остальным, но на самом деле в основе этого лежит наше скептическое суждение о себе самих.
Мы не добры и не милосердны — не потому, что мы являемся противоположностью этого, а потому, что мы не обладаем ни тем, ни другим качеством. Доброта — это утонченность грубых душ. Для нас она представляет интерес как эпизод, имевший место в других душах и посредством другого образа мысли. Мы наблюдаем, не одобряя и не отвергая. Наше дело — быть ничем.
Мы были бы анархистами, если бы родились в классах, которые называют сами себя незащищенными, или в любых других, из которых можно опуститься или подняться. Но на самом деле мы, как правило, представляем собой создания, рожденные в промежутках между классами и социальными различиями — почти всегда в том декадентском пространстве между аристократией и (крупной) буржуазией, в социальном месте гениев и безумцев, которым можно симпатизировать.
Действие сбивает нас с толку, отчасти вследствие физической неспособности, еще больше вследствие нравственной бездеятельности. Действие кажется нам безнравственным. Нам кажется, что любая мысль мельчает, когда ее выражают словами, которые превращают ее в нечто принадлежащее другим, которые делают ее понятной для тех, кто ее понимает.
Мы испытываем большую симпатию к оккультизму и к тайным искусствам. Однако мы не оккультисты. Для этого нам недостает врожденной воли и даже терпения, дабы воспитать ее так, чтобы она стала идеальным инструментом магов и гипнотизеров. Но оккультизм нам симпатичен, прежде всего потому, что он, как правило, изъясняется так, что многие читающие и даже многие полагающие, что понимают его, не понимают ничего. Это таинственное поведение возвышенно и заносчиво. Кроме того, оно представляет собой богатый источник ощущений тайны и ужаса: личинки астрального, странные существа с различными телами, к которым церемониальная магия взывает в своих храмах, бестелесное присутствие материи такого рода, которое витает вокруг наших замкнутых чувств, в физической тишине внутреннего звука, — все это нас ласкает липкой, ужасной рукой в бесприютности и темноте.
Но мы не симпатизируем оккультистам, когда они выставляют себя апостолами, любящими человечество; это лишает их тайны. Единственная причина, по которой оккультист действует в астральной сфере, заключается в том, чтобы делать это ради высшей эстетики, а не ради зловещей цели творить добро ради какого-то человека.
Мы этого почти не знаем, и нас искушает древнее пристрастие к черной магии, к запретным формам трансцендентной науки, к Могущественным Властителям, которые продались Осуждению и позорному Воплощению. Наши очи слабых и неуверенных людей теряются с женской ревностью в теории опрокинутых ступеней, в совершаемых наоборот обрядах, в зловещем повороте нисходящей иерархии.
Хотя мы этого и не хотим, у Сатаны для нас есть предложение, как у самца для самки. Змей Материального Ума обвился вокруг нашего сердца, словно вокруг символического Кадуцея вещающего Бога — Меркурия, властителя Понимания.
Те из нас, кто не относится к числу педерастов, хотели бы отважиться ими быть. Всякая неспособность к действию неизбежно лишает мужественности. Мы потерпели неудачу на нашем настоящем поприще домохозяек и кастелянш, не изменив пол в нынешнем своем воплощении. Хотя мы совершенно в это не верим, есть ирония в том, чтобы притворяться, будто мы в это верим.
Все это является следствием не злобности, а слабости. Наедине с собой мы обожаем зло не потому, что оно — зло, а потому, что оно сильнее и насыщеннее Добра, а все сильное и насыщенное привлекает нервы, которые должны были быть женскими. «Pecca fortiter»� — не для нас, ибо у нас нет силы, даже силы ума, единственной, которая у нас есть. Думай о том, чтобы смело грешить — вот максимум того, что может значить для нас это проницательное указание. Но даже это иногда для нас недосягаемо: в самой внутренней жизни есть реальность, которая иногда причиняет нам боль, поскольку является какой угодно реальностью. Существование законов сочетания идей, как и всех операций духа, оскорбляет нашу врожденную распущенность.
Зрительно влюбленный
О глубокой любви и ее полезном использовании у меня представление поверхностное и декоративное. Я подвержен зрительным страстям и оставляю нетронутым сердце, предназначенное для более нереальной судьбы.
Я не помню, чтобы я любил что-либо, кроме «картины» кого-то, кроме чисто внешней стороны — куда душа проникает лишь затем, чтобы оживить эту внешнюю сторону и сделать ее такой отличной от картин, что пишут художники.
Я люблю так: замечаю какую-нибудь красивую, привлекательную или в чем-то обаятельную фигуру женщины или мужчины — там, где нет желания, нет и предпочтений относительно пола, — и эта фигура меня ослепляет, захватывает, овладевает мною. Однако я хочу лишь видеть ее, и ничто не кажется мне таким ужасным, как возможность ‹…› познакомиться и поговорить с настоящей личностью, внешним представлением которой эта фигура является.
Я люблю взглядом, а не фантазией. Потому что я ничего не придумываю о той фигуре, которая меня захватывает. Я не представляю себя связанным с ней как-либо иначе, потому что моей любви, очевидно, сказать нечего. Мне не интересно знать, кто это существо, которое представляет моему взору свой внешний вид, чем оно занимается и что думает.
Необозримая череда людей и вещей, образующих мир, для меня подобна бесконечной галерее картин, чья внутренняя сторона меня не интересует. Не интересует, потому что душа однообразна и всегда одинакова у всех; различаются лишь ее личные проявления, и лучшее в ней то, что переливается в грезы, поведение, жесты и проникает тем самым в картину, которая меня захватывает и в которой я угадываю свойственные этой привязанности черты.
Для меня у существа нет души. Душа находится только с самой собой.
Так я проживаю, в чистом образе, одушевленную внешнюю сторону вещей и существ, оставаясь безразличным, словно бог из другого мира, к их содержимому-духу. Я углубляю собственное существо лишь в пространстве, а когда жажду глубины, то ищу ее в себе и в моем понимании вещей.
Что может дать мне личное знакомство с существом, которое я люблю в декорации? Не разочарование, потому что, раз я люблю в нем только внешность и ничего о ней не придумываю, его глупость или посредственность не играет никакой роли, потому что я не ожидал ничего иного, кроме внешности, которой я не должен был ожидать, и именно внешность остается. Но личное знакомство вредно вследствие своей бесполезности, а материальная бесполезность всегда вредна. Знать имя существа — для чего? А это первое, что я узнаю, когда меня ему представляют.
Личное знакомство также требует свободы созерцания, которого желает мой способ любви. Мы не можем разглядывать, созерцать свободно тех, кого знаем лично.
Поверхностное менее значимо для художника, поскольку оно его сбивает с толку и тем самым ослабляет впечатление.
Мое естественное предназначение неопределенного и страстного созерцателя внешностей и проявления вещей — объективизировать грезы, зрительно любить формы и детали природы. Это не тот случай, который психиатры называют психическим онанизмом, и даже не то, что они называют эротоманией. Я не выдумываю, как в случае психического онанизма; я не представляю себе во сне, что я — любовник или даже просто собеседник существа, которое я разглядываю и запоминаю: я ничего не придумываю. И, в отличие от эротомана, я не идеализирую его и не переношу за пределы сферы конкретной эстетики: я о нем думаю и от него хочу лишь того, что оно дает моим глазам, и непосредственной и чистой памяти того, что увидели глаза.
* * *
И не в моих привычках плести кружева фантазии вокруг этих фигур, созерцанием которых я себя развлекаю. Я вижу их, и их ценность для меня заключается лишь в том, что я их вижу. Все прочее, что могло бы к ним примкнуть, уменьшило бы их, потому что, скажем так, уменьшило бы их «зримость».
Сколько бы я ни фантазировал о них, я автоматически, в сам момент фантазирования, распознал бы в этом фальшь; и если воображаемое мне приятно, фальшивое мне противно. Чистая греза меня восхищает, греза, не связанная с реальностью и нигде с ней не соприкасающаяся. Несовершенная мечта, отталкивающаяся от жизни, меня раздражает или, вернее, вызвала бы у меня раздражение, если бы я в ней запутался.
Для меня человечество — это огромный декоративный мотив, живущий за счет глаз и ушей и даже психологических переживаний. От жизни я хочу только возможности присутствовать при ней. От себя я хочу только возможности присутствовать при жизни.
Я словно существо, обладающее другим существованием и проходящее сквозь него с неопределенным интересом. Я во всем этому существованию чужд. Между мной и ним словно есть стекло. Я хочу, чтобы это стекло всегда было прозрачным, чтобы я мог изучать существование, не искаженное промежуточным инструментом; но при этом я хочу, чтобы это стекло оставалось.
Для всякого научно устроенного духа видеть в чем-то больше, чем то, что в нем есть, означает меньше видеть это что-то. То, что вырастает материально, духовно уменьшается.
Я отношу на счет этого состояния души мое отвращение к музеям. Музей для меня — это вся жизнь, в которой живопись всегда точна, и неточность может быть обусловлена только несовершенством созерцателя. Но это несовершенство я либо пытаюсь уменьшить, либо, если мне это не удается, довольствуюсь им, поскольку оно, как и все, может быть только таким.
Имперская легенда
Мое Воображение — город на Востоке. Всей его реальной структуре в пространстве присуще поверхностное сладострастие богатого и мягкого ковра. Лавки, расцвечивающие его улицы, выделяются на неведомом, им не принадлежащем фоне, как желтые или алые кружева на светло-голубом сатине. Вся предшествующая история этого города вьется вокруг лампы моей мечты, словно бабочка, которую едва слышно в полумраке комнаты. Некогда моя фантазия жила в роскоши и получала из рук королев сокрытые древние драгоценности. Внутреннюю вялость занесли пески моего несуществования, а водоросли, как дыхание полумрака, всплыли на поверхность моих рек. Поэтому я стал портиками затерянных цивилизаций, лихорадочными арабесками на мертвых фризах, почерневшими пятнами вечности в изгибах рухнувших колонн, мачтами давно потонувших кораблей, ступеньками низвергнутых престолов, вуалями, ничего не прикрывающими и словно обволакивающими тени, восставшими из земли призраками, подобными дыму опрокинутых кадил. Мое царствование было пагубным, а имперский мир в моем дворце был полон войн на далеких границах. Всегда близок нерешительный шум далеких празднеств; всегда под моими окнами шествуют процессии; но нет ни ярко-золотых рыб в моих прудах, ни плодов среди застывшей зелени моего яблоневого сада; и даже в бедных лачугах, где счастливы другие, дым труб позади деревьев не убаюкал простыми балладами врожденную тайну моего осознания меня.
Как правильно мечтать
Сначала позаботься о том, чтобы ничего не уважать, ни во что не верить, ни во что ‹…›
От своего отношения к тому, чего ты не уважаешь, сохрани желание что-либо уважать; от твоей неприязни к тому, что не любишь, — болезненное желание кого-нибудь любить; от твоего презрения к жизни сохрани мысль о том, что, должно быть, хорошо ее проживать и любить. Так ты заложишь фундамент для здания твоих грез.
Заметь, что дело, за которое ты собираешься взяться, превыше всего. Мечтать значит находить себя. Ты станешь Колумбом своей души. Ты будешь искать ее пейзажи. Поэтому позаботься о том, чтобы твой курс был верным и чтобы тебя не могли подвести твои инструменты.
Искусство мечтать трудно, потому что это искусство пассивности, в котором усилием является сосредоточенность на отсутствии усилия. Искусство спать, если бы оно существовало, должно было бы, так или иначе, на него походить.
Обрати внимание: искусство мечтать — это не искусство направлять мечты. Направлять значит действовать. Настоящий мечтатель отдается себе, предает себя в свои собственные руки.
Избегай любых материальных провокаций. Вначале возникает соблазн мастурбации. Соблазн алкоголя, опиума, ‹…› Все это — усилие и поиск. Чтобы быть хорошим мечтателем, ты должен быть только мечтателем. Опиум и морфий можно купить в аптеках — как, думая об этом, ты можешь желать мечтать с их помощью? Мастурбация — вещь физическая; как ты можешь хотеть, чтобы ‹…›
Представлять, как мастурбируешь, допустимо; мечтать о том, чтобы курить опиум, принимать морфий, и пьянеть от мысли об опиуме ‹…› о морфии мечтаний — за такое тебя можно только похвалить: ты вжился в золотую роль идеального мечтателя.
Всегда считай себя грустнее и несчастнее, чем на самом деле. Плохого в этом не будет. Это даже может быть своего рода лестницей для мечты.
* * *
Отложи все. Никогда не стоит делать сегодня то, что можно позволить себе сделать завтра. Да и вовсе не нужно ничего делать ни сегодня, ни завтра.
Никогда не думай о том, что будешь делать. Не делай.
Проживай свою жизнь. Не позволяй ей проживать тебя. В истине и в заблуждении, в удовольствии и в хвори будь своим собственным бытием. Этого ты сможешь добиться лишь мечтая, потому что твоя настоящая жизнь, твоя человеческая жизнь принадлежит не тебе, а другим. Так ты заменишь жизнь мечтой, и тебя едва ли будет заботить, идеально ли ты мечтаешь. Во всех твоих действиях в реальной жизни, с рождения и до смерти, ты не действуешь: тобой действуют; ты не живешь: тебя проживают.
Превратись для остальных в нелепого сфинкса. Закройся в твоей башне из слоновой кости, но не хлопая дверью. А твоя башня из слоновой кости — это ты сам.
А если кто-то тебе скажет, что это ложь и абсурд, не верь ему. Но не верь и тому, что тебе говорю я, потому что ничему нельзя верить.
Презирай все, но так, чтобы презрение тебе не докучало. Не считай себя выше презрения. В этом заключается благородное искусство презрения.
* * *
Если ты будешь постоянно мечтать, все в жизни будет причинять тебе больше страдания ‹…›
Это будет твой крест.
Как правильно мечтать согласно метафизикам
Рассудительность — все будет просто, потому что для меня все — мечта. Я приказываю себе мечтать об этом и мечтаю. Иногда я создаю в себе философа, который аккуратно описывает мне философии, пока я, паж, влюбленный в дочь философа, чьей душой я являюсь, стою у окон его дома.
Разумеется, я ограничен своими знаниями. Я не могу создать математика… Но я довольствуюсь тем, что имею и чего достаточно для бесконечных сочетаний и бесчисленных грез. Впрочем, кто знает, не добьюсь ли я мечтаниями чего-то большего. Но оно того не стоит. Я и так самодостаточен.
Распыление личности. Я не знаю, каковы мои мысли, мои чувства, мой характер… Если я что-то чувствую, я смутно это чувствую в обретшей зримые очертания личности какого-либо существа, что появляется во мне. Я заменил себя моими мечтами. Каждый человек — лишь его собственная мечта о себе самом. А я не являюсь даже этим.
Никогда не дочитывать книгу до конца и не читать ее последовательно, не перескакивая.
Я никогда не знал, что чувствую. Когда мне говорили о том или ином переживании и описывали его, я всегда чувствовал, что описывали нечто из моей души, но затем, размышляя над этим, я всегда сомневался. Я не знаю, действительно ли я являюсь тем, чем, как я чувствую, я являюсь, или я просто считаю, что я этим являюсь. Я — персонаж моих собственных драм.
Усилие бесполезно, но оно развлекает. Рассуждение бесплодно, но забавно. Любить утомительно, но, быть может, предпочтительнее, чем не любить. Однако мечта заменяет все. В ней может полностью присутствовать понятие усилия без настоящего усилия. Внутри мечты я могу вступать в битвы, не опасаясь испытать страх или быть раненым. Я могу рассуждать, не намереваясь обрести истину, которой никогда не достичь; не желая решить какую-то задачу, которую я никогда не решу; не ‹…› Я могу любить, зная, что меня не отвергнут, не предадут и не будут мне досаждать. Я могу менять возлюбленную, и она всегда будет одной и той же. А если я захочу, чтобы она мне изменила и ускользнула от меня, в моих силах сделать так, чтобы это случилось, причем всякий раз так, как я этого хочу, так, чтобы мне это было приятно. В мечтах я могу испытывать самую глубокую тревогу, терпеть худшие пытки, одерживать величайшие победы. Я могу ощущать все это так, как если бы это происходило в жизни: это зависит лишь от моих возможностей сделать мечту живой, отчетливой, реальной. Это требует стараний и внутреннего терпения.
Есть разные способы мечтать. Один из них заключается в том, чтобы забыться в мечтах, не пытаясь сделать их отчетливыми, дать себе углубиться в неясные сумерки собственных ощущений. Этот способ хуже и утомительнее, потому что он однообразен, всегда одинаков. Бывают мечты отчетливые и направляемые, но в этом случае усилие, предпринимаемое для управления мечтой, требует чрезмерных ухищрений. Великий мастер, такой мечтатель, как я, лишь совершает усилие, заключающееся в желании, чтобы мечта была такой-то, чтобы она выполняла такие-то прихоти… И она разворачивается перед ним так, как он того желал бы, но не смог бы придумать, не имея на то оправдания. Я хочу увидеть себя королем… Я хочу, чтобы это произошло немедленно. И вот я мгновенно оказываюсь королем какой-нибудь страны. Какой, какого рода — это мне скажет мечта… Потому что я одержал победу над тем, о чем мечтаю — мои мечты всегда неожиданно приносят мне то, чего я хочу. Часто я совершенствую и делаю более отчетливой мысль, которая предстала мне лишь в смутном образе. Я совершенно неспособен сознательно вообразить Средневековья различных эпох и различных Земель, которые видел в мечтах. Меня ослепляет избыток воображения, которого я за собой не знал и который теперь вижу. Я позволяю мечтам возникать… Они настолько чисты, что всегда превосходят то, чего я от них ожидаю. Они всегда прекраснее того, чего я желаю. Но этого может надеяться достичь лишь усовершенствованный мечтатель. Я провел годы в мечтательных поисках этого. Сегодня я получаю это без усилия…
Лучше всего начинать мечтать с книг. Романы очень полезны для начинающего. Научиться полностью отдавать себя чтению, полностью сливаться с персонажами романа — вот первый шаг. Когда наша семья и ее хлопоты покажутся никчемными и гнусными, по сравнению с героями романов, это будет признаком прогресса.
Нужно избегать читать литературные романы, в которых внимание отвлекается на форму романа. Мне не стыдно признаться, что я с этого начал. Любопытно, но детективы ‹…› я интуитивно читал. Я никогда не мог вдумчиво читать любовные романы. Но это вопрос личный, потому что у меня нет представления о любви, даже в мечтах. Однако пусть каждый развивает то представление, которое у него есть. Мы должны всегда помнить, что мечтать означает искать себя. Человек чувственный должен будет выбирать чтение, противоположное тому, которому предавался я.
Когда приходит физическое ощущение, можно сказать, что мечтатель преодолел первую ступень мечты. Это когда от романа, рассказывающего о стычках, погонях, сражениях, у нас ломит тело и устают ноги… Первая ступень освоена. Чувственный человек должен будет, получив лишь умственный образ, испытать эякуляцию, когда такой момент наступает в романе.
Затем он попытается перенести все это в умственную форму. В случае чувственного человека (которого я выбираю в качестве примера, потому что он наиболее нагляден) эякуляцию нужно почувствовать без того, чтобы она произошла. Усталость будет намного сильнее, но и удовольствие будет насыщеннее.
На третьей ступени всякое ощущение становится умственным. Усиливается удовольствие, и усиливается усталость, но тело уже ничего не чувствует, и слабеют и изнемогают не утомленные члены, а разум, жизнь и переживания… Достигнув этого, пора перейти к высшей ступени сна.
Вторая ступень — это выстраивание романов для самого себя. Предпринимать такие попытки нужно лишь тогда, когда мечта полностью освоена разумом, как я говорил выше. Если это не так, начальное усилие по созданию романов внесет сумятицу в идеальное умственное освоение удовольствия.
Третья ступень.
Когда воображение уже воспитано, достаточно пожелать, и оно само займется выстраиванием грез.
Здесь усталость, даже умственная, почти отсутствует. Происходит полное растворение личности. Мы — просто пепел, наделенный душой и лишенный формы, даже той, что обретает вода в посуде, ее содержащей.
Когда хорошо подготовлена ‹…› в нас могут стих за стихом складываться драмы, развиваясь идеально и отстраненно. Возможно, у нас уже не будет сил их записывать… Но этого и не нужно. Мы сможем творить опосредованно — вообразить в нас пишущего поэта, причем он будет писать в своей манере, а другой поэт — в своей… Отточив до совершенства это качество, я могу писать в самых разных стилях, каждый из которых будет оригинален.
Самая высокая ступень мечты — это когда, создав картину с персонажами, мы проживаем всех их одновременно — мы являемся всеми этими душами вместе и взаимодействуем с ними. Это приводит к невероятной степени обезличивания и испепеления духа, и, признаюсь, трудно уйти от общей усталости любого существа, делая это… Зато какой триумф!
В этом — единственный и окончательный аскетизм. В нем нет ни веры, ни Бога.
Бог — это я.
Кенотаф
Ни вдова, ни сын не вложили ему в уста обол, чтобы он мог заплатить Харону. Для нас завязаны глаза, с которыми он перенесся через Стикс и девять раз увидел отраженным в водах Аида неведомое нам лицо. Среди нас безымянна тень, ныне блуждающая по берегам безмолвных рек; ее имя — тоже тень.
Он умер за Родину, не зная ни как, ни почему. Его жертва обрела славу, оставшись неизвестной. Он отдал жизнь с полной душевной отдачей: повинуясь инстинкту, а не долгу; из любви к Родине, а не из осознания ее. Он защищал ее, как защищают мать, детьми которой мы являемся не по логике, а по рождению. Верный исконной тайне, он не думал о смерти и не хотел ее, но принял ее инстинктивно, так, как прожил всю свою жизнь. Тень, которой он ныне пользуется, теперь братается с теми, что пали под Фермопилами, верные своей плотью клятве, с которой они родились.
Он умер за Родину так, как солнце рождается каждый день. Было обусловлено природой то, во что Смерть должна была его превратить.
Он не пал истым рабом веры, его не убили, когда он сражался за подлость великого идеала. Свободный от хулы веры и от оскорбления гуманности, он не пал, защищая какую-либо политическую мысль, или будущее человечества, или религию, которая должна была появиться. Далекий от веры в потусторонний мир, которым обманываются верящие в Магомета и последователи Христа, он видел, как подступает смерть, не надеясь обрести в ней жизнь, он видел, как проходит жизнь, не надеясь на лучшую.
Он миновал естественно, как ветер и как день, унося с собой душу, которая выделяла его из прочих. Он погрузился в тень, как тот, что входит в дверь, к которой подошел. Он умер за Родину, единственную вещь, которая выше нас и которую мы осознаем и осмысливаем. Рай магометанина или христианина, трансцендентное забвение буддиста не отразились в его очах, когда в них потухло пламя, поддерживавшее его жизнь на земле.
Он не знал, кем был, как не знаем и мы. Он исполнил свой долг, не зная, что он его исполняет. Его вело то, что вызывает цветение роз и наделяет красотой смерть листьев. У жизни нет лучшего смысла, у смерти нет лучшей награды.
Теперь он, по соизволению богов, посещает края, где нет света, минуя стенания Кокитоса и огонь Флегетона и слыша в ночи легкий плеск волны Леты.
Он безымянен, как инстинкт, что убил его. Он не думал, что погибнет за родину; он погиб за нее. Он не решал исполнить свой долг; он его исполнил. У того, у кого не было имени в душе, будет справедливо не спрашивать, какое имя определяло его тело. Он был португальцем; не будучи конкретным португальцем, он португалец без ограничений.
Его место не возле создателей Португалии, у которых иной масштаб и иное сознание. Ему не подобает общество полубогов, благодаря смелости которых были проложены морские пути и в нашей досягаемости оказалось больше земли.
Пусть ни статуя, ни памятный камень не рассказывает, кем был тот, кто был всеми нами; поскольку он — это весь народ, его могилой должна быть вся эта земля. Во имя его собственной памяти мы должны погрести его, а вместо памятной плиты мы должны лишь приводить его пример.
Лагуна обладания
В моем понимании обладание — это нелепая лагуна, очень большая, очень темная, очень мелкая. Вода кажется глубокой, потому что она фальшива от грязи.
Смерть? Но смерть — внутри жизни. Умру ли я полностью? При жизни я этого не знаю. Переживу ли себя? Я продолжаю жить.
Мечта? Но мечта — внутри жизни. Мы живем мечтой? Живем. Или лишь грезим ею? Умираем. А смерть — внутри жизни.
Жизнь, словно тень, преследует нас. И тени нет только тогда, когда всё — тень. Жизнь не преследует нас лишь тогда, когда мы ей отдаемся.
Самое болезненное в мечте — это несуществование. На самом деле, мечтать невозможно.
Что значит обладать? Мы этого не знаем. А как тогда можно чем-либо обладать? Вы скажете, что мы не знаем, что есть жизнь, и все равно живем… Но по-настоящему ли мы живем? Разве жить, не зная, что такое жизнь, означает жить?
* * *
Ничто не взаимопроникает — ни атомы, ни души. Поэтому ничто ничем не обладает. Начиная от истины и заканчивая носовым платком — ничем нельзя обладать. Собственность — не воровство, а ничто.
Майор
Нет ничего, что так глубоко раскрывало бы, так целостно истолковывало бы суть моего врожденного невезения, как тот вид фантазирования, который я, на самом деле, больше всего лелею, бальзам, который я чаще всего выбираю для моего печального существования. Краткая суть того, чего я желаю, заключается в следующем: спать по жизни. Я слишком люблю жизнь, чтобы желать ее прекращения; я слишком люблю не жить, чтобы испытывать к жизни излишне навязчивую привязанность.
Поэтому та греза, которую я запишу, — лучшая из моих любимых грез. Иногда ночью, когда в доме царит покой, потому что хозяева вышли или молчат, я закрываю створки моего окна, затворяю их тяжелыми ставнями; облачившись в старый костюм, я сажусь в глубокое кресло и погружаюсь в грезу, в которой я — отставной майор в провинциальной гостинице в час после ужина, засидевшийся с одним или несколькими более трезвыми сотрапезниками без какой-либо причины.
Представляю, что я таким и родился. Мне не интересна ни молодость отставного майора, ни военная служба, посредством которой он возвысился до этого моего желания. Не завися от Времени и от Жизни, майор, которым я себя воображаю, не обладает никакой предшествующей жизнью; у него нет и не было родственников; он вечно существует в жизни этой провинциальной гостиницы и уже устал от анекдотов, которыми делились друг с другом засидевшиеся сотрапезники.
Максимы
Иметь уверенные и определенные суждения, инстинкты, страсти, устойчивый и известный характер — все это оборачивается кошмаром превращения нашей души в факт, ее материализации и преобразования ее в нечто внешнее. Жить в мягком и текучем состоянии незнания вещей и самого себя — вот единственный образ жизни, который приличествует мудрецу и утешает его.
Уметь постоянно ставить себя между вещами и самим собой — самая высокая степень мудрости и благоразумия.
Наша личность должна быть непроницаемой даже для нас самих: отсюда проистекает наша обязанность постоянно воображать себя в мечтах и включать нас в свои мечты, чтобы мы не могли иметь суждений относительно нас.
Особенно мы должны избегать вторжения других в нашу личность. Любой посторонний интерес к нам — беспримерная бестактность. Обыкновенное приветствие — как поживаете? — от непростительного хамства отделяет то, что, как правило, оно совершенно пустое и неискреннее.
Любить значит устать от одиночества: поэтому любовь — это трусость и предательство нас самих (крайне важно не любить).
Давать добрые советы значит оскорблять способность заблуждаться, которую даровал нам Бог. Кроме того, чужие действия должны обладать тем преимуществом, что они не являются нашими. Спрашивать совета у других допустимо лишь для того, чтобы, когда мы будем действовать совершенно иначе, мы знали, что мы действуем вопреки Другости.
Единственное преимущество учения — наслаждаться тем, чего не сказали другие.
Искусство есть изоляция. Всякий художник должен стремиться изолировать других, внушить их душам желание одиночества. Высший триумф художника заключается в том, чтобы читатель, прочитав его произведения, предпочитал обладать ими, а не читать. Не потому, что это происходит с посвященными, а потому, что это самая большая дань ‹…›
Трезво рассуждать значит быть не в ладах с самим собой. Оправданное состояние духа, когда смотришь внутрь самого себя, это состояние ‹…› того, который смотрит на нервы и на нерешенности.
Единственная умственная деятельность, достойная высшего существа, это спокойное и холодное сопереживание всему тому, что не является им самим. Не то чтобы такое поведение было сколько-нибудь справедливым и истинным; но оно так завидно, что его нужно придерживаться.
Миллиметры
(ощущения от мельчайших вещей)
Поскольку настоящее очень древне, так как все было настоящим, когда существовало, я отношусь с любовью антиквара к вещам, поскольку они принадлежат настоящему, и с яростью завзятого коллекционера к тому, кто развеивает мои заблуждения относительно вещей посредством правдоподобных и даже настоящих научных и обоснованных объяснений.
Различные позы, которые последовательно принимает летящая в пространстве бабочка, в моих восхищенных глазах представляют собой различные вещи, которые зримо остаются в пространстве. Мои воспоминания настолько ярки, что ‹…›
Но только мельчайшие ощущения, ощущения от самых маленьких вещей я испытываю глубоко. Быть может, это происходит из-за моей любви к пустякам. Быть может, из-за моего внимания к деталям. Но я скорее полагаю — я этого не знаю, такие вещи я никогда не анализирую, — что это происходит потому, что мельчайшее, не имея никакого социального или практического значения, обладает, вследствие самого этого отсутствия, полной независимостью от грязных ассоциаций с реальностью. Мельчайшее кажется мне нереальным. Бесполезное прекрасно потому, что оно менее реально, чем полезное, которое продолжается и длится, тогда как восхитительный пустяк, славное бесконечно малое остается там, где есть, не перестает быть тем, что есть, живет свободно и независимо. Бесполезное и ничтожное открывает в нашей жизни промежутки убогой эстетики. Каких только мечтаний и милых наслаждений не вызывает в моей душе простое, ничего не значащее существование булавки, вколотой в ленту! Как жаль того, кто не знает, какое значение это имеет!
Далее, среди ощущений, которые болят так проникновенно, что становятся приятными, непокой от тайны является одним из самых сложных и обширных. А тайна никогда не проявляется так, как при созерцании крохотных вещей, которые не двигаются и потому полностью прозрачны для взора, потому что останавливаются, чтобы дать ему пройти. Труднее удержать чувство тайны, созерцая битву — притом что мысли об абсурде, коим является наличие людей, обществ и сражений, скорее могут развернуть в нашем мышлении знамя покорения тайны, — чем созерцая камешек, лежащий на дороге, который вызывает лишь мысль о том, что существует, и не сможет вызвать, если мы продолжим думать, никакой другой мысли, кроме мысли о тайне его существования.
Пусть будут благословенны мгновения, и миллиметры, и тени мельчайших вещей, еще более ничтожных, чем сами вещи! Мгновения ‹…› Миллиметры — какое впечатление удивления и дерзости производит во мне их существование бок о бок на мерной ленте. Иногда я страдаю от этих вещей и наслаждаюсь ими. Я испытываю от этого неотесанную гордость.
Я — чрезвычайно чувствительная фотографическая пластина. Все детали отпечатываются на мне, составляя целое. Я занимаюсь лишь собой. Внешний мир для меня всегда очевидно является ощущением. Я никогда не забываю, что чувствую.
Млечный путь
…с покачиваниями духовно ядовитых фраз…
…ритуалы разорванного пурпура, таинственные церемониальные обряды, не современные ни для кого.
…похищенные ощущения, испытанные в другом теле, отличном от физического, но в теле по-своему физическом, в котором перемежаются тонкости между сложным и простым…
…озера, где прозрачно витает предвкушение тусклого золота, мягко освобожденное от возможности осуществиться, и, разумеется, среди колышущихся красот — ирис в белоснежных руках…
…уговоры между оцепенением и тревогой, зелено-черные, слабые на взгляд, уставшие среди часовых тоски…
…перламутр бесполезных последствий, часто выщелачиваемый алебастр — золотой, алый, кайма (-мы) развлечения с закатами, но не корабли для лучших берегов и не мосты для более густых сумерек…
…и даже не на берегу представлений о прудах, многих прудах, далеких, за черными тополями или, быть может, кипарисами, в зависимости от слогов чувства, при помощи которых час произносил свое имя…
…поэтому открытые окна над набережными, постоянно накатывающие на доки волны, смущенная свита, как опалы, безумная и поглощенная, тогда как амаранты и терпентины пишут бессоннице понимания на темных стенах, которые можно услышать…
…нити редкого серебра, узлы расплетенного пурпура, под липами бесполезных чувств и по аллеям, где молчат самшиты, древние пары, внезапные веера, неясные движения и лучшие сады, несомненно, ждут приятной усталости оттого, что нет ничего, кроме аллей и рощ…
…деревья, посаженные квинкусами, переплетенные ветви, искусственные пещеры, высаженные клумбы, фонтаны, все сохранившееся искусство умерших мастеров, которые, среди внутренних поединков неудовлетворенности с очевидностью, определили процессии вещей для грез по узким улицам древних деревень ощущений…
…мраморные напевы в далеких дворцах, воспоминания о руках, вложенных в наши, случайные взгляды нерешительных закатов в роковых небесах, когда звездная ночь опускается на молчание рушащихся империй…
Свести ощущение к какой-то науке, превратить психологический анализ в точный метод вроде микроскопического инструмента — занимательное стремление, спокойная жажда, узел воли в моей жизни…
Между ощущением и его осознанием происходят все главные трагедии моей жизни. В этой неопределенной, сумрачной области лесов и звуков всей воды, бесчувственной даже к шуму наших войн, течет мое бытие, образ которого я напрасно ищу…
Я покоюсь в моей жизни. (Мои ощущения — эпитафия, причем пространная, моей мертвой жизни.) Я являюсь себе со смертью и закатом. Большее, что я могу изваять, это моя гробница внутренней красоты.
Ворота моей отстраненности открываются к паркам неопределенности, но никто не проходит через них, даже в моих грезах — однако они всегда открыты для бесполезного и вечно железны для ложного…
Я обрываю обожествление в садах внутренней роскоши и среди самшитов грез ступаю твердо звучащими шагами по аллеям, ведущим к Неявственному.
Я расположил лагерь Империи в Неявственном, на берегу молчаний, в оранжевой войне, в которой закончится Точное.
Человек науки признает, что единственная реальность для него — это он сам, а единственный реальный мир — это тот мир, который дает ему его ощущение. Поэтому вместо того, чтобы следовать по ложному пути, пытаясь приноровить свои ощущения к ощущениям других, он как последователь объективной науки пытается скорее в совершенстве познать свой мир и свою личность. Нет ничего объективнее своих грез. Нет ничего более своего, чем собственное осознание себя. На этих двух реальностях покоится его наука. Она очень отличается от науки древних ученых, которые вместо того, чтобы искать законы собственной личности и устройства своих грез, искали законы «внешнего» и устройства того, что они называли «Природой»…
* * *
Первостепенное во мне — привычка и способность мечтать. Обстоятельства моей жизни, с детства протекавшей в одиночестве и спокойствии, возможно, другие силы, формируя меня издалека, посредством темной наследственности, на свой зловещий лад, превратили мой дух в постоянный поток фантазий. Все то, чем я являюсь, заключено в этом, и даже то, что, как кажется, менее всего выдает во мне мечтателя, без сомнений, принадлежит душе того, кто лишь грезит, возведя ее в более высокую степень.
Исходя из моего пристрастия к анализу самого себя, я хочу, в той мере, в какой мне это будет удобно, постепенно выражать словами умственные процессы, которые во мне соединяются в одно — то, что свойственно жизни, посвященной грезам, душе, воспитанной лишь в необходимости мечтать.
Если посмотреть на меня извне — а именно так я почти всегда себя вижу — я неспособен к действию, я теряюсь, когда должен предпринимать шаги и совершать движения, я непригоден для разговора с другими и не обладаю ни внутренней ясностью, чтобы занимать себя тем, что требует от моего духа усилий, ни физической последовательностью, чтобы посвящать себя какому-либо простому механизму отвлечения путем работы.
Для меня естественно быть таким. Подразумевается, что мечтатель таков. Всякая реальность сбивает меня с толку. Разговор других людей повергает меня в сильнейшую тревогу. Реальность других душ постоянно застигает меня врасплох. Широкая сеть бессознательностей, коей является всякое наблюдаемое мною действие, кажется мне нелепой иллюзией, лишенной какой-либо правдоподобной связности.
Но если считать, что мне незнакомы механизмы чужой психологии, что я заблуждаюсь в отчетливом восприятии мотивов и сокровенных мыслей других, образ того, какой я есть, окажется обманчивым.
Потому что я не просто мечтатель, а исключительно мечтатель. Единственная имеющаяся у меня привычка мечтать даровала мне чрезвычайно отчетливое внутреннее видение. Я не только пугающе и порой шокирующе ярко вижу фигуры и декорации моих грез, но и столь же ярко вижу мои абстрактные идеи, мои человеческие чувства — то, что во мне от них остается, — мои тайные порывы, мои психические движения перед самим собой. Я утверждаю, что вижу в себе мои собственные абстрактные идеи, вижу их в некоем внутреннем пространстве посредством реального внутреннего зрения. Поэтому мне видны все их мельчайшие детали.
Поэтому я знаю себя полностью, и, зная себя полностью, я полностью знаю все человечество. Нет низкого порыва, равно как и благородного устремления, которое не сверкнуло бы молнией у меня в душе; и я знаю, при помощи каких жестов выказывает себя каждое из них. Под масками доброты или безразличия, которые использует большинство идей даже внутри нас, я узнаю их подлинную сущность по жестам. Я знаю, что именно в нас пытается нас обмануть. Поэтому большинство людей, которых я вижу, я знаю лучше, чем они знают сами себя. Часто я тщательно исследую их, потому что так я делаю их моими. Я завоевываю душу, которую объясняю, потому что для меня грезить значит обладать. Так видно, насколько естественно для меня, мечтателя, быть аналитиком, которого я в себе распознаю.
Поэтому из того немногого, что мне иногда приятно читать, я особенно выделяю театральные пьесы. Каждый день во мне разыгрываются пьесы, и я досконально знаю, как проецируется душа в проекции Меркатора, на плоскости. Впрочем, это меня мало забавляет, ведь ошибки драматургов постоянны, заурядны и огромны. Меня никогда не удовлетворяла ни одна драма. Поскольку я вижу человеческую психологию так отчетливо, как когда сверкает молния, охватывающая разом все закоулки, грубый анализ и домыслы драматургов ранят меня, и то немногое из этого жанра, что я читаю, противно мне, как размазанная чернильная клякса на письме.
Вещи суть материя для моих грез; поэтому я уделяю рассеянно тщательное внимание некоторым деталям Внешней обстановки.
Чтобы придать рельефность моим грезам, я должен знать, почему нам кажутся рельефными реальные пейзажи и жизненные персонажи. Ведь видение мечтателя не похоже на видение того, кто видит вещи. В отличие от реальности, в грезах взгляд не различает важные и неважные черты предмета. Важно лишь то, что видит мечтатель. Подлинная реальность предмета — лишь часть его; прочее есть тяжелая дань, которую он платит материи в обмен на возможность существовать в пространстве. Подобным образом, в пространстве нет реальности для некоторых явлений, которые во сне обладают осязаемой реальностью. Настоящий закат неизмерим и преходящ. Воображаемый закат неизменен и вечен. Писать умеет тот, кто умеет видеть свои грезы отчетливо (и это так) или видеть жизнь в грезах, видеть жизнь нематериально, фотографируя ее при помощи аппарата фантазии, на который не воздействуют лучи тяжелого, полезного и ограниченного, вследствие чего на духовной пластине остаются черные силуэты.
Этот подход, привитый долгими мечтаниями, заставляет меня всегда видеть ту часть реальности, которая является грезой. Мое видение вещей всегда устраняет в них то, чего не могут использовать мои грезы. Поэтому я всегда живу в мечтаниях, даже когда я живу в жизни. Для меня смотреть на закат во мне или на закат Снаружи — одно и то же, потому что я вижу одинаково, поскольку мое видение действует одинаково.
Поэтому мое представление обо мне многим покажется ошибочным. В определенном смысле оно ошибочно. Но я грежу о самом себе и в себе выбираю то, о чем можно грезить, и составляю себя снова и снова в самых разных видах, пока не достигаю соответствия тому, чего требую от того, чем я являюсь и не являюсь. Иногда лучший способ рассмотреть предмет — устранить его; но он сохраняется, не знаю как, созданный из материи отрицания и устранения; так я поступаю с большими пространствами моего бытия, которые, будучи устранены из моей картины меня, преобразуют меня для моей реальности.
Как же я тогда не обманываюсь относительно моих внутренних процессов самообмана? Потому что процесс, вырывающий из более чем реальной реальности какую-то грань мира или воображаемую фигуру, вырывает также из более чем реального какое-то переживание или мысль, лишая его тем самым всякого благородного или чистого свойства, когда, как почти всегда случается, в нем нет ни чистоты, ни благородства. Заметьте, что моя объективность абсолютна, она — самая абсолютная из всех. Я создаю абсолютный объект, с качествами абсолютного в его конкретике. Я, собственно, не бежал от жизни в том смысле, что не стал искать для моей души более мягкой постели — я лишь изменил жизнь и обнаружил в моих мечтах ту же объективность, которую обнаруживал в жизни. Мои грезы — это я исследую на других страницах — складываются вне зависимости от моей воли и зачастую бьют меня и ранят. Часто то, что я открываю в себе, приводит меня в отчаяние, заставляет стыдиться (возможно, вследствие остатков человеческого во мне — что есть стыд?) и пугает.
Непрерывные фантазии заменили во мне внимание. Я стал накладывать на то, что вижу, пусть даже в грезах, другие грезы, которые несу в себе. Будучи уже достаточно рассеян, чтобы хорошо делать то, что я обозначил как «видеть вещи в мечтаниях», и поскольку эта рассеянность подпитывалась постоянными фантазиями и обеспокоенностью — также не слишком внимательной — относительно течения моих грез, я накладываю то, о чем грежу, на мечту, которую вижу, и препарирую реальность, уже лишенную материи, при помощи абсолютной нематериальности.
Отсюда — приобретенная мною способность развивать одновременно несколько мыслей, наблюдать за чем-либо и в то же время мечтать о совершенно иных делах, грезить одновременно о реальном закате над реальным Тежу и о воображаемом рассвете на внутреннем Тихом океане; и обе вещи, о которых я мечтаю, сплетаются друг с другом, не смешиваясь, не перепутывая больше, чем различное эмоциональное состояние, которое каждая из них создает, и я подобен тому, кто видел на улице много людей и, в то же время, чувствовал изнутри души их всех — то, что он должен был бы делать в единстве ощущений — тогда же, когда видел, как различные тела — он должен был видеть их разными — пересекаются на улице, полной движений ног.
Одно письмо
Неизвестно сколько долгих месяцев Вы видите, как я смотрю на Вас, смотрю постоянно, неизменно неуверенным и настойчивым взглядом. Я знаю, что Вы это замечаете. И поскольку Вы это замечаете, Вы, должно быть, считаете странным, что этот взгляд, не будучи, собственно, робким, никогда не выражает никакого значения. Всегда внимательный, неясный и одинаковый, словно довольный тем, что является лишь грустью этого… И больше ничем… И внутри Ваших размышлений об этом — с каким бы чувством Вы ни думали обо мне — Вы, наверное, всматривались в мои возможные намерения. Вы, должно быть, даете себе объяснение, не находя в нем удовлетворения, что я либо как-то оригинально, по-своему робею, либо представляю собой разновидность чего-либо, похожего на сумасшедшего.
Перед фактом созерцания Вас я, о моя Госпожа, не робею в строгом смысле слова и не являюсь сумасшедшим. Я — нечто другое, как я Вам объясню, не надеясь, что Вы мне поверите. Сколько раз я шептал Вашему воображаемому существу: исполняйте свои обязанности бесполезной амфоры, выполняйте свое ремесло обыкновенной чаши.
С какой ностальгией по представлению, которое я хотел составить о Вас, я осознал однажды, что Вы замужем! День, когда я это осознал, был трагическим днем в моей жизни. Я не стал ревновать к Вашему мужу. Я никогда не думал, был ли у Вас вообще муж. Я просто испытал ностальгию по моему представлению о Вас. Если бы однажды я узнал об этом абсурде — что какая-то женщина на картине — да, вот эта — замужем, я бы испытал такую же боль.
Обладать Вами? Я не знаю, как это делается. И даже если бы на мне было человеческое пятно знания об этом — как бесчестен бы я был с самим собой, как бы я осквернил мое собственное величие, если бы просто пытался равняться с Вашим мужем!
Обладать Вами? Однажды, когда Вы будете случайно проходить по темной улице, насильник может подчинить Вас и овладеть Вами, может даже оплодотворить Вас и оставить после себя этот утробный след. Если владеть Вами значит владеть Вашим телом, какая в этом ценность?
Я не овладел Вашей душой? Как можно владеть Душой? Может быть, кому-то ловкому и влюбленному удастся овладеть этой Вашей «душой». Пусть им будет Ваш муж… Вы хотите, чтобы я опустился до его уровня?
Сколько часов я провел, тайно сосуществуя с мыслью о Вас! Мы так любили друг друга в моих мечтах! Но даже там, клянусь Вам, я никогда не представлял, что обладаю Вами. Я нежен и целомудрен даже в моих грезах. Я уважаю даже мысль о красивой женщине.
* * *
Я никогда бы не сумел настроить мою душу таким образом, чтобы она привела мое тело к обладанию Вашим. Внутри меня, даже когда я об этом думаю, я наталкиваюсь на препятствия, которых не вижу, запутываюсь в паутинах, которые мне неведомы. Что еще со мной произошло бы, если бы я захотел действительно Вами обладать?
Я бы — повторяю я Вам — был неспособен попытаться это сделать. Я даже не могу приспособиться к тому, чтобы об этом грезить.
Таковы, моя Госпожа, слова, которые я намерен написать на полях смысла Вашего невольно вопросительного взгляда. Именно в этой книге Вы впервые прочтете это письмо, адресованное Вам. Если Вы не поймете, что оно для Вас, я с этим смирюсь. Я пишу скорее ради того, чтобы занять себя, чем чтобы сказать Вам что-либо. Лишь у деловых писем есть конкретный адресат. Все прочие, по крайней мере в случае высшего человека, должны быть написаны им для себя самого.
Больше мне Вам нечего сказать. Поверьте, я восхищаюсь Вами, насколько могу. Мне было бы приятно, если бы Вы иногда думали обо мне.
Пастораль Педру
Я не знаю, ни где, ни когда я тебя увидел. Не знаю, увидел ли я тебя на картине, или на настоящем поле, близ деревьев и трав, современников тела; быть может, на картине, ведь воспоминание, которое я храню о тебе, такое идиллическое и читаемое. Я не знаю, когда это произошло и произошло ли на самом деле — ведь, быть может, я не видел тебя даже на картине, — но всем чувством моего разума я сознаю, что то было самое спокойное мгновение моей жизни.
Легкая погонщица, ты приближалась вместе с огромным кротким волом, и оба вы были беззаботны на широкой дороге. Я вас увидел издалека — так мне кажется, — и вы подошли ко мне и прошли мимо. Казалось, ты не заметила моего присутствия. Ты шла медленно, небрежно присматривая за большим волом. Твой взгляд забыл вспомнить, и у него была большая лужайка душевной жизни; тебя покинуло осознание тебя самой. В это мгновение ты была лишь ‹…›
Глядя на тебя, я вспомнил, что города меняются, а поля вечны. Камни и горы называют библейскими, потому что они все те же и такими, должно быть, были и в библейские времена.
На преходящий силуэт твоей безымянной фигуры я возлагаю все воспоминание о полях, и все спокойствие, которого у меня никогда не было, проникает в мою душу, когда я думаю о тебе. Твоя походка слегка покачивалась, неясно колыхалась, в каждом твоем движении покоилась мысль о птице; невидимые вьюнки вились по ‹…› твоей груди. Твое молчание — наступал вечер, и на склонах, бледных в этот час, блеяла, бренча, усталость стад, — твое молчание было песнью последнего пастуха, который, забытый в никогда не написанной Вергилием эклоге, остался навсегда зачарованным силуэтом в полях. Быть может, ты улыбалась; для себя самой, для твоей души, когда ты видела себя в твоей мысли с улыбкой. Но твои губы были спокойны, как очертания гор; а движение твоих деревенских рук, которого я не помню, было украшено полевыми цветами.
Да, я увидел тебя на картине. Но откуда пришел ко мне этот образ, в котором я увидел, как ты приближаешься и проходишь мимо меня, а я остаюсь и не оборачиваюсь, чтобы всегда видеть тебя? Время останавливается, чтобы дать тебе пройти, а я теряю тебя, когда пытаюсь поместить тебя в жизнь — или в подобие жизни.
Перистиль
В часы, когда пейзаж представляет собой ореол Жизни, а греза — это лишь мечтание о себе, я выстроил, о любовь моя, в тиши моего непокоя эту странную книгу, подобную открытым воротам заброшенного дома.
Чтобы написать ее, я собрал душу всех цветов и из мимолетных мгновений всего щебета всех птиц выткал вечность и оцепенение. Пряха ‹…› я сел у окна моей жизни и забыл о том, что она тут жила и была, пока ткала саваны, чтобы обернуть мою тоску скатертями из целомудренного льна для алтарей моего молчания ‹…›
И я подношу тебе эту книгу, потому что знаю, что она прекрасна и бесполезна. Она ничему не учит, ни в чем не убеждает, не внушает никаких чувств. Ручей, что бежит к пропасти-пеплу, разметываемому ветром, не оплодотворяя и не причиняя вреда — я вложил всю душу в его создание, но думал не о нем, а лишь о себе, томимом грустью, и о тебе, которая никто.
И поскольку эта книга нелепа, я ее люблю; поскольку она бесполезна, я хочу ее дать; и поскольку незачем тебе ее давать, я даю ее тебе…
Молись за меня, читая ее, благослови меня за любовь к ней и забудь о ней, как сегодняшнее Солнце забывает Солнце вчерашнее (как я забываю тех женщин в грезах, о которых я и не знал, что грезил).
Башня Молчания моих тревог, пусть эта книга будет лунным светом, который изменил тебя в ночь Древнего Таинства!
Река болезненного Несовершенства, пусть эта книга будет лодкой, которой позволено плыть вниз по течению по твоим водам и добраться до моря, о котором мечтают.
Пейзаж Отчуждения и Заброшенности, пусть эта книга будет твоей, как твой Час, и ограничивается тобой, как Час поддельного пурпура.
* * *
Текут реки, вечные реки под окном моей тишины. Я всегда вижу другой берег и не знаю, почему не мечтаю о том, чтобы оказаться там, другим и счастливым. Возможно, потому, что только ты утешаешь, только ты убаюкиваешь, только ты умащиваешь и совершаешь богослужение.
Какое белое богослужение ты прерываешь, чтобы благословить меня на то, чтобы я показал твое бытие? В какое мгновение плавного танца ты останавливаешься и Время останавливается вместе с тобой, чтобы превратить твою остановку в мост к моей душе, а твою улыбку — в пурпур моей роскоши?
Плавный лебедь непокоя, лира бессмертных часов, неясная арфа мифических скорбей, ты — Вожделенная и Ушедшая, ласкающая и ранящая, золотящая радости болью, а грусти — венком из роз.
Какой Бог создал тебя, какой Бог, ненавидимый Богом, сотворившим мир для себя?
Ты не знаешь этого, не знаешь, что не знаешь, не хочешь ни знать, ни не знать. Ты избавила от устремлений твою жизнь, окружила сиянием нереальности твое появление, облачилась в совершенство и неприкосновенность так, чтобы даже Часы не целовали тебя, и Дни тебе не улыбались, и Ночи не вкладывали тебе луну в руки, чтобы она казалась ирисом.
Оброни, о любовь моя, на меня лепестки лучших роз, самых совершенных ирисов, лепестки хризантем ‹…› пахнущих мелодией своего имени.
И я умерщвлю в себе твою жизнь, о Дева, которую не ждут никакие объятия, не ищет ни один поцелуй, не бесчестит ни одна мысль.
* * *
Преддверие (лишь преддверие) всех надежд, Порог всех желаний, Окно во все грезы ‹…›
Бельведер для всех пейзажей ночного леса и далекой реки, что трепещет под заливающим ее лунным светом…
Стихи, проза, которые никто не думает написать, но лишь увидеть в грезах.
* * *
Ты не существуешь, я точно знаю, но знаю ли я наверняка, что существую я? Обладаю ли я, создающий твое существование во мне, более реальной жизнью, чем сама жизнь, проживающая тебя?
Пламя, превратившееся в ореол, отсутствующее присутствие, размеренное и женственное молчание, сумерки бледной плоти, забытый бокал для пиршества, витраж, расписанный художником-грезой в Средние века иной Земли.
Целомудренно изящные чаша и просвира, заброшенный алтарь еще живой святой, венец из воображаемого ириса, сорванного в саду, в который никто никогда не заходил…
Ты — единственная форма, не вызывающая тоски, потому что ты всегда меняешься вместе с нашим чувством, потому что ты, целующая нашу радость, убаюкивающая нашу боль и нашу тоску, ты — опиум, что приносит утешение, и греза, что дарует отдохновение, и смерть, что скрещивает и смыкает руки.
Ангел, из какой материи сделана твоя крылатая материя? Какая жизнь тебя захватывает и на какой земле, тебя, никогда не начинающийся полет, замершее вознесение, жест восторга и отдохновения?
* * *
Я создам из грез о тебе надежное бытие, а у моей прозы, когда она будет говорить о твоей Красоте, будут мелодии формы, изгибы строф, внезапное великолепие, как то, что присуще бессмертным стихам.
Создадим же, о Лишь-Моя, ты — потому что существуешь, я — потому что вижу, как существуешь ты, искусство, отличающееся от всего прежнего искусства.
Пусть из твоего тела бесполезной амфоры я сумею извлечь душу новых стихов, а из твоего медленного ритма тихой волны мои трепещущие пальцы отправятся на поиски коварных строк девственной прозы, ибо ее еще никто не слышал.
Пусть твоя мелодичная улыбка, уходя, станет для меня символом и зримой эмблемой заглушенного рыдания бесчисленного мира, узнавшего о своем заблуждении и несовершенстве.
Твои руки арфистки пусть закроют мои веки, когда я умру, отдав свою жизнь ради того, чтобы создать тебя. А ты, никто, всегда будешь, о Величественная, излюбленным искусством богов, которых никогда не было, и девственной и бесплодной матерью богов, которых никогда не будет.
Письмо
Если бы ты только смогла понять твою обязанность быть лишь мечтой одного мечтателя. Быть лишь кадилом в соборе фантазий. Создавать твои движения, словно мечты, так, чтобы они были лишь окнами, выходящими на новые пейзажи твоей души. Проецировать твое тело в подобиях сна таким образом, чтобы тебя нельзя было видеть, не думая о чем-то другом, чтобы ты напоминала обо всем, кроме как о себе самой, чтобы созерцание тебя было подобно слушанию музыки и пересечению, словно во сне, просторных пейзажей мертвых озер, неясных тихих лесов, затерянных в глубине других эпох, где различные невидимые пары живут чувствами, которые нам неведомы.
Я хотел бы от тебя лишь того, чтобы у меня тебя не было. Я хотел бы, чтобы, если ты появишься в моих мечтах, я мог представить себя хотя бы мечтающим — быть может, не видя тебя, но замечая, что лунный свет заполнил ‹…› мертвые озера и что отголоски песен внезапно льются по большому неопределенному лесу, затерянному в недосягаемых эпохах.
Твой образ был бы ложем, на котором заснула бы моя душа, больной ребенок, чтобы снова мечтать под другим небом. Стоит ли тебе говорить? Да, но так, чтобы, слушая тебя, я тебя не слышал, а видел, как под луной большие мосты связывают два темных берега реки, впадающей в древнее море, где каравеллы принадлежат нам навеки.
Улыбаешься? Я этого не знал, но в моих внутренних небесах светили звезды. Ты зовешь меня во сне. Я не замечал этого, но в далеком корабле, чей парус мечты плыл под лунным светом, я вижу далекие побережья.
Похоронный марш
Что делает такого всякий в этом мире, что выбивает его из колеи или меняет? Чего стоит всякий человек, чего не стоит другой? Заурядные люди стоят друг друга, люди действия стоят силы, которую они выражают, люди мысли — того, что они создают.
То, что ты создал для человечества, находится во власти остывания Земли. То, что ты дал потомкам, либо полно тобой, и никто этого не поймет, либо пропитано твоей эпохой, и этого не поймут другие эпохи, либо интересно всем эпохам, и этого не поймет последняя бездна, в которую низвергаются все эпохи.
Мы, окна, совершаем движения в тени. Позади нас Тайна нас ‹…›
Все мы — смертные, обладающие точной длительностью, которая никогда не бывает меньшей или большей. Некоторые умирают, как только умирают, другие живут немного в памяти тех, кто их видел и любил; третьи остаются в памяти народа, их взрастившего; некоторые проникают в память цивилизации, которая ими обладала; немногие охватывают разные периоды различных цивилизаций. Но всех окружает пропасть времени, которая, в конце концов, их поглощает, всех пожирает голод пропасти, в которой постоянно Желание и вечна Иллюзия.
Мы — смерть и смертью живем. Мертвыми мы рождаемся и проходим; уже мертвыми мы вступаем в Смерть.
Все то, что живет, живет потому, что меняется; меняется потому, что проходит; и оттого, что проходит, умирает. Все то, что живет, непрерывно превращается в нечто иное, постоянно отрицает себя, увиливая от жизни.
Поэтому жизнь — это промежуток, связь, отношение, но отношение между тем, что прошло, и тем, что пройдет, мертвый промежуток между Смертью и Смертью.
…Разум, вымысел поверхности и неверного пути.
Жизнь материи — это либо чистая мечта, либо просто игра атомов, которой неведомы выводы нашего разума и причины наших переживаний. Так суть жизни отражается во взгляде, в видимости и является либо бытием, либо небытием; иллюзия и видимость небытия должны быть небытием, а жизнь есть смерть.
Напрасно усилие, которое совершается с призрачной надеждой, что смерть не придет! «Вечная поэма, — говорим мы, — слова, которые никогда не умрут». Но материальное остывание земли унесет не только живых, что ее покрывают, как Гомер или Мильтон не могут совершить больше, чем комета, врезающаяся в землю.
Похоронный марш для короля баварского Людвига ii
Сегодня, медленнее, чем когда-либо, Смерть пришла торговать у моего порога. Передо мной медленнее, чем когда-либо, она развернула ковры, шелка и парчу своего забвения и утешения. Она улыбалась им в похвалу, не обращая внимания на то, что я ее видел. Но когда я поддался искушению купить, она сказала, что они не продаются. Она пришла не для того, чтобы я возжелал того, что она мне показывала, а чтобы я возжелал ее за то, что она показывала. И о своих коврах она сказала мне, что ими был устлан ее далекий дворец; о шелках — что других не носили в ее замке, погруженном в тень; о парче — что парча еще лучше этой покрывала алтари ее жилища за пределами мира.
Врожденную привязанность к моему голому порогу она отвязала плавным движением. «В твоем очаге, — сказала она, — нет огня: зачем ты хочешь, чтобы у тебя был очаг?» — «В твоем доме, — сказал она, — нет хлеба: зачем тебе нужен стол?» — «В твоей жизни, — сказала она, — нет спутницы: чем соблазняет тебя жизнь?»
«Я, — сказала она, — свет погасших очагов, хлеб опустевших столов, заботливая спутница одиноких и непонятых людей. Слава, которой недостает в мире, роскошна в моих черных владениях. В моей империи любовь не утомляет страданием обладания и не причиняет боль утомленностью от отсутствия обладания. Моя рука легко опускается на волосы думающих, и они забывают; те, кто напрасно ждет, припадают к моей груди и, в конце концов, проникаются ко мне доверием».
«Их любви ко мне, — сказала она, — не присуща ни поглощающая страсть, ни несуразная ревность, ни затуманивающее рассудок забвение. Любовь ко мне подобна летней ночи, когда бродяги спят среди ночной росы, подобные камням по обочинам дорог. Из моих немых уст не льется песнь сирен или мелодия деревьев и источников; но мое молчание привечает, как нерешительная музыка, мой покой ласкает, как онемение легкого ветра».
«Что, — сказала она, — связывает тебя с жизнью? Любовь тебя не ищет, слава к тебе не стремится, власть тебя не находит. Дом, что ты унаследовал, лежал в руинах. На землях, что ты получил, мороз уничтожил их первые плоды, а солнце спалило их обещания. Ты всегда видел сухим колодец в твоем саду. Сгнила до того, как ты ее увидел, листва в твоих прудах. Сорняки заполонили аллеи и тропы, по которым никогда не проходили твои ноги».
«Но в моих владениях, где властвует только ночь, ты обретешь утешение, потому что у тебя не будет надежды; ты обретешь забвение, потому что у тебя не будет желаний; ты обретешь отдохновение, потому что у тебя не будет жизни».
И она показала мне, что питаемая в лучшие дни, когда не рождались с душой, надежда дожить до дней хороших была бесплодной. Она показала мне, что сон не утешает, потому что жизнь причиняет больше боли при пробуждении. Она показала мне, что сон не приносит отдохновения, потому что в нем обитают призраки, тени вещей, следы жестов, мертвые зародыши желаний, обломки кораблекрушения жизни.
И, говоря так, она медленно складывала, осторожнее, чем когда-либо, свои ковры, соблазнявшие мои глаза, свои шелка, которых жаждала моя душа, парчу своих алтарей, на которые уже лились мои слезы.
«К чему тебе пытаться быть как другие, если ты обречен быть собой? Зачем тебе смеяться, если, когда ты смеешься, твоя собственная искренняя веселость — притворна, потому что рождается она оттого, что ты забываешь, кто ты есть? Зачем тебе плакать, если ты чувствуешь, что тебе это ни к чему, и плачешь больше оттого, что слезы тебя не утешают, чем потому, что слезы тебя утешают?
Если ты счастлив, когда смеешься, то когда ты смеешься, я победила; если же ты счастлив, потому что не помнишь, кто ты, насколько ты будешь счастливее со мной, когда не будешь помнить больше ничего? Если ты прекрасно отдыхаешь, если ты вдруг спишь без снов, разве ты не отдохнешь на моем ложе, в котором никогда не бывает сновидений? Если ты вдруг возносишься, потому что видишь Красоту, и забываешь о себе и о Жизни, разве не вознесешься ты в моем дворце, чья ночная красота не страдает ни от разноречивости, ни от возраста, ни от износа; в моих залах, где никакой ветер не колеблет гардины, никакая пыль не оседает на спинках стульев, никакой свет не обесцвечивает постепенно бархат и сукно, никакое время не покрывает желтизной белизну белых украшений?
Приди к моим ласкам, не ведающим перемен; к моей любви, которая не может прекратиться! Испей из моей не оскудевающей чаши изысканнейшего нектара, который не раздражает и не горчит, не отвращает и не пьянит. Созерцай из окна моего замка не лунный свет и не море, которые красивы и потому несовершенны, а необъятную ночь, раскрывающую материнские объятия, неделимое великолепие глубокой бездны!
В моих руках ты забудешь о болезненном пути, что привел тебя к ним. На моей груди ты больше не будешь чувствовать саму любовь, заставившую тебя ее искать! Сядь подле меня, на мой престол, и ты навсегда станешь несвергаемым Императором Тайны и Грааля, будешь сосуществовать с богами и судьбами, не будучи никем, не имея ничего ни тут, ни там, не нуждаясь ни в том, что у тебя в избытке, ни в том, чего тебе не хватает, ни даже в том, чего тебе достаточно.
Я буду твоей материнской супругой, твоей обретенной сестрой-близнецом. И обвенчав со мной все твои тревоги, отдав мне все то, что ты искал в себе и не обрел, ты сам потеряешь себя в моей мистической сущности, в моем отвергнутом существовании, на моей груди, где все угасает, на моей груди, куда проваливаются души, на моей груди, где исчезают боги».
Король Непривязанности и Отречения, Император Смерти и Крушения, пышный живой сон, блуждающий среди развалин и дорог мира!
Король Отчаяния среди торжеств, болезненный обладатель дворцов, которые его не удовлетворяют, повелитель процессий и помпы, которым не удается погасить жизнь!..
Король, восставший из гробниц, пришедший в ночи при свете луны, чтобы рассказать жизням о твоей жизни, паж опавших ирисов, императорский глашатай холодности слоновой кости!
Король Пастух Всенощных, странствующий рыцарь Тревог, без славы и без дамы под лунным светом на дорогах, господин лесов на крутых склонах, немой профиль с опущенным забралом, проезжающий по долинам, непонятый в деревнях, высмеиваемый в селах, презираемый в городах!
Король, которого Смерть признала своим, бледный и нелепый, забытый и неведомый, властвующий среди мрачных камней и старого бархата, на своем троне на краю Возможного, с окружающим его нереальным двором, с тенями и с фантастической дружиной, таинственной и пустой, что его охраняет.
Несите, пажи; несите, девы; несите, рабы и рабыни, чаши, подносы и гирлянды для пиршества, на котором присутствует Смерть! Принесите их, облаченные в черное, с головами, увенчанными миртом.
Пусть в принесенных вами чашах будет мандрагора ‹…› на подносах, а гирлянды пусть будут из фиалок ‹…› из всех цветов, напоминающих о грусти.
Король отужинает со Смертью в своем древнем дворце на берегу озера, среди гор, вдали от жизни, отчужденный от мира.
Пусть звучат странные инструменты, сам звук которых вызывает слезы, в оркестрах, готовящихся к празднику. Пусть рабы оденутся в строгие ливреи неведомых цветов, торжественные и простые, как катафалки героев.
И перед началом пиршества пусть прошествует по аллеям больших парков большая средневековая мертвенно-багряная свита, большое молчаливое церемониальное шествие, словно красота в кошмарном сне.
Смерть — это триумф жизни!
В смерти мы живем, ведь сегодня мы есть лишь потому, что умерли для вчерашнего дня. В смерти мы надеемся, потому что можем верить в день завтрашний, если уверены в смерти дня сегодняшнего. В смерти мы живем, когда мечтаем, потому что мечтать значит отрицать жизнь. В смерти мы умираем, когда живем, потому что жить значит отрицать вечность! Смерть нас ведет, ищет нас, сопровождает нас. Все то, чем мы обладаем, есть смерть, все то, чего мы хотим, есть смерть, смерть есть все, чего мы желаем хотеть.
Ветер внимания касается рядов.
Он вот-вот придет со смертью, которую никто не видит и которая никогда не приходит.
Трубите, глашатаи! Внимайте!
Твоя любовь к воображаемым в мечтах вещам была твоим презрением к вещам настоящим.
Король-Девственник, презревший любовь, Король-Тень, пренебрегший светом, Король-Мечта, не пожелавший жизни!
Среди глухого грохота кимвалов и тамбуринов Тень провозглашает тебя Императором!
Путешествие, которого не было
В путешествие, которого я никогда не совершал, я отправился в неясные осенние сумерки.
Небо — я невозможно помню — было алым остатком, подернутым грустной позолотой, а агонизирующая сверкающая линия гор была окружена ореолом, чьи мертвенные оттенки мягко пронизывали ее лукавые очертания. С другого фальшборта корабля (там было холоднее, и под этой стороной навеса ночь была гуще) океан содрогался до линии, где грустнел восточный горизонт и где, погружая в ночной полумрак текучую и темную полосу далекого моря, сумеречное дыхание висело, словно туман в жаркий день.
В море, я помню, оттенки тени смешивались с колеблющимися фигурами из неясного света — и все было таинственным, как грустная мысль в радостный и пророческий — сам не знаю отчего — час.
Я не отправился из известного порта. Я и сегодня не знаю, что это был за порт, потому что я там так и не побывал. К тому же, ритуальная цель моего путешествия состояла в том, чтобы отправиться на поиски несуществующих портов — портов, которые были бы просто заходом-в-порты; забытыми устьями узких рек среди безупречно нереальных городов. Читая меня, вы, конечно же, считаете мои слова нелепыми. Просто вы никогда не путешествовали так, как я.
Отправился ли я? Я бы не стал вам клясться, что отправился. Я обнаружил себя в других краях, повидал другие порты, побывал в городах, которые не были тем городом, хотя ни тот, ни эти не были никакими городами. Клясться вам, что отправился я, а не пейзаж, что это я побывал в других землях, а не они посетили меня, — этого я сделать не могу. Не зная, что такое жизнь, я даже не знаю, я ли ее проживаю, или она проживает меня (пусть у этого пустого глагола «проживать» будет какой угодно смысл), и, разумеется, я ни в чем вам клясться не буду.
Я путешествовал. Считаю бессмысленным объяснять вам, что я провел в пути месяцы, дни или какое-либо другое количество каких-либо единиц времени. Я точно путешествовал во времени, но не по эту сторону времени, где мы считаем часами, днями и месяцами; я путешествовал по ту сторону времени, где оно не измеряется какими-либо единицами. Оно течет, но измерить его нельзя. Оно как будто быстрее того времени, в котором мы видим нашу жизнь. Внутри себя вы, разумеется, спрашиваете меня, какой смысл в этих фразах; никогда так не заблуждайтесь. Расстаньтесь с детской ошибкой спрашивать о смысле вещей и слов. Смысла нет ни в чем.
На каком корабле я совершил это путешествие? На пароходе «Любой». Смеетесь. Я тоже, и, быть может, над вами. Кто вам и мне говорит, что я не пишу символы для того, чтобы их поняли боги?
Неважно. Я отправился в сумерках. Я все еще слышу железный грохот парохода, набирающего ход. В закоулках моей памяти все еще медленно двигаются, пока не замирают в бездействии, руки подъемного крана, которые несколько часов назад угнетали мое зрение потоком ящиков и бочек. Последние внезапно проносились, обхваченные железной цепью, через фальшборт, об который они ударялись, царапая, а затем, раскачиваясь, опускались, опускались толчками и, оказавшись над трюмом, резко соскальзывали в него, пока с глухим деревянным стуком грохочуще не попадали в скрытое место в трюме. Потом оттуда, снизу, было слышно, как их разматывают; затем поднималась лишь цепь, извиваясь в воздухе, и все повторялось, словно бесполезно.
Зачем я вам это рассказываю? Ведь нелепо вам это рассказывать, если я сказал, что расскажу вам о своих путешествиях.
Я посетил Новые Европы, и другие Константинополи встретили мое парусное прибытие в ложные Босфоры. Парусное прибытие вас пугает? Было именно так, как я говорю. Пароход, на котором я отправился, прибыл в порт парусным судном… Вы скажете, что это невозможно. Поэтому это со мной и случилось. На других пароходах к нам прибыли известия о воображаемых войнах в недосягаемых Индиях. И, слушая об этих краях, мы некстати тосковали по своей земле, оставленной так далеко, кто знает, в этом ли мире.
* * *
И вот я прячусь за дверью, чтобы Реальность, войдя, меня не увидела. Я прячусь под столом, откуда я неожиданно пугаю Возможность. Так я отвязываю от себя, словно две обнимающие руки, две большие тоски, которые меня сжимают — тоску оттого, что можно жить только Реальным, и тоску оттого, что можно осознать только Возможное.
Так я торжествую над всей реальностью. Мои триумфы — замки из песка?.. Из чего божественного по своей сути состоят замки, не сделанные из песка?
Откуда вы знаете, что, путешествуя таким образом, я не омолаживаюсь неведомым образом?
Дитя абсурда, я вновь переживаю свое детство и играю с представлениями о вещах, как с оловянными солдатиками, с которыми я в детстве делал вещи, противные представлению о солдате.
Опьяненный заблуждениями, я теряю себя из-за мгновений, в которые ощущаю, что живу.
* * *
— Кораблекрушения? У меня их не бывало. Но у меня сложилось впечатление, что во всех моих путешествиях я терпел кораблекрушения, а мое спасение скрывалось в перемежающихся бессознательностях.
— Смутные грезы, рассеянный свет, растерянные пейзажи — вот что остается у меня в душе от моих многочисленных путешествий.
У меня сложилось впечатление, что я узнал часы всех цветов, любовь всех вкусов, тревоги всех размеров. Я не знал меры в наружной жизни, и мне никогда не хватало себя, и я даже не представлял, что могу быть самодостаточным.
— Я должен объяснить Вам, что путешествовал на самом деле. Но все подталкивает меня к тому, чтобы признать, что я путешествовал, но не жил. Я переносил туда и сюда, с севера на юг… с востока на запад, усталость оттого, что у меня было прошлое, тоску оттого, что живу в настоящем, и непокой от необходимости иметь будущее. Но я предпринимаю такие усилия, что оставляю все в настоящем, убивая в себе прошлое и будущее.
— Я гулял по берегам рек, названия которых я, как выяснилось, не знал. На столиках в кафе в посещаемых городах я обнаружил, что чувствую, будто все мне кажется грезой, неопределенностью. Иногда меня охватывало сомнение, не сижу ли я по-прежнему за столом в нашем старом доме, неподвижный и ослепленный грезами! Я не могу утверждать, что этого не происходит, что я не нахожусь по-прежнему там, что все это, в том числе и беседа с Вами, не вымышлено и не ложно. Кто Вы? Как это ни нелепо, это невозможно объяснить…
* * *
Не сходить на берег, потому что нет пристани, на которую можно было бы сойти. Никогда не прибывать подразумевает не прибывать никогда.
Река обладания
Мы все разные — это аксиома нашей естественности. Мы похожи друг на друга только издалека, в том отношении, пожалуй, в котором мы не являемся собой. Поэтому жизнь — удел неопределенных; могут сосуществовать только те, кто никогда себя не определяет и не является никем.
В каждом из нас — двое, и когда два человека встречаются, сближаются, связываются, редко бывает так, что все четверо пребывают в согласии. Если человек, который мечтает о каждом действующем человеке, так часто ссорится с действующим человеком, то как он может не ссориться с действующим человеком и с человеком, который грезит, в Другом?
Мы — силы, потому что мы — жизни. Каждый из нас измеряет себя шкалой других… Если мы уважаем самих себя и считаем себя интересными ‹…› Всякое приближение есть конфликт. Другой всегда представляет собой препятствие для того, кто ищет. Лишь тот, кто не ищет, счастлив; потому что находит только тот, кто не ищет, ведь тот, кто не ищет, уже имеет, а уже иметь что бы то ни было значит быть счастливым, подобно тому как не мыслить есть лучшее, что есть в богатстве.
Я смотрю на тебя внутри себя, предполагаемая невеста, и мы не согласны друг с другом еще до того, как ты начнешь существовать. Моя привычка грезить ясно дает мне верное представление о реальности. Тому, кто грезит слишком много, нужно придавать реальность грезам. Тот, кто придает реальность грезам, должен придавать грезам равновесие реальности. Тот, кто придает реальности равновесие реальности, страдает от реальности грез так же, как и от реальности жизни (и от нереальности грез так же, как и от ощущения нереальности жизни).
Я жду тебя среди моих фантазий в нашей комнате с двумя дверьми и представляю, как ты приходишь и в моей грезе подходишь ко мне через правую дверь; если, когда ты входишь, ты входишь через левую дверь, уже возникает разница между тобой и моей грезой. Вся человеческая трагедия заключена в этом маленьком примере, показывающем, что те, с кем мы думаем, никогда не бывают теми, о ком мы думаем.
Любовь теряет свой облик в различии, что невозможно, с точки зрения логики и тем более с точки зрения мира. Любовь хочет обладать, хочет присвоить то, что должно оставаться снаружи, чтобы знать, что она присваивает только то, что ей не принадлежит. Любить значит отдавать себя. Чем больше отдаешь себя, тем сильнее любовь. Но полная отдача отдает и сознание другого. Самая сильная любовь поэтому есть смерть, или забвение, или отказ — всякая любовь, которая является абсурдизмом любви.
На старой террасе дворца, возвышающейся над морем, мы будем размышлять в тиши над разницей между нами. Я был принцем, а ты — принцессой на террасе у берега моря. Наша любовь родилась из нашей встречи, как красота возникла из встречи луны с водами.
Любовь стремится к обладанию, но не знает, что есть обладание. Если я — не мой, как я могу быть твоим или ты моей? Если я не владею своим собственным бытием, как я могу обладать чужим бытием? Если я уже отличаюсь от того, кому я тождествен, как я могу быть тождественным тому, от кого я отличаюсь?
Любовь — это мистицизм, который хочет заниматься самим собой, невозможность, которая только представляется как нечто, что должно быть осуществлено.
Метафизическая. Но вся жизнь — метафизика впотьмах, где шум богов и незнание пути представляет собой единственный путь.
Худшая уловка, на которую способно мое упадничество, это моя любовь к скорби и к ясности. Я всегда полагал, что красивое тело и счастливая молодая походка более пригодны в этом мире, чем все грезы, которые есть во мне. Порой я со стариковской радостью в душе следую — без зависти и желания — за случайными парами, которых соединяет вечер и которые идут рука об руку к бессознательному сознанию молодости. Я наслаждаюсь ими, как наслаждаюсь истиной, не думая, имеет ли это ко мне какое-либо отношение, или нет. Если я сравниваю их с собой, я продолжаю наслаждаться ими, но как человек, наслаждающийся истиной, которая его ранит, и присоединяющий к боли от раны осознание того, что он понял богов.
Я — противоположность духовных символистов, для которых всякое существо и всякое событие есть тень реальности, являющаяся лишь ее тенью. Любая вещь для меня — не пункт назначения, а точка отправления. Для приверженцев оккультизма все завершается во всем; для меня все начинается во всем.
Я двигаюсь дальше, как и они, путем аналогий и внушения, но маленький сад, который внушает им мысль о порядке и о красоте души, мне напоминает лишь о большом саде, в котором я, находясь вдали от людей, могу быть счастливым жизнью, которая сама счастливой быть не может. Любая вещь наводит меня на мысль не о реальности, тенью которой она является, а о реальности, к которой она ведет.
По вечерам Жардим-де-Эштрела[58] внушает мне мысль о старинном парке тех веков, которые предшествуют разочарованию души.
Сенсационист[59]
В этих сумерках дисциплин, в которых умирают верования, а культы покрываются пылью, наши ощущения — единственная остающаяся реальность. Единственное сомнение, которое вызывает беспокойство, единственная наука, приносящая удовлетворение, — те, что приносят ощущение.
Внутренняя декоративность обостряется во мне как высший и просвещенный способ обозначить судьбу нашей жизни. Если бы мою жизнь можно было прожить в гобеленах духа, у меня не было бы пропастей, на которые я мог бы жаловаться.
Я принадлежу поколению — или, скорее, части поколения, — которое потеряло всякое уважение к прошлому и всякую веру или надежду на будущее. Поэтому мы живем настоящим, испытывая желание и жажду того, у кого нет другого дома. И поскольку именно в наших ощущениях, и особенно в наших мечтах, этих бесполезных ощущениях, мы обнаруживаем настоящее, которое не напоминает ни о прошлом, ни о будущем, мы улыбаемся нашей внутренней жизни и, погружаясь в высокомерную сонливость, не проявляем интереса к количественной реальности вещей.
Возможно, мы не очень отличаемся от тех, кто в жизни думает лишь о развлечениях. Но солнце наших эгоистических забот заходит, и наш гедонизм окрашивается в цвета сумерек и противоречия.
Мы выздоравливаем. Как правило, мы — существа, которые не выучиваются никакому искусству или ремеслу, даже искусству наслаждаться жизнью. Нам чужды длительные пиршества, а лучшие друзья обычно наскучивают нам через полчаса; мы жаждем их видеть лишь тогда, когда собираемся их повидать, и лучшие часы, которые мы с ними проводим, — те, когда мы просто представляем, что проводим время вместе. Не знаю, не признак ли это недостаточной дружбы. Пожалуй, нет. Но можно уверенно сказать, что то, что мы больше всего любим или думаем, что любим, обладает своей полной реальной ценностью лишь тогда, когда мы об этом просто грезим.
Нам не нравятся спектакли. Мы презираем актеров и танцоров. Всякий спектакль — это упадочное подражание тому, о чем нужно было лишь грезить.
Мы равнодушны — не изначально, а вследствие воспитания чувств, которое нам обычно навязывает различный болезненный опыт — к мнению других, мы всегда любезны с ними, и они нам даже приятны вследствие заинтересованного равнодушия, потому что всякий человек интересен и его можно преобразовать в грезу, в других людей; мы обходимся без способности любить, нас заранее утомляют те слова, которые нужно было бы говорить, чтобы нас полюбили. Впрочем, кто из нас хочет быть любимым?
Фраза Шатобриана, которой он охарактеризовал Рене: «on le fatiguait en l’aimant»[60], — нам не подходит. Сама мысль о том, что мы любимы, нас утомляет, утомляет и тревожит.
Моя жизнь — постоянная лихорадка, постоянно возобновляющаяся жажда. Настоящая жизнь докучает мне, как жаркий день. Есть некоторая низость в том, как она докучает.
Симфония беспокойной ночи
Сумерки в древних городах с неведомыми традициями, записанными на черных камнях тяжелых зданий; дрожащие рассветы на широких, болотистых, влажных равнинах, как воздух до восхода солнца; закоулки, в которых все возможно, тяжелые арки обветшавших залов; колодец в глубине сада под светом луны; письмо, датированное временами первой любви нашей бабушки, которой мы не знали; плесень в комнатах, прикованная к прошлому; ружье, которым сегодня никто не умеет пользоваться; лихорадка жарких вечеров у окна; никого на улице; сон с резкими вздрагиваниями; недуг, ползущий по виноградникам; колокола; монастырская тоска от жизни… Время благословений для твоих изящных рук… Ласка никогда не приходит, камень в перстне сочится кровью почти в темноте… Церковные праздники без веры в душе: материальная красота неуклюжих и некрасивых святых, романтические страсти в самой мысли о том, что ты их испытываешь, запах моря после наступления ночи на пристанях города, увлажненного прохладой…
Твои худощавые руки возносятся над тем, кого похищает жизнь. Длинные коридоры и решетки, всегда открытые закрытые окна, холод на земле, как на могилах, тоска по любви, как по путешествию в незавершенные земли, которое предстоит совершить… Имена древних цариц… Витражи, на которых изображены могучие графы… Утренний, неясно рассеянный свет, как холодный ладан в воздухе церкви, сосредоточившийся в темноте непроницаемого пола… Одна сухая рука на другой. Сомнения монаха, который в нелепой вязи древней книги обнаруживает наставления волшебников, а в декоративных гравюрах — ступени Инициации.
Пляж на солнце, лихорадка во мне… Море, высвечивающее тревогу, стискивающую мне горло… Паруса вдали словно плывут в моей лихорадке… В лихорадке ступени к пляжу… Жара в свежем морском воздухе, mare vorax, minax, mare tenebrosum[61] — темная ночь там, вдали, для аргонавтов, а в моей голове горят старинные каравеллы…
Все принадлежит другим, кроме скорби оттого, что оно не твое.
Дай мне иглу… Сегодня внутри дома не хватает ее маленьких стежков и незнания того, куда она подевалась, всего того, что будет работать со складками, с цветами, с булавками. Сегодня ее швы навсегда заперты в выдвижных ящиках комода — ненужных, — и нет тепла рук, которые грезятся вокруг материнской шеи.
Случайный дневник
Каждый день Материя меня оскорбляет. Моя чувствительность — пламя на ветру.
Я прохожу по улице и вижу на лицах прохожих не выражение, которое у них есть, а выражение, с которым они смотрели бы на меня, если бы они знали о моей жизни и о том, какой я есть, если бы я проявлял в моих движениях и в моем лице смехотворную и робкую ненормальность моей души. В глазах, не смотрящих на меня, я подозреваю насмешки, которые считаю естественными и которые направлены против неэлегантного исключения, коим я являюсь в мире действующих и наслаждающихся людей; а в предполагаемой глубине физиономий прохожих хохочет над застенчивыми жестами моей жизни то ее осознание, которое я накладываю и вставляю. Напрасно я пытаюсь, подумав об этом, убедить себя в том, что мысль о насмешке и тонком оскорблении исходит и бьет струей из меня и только из меня. Я уже не могу назвать своим образ созерцания себя в нелепом виде, когда он был объективирован в других. Внезапно я чувствую, как задыхаюсь и сомневаюсь в горниле насмешек и вражды. Все показывают на меня пальцем в глубине своих душ. Все проходящие через меня швыряют в меня веселыми и презрительными шутками. Я шагаю среди враждебных призраков, которых создало и поместило в реальных людей мое распаленное воображение. Все мне дает пощечины и глумится надо мной. А иногда посреди улицы, когда за мной наконец никто не наблюдает, я останавливаюсь, сомневаюсь, ищу, словно внезапное новое измерение, дверь, ведущую вовнутрь пространства, на другую сторону пространства, куда я могу немедленно убежать от моего осознания других, от моего слишком объективного ощущения реальности чужих живых душ.
Быть может, моя привычка помещать себя в души других заставляет меня видеть себя так, как меня видят другие, или как они видели бы меня, если бы обращали на меня внимание? Да. И когда я ощущаю, как они чувствовали бы себя по отношению ко мне, если бы знали меня, мне кажется, будто они чувствуют это на самом деле, чувствуют в это мгновение и, чувствуя, выражают это немедленно. Для меня сосуществовать с другими — пытка. А других я держу в себе. Даже вдали от них я вынужден сосуществовать с ними. Я одинок, но меня окружают толпы. Мне некуда бежать, разве только бежать от самого себя.
О большие горы в сумерках, почти узкие улицы при свете луны, если бы я мог обладать вашей неосознанностью того ‹…› вашей духовностью одной лишь Материи, без нутра, без чувственности, не иметь места, куда складывать чувства, мысли, душевный непокой! Деревья — просто деревья с такой приятной глазу зеленью, такой далекой от моих забот и печалей, такой утешительной для моих тревог, потому что у вас нет ни глаз, которыми вы могли бы смотреть, ни души, которая, будучи зримой для этих глаз, могла бы не понять их и поднять их на смех! Камни на улице, обтесанные бревна, простая безымянная почва повсюду, моя сестра, потому что для моей души ваша бесчувственность — это ласка и отдохновение ‹…› вместе с солнцем или под луной Земли, моей матери, такой умилительно моей матери, потому что ты даже не можешь меня журить, как может журить моя собственная человеческая мать, потому что у тебя нет души, которой ты, не думая об этом, могла бы анализировать меня, ни быстрых взглядов, которые приносили бы тебе мысли обо мне, в которых ты не признаешься даже себе. Огромное море, шумный товарищ моего детства, приносящий мне отдохновение и убаюкивающий меня, потому что твой нечеловеческий голос не может однажды тайком рассказать человеческим ушам о моих слабостях и моих несовершенствах. Просторное небо, голубое небо, небо, близкое к тайне ангелов ‹…›, ты не смотришь на меня зелеными глазами, ты кладешь солнце себе на грудь, ты это делаешь не для того, чтобы привлечь меня, и если тебя ‹…› звездами или ты предвосхищаешь это, чтобы выказать мне презрение… Всеобщий покой Природы, материнской по тому, как она меня игнорирует; далекий покой ‹…› и систем, такой родственный в твоем полном незнании меня… Я хотел помолиться вашей бескрайности и вашему покою в знак благодарности за то, что вы у меня есть и что я могу любить вас без подозрений и сомнений; я хотел дать слух вашему неумению слышать ‹…› дать зрение вашей величественной слепоте ‹…› и стать предметом ваших забот посредством этих предполагаемых ушей и глаз, утешаясь тем, что присутствую в вашем Небытии, словно внимая окончательной смерти, вдалеке, не надеясь на другую жизнь, за пределами Бога и вероятных существ, сладострастно ничтожный и окрашенный в духовный цвет всех материй…
Советы неудачно вышедшим замуж
(Неудачно вышедшие замуж — это все замужние женщины и некоторые незамужние.)
Прежде всего, прекратите лелеять в себе гуманные чувства. Гуманность — это хамство. Я пишу с холодной головой, рассудительно, думая о вашем благополучии, бедные незадачливые жены.
Любое искусство, любое освобождение заключается в том, чтобы как можно меньше закабалять дух, позволяя телу закабаляться так, как ему вздумается.
Не стоит быть безнравственными, потому что это умаляет в чужих глазах вашу личность или делает ее заурядной. Быть безнравственными внутри себя, будучи окруженными всемерным уважением других. Быть телесно девственной и самоотверженной супругой и матерью и, вместе с тем, поддерживать необъяснимые плотские связи со всеми окрестными мужчинами, от лавочников до ‹…› — вот что доставляет высшее удовольствие тем, кто действительно хочет наслаждаться и расширять свою личность, не опускаясь до методов служанки, которые низменны потому, что и она из их числа, и не впадая в строгую честность бесконечно глупой служанки, бесспорно, порожденную интересом.
Вследствие вашего превосходства, женские души, меня читающие, вы сможете понять то, что я пишу. Всякое удовольствие проистекает от мозга, всякое случающееся преступление совершается лишь в мечтах! Я помню одно красивое, настоящее преступление.
Его никогда не было. Прекрасны те преступления, которые нам не известны. Совершал ли Борджа красивые преступления? Не совершал, поверьте мне. Прекраснейшие, многочисленные, плодотворные преступления совершила наша мечта о Бордже, то представление о Бордже, которое у нас есть. Я уверен, что существовавший в действительности Цезарь Борджа был человеком заурядным и глупым, он должен был быть таким, потому что существование всегда глупо и заурядно.
Я даю вам эти советы бескорыстно, применяя мой метод в ситуации, которая меня не интересует. Я лично мечтаю о власти и славе; в моих мечтах нет места чувственности. Но я хочу быть вам полезным, хотя бы для того, чтобы противоречить себе, потому что я терпеть не могу полезность. Я альтруист на свой лад.
* * *
Я намереваюсь показать им, как изменять своему мужу в воображении.
Поверьте мне: лишь заурядные создания изменяют мужу на самом деле. Целомудрие — это обязательное условие для сексуального удовольствия. Отдаваться больше, чем одному мужчине, означает убить целомудрие.
Я допускаю, что женская подчиненность нуждается в самце. Полагаю, что она, по крайней мере, должна ограничиваться только одним самцом, помещая его, если в том будет потребность, в центр растущего круга воображаемых самцов.
Лучшая возможность так поступать предоставляется в дни, предшествующие менструации.
Вот как:
Они представляют, что у их мужа тело белее. Если они это представят как следует, они почувствуют его белее на себе.
Воздерживайтесь от всякого жеста чрезмерной чувственности. Целуйте мужа, находящегося над вашим телом, и подменяйте его при помощи воображения — думайте о том мужчине, что находится у вас в душе.
Суть наслаждения заключается в раздвоении. Откройте створки окна той кошке, что есть в вас.
Как если бы вы заперли мужа.
Важно, чтобы муж иногда раздражался.
Главное — начать чувствовать влечение к тому, что отвращает, не утрачивая внешнюю дисциплину.
Безграничная внутренняя распущенность в сочетании с предельной внешней дисциплиной составляет совершенную чувственность. Каждый жест, воплощающий мечту или желание, на самом деле делает их нереальными.
Подмена не так трудна, как кажется. Я называю подменой прием, заключающийся в том, чтобы представлять, как наслаждаешься с мужчиной А во время совокупления с мужчиной Б.
* * *
Мои дорогие ученицы, я желаю вам, если вы будете строго придерживаться моих советов, бесчисленного и раздвоенного сладострастия ‹…› с животным-самцом, к которому Церковь или Государство привязали вас чревом и фамилией.
Лишь отталкиваясь от земли, птица может взлететь. Пусть этот образ, дочери мои, будет для вас постоянным напоминанием о единственной духовной заповеди.
Быть кокеткой, исполненной самых разнообразных пороков, не изменяя мужу даже взглядом — вот подлинное сладострастие, если вы сумеете его достичь.
Быть кокеткой внутри, изменять мужу внутри, изменять держа его в своих объятиях, делать так, чтобы чувство, вкладываемое вами в поцелуй, было не для него — о превосходные женщины, о мои таинственные Умницы — вот сладострастие.
Почему я не советую этого и мужчинам? Потому что Мужчина — существо другого рода. Если он низмен, я посоветую ему использовать столько женщин, сколько он сможет: пусть он так поступает и навлечет на себя мое презрение, когда ‹…› А у высшего мужчины потребность в какой-либо женщине отсутствует. Для сладострастия он не нуждается в сексуальном обладании. Однако женщина, пусть даже высшая, этого не приемлет: женщина сексуальна по сути своей.
Экзамен сознания
Проживать жизнь в мечтаниях и выдумках все равно значит жить. Отрекаться значит действовать. Мечтать значит признавать потребность жить, заменяя реальную жизнь нереальной, что является вознаграждением за неотчуждаемость желания жить.
Что это все, в конце концов, если не поиск счастья? Поиск чего-то другого?
Дали ли мне постоянные фантазии, непрерывный анализ что-то существенно отличное от того, что дала бы мне жизнь?
Обособившись от людей, я не нашел себя и не ‹…›
Эта книга представляет собой лишь одно состояние души, проанализированное со всех сторон, изъезженное во всех направлениях.
Дал ли мне этот подход хотя бы что-то новое? Даже это утешение мне недоступно. Все было уже у Гераклита и в Экклезиасте: Жизнь — это игра ребенка на песке… Все — суета и томление духа… А я — несчастный Иов в одной-единственной фразе: Опротивела душе моей жизнь моя.
Я слушаю себя, когда мечтаю. Я убаюкиваю себя звуком моих образов… В тайных мелодиях по слогам мне слышится звук воплотившейся в образе фразы ‹…› стоит стольких жестов! Метафора утешает в таких разных состояниях!
Я слушаю себя… Во мне проходят церемонии… Шествия… Блестки в моей тоске… Маскарады… Я ослепленно содействую своей душе…
Калейдоскоп обрывочных очередностей ‹…› Роскошь слишком глубоко прожитых ощущений… Королевские ложа в безлюдных замках, драгоценности умерших принцесс, бухты, узренные через бойницы замков; без сомнения, наступят почести и могущество для самых счастливых, будут шествия в изгнании… Уснувшие оркестры, шелковые нити…
У Паскаля:
У Виньи: У тебя ‹…›
У Амьеля, так полно у Амьеля:
…(некоторые фразы)…
У Верлена, у символистов:
Такое болезненное у меня… Нет даже привилегии небольшой оригинальности болезни… Я делаю то, что делало так много людей до меня… Мои страдания — старая форма страданий… Зачем я вообще думаю об этом, если так много людей об этом думало и от этого страдало?..
И все же нечто новое я привнес. Но моей ответственности в этом нет. Оно пришло из Ночи и блестит во мне, словно звезда… Все мои усилия не создали его и не погасили… Я — мост между двумя тайнами, и как меня построили, я не знаю…
Ясный дневник
Моя жизнь — трагедия, которая пала под свист ангелов и лишь первая часть которой была представлена.
Друзей — ни одного. Лишь знакомые, которые считают, что я им симпатичен, и которым, возможно, было бы жаль, если бы меня переехал поезд и похороны состоялись в дождливый день.
Естественной наградой за мою отстраненность от жизни стала внушаемая другим неспособность чувствовать вместе со мной. Вокруг меня — ореол холодности, сияние льда, отталкивающее других. Мне пока не удавалось не страдать от моего одиночества. Так трудно обрести ту духовную утонченность, которая позволила бы отстраненности стать отдохновением без тревоги.
Я никогда не доверял дружбе, которую мне выказывали, как не доверял бы и любви, если бы ее ко мне проявили, что, впрочем, невозможно. Хотя у меня никогда не было иллюзий относительно тех, о ком говорили мои друзья, я всегда умудрялся разочаровываться в них — так сложна и тонка моя судьба, полная страданий.
Я никогда не сомневался в том, что меня все могут предать; и всегда изумлялся, когда меня предавали. Когда наступало то, чего я ждал, для меня оно всегда было неожиданным.
Поскольку я никогда не обнаруживал в себе качеств, которые могли бы кого-либо привлечь, я никогда не мог поверить в то, что кто-то мог чувствовать ко мне влечение. Это мнение было бы до глупости скромным, если бы многочисленные факты — те неожиданные факты, которых я ждал — всякий раз не подтверждали бы его.
Я не могу представить, что меня могут уважать из сочувствия, потому что, хотя физически я неловок и неуклюж, я не достиг такой степени органической запущенности, чтобы войти в орбиту сопереживания других, и даже той симпатии, которая привлекает сопереживание несмотря на то, что его заслуженность неочевидна; и к тому, что во мне заслуживает сочувствия, его быть не может, потому что никогда не бывает сострадания к искалеченным духом. Поэтому я попал в тот центр тяжести чужого презрения, в котором я не склоняюсь к чьим-либо симпатиям.
Вся моя жизнь — стремление приспособиться к этим условиям, не слишком чувствуя их жестокость и гнусность.
Человеку требуется некоторая интеллектуальная смелость, чтобы бесстрашно признать себя лишь человеческим отребьем, выжившим выкидышем, безумцем, все еще находящимся за пределами сумасшедшего дома; но нужна еще большая душевная смелость для того, чтобы, признав это, идеально приспособиться к своей судьбе, принять без возмущения, без смирения, без какого-либо жеста или намека на жест то органическое проклятие, которое наложила Природа. Хотеть, чтобы он не страдал от этого, значит хотеть слишком многого, потому что не свойственно человеку принимать зло, хорошо его видя, и называть его добром; а признавая его злом, невозможно от него не страдать.
Постигать себя извне стало моей бедой — бедой для моего счастья. Я увидел себя таким, каким видят меня другие, и стал презирать себя не столько потому, что я признавал в себе такие качества, за которые заслуживал бы презрения, а потому что я стал видеть себя таким, каким меня видят другие, и чувствовать презрение, которое они ко мне чувствуют. Я познал унижение познания себя. Поскольку в этой голгофе нет ни благородства, ни воскрешения через несколько дней, я мог лишь страдать от низменности этого.
Я понял, что меня не может любить никто, за исключением человека, у которого полностью отсутствует эстетическое чувство, — и тогда я бы презирал его за это; и даже симпатия ко мне не могла быть чем-то большим, чем прихотью чужого равнодушия.
Видеть ясно в нас и в том, как нас видят другие! Видеть эту истину прямо перед собой! И в конце — крик Христа на Голгофе, когда он увидел прямо перед собой свою истину: Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?
Приложения Тексты, в которых упоминается имя Висенте Гедеша
Приложение 1
Мое знакомство с Висенте Гедешем состоялось совершенно случайно. Мы часто встречались в одном и том же дешевом ресторане, в который мало кто заходил. Мы знали друг друга в лицо; естественно, обменивались молчаливым приветствием. Однажды мы оказались за одним столом и, по воле случая, перекинулись парой слов; завязалась беседа. Мы стали встречаться там каждый день, за обедом и за ужином. Иногда мы выходили вместе после ужина и немного прогуливались, беседуя.
Висенте Гедеш терпел эту никчемную жизнь с мастерским равнодушием. Стоицизм слабого служил прочным основанием для всей его умственной деятельности.
Конституция его духа обрекала его на то, чтобы переживать все тревоги; конституция его судьбы — на то, чтобы предаваться им всем. Я никогда не встречал душу, которая настолько бы меня изумляла. Не будучи сторонником какого-либо аскетизма, этот человек отказался от всех целей, для которых природа его предназначила. Естественным образом предрасположенный к честолюбию, он медленно наслаждался отсутствием каких-либо устремлений.
Приложение 2
…Эта нежная книга. Она есть то, что остается и останется от одной из самых утонченных в своем бездействии душ, самых разнузданных в чистом мечтании, которые видел этот мир. Никогда, как мне кажется, не было существа, внешне человеческого, которое сложнее проживало осознание самого себя. Денди по духу, он выгуливал искусство мечтания через случайность существования.
Эта книга — биография человека, у которого никогда не было жизни… О Висенте Гедеше не известно, ни кем он был, ни что он делал, да и книга эта не его — она и есть он. Но мы должны всегда помнить, что за всем тем, что здесь сказано, в тени всегда таинственно вьется.
Для Висенте Гедеша осознавать себя всегда было искусством и моралью; грезы были религией.
Он определенно создал внутреннюю аристократию, то поведение души, которое больше похоже на позу тела, свойственную настоящему аристократу.
Приложение 3
Невзгоды человека, чувствующего отвращение к жизни на террасе своего богатого дома, это одно; другое дело — невзгоды того, кто, подобно мне, должен созерцать пейзаж из моей комнаты на пятом этаже в Байше и не может забыть, что он — помощник бухгалтера.
«Tout notaire a rêvé des sultanes…»[62]
Я испытываю внутреннее наслаждение от иронии незаслуженной смехотворности, когда, не вызывая ни у кого удивления, заявляю в официальных документах, где необходимо указать профессию: торговый служащий. Не знаю, как выглядит мое имя, записанное таким образом, в «Торговом ежегоднике».
Эпиграф к Дневнику:
Гедеш (Висенте), торговый служащий, улица Галантерейщиков, 17–4.
Торговый ежегодник Португалии.
II. Отрывочный материал для «Похоронного марша для короля Баварского Людвига Второго».
Приложение 4
К тебе, о Смерть, отправляется наша душа и наша вера, наша надежда и наше приветствие!
Владычица Последних Вещей, Плотское Имя Тайны и Бездны — ободри и утешь того, кто стремится к тебе, не осмеливаясь тебя искать!
Госпожа Утешения, Озеро под лунным светом, среди скал, Далекое от грязи и позора Жизни!
Девственница-Мать нелепого Мира, форма непонятного Хаоса, простри и распространи твое царствие на все — на цветы, предвкушающие собственное увядание, на диких зверей, содрогающихся от приближения старости, на души, рожденные, чтобы любить тебя среди заблуждений и обманов жизни!
Жизнь, спираль Небытия, бесконечно встревоженная тем, чего не может быть.
Приложение 5
Принесите себе покров золота и смерти, рыцарь бесполезной расшифровки. Среди крови и роз вспомните бесполезный сон, который разбился в кувшинах до того, как их уронила белая рука. Ступайте осторожно, словно глашатай шелков, по тихому залу, в предсиянии тоски, в мертвенный час светлых канделябров, среди блеска драгоценных камней, запертых на ключ в скуке.
Тот, кем были вы, господин, остался среди сирен, в лунном забвении мертвых морей. Он услышал песни болезни вод, которые достигают луны лишь посредством желания, и оборвал один за одним лепестки роз в саду дворца прерванного обретения. Звук скрипок, возвещавших о существовании лучшего, отвлек внимание его слуха от властных слов, раздававшихся среди шума.
Ваша рука отпустила руку прервавшего, потому что нужно было подойти ближе к дали, принесенной вздохами. Озеро среди деревьев было подобно грезе воды среди аллей островов, а желание? Оно было словно час лунного света, замершего при появлении тучи, словно неясное небо и прохождение пажей…
Приложение 6
…И опустился подъемный мост, чтобы он вошел, когда прибудет, чтобы войти.
Приложение 7
Худой мужчина небрежно улыбнулся и посмотрел на меня с недоверием, в котором не было неприязни. Потом он снова улыбнулся, но с грустью. Затем он вновь опустил глаза на блюдо и молча, отрешенно продолжил ужинать.
Приложение 8
(копия письма в Преторию)
5/6/1914
На здоровье я не жалуюсь и, что любопытно, нахожусь в не таком плохом расположении духа. Тем не менее, меня терзает смутное беспокойство, нечто, что я не могу назвать иначе, как умственным нетерпением, как если бы у меня на душе были волдыри. Лишь таким нелепым языком я могу описать Вам то, что чувствую. Все это, впрочем, не совсем похоже на те грустные состояния духа, о которых я Вам иногда рассказываю и которые отличаются беспричинной грустью. У моего нынешнего состояния души причина есть. Вокруг меня все удаляется и рушится. Я не использую эти два глагола в печальном смысле. Я просто хочу сказать, что в людях, с которыми мне приходится иметь дело, проявляются или должны проявиться перемены, завершаются жизненные этапы, и что все это — подобно тому, как старику, который видит, как вокруг него умирают друзья детства, кажется близкой его смерть, — таинственным образом подсказывает мне, что моя жизнь тоже должна измениться и изменится. Заметьте, я не считаю, что эти перемены будут к худшему, напротив. Но это все равно перемены, а для меня меняться, переходить от одного к другому означает частичную смерть; что-то в нас умирает, и грусть от того, что умирает и уходит, не может не ранить нам душу.
Смотрите: завтра отправляется в Париж мой лучший и самый близкий друг. Вполне вероятно, что тетушка Аника (см. ее письмо) вскоре поедет в Швейцарию вместе с дочерью, уже замужней. В Галисию на довольно длительный срок уедет другой юноша, мой добрый друг. Переезжает в Порту еще один молодой человек, который, после первого из тех, что я Вам упомянул, является моим самым близким другом. Так, в моем человеческом окружении все организуется (или дезорганизуется) то ли так, чтобы я остался в одиночестве, то ли так, чтобы призвать меня ступить на новый путь, которого я не вижу. Даже то обстоятельство, что я собираюсь издать книгу, меняет мою жизнь. Я теряю нечто — то, что я еще не издавался. Поэтому перемены к лучшему, поскольку перемены плохи, это всегда перемены к худшему. И утратить изъян или недостаток или отказ всегда означает что-то потерять. Представьте себе Мать, которая не будет испытывать болезненные повседневные ощущения из-за создания, чувствующего таким образом!
Каким я буду через десять, даже через пять лет? Мои друзья говорят, что я буду крупнейшим современным поэтом — они это говорят, глядя на то, что я уже сделал, а не на то, что я смогу сделать (иначе я бы не упоминал то, что они говорят…). Но точно ли я знаю, что это означает, даже если это сбудется? Знаю ли я, какой у этого вкус? Быть может, слава имеет вкус смерти и бесполезности, а триумф пахнет гнилью.
Приложение 9
Еще «мысли».
Рождественский день. Гуманизм. «Реальность» Рождества субъективна. Да, в моем бытии. Переживание пришло и ушло. Но на мгновение я ощутил надежды и переживания бесчисленных поколений с мертвым воображением целого мертвого племени мистиков. Рождество во мне!
Социология — бесполезность политических теорий и практик.
Жестокость боли — наслаждаться страданием, наслаждаясь собственной личностью, сопряженной с болью. Последнее искреннее прибежище желания жизни и жажды наслаждений.
* * *
Жестокая Любовь.
Ты будешь такой, как я захочу. Я превращу тебя в украшение моих переживаний и помещу куда захочу и как захочу, внутри меня. У тебя нет ничего. Ты — никто, потому что ты несознательна; ты просто живешь.
Qu’est-il de frère en toi et ceux qui veulent vivre?[63]
Мой дух привержен тому, как поступают классики и что говорят декаденты.
Приложение 10
Любовь с китаянкой, изображенной на фарфоровой чашке.
Причины:
Наша любовь текла спокойно, как того хотела она, всего в двух измерениях пространства.
Приложение 11
Общество, в котором я живу…
Полностью пригрезившееся. Мои воображаемые друзья. Их семьи, привычки, профессии и…
Приложение 12
Есть техника мечтания, как есть техники различных реальностей, от той…
Приложение 13
Ощущения рождаются изученными.
Совершенство между ощущением и осознанием его, а не между ощущением и «фактом».
Правило жизни: социально всему подчиняться.
Женитьба хороша, потому что искусственна. — Притворство и абсурд — признак человеческого.
Приложение 14
Другая тоска или та же самая, более низменная, более приближенная к нам, больше наедине с нами, но она — с нами.
Я изумился всем телом.
Приложение 15
Непоследовательный подданный всех ощущений, которые ранят за пределами причины, обусловленной их происхождением от раны, ревнующий ко всем прямым последствиям абсурда и…
Приложение 16
Как ребенок, что бежит и останавливается, волоча высокие взмахи коротких ног и учащенно дыша…
Приложение 17
Г. Жункейру[64]? Его творчество мне глубоко безразлично. Я его уже видел… Никогда не мог восхищаться поэтом, которого смог увидеть.
Приложение 18
Мне любопытны все, я жаден до всего, ненасытен от мысли обо всех. Меня тяготит, как потеря ‹…›, представление о том, что всего нельзя увидеть, прочитать, помыслить…
Но я не смотрю внимательно, не читаю со значением, не думаю последовательно. Во всем я — полный и никчемный дилетант.
Моя душа слишком слаба даже для того, чтобы обладать силой собственного энтузиазма. Я создан из развалин неоконченного, и мое бытие мог бы охарактеризовать пейзаж отказов.
Я блуждаю, если сосредоточиваюсь; все во мне декоративно и неопределенно, словно спектакль в тумане.
Эта плотская склонность превращать всякую мысль в выражение или, скорее, мыслить всякую мысль как выражение; видеть всякое переживание в цвете и форме и даже всякое отрицание в ритме ‹…›
Я пишу с высокой насыщенностью выражения; я даже не знаю, что есть то, что я чувствую. Я наполовину лунатик, наполовину ничто.
Женщина, которой я являюсь, когда знаю себя.
Опиум царственных сумерек и чудо, раскинувшееся в темноте, к руке, освобождающейся от лохмотьев.
Иногда так велик, так быстр, так обилен сосредоточенный поток образов и точных фраз, который течет в моей невнимательной душе, что я злюсь, скручиваюсь, плачу оттого, что должен их потерять — потому что я их теряю. У каждого из них было свое мгновение, за пределами которого его невозможно вспомнить. И во мне остается, как во влюбленном — тоска по любимому лицу, которое он едва увидел и не запомнил, память о моем состоянии, подобном состоянию мертвых, о том, как я склонялся над бездной быстрого прошлого образов и идей, мертвых фигур из тумана, из которого они и образовались.
Текучий, отсутствующий, несущественный, я теряюсь в себе, как если бы тонул в небытии; я — минувший, и это слово, которое говорит и останавливается, выражает все.
Ритм слова, образ, который оно вызывает, и его смысл как идеи, непременно соединившись в каком-нибудь слове, становятся для меня объединенными посредством разделения.
Просто подумав о слове, я бы понял понятие Троицы. Я думаю о слове «бесчисленный» и выбираю его как пример, потому что оно абстрактно и бесполезно. Но если я слышу его в моем существе, большие волны катятся с шумом, который не прекращается в бесконечном море; образуют созвездия небеса, причем не из звезд, а из музыки всех волн, в которых сопрягаются звуки, и мысль о бесконечно текущем, словно развевающееся знамя, открывается звездам или звукам моря и мне, отражающим все звезды.
То, что дон Себастьян[65] возвращается сквозь густой туман, не противоречит истории. Вся история блуждает туда и обратно среди туманов, и самые крупные битвы, о которых рассказывают, самая изысканная роскошь, самые значительные достижения суть не более чем спектакли в тумане, свиты в угасающей сумеречной дали.
Душа во мне выразительна и материальна. Я либо цепенею в небытии чувствительного льна, либо пробуждаюсь, и если пробуждаюсь, то проецирую себя в словах, как если бы в них открывались глаза моего существа. Если я думаю, мысль возникает в самом моем духе в виде сухих, размеренных фраз, и я никогда не могу как следует различить, думаю ли я перед тем, как это говорю, и есть ли во мне слова после того, как я это скажу. Во мне всякое переживание есть образ, а всякая греза — положенная на музыку картина. То, что я пишу, может быть дурным, но оно еще более ‹…› чем то, что я думаю. В это я иногда верю.
С тех пор как я живу, я повествую себя, и самая незначительная тоска, испытанная мной, если я склоняюсь над ней, рассыпается вследствие магнетизма ‹…› на цветы, окрашенные в цвета музыкальных бездн.
Заметки и письма Фернандо Пессоа, касающиеся «Книги непокоя» Выдержки из некоторых писем
Письмо, адресованное Жоао де Лебре-и-Лима[66], от 3 мая 1914 года:
Относительно тоски я вспомнил, что хотел у Вас кое-что спросить… Видели ли в одном из прошлогодних номеров «Орла»[67] мой отрывок под названием «В лесу отчуждения»? Если нет, сообщите, я Вам его отправлю. Я крайне заинтересован в том, чтобы Вы ознакомились с этим текстом. Это единственный мой изданный текст, в котором я превращаю тоску и грезу, бесплодную и утомленную самой собой настолько, что она начинает грезить о себе, в мотив и в сюжет. Не знаю, понравится ли Вам стиль, которым текст написан: это сугубо мой стиль, здесь многие мои друзья в шутку называют его «чуждым стилем», потому что он проявился в этом тексте. И говорят о «чуждом говорении», «чуждом письме» и т. д.
Этот фрагмент относится к одной моей книге, в которую входят и другие написанные, но не изданные фрагменты; но до ее завершения еще далеко; эта книга называется «Книга непокоя» по причине беспокойства и неуверенности, которые являются ее преобладающими чертами. В опубликованном фрагменте это чувствуется. То, что внешне кажется простой мечтой или сном, в повествовательной форме — это ощущается в ходе чтения и должно, если я хорошо написал, ощущаться на протяжении всего чтения — становится воображаемой исповедью бесполезности и болезненной и бесплодной ярости мечтания.
* * *
Письмо, адресованное Арманду Кортешу-Родригешу[68], от 2 сентября 1914 года:
Я не написал ничего такого, что стоило бы Вам отправлять. Рикардо Рейш[69] и Алвару[70] футурист молчат. Каэйру учинил несколько строк, которые, возможно, найдут прибежище в какой-нибудь будущей книге… Я в основном занимаюсь социологией и непокоем. В. полагает, что последнее слово относится к его собственной «книге»; действительно, я создал несколько страниц этого нездорового произведения. Так что работа продвигается сложно и извилисто.
* * *
Письмо, адресованное Арманду Кортешу-Родригешу, от 4 октября 1914 года:
Я не отправляю Вам и другие мелкие вещи, которые написал в эти дни. Одни не очень достойны того, чтобы их отправлять; другие входят в состав «Книги непокоя». Истина в том, что я открыл новый жанр — паулизм…
Мое нынешнее состояние духа — глубокая и спокойная депрессия. Я уже несколько дней нахожусь на уровне «Книги непокоя». И кое-что для этого произведения я написал. Даже сегодня я написал почти целую главу.
* * *
Письмо, адресованное Арманду Кортешу-Родригешу, от 19 ноября 1914 года:
Мое состояние духа заставляет меня сейчас работать довольно много над «Книгой непокоя» без моей на то воли. Но это все фрагменты, фрагменты, фрагменты.
* * *
Письмо, адресованное Жоао Гашпару Симоешу[71], от 28 июля 1932 года:
Изначально я намеревался начать издавать свои произведения с трех книг в следующем порядке: «Португалия», небольшая книга поэм (всего их 41), второй частью которой является «Современное португальское море»; «Книга непокоя» (Бернарду Соареш, но косвенно, ведь Б. С. — не гетероним, а литературный персонаж); «Полное собрание поэм Алберту Каэйру» (с предисловием Рикардо Рейша и «Заметками в память об Алвару де Кампуше» в качестве послесловия). Позже, на следующий год, последовал бы «Песенник» (или какое-нибудь другое название, столь же невыразительное), один или вместе с какой-нибудь другой книгой, в котором я бы объединил (в Книгах с I по III или с I по V) различные разрозненные мои поэмы, которые невозможно классифицировать иначе как посредством такого невыразительного метода.
Однако обстоятельства складываются так, что в «Книге непокоя» многое нужно уравновесить и пересмотреть; по моим расчетам, это займет не менее года. Что же до Каэйру, то я пребываю в нерешительности…
* * *
Письмо, адресованное Адольфу Казаишу Монтейру[72], от 13 января 1935 года:
Как я пишу от имени этих троих? Каэйру — руководствуясь чистым и неожиданным вдохновением, не зная и даже не рассчитывая, что я напишу. Рикардо Рейш — после абстрактного размышления, которое внезапно обретает конкретные черты в оде. Кампуш — когда я вдруг чувствую порыв писать, но не знаю что именно. (Мой полугетероним Бернарду Соареш, который, кстати, во многом походит на Алвару де Кампуша, всегда появляется, когда я устал или хочу спать и потому мои способности к размышлению и подавлению несколько ограничены; эта проза — постоянное фантазирование. Это полугетероним потому, что, хотя его личность — не моя, она представляет собой не отличие от моей, а ее искалечение. Он — это я минус рассудительность и эмоциональность. Проза за исключением того, что рассудительность уступает моей, одинакова, как совершенно одинаков и португальский язык; кстати, Каэйру писал по-португальски плохо, Кампуш — здраво, но с огрехами вроде «собственно я» вместо «я сам» и т. д., Рейш — лучше, чем я, но с таким пуризмом, который мне представляется чрезмерным…)
Две заметки
Заметка к самим изданиям (подходящая и для «Предисловия»)
Объединить позднее в отдельной книге различные поэмы, которые я ошибочно намеревался включить в «Книгу непокоя»; у этой книги должно быть название, которое более или менее должно отражать, что она содержит грязь, или промежуток, или какое-нибудь другое слово, столь же отстраненное.
Впрочем, эта книга сможет стать частью окончательно отверженного и служить опубликованным арсеналом того, что публиковать нельзя и что может выжить как грустный пример. Она несколько похожа на неоконченные стихи рано умершего лирика или на письма великого писателя, но здесь фиксируется не худшее, а отличающееся, и в этом отличии и заключается причина публикации, ведь она не могла бы заключаться в том, что публиковать это не нужно.
Книга непокоя (заметка)
Структура книги должна основываться на строгом — насколько это возможно — отборе разнообразно существующих фрагментов и при этом на адаптации наиболее старых фрагментов, не соответствующих психологии Бернарду Соареша в том виде, в котором она теперь проявляется, к этой самой психологии. Помимо этого, необходимо произвести полный пересмотр самого стиля таким образом, чтобы он в своем сокровенном выражении не потерял такие отличающие его черты, как мечтательность и логическая несвязность.
Необходимо изучить, следует ли вставить большие фрагменты, носящие громкие названия вроде «Похоронного Марша для короля Баварского Людвига Второго» или «Симфонии беспокойной ночи». Есть предположение оставить фрагмент «Похоронный Марш» в его нынешнем виде и предположение перенести его в другую книгу, в которой были бы объединены Большие Фрагменты.
В. От Предисловия к Вымыслам Интерлюдии
Некоторые фигуры я вставляю в истории или в подзаголовки книг и подписываюсь под тем, что они говорят; другие я проецирую абсолютно и подписываюсь лишь под тем, что я их создал. Виды фигур различаются следующим образом: некоторые я создаю, хотя сам стиль мне чужд и даже противоречит моему, если фигура этого просит; в фигурах же, под которыми я подписываюсь, нет отличия от моего собственного стиля, за исключением неизбежных деталей, без которых они бы не отличались друг от друга.
Я сравню некоторые из этих фигур, чтобы показать в качестве примера, в чем состоят эти различия. Помощник бухгалтера Бернарду Соареш или барон де Тейве — оба этих персонажа чужды моему разуму — пишут в одинаковом стиле, с одинаковой грамматикой и даже с тем же видом и формой свойства: просто они пишут стилем, который, плох он или хорош, принадлежит мне. Я сравниваю обоих потому, что они суть проявления одного и того же явления — неприспособленности к реальности жизни и, более того, неприспособленности, обусловленной одинаковыми мотивами и причинами. Но если португальский язык барона де Тейве и Бернарду Соареша одинаков, стиль различается в том, что в дворянине есть интеллектуального, лишенного образов, несколько — как сказать? — строгого и ограниченного; а в буржуа — текучего, сопричастного музыке и живописи, несколько архитектурного. Дворянин мыслит ясно, пишет ясно и владеет своими переживаниями, но не своими чувствами; помощник бухгалтера не владеет ни переживаниями, ни чувствами, а его мысли суть дополнения к чувствованию.
С другой стороны, есть заметное сходство между Бернарду Соарешем и Алвару де Кампушем. Однако у Алвару де Кампуша проявляется более сокровенная и менее нарочитая небрежность к языку и разрозненность образов, чем у Соареша.
В моем различении одних от других бывают случайности, которые тяжелым бременем ложатся на мое духовное суждение. Различать такую музыкальную композицию Бернарду Соареша от композиции такой же тональности, что и у меня…
Бывают мгновения, когда я вдруг это делаю настолько совершенно, что сам тому изумляюсь; и изумляюсь без нескромности, потому что, не веря ни в какую часть человеческой свободы, я изумляюсь тому, что происходит во мне так, как изумлялся бы тому, что происходит в других — в двух чужих людях.
Лишь развитая интуиция может служить компасом в пустырях души; лишь с чувством, которое использует разум, но не уподобляется ему, хотя и исходит из него, можно различать этих воображаемых персонажей в их реальности.
В этих раздвоениях личности или, скорее, в придумывании различных личностей есть две ступени или два вида, чьи отличительные черты раскроются перед читателем, если он за ними следил. На первой ступени личность выделяется своими мыслями и чувствами, отличающимися от моих: так, на низшем уровне этой ступени она выделяется идеями, о которых рассуждает или которые излагает — эти идеи не мои, а если и мои, то я о них не знаю. Банкир-Анархист — пример этой нижней ступени; «Книга непокоя» и персонаж Бернарду Соареша представляют собой высшую ступень.
Читатель должен заметить, что, хотя я и издаю «Книгу непокоя» как бы от имени некоего Бернарду Соареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне, я еще не включил его в эти «Вымыслы интерлюдии». Дело в том, что Бернарду Соареш, отличаясь от меня мыслями, чувствами, воззрениями и пониманием, не отличается от меня стилем изложения. Я представляю иную личность посредством естественного для меня стиля, в котором присутствует лишь неизбежное отличие особого тона, обязательно проецируемого самóй специфичностью переживаний.
Не одни лишь мысли и чувства авторов «Вымыслов интерлюдии» отличаются от моих: сама техника композиции, сам стиль — иные. Там каждый персонаж создан совершенно другим, а не просто задуман иначе. Поэтому в «Вымыслах интерлюдии» преобладают стихи. В прозе труднее быть иным.
Г. «Метафизические мысли „Книги непокоя“»
Единственная реальность для меня — это мои ощущения. Я — это мое ощущение. Поэтому я не уверен даже в моем собственном существовании. Я могу быть уверен лишь в тех ощущениях, которые называю своими.
Истина? Это что-то внешнее? Я не могу быть в ней уверенным, потому что это не мое ощущение, а я уверен лишь в них. Мое ощущение? Ощущение чего? Ведь искать мечту значит искать истину, поскольку единственная истина для меня — это я сам. Отстраняться от других, насколько это возможно, значит уважать истину.
Вся метафизика — это поиск истины, если под последней понимается истина абсолютная. Однако, какой бы Истина ни была, если исходить из того, что она чем-то является — если она существует, то существует либо в моих ощущениях, либо вне них, либо и внутри, и вне них. Если она существует вне моих ощущений, то она есть нечто, в чем я никогда не могу быть уверенным, а значит, она не существует для меня, и потому для меня она есть не только противоположность Уверенности, потому что я уверен только в моих ощущениях, но и противоположность бытия, потому что единственное, что существует для меня, — это мои ощущения. Таким образом, существуя вне моих ощущений, Истина для меня тождественна Неуверенности и небытию — она не существует и потому не является истинной. Однако допустим нелепое предположение о том, что мои ощущения могут быть ошибкой и небытием (что нелепо, поскольку они, безусловно, существуют), — в этом случае истина есть бытие и полностью существует за пределами моих ощущений. Но представление об Истине — это мое представление; поэтому оно существует внутри моих ощущений: значит, будучи абстрактной и находясь вне меня, истина существует во мне — это противоречие и, как следствие, ошибка.
Другая гипотеза заключается в том, что истина существует внутри моих ощущений. В этом случае она является либо суммой всех ощущений, либо одним из них, либо их частью. Если она — одно из ощущений, чем она отличается от прочих? Если она — ощущение, она по сути своей не отличается от остальных, а для того, чтобы она отличалась, она должна была бы отличаться по сути. А если она — не ощущение, то она не ощущение. — Если она — часть моих ощущений, то что это за часть? У ощущений есть две стороны — я их испытываю и представляю как нечто испытанное, вследствие чего они отчасти мои и отчасти являются «чем-то». Одна из этих частей, Истина, является, должна являться частью моих ощущений. (Если группа ощущений, соединяясь, каким-то образом составляют одно-единственное ощущение, то оно попадет в когти рассуждения, которое ведет к предшествующей гипотезе.) Если она — одна из двух сторон, то какая? «Субъективная» сторона? Но эта субъективная сторона представляется мне в одном из двух видов — либо в виде моей «индивидуальности», либо в виде «моей» множественной индивидуальности. В первом случае она есть одно из многих других моих ощущений и опровергается предыдущим доводом. Во втором случае эта истина многообразна и различна, она является многими истинами — что противоречит представлению об Истине, что бы оно ни означало. Тогда, может быть, объективная сторона? Здесь применим тот же довод, потому что она есть либо объединение этих ощущений в представлении внешнего мира — а это представление либо не является ничем, либо является моим ощущением, и если оно — ощущение, то данная гипотеза опровергается; либо она принадлежит многообразному внешнему миру, который сводится к моим ощущением, и тогда множественность форм есть сущность представления об Истине.
Остается исследовать, является ли Истина совокупностью моих ощущений. Эти ощущения воспринимаются либо как одно, либо как множество. В первом случае мы возвращаемся к уже опровергнутой гипотезе. Во втором случае Истина как представление исчезает, потому что сопрягается с совокупностью моих ощущений. Однако если истина есть совокупность моих ощущений, пусть даже воспринятых как исключительно мои ощущения, то она рассеивается и исчезает. Потому что она либо основывается на представлении о совокупности, являющемся нашей мыслью (или ощущением), либо ни на что не опирается. Но ничто не подтверждает тождественность истины и совокупности. Значит, истина не существует.
Но у нас есть представление…
Есть, но мы видим, что оно не соответствует какой-либо «Реальности», если предположить, что реальность что-либо означает. Поэтому Истина — это наше представление или ощущение, неизвестно чем вызванное, лишенное значения, а значит, и ценности, как и любое другое наше ощущение.
Поэтому наши ощущения остаются нашей единственной «реальностью», реальностью, «реально» обладающей здесь какой-то ценностью, однако это лишь речевая условность. Из «реального» у нас есть только наши ощущения, но «реальное» (являющееся нашим ощущением) ничего не означает, как и «означает» ничего не означает, и у «ощущения» нет смысла, и в словах «нет смысла» нет какого-либо смысла. Все есть одинаковая тайна. Однако я замечаю, что не все может означать что-либо и что «тайна» — это не слово, имеющее значение.
Примечания
1
«Орфей» — ежеквартальный литературный журнал, положивший начало проникновению движения модернизма в Португалии. Его первый номер, вышедший в марте 1915 года и включавший в себя, среди прочих, несколько поэм Пессоа, вызвал оживленную полемику в португальской литературной среде. Пессоа выступил редактором второго номера журнала, опубликованного в июне того же года. Велась работа по подготовке третьего номера, однако он так и не увидел свет из-за трудностей с финансированием журнала. Несмотря на непродолжительное существование, журнал оставил заметный след в истории португальской культуры.
(обратно)2
Альфред де Виньи (1797–1863) — граф, французский писатель, придерживавшийся консервативного романтизма. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)3
Исторический квартал Лиссабона, включающий в себя нижнюю часть центра города до реки Тежу.
(обратно)4
Сезариу Верде (1855–1886) — португальский поэт, сыгравший важную роль в обновлении языка португальской поэзии. Пессоа считал его одним из своих учителей.
(обратно)5
Антонио Виейра (1608–1697) — португальский иезуит, занимавшийся миссионерской деятельностью в Бразилии и проявивший себя на дипломатическом поприще в Европе. Автор проповедей, которые считаются одними из лучших образцов португальской прозы эпохи барокко.
(обратно)6
Луиш де Соуза (1556–1632) — доминиканский монах, прозаик и биограф.
(обратно)7
Алберту Каэйру (1889–1915) — один из гетеронимов Пессоа, поэт, проживший всю жизнь в сельской местности и воспевавший природу.
(обратно)8
Этьенн Пивер де Сенанкур (1770–1846) — французский писатель. В 1804 году был издан его роман «Оберманн», который представляет собой исполненную пессимизма исповедь главного героя. Выход из безотрадного существования — самоубийство, которое герой оправдывает, но не совершает.
(обратно)9
Смотровые площадки, с которых открывается вид на Лиссабон.
(обратно)10
Альфонс де Ламартин (1790–1869) — французский писатель и драматург романтического направления, а также политический деятель, провозгласивший Вторую Республику в феврале 1848 года.
(обратно)11
Паулизм — созданное Пессоа литературное течение, характеризующееся обращением к мрачным местам и темным водам, в которых автор «не находит себя».
(обратно)12
Анри-Фредерик Амьель (1821–1881) — швейцарский писатель и художник.
(обратно)13
Имеется в виду Сигизмунд, император Священной Римской империи с 1433 по 1437 год.
(обратно)14
Детство, играющее с катушками ниток и т. д.
(обратно)15
Торговая площадь в центре Лиссабона, построенная в ходе реконструкции города после землетрясения 1755 года.
(обратно)16
Цитата из поэмы «Саламанкский студент» испанского поэта-романтика Хосе де Эспронседы (1808–1842).
(обратно)17
Буря (англ.).
(обратно)18
Эдмон Шерер (1815–1889) — известный французский критик и автор предисловия к «Дневнику» Амьеля.
(обратно)19
Подъемник в Лиссабоне, соединяющий район Байша с районом Шиаду, расположенным намного выше.
(обратно)20
Провинция на северо-востоке Португалии.
(обратно)21
Глава о безразличии или что-то в этом роде (англ.).
(обратно)22
Томас Карлейль (1795–1881) — английский писатель, историк и философ. Фраза о дороге в Энтепфул взята из его романа «Сартор Резартус», опубликованного в 1834 году.
(обратно)23
Этьен Бонно де Кондильяк (1714–1780) — один из наиболее значимых философов Просвещения, автор «Трактата об ощущениях», который и имеет в виду Пессоа.
(обратно)24
Палатинская, или Греческая, Антология — сборник древнегреческих и византийских эпиграмм, составленный в Х веке византийским поэтом Константином Кефалой. Был обнаружен в 1606 году в Палатинской библиотеке в Гейдельберге, по которой и получил свое название.
(обратно)25
Франсишку Санчес (1550–1623) — португальский и французский философ-скептик и врач, автор трактата «О том, что ничто не известно» (1581).
(обратно)26
Ротонда, или Площадь маркиза де Помбала, расположена в центре Лиссабона.
(обратно)27
Колизей — концертный зал в Лиссабоне.
(обратно)28
Авенида да Либердаде, или проспект Свободы, находится в центре Лиссабона.
(обратно)29
Камилу Пессанья (1867–1926) — поэт, автор «Клепсидры», одного из самых значимых произведений португальского символизма.
(обратно)30
Фраза из романа Шатобриана «Натчезы» (1827).
(обратно)31
Габриэль Тард (1843–1904) — французский социолог и криминолог, автор теории криминалистики, зиждившейся на психических и социальных основах.
(обратно)32
Жюль Мишле (1798–1874) — французский историк и публицист, представитель романтического направления в историографии; создатель термина «Возрождение» («Ренессанс»).
(обратно)33
Фраза встречается в поэме Джонатана Свифта «Логики опровергнуты» и цитируется без указания источника Вольтером в статье «Звери», написанной им для «Энциклопедии».
(обратно)34
Жозе Валентин Фиальу де Альмейда (1857–1911) — португальский писатель, знаменитый своим выразительным стилем.
(обратно)35
В 1911 году в Португалии была проведена реформа, упростившая орфографию и приблизившая ее к фактическому произношению. Одним из нововведений стал полный отказ от использования буквы «Y» (игрек).
(обратно)36
Шиаду — район в центре Лиссабона, излюбленное место для встреч интеллектуалов португальской столицы.
(обратно)37
Джакомо Леопарди (1798–1837) — итальянский поэт, которого считают величайшим поэтом Италии ХIX столетия.
(обратно)38
Антеру Таркиниу де Кентал (1842–1891) — португальский поэт и писатель.
(обратно)39
Сведение к абсурду (лат.).
(обратно)40
«Страна Нежности» — воображаемая страна, аллегорическая карта которой была опубликована в первом томе романа «Клелия» (1654) французской писательницы Мадлен де Скюдери (1608–1701). На карте изображена река Склонностей, которая протекает по «Стране Нежности» мимо области Любезности, Искренности, Мелочности, Коварства и т. д. Карта являет собой один из образцов «любовной географии», которая была в моде во Франции вплоть до конца XVIII века.
(обратно)41
Строка из стихотворения «Лежа в траве» английского поэта Эдмонда Госса (1849–1928). Перевод цит. по:
(обратно)42
Жан-Антуан Ватто (1684–1721) — французский художник, в котором импрессионисты видели одного из своих провозвестников.
(обратно)43
Фешенебельный район в Лиссабоне.
(обратно)44
«Один» («Só») — сборник стихотворений молодого португальского поэта Антониу Нобре, опубликованный в Париже в 1892 году. Нобре назвал его «самой грустной книгой в Португалии».
(обратно)45
Желаемого (лат.).
(обратно)46
Антониу Перейра де Фигейреду (1725–1797) — теолог, историк, латинист и композитор. Автор учебника «Новый метод латинской грамматики», который произвел революцию в методах преподавания в Португалии.
(обратно)47
Франсишку Жозе Фрейре (1719–1773) — педагог, более известный под псевдонимом «Простодушный лузитанец», под которым он участвовал в португальской Аркадии, престижной литературной академии середины XVIII века.
(обратно)48
Величественно (фр.).
(обратно)49
Септимий Север (193–211) — римский император, первый представитель династии Северов.
(обратно)50
Генри Олдрич (1647–1710) — англиканский настоятель, автор эпиграмм и поэм, которые писал на латыни.
(обратно)51
Перевод Валентины Варнавской. Цит. по:
(обратно)52
Или Площадь фигового дерева, расположена в Байше. В первой половине XX века на ней находился большой крытый рынок.
(обратно)53
Имеется в виду главный герой рассказа «Береника», написанного Эдгаром Алланом По в 1835 году.
(обратно)54
Главный герой одноименного романа, изданного немецким писателем Адельбертом фон Шамиссо в 1814 году.
(обратно)55
Посвященный высшей ступени в Элевсинских мистериях.
(обратно)56
Франсишку де Алмейда Гранделла (1863–1934) — португальский промышленник и политик, построил в Лиссабоне для своих сотрудников район.
(обратно)57
Лунная сцена (англ.).
(обратно)58
Парк в Лиссабоне.
(обратно)59
Сенсационизм — придуманное Пессоа философское учение, согласно которому все знания проистекают от ощущений.
(обратно)60
«Любовь к нему его утомляла» (фр.). Эту фразу Бернарду Соареш цитировал в основном тексте «Книги непокоя» (гл. 235).
(обратно)61
Море прожорливое, грозное, море мрачное (лат.).
(обратно)62
«Всякий нотариус мечтал о султаншах» (фр.) — видоизмененная цитата из «Госпожи Бовари» Гюстава Флобера: «Воображению самого обыкновенного развратника когда-нибудь являлись султанши, в душе у любого нотариуса покоятся останки поэта». Цит. по: Флобер Г. Госпожа Бовари / Пер. с фр. Н. Любимов. М.: Художественная литература, 1981.
(обратно)63
«В чем сходны ты и те, что жить хотят?» (фр.) — цитата из сборника стихов «Песни влюбленного» французского поэта-символиста Гюстава Кана (1859–1936).
(обратно)64
Абилиу Мануэл Герра Жункейру (1850–1923) — португальский поэт, придерживавшийся реалистического направления.
(обратно)65
Себастьян I Желанный (1554–1578) — португальский король, представитель Ависской династии. Очарованный рыцарскими идеалами, в 1574 году он отправился с крестовым походом в Марокко, стремясь освободить эту страну от мусульман.
Поход закончился полным провалом, войско было разгромлено, а сам король погиб. Поскольку детей у него не было, его смерть положила конец Ависской династии. После краткого правления его дяди Энрике португальский трон перешел к испанскому королю Филиппу II — так началась эпоха испанского господства в Португалии, продолжавшаяся до 1640 года. Впрочем, тело Себастьяна на поле боя так и не было найдено, что породило легенду, согласно которой молодой король должен был вернуться и спасти Португалию от недругов. Впоследствии в стране объявилось несколько самозванцев, провозгласивших себя пропавшим королем.
(обратно)66
Жоао де Лебре-и-Лима (1889–1959) — поэт и публицист, связанный с португальским модернизмом.
(обратно)67
Журнал «Орел» («A Aguia»), издававшийся с 1910 по 1932 год, был печатным органом культурного движения «Португальское Возрождение», исповедовавшего националистические идеалы. Некоторое время к нему примыкал и Фернандо Пессоа, который опубликовал в «Орле» несколько своих фрагментов. Упоминаемый здесь фрагмент был издан в августе 1913 года.
(обратно)68
Арманду Кортеш-Родригеш (1891–1971) — португальский поэт, писатель и этнограф, познакомившийся с Пессоа во время обучения на филологическом факультете Лиссабонского университета и вступивший в группу «Орфей».
(обратно)69
Рикардо Рейш — гетероним Пессоа. Родился в 1887 году, по профессии врач. Монархист по убеждениям (в Португалии в 1910 году произошла революция, свергнувшая монархию и установившая республику), примкнул к монархическому движению в Порту, которое было разгромлено в 1919 году. Вскоре после этих событий Рейш уехал в Бразилию.
(обратно)70
Алвару де Кампош — гетероним Пессоа. Родился в 1890 году, выучился на морского инженера в Глазго, затем совершил путешествие на Восток. Вернувшись в Португалию, не стал работать по профессии, а увлекся литературным творчеством, главной темой которого стала современная цивилизация и ее отрицательные стороны.
(обратно)71
Жоао Гашпар Симоеш (1903–1987) — драматург и писатель, исследователь истории португальской литературы, первый биограф Пессоа и первый издатель его произведений.
(обратно)72
Адольфу Казаиш Монтейру (1908–1972) — португальский поэт, писатель и переводчик, в 50-е годы написал несколько эссе о Пессоа.
(обратно)


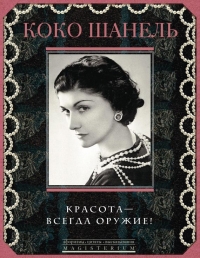

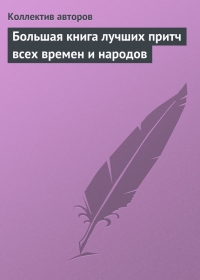

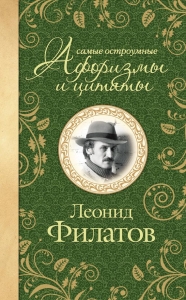





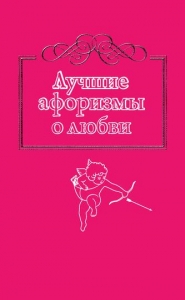
Комментарии к книге «Книга непокоя», Фернандо Пессоа
Всего 0 комментариев