Геннадий Красухин КРУГЛЫЙ ГОД С ЛИТЕРАТУРОЙ КВАРТАЛ ТРЕТИЙ Календарь, частично основанный на мемуарах
1 ИЮЛЯ
Павел Васильевич Анненков, родившийся 1 июля 1813 года, по праву считается родоначальником отечественной пушкинистики. Он выпустил первое научно комментированное собрание сочинений Пушкина (1855 – 1857) и первую его обширную биографию – «Материалы для биографии Пушкина» (1855). Изучил отдельный период жизни поэта и написал об этом книгу «Пушкин в Александровскую эпоху» (1877). Анненков работал с рукописями Пушкина, опрашивал современников поэта, изучал прижизненную Пушкину прессу.
Но он не только замечательный пушкинист. Он великолепный мемуарист, оставивший нам три тома «Воспоминаний и критических очерков». Читать их увлекательно и познавательно.
Умер 20 марта 1887 года.
* * *
Павел Григорьевич Антокольский родился 1 июля 1896 года. Является внучатым племянником скульптора М.М. Антокольского. Был учителем многих поэтов, в том числе Беллы Ахмадулиной. Дружил с Цветаевой до её эмиграции.
Довольно долго с 1919 по 1934 год работал режиссером в драматической студии под руководством Вахтангова, потом в театре имени Вахтангова. Для театра написал инсценировку по роману Г. Уэллса «Когда спящий проснётся».
В Великую Отечественную войну руководил фронтовым театром. В 1945 году был режиссёром Томского областного драматического театра имени Чкалова.
В 1942 году на фронте погиб младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский – сын поэта. Павел Антокольский написал о нём поэму «Сын», за которую получил сталинскую премию.
Много переводил французских, болгарских, грузинских и азербайджанских поэтов.
В связи с последними мне хочется процитировать из книги Бенедикта Сарнова «Перестаньте удивляться»:
«В Баку на какое-то местное литературное мероприятие приехала делегация писателей из Москвы. Был банкет. И во время этого банкета Мир-Джафар Багиров (тогдашний азербайджанский сатрап, человек страшный, говорили даже, что он страшнее, чем его выкормыш Лаврентий Берия) вдруг – ни с того ни с сего – обратил свой неблагосклонный взор на Самеда Вургуна.
Он погрозил ему пальцем и прорычал:
– Смотри, Самед!…
И долго ещё нес в адрес растерявшегося Самеда что-то угрожающее.
За этим его рычанием слышалась такая лютая злоба и такая неприкрытая угроза, что все присутствующие, особенно москвичи, почувствовали себя неловко. А Павел Григорьевич Антокольский даже не выдержал и вмешался.
– Товарищ Багиров, – сказал он. – Почему вы так разговариваете с Самедом? Мы все высоко ценим этого замечательного поэта, и мы…
Багиров обратил на Антокольского свой мутный взор и, склонившись к кому-то из своих топтунов-шаркунов, спросил, кто это такой. Ему объяснили. Тогда, повернувшись к Павлу Григорьевичу, он негромко скомандовал:
– Антокольский. Встать.
Антокольский встал.
Багиров сказал:
– Сесть.
Антокольский сел.
Вопрос был исчерпан. Банкет продолжался».
Вот в какое страшное время жил Павел Григорьевич Антокольский. И вот какие унижения ему, порядочному человеку, приходилось сносить за свою большую жизнь: он умер 9 октября 1978 года.
Стихи у Антокольского были разными. Есть среди них и замечательные. Например, строки об Иерониме Босхе:
Художник знал, что Страшный суд напишет, Пред общим разрушеньем не опешит, Он чувствовал, что время перепашет Все кладбища и пепелища все. Он вглядывался в шабаш беспримерный На чёрных рынках пошлости всемирной. Над Рейном, и над Темзой, и над Марной Он видел смерть во всей её красе. Я замечал в сочельник и на пасху, Как у картин Иеронима Босха Толпились люди, подходили близко И в страхе разбегались кто куда, Сбегались вновь, искали с ближним сходство, Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!» Во избежанье Страшного суда.* * *
Олег Михайлович Дмитриев, родившийся 1 июля 1937 года, был довольно близким моим товарищем. Мы познакомились в университете, куда он пришёл читать свои стихи. Не помню, работал ли он ещё в «Юности» или перешёл в «Литературную газету», но печатался он в то время довольно много. Вместе с Владимиром Костровым, Владимиром Павлиновым и Дмитрием Сухаревым они выпустили коллективную книжку «Общежитие», о которой я написал в журнале «Смена». Знакомство наше укрепилось ещё больше. А потом оно обросло ещё и общими близкими знакомыми – Сашей Рыбаковым, прозаиком, сыном известного писателя, Валерой Осиповым, прозаиком и киносценаристом.
Особенно проявился верный своим друзьям Олег, когда хамски сняли отца шестнадцатиполосной «Литературной газеты» Виталия Александровича Сырокомского. Сняли из-за всесильного члена политбюро Громыко, в день рождения которого у нас в газете появилась статья о происках председателя жилищного кооператива МИДа. Громыко расценил это как выпад против него лично. От Сырокомского немедленно отвернулись знакомые. Даже другие наши замы главного редактора предпочли не замечать своего отставного начальника (Сырокомский был первым замом), с которым они жили в одном доме. А Олег не просто продолжил знакомство. Он писал Виталию Александровичу и его жене Ире Млечиной шутливые стихи, отвлекал их от свалившихся на их плечи несчастья, поддерживал их.
Прочитайте стихотворение этого рано умершего поэта:
Здесь бродят псы, доверчивы и тощи, К прохожим льнут – не отогнать никак! Хозяева на новую жилплощадь С собой не взяли кошек и собак. Продуты ветром чёрные бараки. Здесь по ночам, во тьму вперяя взгляд, Оставленные кошки и собаки Поодиночке в комнатах сидят: Ещё в углах живет знакомый запах, Ещё надежды дух не истребим, И вздрагивают головы на лапах - В коротких снах приходят люди к ним! Настал сентябрь. В покинутом квартале Над блёклою листвой кружится сор… Вдруг резко тормоза заскрежетали И мальчик с плачем бросился во двор. И закричал у дома: «Борька! Борька!» - Взъерошен, длинноног и длиннорук. По лестнице взбежал и плакал горько, И снова принимался звать! И вдруг Явился кот, Облезлый, драный, грязный, Сощурился на громкий зов, на свет, Уже привыкнув к жизни несуразной, Где дом – не дом, и человека нет. И мальчик потащил его к машине, Не чуя ног, не чувствуя земли, И слёзы счастья – самые большие! - На шерсть кота бесстрастного текли… А из такси родители смотрели, Не говоря друг другу ничего, И их сердца внезапно подобрели, Постигнув сердце сына своего. Они, наверно, чувствовали смутно, Что мир вещей, отнявший столько сил, Мир суетных забот сиюминутных Их души постепенно исказил. Но только… если глупый мальчик плачет, Целуя в нос несчастного кота, То это всё в конечном счете значит, Что в мире есть любовь и доброта! И улыбалась женщина устало, И муж смотрел растерянно в стекло На жалкие строения квартала, Где детство их давным-давно прошло…Умер Олег 9 декабря 1993 года.
* * *
С Виктором Осиповичем Перцовым, родившимся 1 июля 1898 года, мы были в жюри конкурса детских работ о Маяковском, приуроченного к 80-летию поэта. Возглавлял жюри Константин Симонов.
Пока отбирали работы, определяли награды, всё шло хорошо. Известный своими официозными работами о Маяковском, за которые как раз недавно получил Государственную премию, Перцов ни во что не вмешивался. В основном инициативу проявляли мы с Наташей Дардыкиной из «Московского комсомольца».
Но вот – награждение победителей конкурса, после которого будет концерт. Большой зал ЦДЛ полон. Школьники пришли вместе с родителями и учителями.
К микрофону подходит Симонов.
Он раскланивается с теми, кто сидит в первом ряду. А потом объявляет, что в зале находится подруга и муза Маяковского Лиля Юрьевна Брик. С кресла первого ряда тяжело поднимается улыбающаяся старушка. Она поворачивается к залу.
– Пгашу встать и попгивествовать, – предлагает, картавя, Симонов.
Все, аплодируя, встают. Встаёт и президиум. Но вижу, что у тех, кто стоит близко к сцене и аплодирует, на лицах недоумение. Оглядываюсь. Виктор Осипович сидит. На его лице презрительная гримаса.
Так и не встал перед женщиной.
Умер 9 февраля 1980 года.
* * *
С Иосифом Самуиловичем Шкловским, родившимся 1 июля 1916 года, были дружны все три моих близких товарища – критики Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин. Приятельствовал с ним и я. Он, учёный с мировым именем, член-корреспондент академии наук, академик многих зарубежных академий, любил отдыхать в наших писательских домах творчества, где мы с ним и встречались. «Тоже маракую», – улыбаясь, объяснял он своё желание жить в доме творчества писателей.
Это «мараканье» он давал и мне на редактуру, просил быть безжалостным. Я читал его интереснейшие воспоминания, и была у меня к ним только одна претензия: в устном исполнении они были ещё интересней. Рассказчик Иосиф Самуилович был блестящий. Я считал, что лучше будет, если он не запишет, а надиктует свои рассказы. После, когда вышла книга Шкловского «Эшелон», я увидел, что он во многом внял этому.
Есть пересказанные воспоминания Шкловского в книге Сарнова, есть немного и у Лазарева. Мне же, чтобы донести аромат его стиля, хочется процитировать непосредственно самого Шкловского:
«Мальчишки нашего эшелона! Какой же это был золотой народ! У нас не было никогда никаких ссор и конфликтов. Царили шутки, смех, подначки. Конечно, шутки, как правило, были грубые, а подначки порой далеко не добродушные. Но общая атмосфера была исключительно здоровая и, я не боюсь это сказать, оптимистическая. А ведь большинству оставалось жить считанные месяцы! Не забудем, что это были мальчики 1921 – 1922 годов рождения. Из прошедших фронт людей этого возраста вернулись живыми только 3 процента! Такого никогда не было! Забегая вперёд, скажу, что большинство ребят через несколько месяцев попали в среднеазиатские военные училища, а оттуда младшими лейтенантами – на фронт, где это поколение ждала 97-процентная смерть.
Но пока эшелон шёл на Восток, в Ашхабад, и окрестные заснеженные казахстанские степи оглашались нашими звонкими песнями […] слева от меня на нарах лежал двадцатилетний паренёк […] почти не принимавший участия в наших бурных забавах. Он был довольно высокого роста и худ, с глубоко запавшими глазами, изрядно обросший и опустившийся (если говорить об одежде). Его почти не было слышно. Он старательно выполнял черновую работу, которой так много в эшелонной жизни. По всему было видно, что мальчика вихрь войны вырвал из интеллигентной семьи, не успев опалить его. Впрочем, таких в нашем эшелоне было немало. Но вот однажды этот мальчишка обратился ко мне с просьбой, показавшейся совершенно дикой: «Нет ли у Вас чего-нибудь почитать по физике» – спросил он почтительно «старшего товарища», то есть меня. Надо сказать, что большинство ребят обращались ко мне на «ты», и от обращения соседа я поморщился. Первое желание – на БАМовском языке послать куда подальше этого папенькиного сынка с его нелепой просьбой. «Нашёл время, дурачок», – подумал я, но в последний момент меня осенила недобрая мысль. Я вспомнил, что на самом дне моего тощего рюкзака, взятого при довольно поспешной эвакуации из Москвы 26 октября, лежала монография Гайтлера «Квантовая теория излучения».
Мне до сих пор непонятно, почему я взял эту книгу с собой, отправляясь в путешествие, финиш которого предвидеть было невозможно. По-видимому, этот странный поступок был связан с моей, как мне тогда казалось, не совсем подходящей деятельностью после окончания физического факультета МГУ. Ещё со времён БАМа, до университета, я решил стать физиком-теоретиком, а судьба бросила меня в астрономию. Я мечтал (о, глупец) удрать оттуда в физику, для чего почитывал соответствующую литературу. Хорошо помню, что только-только вышедшую в русском переводе монографию Гайтлера я купил в апреле 1940 года в книжном киоске на Моховой, у входа в старое здание МГУ. Книга соблазнила меня возможностью сразу же погрузиться в глубины высокой теории и тем самым быть «на уровне». Увы, я очень быстро обломал себе зубы: дальше предисловия и начала первого параграфа, трактуюшего о процессах первого порядка, я не сдвинулся. Помню, как я был угнетён этим обстоятельством – значит, конец, значит, не быть мне физиком-теоретиком! Где мне тогда было знать, что эта книга просто очень трудная и к тому же «по-немецки» тяжело написана. И всё же – почему я запихнул её в свой рюкзак? «Весёлую шутку я отчебучил, выдав мальчишке Гайтлера», – думал я. И почти сразу же об этом забыл […] я совсем забыл про странного юношу, которого изредка бессознательно фиксировал боковым зрением – при слабом, дрожащем свете коптилки, на фоне диких песен и весёлых баек паренёк тихо лежал на нарах и что-то читал. И только подъезжая к Ашхабаду, я понял, что он читал моего Гайтлера! «Спасибо», – сказал он, возвращая мне книгу в чёрном, сильно помятом переплёте. «Ты что, прочитал её?» – неуверенно спросил я. «Да». Я, поражённый, молчал. «Это трудная книга, но очень глубокая и содержательная. Большое Вам спасибо», – закончил паренёк.
Мне стало не по себе. Судите сами – я, аспирант, при всем желании не смог даже просто прочитать хотя бы первый параграф этого проклятого Гайтлера, а мальчишка, студент третьего курса, не просто прочитал, а проработал (вспомнилось, что, читая, он ещё что-то записывал), да ещё в таких, прямо скажем, мало подходящих условиях! […]
В конце 1944 года вернулся и мой шеф по аспирантуре, милейший Николай Николаевич Парийский. Встретились радостно – ведь не виделись три года, и каких! Пошли расспросы, большие и малые новости […] Между делом Николай Николаевич сказал: «А у Игоря Евгеньевича (Тамма, старого друга Н.Н.) появился совершенно необыкновенный аспирант, таких раньше не было. Даже Виталий Лазаревич Гинзбург ему в подметки не годится». – «Как его фамилия?» – «Подождите, подождите, такая простая фамилия, всё время крутится в голове – чёрт побери, совсем склеротиком стал!» Это было так характерно для Николая Николаевича, известного в астрономическом мире своей крайней рассеянностью. А я подумал тогда: «Весь выпуск физфака МГУ военного времени прошёл передо мною в ашхабадском эшелоне. Кто же среди них этот выдающийся аспирант?» И в то же мгновение я нашёл его: это мог быть только мой сосед по нарам в теплушке, который так поразил меня, проштудировав Гайтлера. «Это Андрей Сахаров?» – спросил я Николая Николаевича. «Во-во, такая простая фамилия, а выскочила из головы!»
…Я не видел его после Ашхабада 24 года. В 1966-м, как раз в день моего пятидесятилетия, меня выбрали в членкоры АН СССР. На ближайшем осеннем собрании академик Яков Борисович Зельдович сказал мне: «Хочешь, я познакомлю тебя с Сахаровым?» Еле протиснувшись сквозь густую толпу, забившую фойе Дома учёных, Я.Б. представил меня Андрею. «А мы давно знакомы», – сказал он. Я его узнал сразу – только глаза запали ещё глубже. Странно, но лысина совершенно не портила его благородный облик.
В конце мая 1971 года, в день 50-летия Андрея Дмитриевича, я подарил ему чудом уцелевший тот самый экземпляр книги Гайтлера «Квантовая теория излучения». Он был очень тронут, и, похоже, у нас обоих на глаза навернулись слёзы».
Книга Иосифа Самуиловича Шкловского «Эшелон» есть в Интернете. Очень рекомендую. Живёт, несмотря на то, что автора давно уже нет на свете: умер 3 марта 1985 года.
И добавлю. Иосиф Самуилович не просто возобновил знакомство с Сахаровым, но выступил против академиков, подписавших письмо, которое призывало к расправе над инакомыслящим Андреем Дмитриевичем. Шкловскому это не простили. Он так и не стал академиком, хотя был одним из самых крупных астрономов, живущих тогда в мире. Он получал массу приглашений из академий и университетов разных стран: прочитать лекции, вести семинары. Но власти его сделали невыездным.
Выезжал, когда отказать уже было нельзя. И то извещали его о разрешении накануне. Чтобы не успел собраться. Чтобы собирался наспех.
Но Иосиф Самуилович не унывал. Он знал, на что шёл. И не хотел меняться кому-либо в угоду. Воистину настоящий друг академика Сахарова!
2 ИЮЛЯ
Самое муторное, что было в моей работе в «Литературной газете» – это рецензии, которые требует заказать начальство на книги, какие никто не возьмётся читать в силу, как говаривал в таких случаях Зощенко, их маловысокохудожественности. Начальство знает об их качестве, но требует, потому что от него требуют, на него давят. Оно согласно не обращать внимания на уровень рецензии, лишь бы была грамотно написана, лишь бы вообще была! Но где её возьмёшь? Иногда отказываются писать даже те, кто обычно ни от чего не отказывается, кто рад, что лишний раз появится в газете его фамилия, рад гонорару. А тут – ни в какую! Даже под псевдонимом!
Что прикажете в таких случаях делать? Не писать же самому! И вот – начинаешь выяснять, кто проталкивал в печать эту книгу, с кем дружит автор, кто ему покровительствует или кому покровительствует он.
Вот так однажды я вышел на Сергея Александровича Васильева, вальяжного поэта, который считал себя сатириком, потому что помимо обычных стихов и поэм писал пародии. Они удивляли меня тем, что совершенно не были похожи по стилю на тех, кого пародировали. Васильев даже не обыгрывал строчки, как будет потом делать Александр Иванов. Он придумывал для своей пародии какое-нибудь название, выносил в подзаголовок имя и фамилию поэта, в которого метил, и писал всё, что приходило ему в голову. Ну, в самом деле, попробуйте, догадайтесь, кто это:
«Ты хочешь, милый, чаю?» - Она воркует, чуть раскрыв уста. «Зачем мне чай, – резонно отвечаю, - Ты завари лаврового листа!»Догадались? Вот и я бы не смог. А ведь это пародия на молодого Евтушенко. Васильев написал её в пятидесятые годы, когда Евтушенко обладал очень узнаваемым стилем.
А в литературных и окололитературных кругах Сергей Васильев был известен своей не опубликованный при его жизни поэмой «Без кого на Руси жить хорошо?» Он доказывал, что лучше всего жить на Руси без евреев. Не знаю, может, её из-за подобной животрепещущей постановки проблемы где-нибудь нынче напечатали: всё-таки это вам даже не двести лет вместе, а врозь и навсегда! Но я читал её в рукописи. Впрочем, поэму Васильева не печатали, но читать разрешали. На вечерах в ЦДЛ. Да и с печатаньем всё было не так просто. Она была набрана в «Крокодиле». Но в последний момент Васильев засомневался, решил подстраховаться, послал гранки в ЦК. Был 1949 год. Самое время поношения космополитов. Тем не менее в ЦК уклонились от оценки: «Печатайте на ваше усмотрение». Не одобренную начальством поэму печатать трусливый поэт так и не решился. В Интернете она сейчас есть. Вот – небольшой кусочек:
– Зачем нам проза ясная? – Зачем стихи понятные? – Зачем нам пьесы новые, спектакли злободневные на тему о труде? – Подай Луи Селина нам, подай нам Джойса, Киплинга, подай сюда Ахматову, подай Пастернака! – Поменьше смысла здравого, а больше от лукавого, взамен двух тонн свежатины сто пять пудов тухлятины и столько же гнильцы. Один удар по Пырьеву, другой удар по Сурову, два раза Недогонову, щелчок по Кумачу. Бомбёжка по Софронову, долбёжка по Ажаеву, по Грибачёву очередь, по Бубеннову залп! По Казьмину, Захарову, по Сёмушкину Тихону, пристрелка по Вирте. Статьи строчат погромные, проводят сходки тёмные, зловредные отравные рецензии пекут. Жиреют припеваючи, друг другом не нахвалятся: – Вот это мы! Молодчики! Какие гонорарищи друг другу выдаём! Спешат во тьме с рогатками, с дубинками, с закладками, с трезубцами, с трегубцами, в науку, в философию, на радио, и в живопись, и в технику, и в спорт. Гуревич за Сутыриным, Бернштейн за Финкельштеином, Черняк за Гоффенштефером, Б. Кедров за Селектором, М. Гельфанд за Б. Руниным, за Хольцманом Мунблит. Такой бедлам устроили, так нагло распоясались. вольготно этак зажили, что зарвались вконец. Плюясь, кичась, юродствуя, открыто издеваяся над Пушкиным самим, за гвалтом, за бесстыдною, позорной, вредоносною, мышиною вознёй иуды-зубоскальники в горячке не заметили, как взял их крепко за ухо своей рукой могучею советский наш народ! Взял за ухо, за шиворот, за руки загребущие, за бельма завидущие – да гневом осветил!Ясно, что представлял собой Сергей Александрович Васильев, скончавшийся 2 июля 1975 года (родился 30 июля 1911-го)?
Звоню я, значит, Васильеву и предлагаю написать рецензию на какую-то (запамятовал!) уж совсем дрянную книжку (не помню и кто её автор).
– Хорошая? – спрашивает.
Что мне на это ответить? Вру:
– Неплохая.
– И сколько нужно страниц?
– Четыре-пять, – отвечаю. И, боясь спугнуть удачу: – Но можно и меньше.
– Нет, зачем же меньше? Пять страниц – это будет смотреться. Поэт-то он хороший!
– Срок – неделя, – говорю я. – Подходит?
– А это уже от вас, мой милый, зависит, – слышу с изумлением. – Как напишите, так и звоните.
– То есть как «напишите»? Что я должен писать?
– «Рыбу», мой дорогой, «рыбу». А я по ней пройдусь рукою мастера.
«Рыба», для тех, кто не знает этого жаргонного слова, – черновой вариант того, что ты хочешь получить от автора.
С ней, надо сказать, я намучился очень сильно. Легко ли хвалить то, от чего душу воротит? Да ещё размазывать это на пять страниц машинописного текста.
Одолел, в конце концов. Послал Васильеву с курьером. Звоню на следующий день и слышу:
– Вы умеете писать. У вас копия осталась или вам вернуть эту рецензию?
– Но вы же, – говорю, – обещали пройтись по ней рукой мастера!
– А для чего? Я её и так подпишу, – отвечает Васильев. – Она мне нравится.
А в выплатной день он появляется у меня в кабинете, улыбаясь очень дружески:
– И гонорар хороший заплатили! Спасибо!
И жмёт мне руку.
* * *
Николай Максимович Минский, умерший в Париже 2 июля 1937 года (родился 27 января 1855-го), не был большим поэтом.
Его раннее творчество оценивается как предсимволизм. Во всяком случае Мережковский говорил о поэзии Минского как об открывающей пути в будущее, выделяя в ней патологию, пессимизм, иронию, тоску по смерти – то, что будет отличать стихи символистов.
В дальнейшем Минского числили даже в лидерах символистов. Хотя яркого следа он в русской поэзии не оставил. Мне думается из-за рассудочности. Автор философских трактатов, мистик, он и в стихах не столько выражает чувство, сколько делится с читателем той или иной мыслью, пришедшей ему в голову. Были в русской поэзии Баратынский, Тютчев, умевшие высказывать мысли, которые легли им на сердце. Минский словно пишет философскую прозу стихами. Впрочем, Блок ценил его стихотворение «Два пути»:
Нет двух путей добра и зла, Есть два пути добра. Меня свобода привела К распутью в час утра. И так сказала: «Две тропы, Две правды, два добра. Их выбор – мука для толпы, Для мудреца – игра. То, что доныне средь людей Грехом и злом слывёт, Есть лишь начало двух путей, Их первый поворот. Сулит единство бытия Путь шумной суеты. Другой безмолвен путь, суля Единство пустоты. Сулят и лгут, и к той же мгле Приводят гробовой. Ты – призрак бога на земле, Бог – призрак в небе твой. Проклятье в том, что не дано Единого пути. Блаженство в том, что всё равно, Каким путём идти. Беспечно, как в прогулки час, Ступай тем иль другим, С людьми волнуясь и трудясь, В душе невозмутим. Их счастье счастьем отрицай, Любовью жги любовь. В душе меня лишь созерцай, Лишь мне дары готовь. Моей улыбкой мир согрей. Поведай всем, о чём С тобою первым из людей Шепталась я вдвоём. Скажи: я светоч им зажгла, Неведомый вчера. Нет двух путей добра и зла. Есть два пути добра».Понятно, за что ценил это стихотворение Блок. Он чувствовал близость к этим строчкам. В них и в самом деле есть нечто неуловимо блоковское (особенно концовка). На насколько поэтичнее выражал Блок такое мироощущение!
* * *
Один из любимых писателей моей юности. И не только моей. Он был кумиром моих ровесников. Что и запечатлел Евтушенко, описывая стилягу:
Носил он брюки узкие Читал Хемингуэя…Не читать Хемингуэя, который застрелился 2 июля 1961 года, было моветоном. «Прощай, оружие!», «Иметь и не иметь», «Старик и море» жадно проглатывались.
Биография Хемингуэя захватывала. Участник Первой Мировой войны, он в июле 1818 года в 19 лет (родился 21 июля 1899-го), спасая раненного итальянца, попал под шквальный миномётный огонь, но остался жив. Из тела вынули 26 осколков, коленную чашечку заменили алюминиевым протезом. А всего на теле насчитали 200 ран!
В 1934 году он побывал на сафари в Африке, где заболел амёбной дизентерией. Он умирал: организм был сильно обезвожен. Но за ним послали самолёт, успели поместить его в госпиталь, после чего он пошёл на поправку.
В Гражданскую войну в Испании Хемингуэй сражается на стороне республиканцев. Написал по следам её книгу «По ком звонит колокол» (1940), где весьма правдиво описал события, вывел под псевдонимом Михаила Кольцова. Книга была запрещена Сталиным. И потом из-за позиции, занятой главой испанской компартии Ибаррури, роман долго не печатали. Напечатали только в 1968 году в третьем томе собрании сочинений Хемингуэя.
Во время Второй Мировой войны Хемингуэй участвует в боевых полётах бомбардировщиков над Германией и оккупированной Францией. Встает во главе отряда французских партизан, участвует в боях за Париж, Бельгию. Нередко его отряд оказывается впереди действующей армии.
В 1953 году в Африке попал в серьёзную авиакатастрофу.
В 1960 году его лечили от ряда серьёзных заболеваний – гипертонии, диабета. Он погрузился в глубокую депрессию. Ему казалось, что за ним следят, что в больнице кругом расставлены жучки. Электросудорожная терапия привела к тому, что после 13 сеансов Хемингуэй потерял возможность творить.
Вот почему через короткое время после выхода из больницы он застрелился.
Я неоднократно перечитывал его вещи. И с каждым разом они мне нравились меньше. Но вот мы с женой задумали отправиться в Париж, пройти по тем местам, которые описал Хемингуэй в романе «Праздник, который всегда с тобой». Взяли с собой Хемингуэя. И читали роман с упоением. Прекрасный писатель!
* * *
Из монолога пушкинского Сальери:
Что говорю? Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны (Глубокие, пленительные тайны), Не бросил ли я всё, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошёл ли бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послан в сторону иную?Реальный Кристоф Валибальд Глюк, родившийся 2 июля 1714 года, действительно был реформатором, превратившим оперную сцену в драматическую.
Как обычно, новое пробивало себе дорогу с трудом. Привыкшие к так называемой опере-арии, в которой красота мелодии и пения имела самодовлеющий характер, меломаны далеко не сразу одобрили оперу, сцены которой пронизаны единым драматическим развитием, а увертюра не была отдельным концертным номером, как до Глюка, а привязывалась к оперному действию.
Тем более что в Париже, где оказался Глюк, обучавший музыке эрцгерцогиню Марию-Антуанетту, а потом приглашённый ею, ставшей женой наследника престола, переселиться в столицу Франции, многие были страстными поклонниками композитора Никколы Пиччинни. Противоположность их понимания оперы породила борьбу между «пиччиннистами» и «глюкистами», о чём тоже вспоминает пушкинский «глюкист» Сальери:
Нет! никогда я зависти не знал, О, никогда! – ниже, когда Пиччини Пленить умел слух диких парижан, Ниже, когда услышал в первый раз Я Ифигении начальны звуки.Кстати, об этой «Ифигении». Почти все комментаторы пушкинской драмы указывают на оперу Глюка «Ифигения в Авлиде», поставленную в 1774 году в Париже. Но мне кажется, что ревниво оценивающий чужой успех, пушкинский Сальери говорит об увертюре «Ифигении в Тавриде», поставленной пять лет спустя и признанной даже самим Пиччинни, который в связи с ней говорил о «музыкальной революции» Глюка. Сразу же после премьеры этой оперы великий французский скульптор Жан-Антуан Гудон изваял беломраморный бюст Глюка, который позже установили в вестибюле Королевской Академии музыки.
Умер великий Глюк в Вене 15 ноября 1787 года.
* * *
2 июля – день памяти Владимира Набокова (умер 2 июля 1977 года, родился 22 апреля 1899-го). Все знают, что он был прозаиком и поэтом, как Лермонтов, как Бунин. Многие, конечно, знают Набокова-прозаика. По мне, «Другие берега» – исключительно сильная вещь. Набокова-поэта знают меньше, что справедливо: у него много пустых стихов. Но есть пронзительные, как например это:
Бывают ночи: только лягу, … в Россию поплывёт кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте, со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, - Вот-вот сейчас пальнёт в меня! - я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. Оцепенелого сознанья коснётся тиканье часов, благополучного изгнанья я снова чувствую покров. Но, сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звёзды, ночь расстрела и весь в черёмухе овраг!3 ИЮЛЯ
С Владимиром Осиповичем Богомоловым, родившимся 3 июля 1924 года, меня познакомила Слава Тарощина, работавшая в отделе литературы «Литературной газеты», которым я с 1991 года заведовал. Знакомство не продолжилось. Оно было формальным. Богомолов, насколько я помню, ничего в редакцию не принёс. И ни о чём с нами не договаривался. Скорее всего, он зашёл к Славе как к жене Юрия Давыдова, очень тогда известного исторического писателя.
В принципе, я Богомолова видел и прежде – до этого знакомства. Он жил напротив двух наших писательских домов: один вытянут по Астраханскому переулку, другой выходящий торцом в Безбожный (прежнее и нынешнее название – Протоповский). Дом напротив, в котором жил Богомолов, охранял милиционер, но не как посольство – в особой будке, а как консьерж – сидя в вестибюле первого этажа. Охрана дому полагалась, потому что он был заселён преимущественно работниками ЦК партии. Причём крупного калибра – завами отделов, завами секторов. Из чужаков, вроде Богомолова, помню только ещё одного жильца этого дома – Юрия Озерова, снявшего киноэпопею «Освобождение», удостоенную ленинской премии. Любопытно, что в писательском доме напротив жил с семьёй брат кинорежиссёра спортивный радио– и телекомментатор Николай Озеров.
Богомолов часто прогуливался по нашему двору вместе с писателем Владимиром Карповым, героем Советского Союза, служившим в разведке и утверждавшим, что он лично сумел взять чуть ли не 80 «языков», чему мало кто верил.
Я так понимал, что они с Карповым дружили, что меня удивляло. Карпов держался перед начальством невероятно подхалимски, за что начальство продвигало его наверх по служебной лестнице. А Богомолов обладал легендарной независимостью: отказывался вступать в Союз писателей, возвращал его секретариату письма с приглашением вступить на самых льготных условиях. В 1984 году, когда генсек Черненко наградил по случаю 50-летия Союза большую группу писателей, Богомолову дали орден Трудового Красного Знамени. Но он от награды отказался. Сказал, что к Союзу писателей отношения не имеет, а в награду за свои книги получает гонорары.
Вот почему меня удивляли его постоянные прогулки по двору с льстивым царедворцем Карповым.
А с другой стороны, я не понимал, почему Богомолов не отказался от квартиры в цековском доме. Ведь такая квартира будет поценнее ордена.
В воспоминаниях моего старшего товарища Лазаря Лазарева, хорошо знавшего Богомолова, я прочитал, что сначала тому дали квартиру в писательском доме в Безбожном. Но вид из окна ему не понравился: мешал работать. Что ж. Владимиру Осиповичу предложили квартиру в доме напротив – в ведомственном, цековском. И он её взял.
Если он из принципа отказывался вступать в писательский союз, отказался от ордена, который ему собирались вручить как писателю, то почему соглашался взять квартиру в писательском доме? Почему, как я уже спрашивал, не отказался от дома ЦК?
Впрочем, всё это я высказываю именно в связи с непонятной мне дружбой Богомолова с Карповым, который в описываемое мною время уже был не замом главного в журнале «Октябрь», как прежде, а главным редактором «Нового мира». Пройдёт ещё немного времени и Карпов станет первым секретарём союза писателей СССР, депутатом, получит государственную премию, напишет двухтомный роман-биографию Сталина «Генералиссимус». Правда, я не знаю, как на эту биографию отреагировал Богомолов. Знаю только, что он очень резко выступил против романа Георгия Владимова «Генерал и его армия».
Да, наверное, Богомолов во многом был прав, побивая Владимова документами, извлечёнными из архивов. Хотя в художественном произведении писатель имеет право на домысел. Ну, а сталинская биография Карпова правдива, с точки зрения документа? А ведь там воспроизведено очень много эпизодов Великой Отечественной с участием Сталина. И все они обрисовывают невероятно умную и отчаянно героическую личность.
Можно было недоумевать ещё и по поводу неясностей биографии Богомолова. По одним сведениям он служил в войсках СМЕРШ, по другим – не служил, а описывал деятельность смершевцев в романе «В августе сорок четвёртого» по архивным документам, которые перед ним открыли.
Известно, что роман понравился тогда и Андропову, шефу КГБ, и Гречко, министру обороны. Это, конечно, не отменяет того факта, что роман Богомолова заслуженно пользуется известностью, а прежде был невероятно популярен. Но роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» тоже художественно неотразим. И тоже воспроизводит один из эпизодов Великой Отечественной – Сталинградскую битву. Но никакие посланцы министров к Гроссману за автографами не ездили. И понятно: роман был арестован, по слову тогдашнего идеолога Суслова, на двести лет. Не предвидел партийный идеолог перестройки и развала страны вместе с коммунистической идеологией.
Ну, а если совсем отвлечься от недоумённых вопросов, то следует сказать, что Богомолов был писатель Божьей милости. Написал он немного, но каждая его вещь оказывалась событием: «Иван», «Зося», «В августе сорок четвёртого» – вещи незаурядные. Умер 30 декабря 2003 года.
* * *
Я уже здесь рассказывал об отважном редакторе журнала «РТ-программы» Борисе Ильиче Войтехове, которого в конце концов руководители Радиокомитета сняли с должности.
На следующий день после объявления приказа о снятии в редакцию приехал Борис Михайлович Хессин, член коллегии Радиокомитета и глава его литературно-драматического вещания. Ему поручили одновременно пока что исполнять ещё и обязанности главного редактора. Ничего не могу сказать об этом человеке. Он был корректен, попросил всех оставаться на своих местах, чтобы он мог с каждым познакомиться поближе.
Но этого ему сделать не дали, потому что дня через два всю редакцию внезапно вызвали на заседание коллегии Радиокомитета.
Её вёл Николай Николаевич Месяцев, человек с обезьяньи оттопыренными ушами, с косой чёлкой и тяжёлым угрюмым взглядом. Говорил он отрывисто, смертельно напугал старого Гиневского, ответственного секретаря журнала, который полусполз со стула и долго пытался усесться нормально, цыкнул на зама главного редактора Иващенко, пытавшегося объяснить председателю, что в последнее время положение в журнале нормализовалось, и стал вызывать на трибуну войтеховских соратников.
Здесь я вспомнил расправу Пугачёва над офицерами в Белогорской крепости («Капитанская дочка»).
– Признаёте, – лаял Месяцев, – виновным себя в полном идеологическом развале журнала?
Признавшим себя виновным он говорил: «Ладно, идите на место, разберёмся!», не признавшим: «Комитет не нуждается больше в ваших услугах!» Я твёрдо решил: дойдёт до меня, скажу: «Не только не признаю, но считаю, что журнал печатал первоклассную литературу».
Но до меня не дошло.
– Рощин! – вызвал Месяцев моего заведующего. И, услышав от Иващенко, что Миша в отпуске, сказал: – Нашёл, когда уходить в отпуск! Ну, ничего! Вернётся – поговорим.
А на предложение поговорить с замещающим Рощина Красухиным ответил: – Кто это такой? Обозреватель? Почему я должен разговаривать с обозревателем. Его и без всяких разговоров надо гнать! Литература в журнале была страшная! Один Аверченко чего стоит!
(Мы перепечатали рассказ «Фокус немого кино» из книги Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», которая тогда была под запретом. Не помогла ссылка на Ленина, рекомендовавшего издать эту книгу, чтобы знать врага, так сказать, воочию. Гиневский с Иващенко добились купюры. Она как раз касалась Ленина с Троцким, которые, пятясь, вышли из дворца Кшесинской, задом дошли до вокзала (исторические события у Аверченко движутся в обратном направлении – от 1920-го до царского манифеста о свободе в 1905-м году), задом же сели в распломбированный и снова запломбированный вагон и покатили, проклятые, – размечтался писатель, – назад к себе в Германию. Но, как видим, купюра не спасла.)
Я встал и вышел из зала.
Резко, властно, хамски вёл себя с людьми Месяцев. Так позволяют вести себя убеждённые в собственной безнаказанности, чувствующие прочную опору за своей спиной. А ведь, как ни странно, опирался Месяцев, как и Войтехов, на того же Шелепина. Войтехов был главным редактором комсомольского журнала «Смена», когда его арестовали и дали десять лет. Был он дружен со сталинской комсомольской верхушкой, куда впоследствии вошёл и Месяцев. А с другой стороны, что же в этом странного? В отличие от Войтехова, Месяцев был в стае, в стаде и выработал в себе ощущение стадности: интриговал против других, грызся с другими, пресмыкался перед сильными.
Но всех, кто был в шелепинской стае, уже отслеживали. Говорят, что в этом был виноват Семичастный, который в каком-то посольстве брякнул, что Брежнев на посту генерального секретаря – фигура временная и что этот пост скоро займёт Шелепин. Через год после событий, о которых рассказываю, дождались промаха чекистов, прозевавших бегство дочери Сталина за границу, и Семичастного убрали из председателей КГБ. Позже дошли руки и до Месяцева. (А уже через три года и до Шелепина!) Тот слетел со своего поста и был сослан послом в Австралию. Он, скорее всего, благополучно бы доработал до персональной пенсии, а потом писал бы, как тот же Семичастный, воспоминания или за него бы их писали, не окажись в Австралии в один несчастливый для Месяцева день русский ансамбль песни и пляски. Нет, сам-то ансамбль имел успех у островитян, но из него вдруг исчезла прима. Она не вернулась в гостиницу, и прождавший её полночи испуганный руководитель позвонил в полицию, которая немедленно приступила к поискам.
Поиски увенчались полным успехом. Все утренние австралийские газеты вышли под огромными шапками: «Таинственное исчезновение русской балерины». Под шапкой несколько фотографий. Вот прима сидит с мужчиной в окраинном ресторанчике. Вот она с ним поднимаются по гостиничной лестнице. Вот наутро они сдают ключ портье. Вот она выходит из гостиницы об руку с тем же партнёром. Кто же он, этот счастливчик?
– Убрать! – сказал Брежнев, узнав об этой истории. И Месяцева выгнали не только из послов, но из партии, лишили всех привилегий и оставили доживать на обычную пенсию в 120 рублей.
Что ж, двенадцать лет он на ней жил, вкусил лиха, покуда влиятельные его друзья не уговорили генсека Черненко вспомнить о былом ценном кадре и восстановить в партии Николая Николаевича Месяцева, родившегося 3 июля 1930 года. Был он кавалером шести орденов Отечественной войны 1 степени и двух 2 степени. Работал во время войны сперва недолго в управлении наркомата флота, потом в управлении особых отделов НКВД, а после в отделе контрразведки СМЕРШ 5 танковой армии и, наконец, в главном управлении СМЕРШа. Ясно, за что его осыпали наградами: СМЕРШу выпало осуществлять операции по депортации народов. За эти удачно осуществлённые операции Сталин награждал опричников именно орденами Отечественной войны разных степеней. И, конечно, недаром в 1953 году Сталин назначил Месяцева помощником начальника следственной части МГБ – вести известное «дело врачей».
Так что ушёл Месяцев, как и положено такому партийному работнику, персональным пенсионером союзного значения. И книгу воспоминаний написал. Или за него написали – значения не имеет. Выпустил в «Вагриусе» в 2005 году. И ещё потом прожил 6 лет. Помер 3 сентября 2011 года почётным гражданином Москвы. И всё же двенадцать лет жил он, возможно, завывая от страха: кто мог поручиться, как повернутся события?
* * *
Игнатий Дмитриевич Рождественский поначалу занимался в родной своей Сибири комсомольскими делами: участвовал в ликвидации неграмотности, но и в ликвидации кулачества. Прокладывал шоссейные дороги. В 1930-м уехал в Туруханск, а потом в Игарку, где более 10 лет обучал детей русскому языку и литературе. На Севере пишет стихи, которые печатает во многих сибирских журналах. Они посвящены оленеводам, радистам, пилотам, – то есть тогдашним героям-романтикам.
Во время войны в книгах «В боевом строю» (1942), «Ангара-Северянка» (1943) и «Сердце Сибири» (1944) воспевает фронтовые подвиги земляков-красноярцев.
А после войны становится собственным корреспондентом газеты «Правда» по Сибири и Якутской АССР, ездит в командировки, пишет очерки, репортажи, стихи, документальные киносценарии, поэмы. Книг выпускает много. Все они посвящены Сибири, её людям, её прошлому и настоящему.
Умер 3 июля 1969 года. Родился 10 ноября 1910-го.
Поэтом он был небольшим. Но его стихи не отталкивали:
Когда трава росой примята, Когда под крыльями сосны Новорождённые маслята На мир глядят удивлены. Не прозевай обабки в спешке, Что все в росинках, как в резьбе, Гляди, смешные сыроежки Ватагой кинулись к тебе. Дрозды настраивают гусли, Лесное славя бытиё, И подосиновик ли, груздь ли В лукошко просятся твоё. Тумана прядь к тебе прильнула, Ворсистый мох побеспокой. Что это? Солнце ли блеснуло? Нет, это рыжик под рукой. Проснись и, устали не зная, Спеши в заветный лес с утра… Пришла, пришла пора грибная, Великолепная пора.А главное, что Рождественского очень тепло вспоминают. Например, Виктор Астафьев учился у него в школе в Игарке. Стоило бы, конечно привести здесь весь рассказ Астафьева «Учитель». Впрочем, он не так уж громоздок, и читается с интересом:
«Замечательный человек, встретившийся мне в начале жизненного пути, был сибирский поэт. Он преподавал в нашей школе русский язык и литературу, и поразил нас учитель с первого взгляда чрезмерной близорукостью. Читая, учитель приближал бумагу к лицу, водил по ней носом и, ровно бы сам с собою разговаривая, тыкал в пространство указательным пальцем: «Чудо! Дивно! Только русской поэзии этакое дано!»
«Ну, такого малохольненького мы быстро сшама-ем!» – решил мой разбойный пятый «Б» класс.
Ан не тут-то было! На уроке литературы учитель заставил всех нас подряд читать вслух по две минуты из «Дубровского» и «Бородина». Послушав, без церемоний бросал, сердито сверкая толстыми линзами очков: «Орясина! Недоросль! Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!»
На уроке русского языка учитель наш так разошёлся, что проговорил о слове «яр» целый час и, когда наступила перемена, изумлённо поглядев на часы, махнул рукой: «Ладно, диктант напишем завтра».
Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не шевелился. Меня поразило тогда, что за одним коротеньким словом может скрываться так много смысла и значений, что всё-то можно постичь с помощью слова и человек, знающий его, владеющий им, есть человек большой и богатый.
Впервые за все время существования пятого «Б» даже у отпетых озорников и лентяев в графе «поведение» замаячили отличные оценки. Когда у нас пробудился интерес к литературе, Игнатий Дмитриевич стал приносить на уроки свежие журналы, книжки, открытки и обязательно читал нам вслух минут десять– пятнадцать, и мы всё чаще и чаще просиживали даже перемены, слушая его.
Очень полюбили мы самостоятельную работу – не изложения писать, не зубрить наизусть длинные стихи и прозу, а сочинять, творить самим.
Однажды Игнатий Дмитриевич стремительно влетел в класс, велел достать тетради, ручки и писать о том, кто и как провел летние каникулы. Класс заскрипел ручками.
Не далее месяца назад я заблудился в заполярной тайге, пробыл в ней четверо суток, смертельно испугался поначалу, потом опомнился, держался по-таёжному умело, стойко, остался жив и даже простуды большой не добыл. Я и назвал своё школьное сочинение «Жив».
Никогда ещё я так не старался в школе, никогда не захватывала меня с такой силой писчебумажная работа. С тайным волнением ждал я раздачи тетрадей с сочинениями. Многие из них учитель ругательски ругал за примитивность изложения, главным образом за отсутствие собственных слов и мыслей. Кипа тетрадей на классном столе становилась всё меньше и меньше, и скоро там сиротливо заголубела тоненькая тетрадка. «Моя!» Учитель взял её, бережно развернул – у меня сердце замерло в груди, жаром пробрало. Прочитав вслух моё сочинение, Игнатий Дмитриевич поднял меня с места, долго пристально вглядывался и наконец тихо молвил редкую и оттого особенно дорогую похвалу: «Молодец!»
Когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, я поставил первый в жизни автограф человеку, который привил мне уважительность к слову, пробудил жажду творчества».
* * *
Слово «журналистика» в русском языке придумано Николаем Алексеевичем Полевым, родившимся 3 июля 1796 года. Так он озаглавил рубрику о журналах в своём «Московском телеграфе», литературном и научном журнале, начавшим выходить в 1825 году. Первоначально непривычное слово «журналистика» вызывало насмешки.
«Московский телеграф» просуществовал до 1834 года и был закрыт по приказу Николая I за неодобрительный отзыв Полевого о подхалимской перед властями пьесе Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».
Этот царский приказ навсегда напугал Полевого, который сменил убеждения на противоположные. Пошёл к Булгарину в «Северную пчелу», где заведовал литературным отделом газеты. В 1837 году Булгарин и Греч продали журнал «Сын Отечества» известному книготорговцу Смирдину. Тот привлёк Полевого к редактированию журнала. Два года (1838 – 1940) Полевой был его редактором и сохранил в журнале прежние позиции Греча и Булгарина. В 1841-м вместе с Гречем Николай Погодин издаёт ежемесячный журнал «Русский вестник». В 1842 – 1844-м был единственным редактором журнала.
Полевой написал 6 томов «Истории русского народа» (1829 – 1833). В противоположность Карамзину Полевой осмыслял не летописи, но, ориентируясь на романтическую историографию француза Гизо, выделял в истории элементы общественного строя (применил к Руси концепцию феодализма), пытался реконструировать народные представления. Пушкин весьма неодобрительно встретил первый том истории Полевого. Однако в сохранившихся черновиках о втором томе Пушкин отзывается более благожелательно.
Любопытно, что в отличие от Карамзина, считавшего Малороссию «древним достоянием» Руси, Полевой настаивал, что она – отдельное от Руси государство: «В сей народности […] видим только два основных элемента древней Руси: веру и язык, но и те были изменены временем. Всё остальное не наше: физиогномия, нравы, жилища, быт, поэзия, одежда». Любопытное осмысление истории Украины, не правда ли?
Прожил Полевой не так уж и много. Умер 6 марта 1846 года.
* * *
Руководитель Южного общества декабристов Павел Иванович Пестель, родившийся 3 июля 1793 года, очень любопытно и достаточно верно обрисован поэтом Давидом Самойловым в стихотворении 1965 года «Пестель, поэт и Анна»:
Там Анна пела с самого утра И что-то шила или вышивала. И песня, долетая со двора, Ему невольно сердце волновала. А Пестель думал: «Ах, как он рассеян! Как на иголках! Мог бы хоть присесть! Но, впрочем, что-то есть в нём, что-то есть. И молод. И не станет фарисеем». Он думал: «И, конечно, расцветёт Его талант, при должном направленье, Когда себе Россия обретёт Свободу и достойное правленье». – Позвольте мне чубук, я закурю. – Пожалуйте огня. – Благодарю. А Пушкин думал: «Он весьма умён И крепок духом. Видно, метит в Бруты. Но времена для брутов слишком круты. И не из брутов ли Наполеон?» Шёл разговор о равенстве сословий. – Как всех равнять? Народы так бедны, - Заметил Пушкин, – что и в наши дни Для равенства достойных нет сословий. И потому дворянства назначенье - Хранить народа честь и просвещенье. – О, да, – ответил Пестель, – если трон Находится в стране в руках деспота, Тогда дворянства первая забота Сменить основы власти и закон. – Увы, – ответил Пушкин, – тех основ Не пожалеет разве Пугачёв… – Мужицкий бунт бессмыслен… - За окном, Не умолкая, распевала Анна. И пахнул двор соседа-молдавана Бараньей шкурой, хлевом и вином. День наполнялся нежной синевой, Как вёдра из бездонного колодца. И голос был высок: вот-вот сорвётся. А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!» – Но, не борясь, мы потакаем злу, - Заметил Пестель, – бережём тиранство. – Ах, русское тиранство-дилетантство, Я бы учил тиранов ремеслу, - Ответил Пушкин. «Что за резвый ум, - Подумал Пестель, – столько наблюдений И мало основательных идей». – Но тупость рабства сокрушает гений! – На гения отыщется злодей, - Ответил Пушкин. Впрочем, разговор Был славный. Говорили о Ликурге, И о Солоне, и о Петербурге, И что Россия рвётся на простор. Об Азии, Кавказе и о Данте, И о движенье князя Ипсиланти. Заговорили о любви. – Она, - Заметил Пушкин, – с вашей точки зренья Полезна лишь для граждан умноженья И, значит, тоже в рамки введена. - Тут Пестель улыбнулся. – Я душой Матерьялист, но протестует разум. - С улыбкой он казался светлоглазым. И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!» Они простились. Пестель уходил По улице разъезженной и грязной, И Александр, разнеженный и праздный, Рассеянно в окно за ним следил. Шёл русский Брут. Глядел вослед ему Российский гений с грустью без причины. Деревья, как зелёные кувшины, Хранили утра хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник - О разуме и сердце. Лоб наморщив, Сказал себе: «Он тоже заговорщик. И некуда податься, кроме них». В соседний двор вползла каруца цугом, Залаял пёс. На воздухе упругом Качались ветки, полные листвой. Стоял апрель. И жизнь была желанна. Он вновь услышал – распевает Анна. И задохнулся: «Анна! Боже мой!»Д. Самойлов оттолкнулся от дневниковой записи Пушкина 9 апреля 1821 года: «Утро провёл с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Mon coeur est matérialiste, – говорит он, – mais ma raison s᾿y refuse». (Сердцем я материалист, но мой разум этому противится. – франц.). Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и пр. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю».
Собственно, на этом можно закончить. Трагическая судьба Пестеля хорошо известна. Он был арестован незадолго до 14 декабря 1825 года. Приговорён к четвертованию, заменённому новым императором повешением. Приговор приведён в исполнение 25 июля 1826 года.
* * *
Эту женщину называли роковой. Хотя Зинаида Николаевна Райх, родившаяся 3 июля 1894 года, не была хищницей. Конечно, она доставила много боли своему второму мужу – Всеволоду Мейерхольду. Потому что не могла устоять против натиска своего первого мужа – поэта Сергея Есенина, который весьма бесцеремонно выгнал её и заставил согласиться на развод. Но после по прихоти своей добивался от бывшей жены свиданий, о чём знал бесконечно любивший Зинаиду Мейерхольд.
В конце концов Зинаида Николаевна порвала с Есениным, сказав фразу, которую повторяют все её биографы: «Параллели не скрещиваются».
Если в первом браке Райх капризничал муж, от которого, кстати, у Зинаиды Николаевны было двое детей, то во втором её браке муж исполнял любые её капризы.
Надо отдать должное Мейерхольду: он сделал из средней актрисы крупную. Не потому только, что отдавал ей главные роли в постановках своего театра. Но потому ещё, что в каждой из этих ролей находил черты, органически присущие его жене. Так что вживаться в роль ей не приходилось. Мейерхольд добивался, чтобы Райх на сцене играла себя – вдохновенно воплощала какую-то свою черту.
В театре её не любили из-за заносчивости и бесцеремонного обращения с коллегами. Из-за каприза Райх (двух примадонн в одном театре быть не может) театр Мейерхольда покинула Мария Ивановна Бабанова, блестяще выступившая в роли Стеллы в «Великодушном рогоносце» Ф. Кроммелинка. Роль Стеллы Мейерхольд отдал Райх. Что эта роль не для неё, убедились быстро. Но Мейерхольд и слушать не желал о ком-нибудь другом.
Лучшую свою роль Зинаида Николаевна сыграла в спектакле «Дама с камелиями». Слезливую мелодраму Мейерхольд превратил в высокую трагедию. Критика неистовствовала: зачем Мейерхольд взялся за эту пьесу, в ней и следов нет классовой борьбы, которая была обязательной к показу на театральной сцене. Спектакль посмотрел Сталин. Он ему не понравился. Травля Мейерхольда резко усилилась. Экспансивная Зинаида Райх написала летом 1937 года возмущённое письмо Сталину. Но тот не изменил своего решения. И 7 января 1938 года театр, уже зная о своём закрытии, показал на прощание «Даму с камелиями». Райх играла с невероятным подъёмом. Сыграв сцену смерти Маргерет, актриса потеряла сознание.
После закрытия театра Мейерхольд был на свободе полтора года. В июне 1939-го его арестовали. А в ночь с 14 на 15 июля в их с Райх квартиру в Брюсовом переулке через балкон проникли неизвестные. Утром обнаружили Зинаиду Николаевну в луже крови. Неподалёку лежала тяжело раненная домработница. Домработница выжила, а Зинаида Николаевна Райх, которой было нанесено семь ножевых ран, скончалась по дороге в больницу. Хоронили её в платье Маргарет.
4 ИЮЛЯ
Михаил Светлов однажды написал:
На свете множество дорог, Где заблудиться может муза, Но всё распутать превозмог Маршак Советского Союза.Шуточные эти строчки выражают истину: Маршак действительно проторил для многих литераторов дороги, на которых их музы без него бы заблудились и, быть может, не вышли к читателю.
Я имею в виду и непосредственную редакторскую помощь. Маршак, как рассказывали наблюдавшие его редактуру люди, ничего не правил, но сажал рядом с собой автора и просил рассказать ему такую-то сцену, такую-то, а потом отсаживал автора за отдельный стол, давал ему бумагу и говорил: «Опишите то, что Вы мне рассказывали». Так появились многие новые авторы.
Мой друг Станислав Рассадин, часто бывавший у Маршака дома, говорил мне, как вспоминал Маршак о своей работе с Гайдаром. Гайдар был в глубокой душевной депрессии: не шла работа. Он исписывал страницы, а потом перечитывал и рвал их. Пришёл к Маршаку. Они просидели всю ночь, вместе сочиняя по сюжету, рассказанному Гайдаром Маршаку. Гайдар ушёл счастливый. А через полгода принёс целиком рукопись повести «Судьба барабанщика». Маршак её внимательно посмотрел. И обнаружил, что тот кусок, который они вроде писали вместе, полностью переписан Гайдаром. Маршак был счастлив.
Самуил Яковлевич Маршак, скончавшийся 4 июля 1964 года (родился 3 ноября 1887-го), оставил огромное литературное наследство. Здесь и замечательные детские стихи, и прекрасные взрослые, и изумительные переводы особенно из английской поэзии, и проза, и критика, и литературоведение.
Я и сам иногда в укор Маршаку вспоминаю, как в детстве читал его стихотворные подписи под карикатурами Кукрыниксов или Ефимова. Моему другу Бенедикту Сарнову Маршак их объяснял своеобразно: «Без того (то есть без лживых стихов на потребу дня) не было бы и всего остального». И надо сказать, что в этом объяснении есть свой резон. В молодости Маршак был не большевиком, а бундовцем. За что вполне мог поплатиться свободой в двадцатых. В начале тридцатых вокруг Маршака, работавшего в ленинградских журналах и издательствах, собралось много талантливых литераторов. Почти все они были арестованы в 37-38-м. Говорят, что доходили руки НКВД и до Маршака. Печать его обстреливала. Его обвиняли в формализме, в непедагогичности и бесполезности его детских стихов. Но уже решённое дело об аресте остановил Сталин, который якобы сказал, увидев фамилию Маршака в списке на ликвидацию: «А зачем? Маршак хороший дэтский писатэль!» И сразу всё схлынуло. Нападки на Маршака прекратились. Пошли положительные отклики в прессе. В первое же большое награждение писателей в 1939 году Маршак получил высший орден – Ленина. Ну, а дальше – как из короба: ещё ордена, три сталинские премии…
Но не забурел Маршак. После смерти Сталина вёл себя достойно. Заступался за гонимых. Покровительствовал талантливым.
И завещал нам:
Желаю вам цвести, расти, Копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути - Главнейшее условье. Пусть каждый день и каждый час Вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, А сердце умным будет. Вам от души желаю я, Друзья, всего хорошего. А всё хорошее, друзья, Дается нам недёшево!5 ИЮЛЯ
Причудливой оказалась судьба Фаддея Венедиктовича Булгарина, родившегося 5 июля 1789 года.
Его отец, республиканец, сосланный в Сибирь за убийство русского генерала, дал сыну имя в честь Тадеуша Костюшко (настоящее имя Булгарина Ян Тадеуш Кшиштоф). Сын поступил в 1798 году в Петербурге учиться в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, который с 1800 года стал именоваться Первым кадетским корпусом. Булгарин окончил его в 1806 году. Плохо знавший русский язык, он постоянно конфликтовал с товарищами по корпусу.
В 1806-1807 годах участвовал в военных действиях против французов. Под Фридландом был ранен и награждён орденом Св. Анны 3 степени. В 1808 году был участником шведской кампании.
В это время он писал басни и сатиры. За одну из сатир провёл несколько месяцев под арестом. В день своего дежурства одетый в маскарадный костюм попался на глаза цесаревичу (отказавшемуся впоследствии от трона) великому князю Константину Павловичу. Начались трения с начальством, которые закончились увольнением Булгарина из армии в чине поручика в 1811 году.
Булгарин перебрался в Варшаву, оттуда в Париж, из которого выехал в Пруссию. Как рассказывает он сам, в Пруссии он был мобилизован в армию Наполеона, воевал в Испании в составе Польского легиона в уланском полку. В 1812 году участвовал в походе Наполеона в Россию в частично сформированном из поляков 2 корпусе маршала Удино. Получил чин капитана и, по его словам, которые так и остались неподтверждёнными, орден Почётного легиона. В 1813 году участвовал в сражениях при Бауцене и под Кульмом. В 1814-м сдался в плен прусским войскам и был ими выдан России.
По окончании войны союзной армии с Наполеоном вернулся в Варшаву. Ненадолго переехал в Санкт-Петербург, оттуда в Вильну, где управлял находящимся поблизости имением своего дяди. Публиковался на польском языке, как правило, анонимно в местных журналах. Общался с либеральными польскими литераторами и преподавателями Виленского университета, входившими в Товарищество шубравцев (бездельников). Был даже избран почётным членом Товарищества. И в дальнейшем поддерживал контакты с шубравцами.
В 1919 году окончательно поселился в Петербурге. Завязал контакты с Грибоедовым, Рылеевым, Кюхельбекером, братьями Бестужевыми. Печатался. Начал издательскую деятельность.
Особенно дружил с Грибоедовым и с его женой, что в будущем опишет Ю.Н. Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара».
Позиционировал себя как либерала, но в 1824 году изменил свои взгляды с либеральных на консервативные.
После разгрома восстания декабристов спрятал архив Рылеева по его просьбе. И этим спас Грибоедова и многих других, на которых в архиве имелись компрометирующие материалы.
С созданием III Собственной Его Императорского Величества канцелярии сотрудничал с ним. Ознакомившись, как сотрудник охранки, с рукописью Пушкина «Борис Годунов», на которую написал для царя отзыв, украл несколько вымышленных Пушкиным эпизодов для своего романа «Дмитрий Самозванец», за что заслужил от Пушкина репутацию осведомителя.
В разгар Польского восстания к новому 1831 году получил от императора брильянтовый перстень (формально за роман «Иван Выжигин»).
Успешно и плодотворно занимался издательской деятельностью. Создал первый в России театральный альманах «Русская талия» (1825), где опубликовал отрывки из «Горя от ума» Грибоедова.
Помимо журналов, вместе с Гречем издавал первую частную политическую и литературную газету «Северная пчела», которая вошла в историю благодаря нападкам на Пушкина.
Огромный успех выпал на долю романов о похождении Ивана Выжигина, в которых Булгарин выступил основоположником жанра авантюрного плутовского романа. Справедливости ради, следует подчеркнуть, что успех был рыночным: романы Булгарина раскупались быстро. Во многом именно их имея в виду, Пушкин писал в апреле 1834 года Погодину: «Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так».
В то же время такой литератор, как Бестужев-Марлинский, высоко отзывался о Булгарине: «Он глядит на предметы с совершенно новой стороны, излагает мысли свои с какой-то военной искренностью и правдой, без пестроты, без игры слов. Обладая вкусом разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже пылкой молодостью чувств, поражая незаимствованными формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших писателей».
Разумеется, прав был Пушкин, который уже тогда почувствовал, как губительна для литературы зависимость от «вшивого рынка», то есть от барахолки. Но, повторюсь, рыночный успех Булгарина и Сенковского многих сбивал с толку и с понимания, для чего вообще существует литература. Не скажу, что с того времени вопрос этот окончательно прояснён для читателей.
Умер Булгарин 13 сентября 1859 года действительным статским советником, то есть не только литературным генералом.
* * *
Понимаю, что сейчас многих удивлю. Но из песни слова не выкинешь!
Я дружил с Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, который родился 5 июля 1930 года (умер 25 января 2001 года) и который жил в параллельном моему переулке. Мы ходили друг к другу через двор.
Как я любил его искромётный юмор, страсть к поэзии, к русскому романсу и то, как он исполнял романсы, подыгрывая себе на гитаре. Он сочинял музыку на слова русских (от Баратынского до современных) поэтов. И завораживал своим пением. Гости слетались к нему, как бабочки на свет!
Ему это нравилось. Он был очень общителен. В его доме я познакомился не только с Рубцовым, Передреевым или Владимиром Соколовым, но и с Андреем Битовым и его тогдашней женой Ингой Петкевич, с Юзом Алешковским, с Владимиром Максимовым, не с тем, который после падения коммунистов остервенело крыл в «Правде» ельцинский режим, – к этому времени мы с Кожиновым давно уже разошлись, а с тем ранним, кто ненавидел большевиков, мечтал уехать из Совдепии и встретил меня, вернувшегося из туристической поездки в Скандинавию, упрёком: «Что же ты там не остался?»
Анекдотов Кожинов знал уйму. Рассказывал их мастерски. Терпеть не мог Ленина, Сталина и вообще советскую власть. «Совсем в маразм впал», – пожал он, например, плечами, когда ему сообщили, что Сергей Михайлович Бонди одобрил ввод советских войск в Чехословакию. «Но Бонди ссылается на Пушкина, – сказали ему, – на пушкинский «домашний спор славян между собой». «Так домашний же, – подчеркнул Дима. – Польша в то время была территорией России. А Чехословакия сейчас? Нет, старик в маразме, раз не отличает агрессию от подавления бунта!»
Вас это удивляет? Вы помните его статьи в «Правде» при Ельцине в поддержку Зюганова? Лично меня удивляют как раз эти статьи. Может, он почуял, что Зюганов не в пример Ленину может потащить страну к национализму? А к его монархическим воззрениям я был тогда снисходителен. Он не был антисемитом и не любил антисемитов. Поэтому я пропускал мимо ушей его учёные рассуждения об особой, мессианской роли России в мировом процессе. Но Сталина-то он точно терпеть не мог. Я это хорошо помню. А Зюганов любит Сталина именно за то, что тот тащил страну к очень похожему на гитлеровский новому порядку.
Впрочем, с Кожиновым мы не были единомышленниками. К тому же писал он небрежно, мало заботясь об аргументации собственных мыслей. Книга Кожинова о русской поэзии, изданная «Просвещением», представляет собой набор рекламных проспектов стихотворений, так сказать, от Пушкина (даже раньше) до наших дней. Его книжечка о Николае Рубцове пустовата. Да и взялся он в ней доказать недоказуемое. Рубцов обожал Есенина, явно подражал ему, а Кожинову захотелось, чтобы его рано погибший приятель продолжил тютчевскую традицию. И он назначил эту традицию Рубцову, так сказать, явочным порядком. Чему Рубцов, проживи он до выхода кожиновской книги, наверняка бы удивился. Я его знал, встречал, как уже говорил, у того же Кожинова, и помню, как переспрашивал он, чьи именно стихи поёт хозяин, когда речь шла о таких, как «Есть в осени первоначальной…» и даже «Я встретил Вас…». Зато оживлялся, подпевая, едва Вадим начинал петь Есенина. И любил читать наизусть «Анну Снегину» – внушительных размеров есенинскую поэму!
А книга Кожинова о Тютчеве? Откуда тот взял, что царь и его правительство считались с мнением поэта? Что Тютчев имел возможность влиять на внешнюю политику Александра II? Вы не найдёте этого ни в воспоминаниях тютчевской дочери Анны Фёдоровны, бывшей фрейлиной двора, ни в первой и достоверной биографии Тютчева, написанной его зятем Иваном Аксаковым. Вы этого вообще нигде, кроме кожиновской книжки, не найдёте. И не ищите, не занимайтесь бессмысленным делом. Потому что любимым выражением Кожинова было: «Ну, это же совершенно очевидно!» Он и в статьях и книгах неизменно ставил: «совершенно очевидно». А это означало, что дело идёт об аксиоме, которая в доказательствах не нуждается.
«Жулик!» – говорили о нём мои друзья. Увы, чистоплотностью в литературе Дима не отличался.
А с другой стороны, как это ни парадоксально прозвучит после того, что я только что сказал, Кожинову был свойствен и некий аристократизм в литературе. Он терпеть не мог графоманов, какие бы посты те ни занимали. Ему надписывали книги многие, и многое из надписанного он, полистав, ожесточённо выкидывал в мусорный бак. Он не стеснял себя в выражениях и оценках, и поэтому против него затаивались даже те, кто считали себя его единомышленниками.
Я прочитал несколько лет назад в микротиражном «патриотическом» листке статью одного из тех руководящих поэтов, чьи стихи Дима уж точно терпеть не мог. Якобы позвонил ему ночью Кожинов, выразил восхищение прозой, которую поэт напечатал в «Нашем современнике», и повторил своё неприятие его поэзии. Что-то мне во всё это плохо верится. Кожинов ложился не поздно и, в отличие от Сталина, спал по ночам. О прозе вообще предпочитал не отзываться. Знаю, что он не был поклонником Распутина, а у Белова любил только «Бухтины» и «Привычное дело». Впрочем, все люди меняются, а мы с ним раздружились ещё до горбачёвской перестройки. Так что о его пристрастиях и вкусах, начиная с эпохи Горбачёва, могу судить только по его публикациям. А уж о том, вставал ли он в горбачёвское и более позднее время ночью, чтобы обрадовать понравившихся ему авторов, или не вставал, – судить не могу, не знаю! Но есть у меня подозрение: всё это автор сочинил во время собственной бессонницы, вызванной уязвлённостью тем, что патриот Кожинов так и не признал его, патриота, стихи. «Патриоты» наивно считают, что всё хорошее в жизни им положено за их убеждения. В том числе и хвалебные отзывы. А этот патриот отличается особенной яростной требовательностью.
Раздружились мы из-за Юрия Селезнёва. Был такой агрессивный критик, приехавший из Краснодара и поселившийся в квартире Кожинова (считалось, что живёт он в общежитии Литинститута).
Мне рассказывали, что поначалу он очень понравился главному редактору «Вопросов литературы» секретарю Союза писателей СССР Виталию Михайловичу Озерову, который пригласил его на работу в свой журнал. Поскольку прописан Селезнёв был в общежитии, Озеров взялся добыть ему постоянную площадь в Москве. Добыл, о чём сотрудиики журнала известили Селезнёва и уговорились о дне, когда он явится к Озерову.
Он не явился ни в этот день, ни в этот месяц. Когда же наконец пришёл, уязвлённый Озеров продержал его два часа у своего кабинета и сообщил, что ни работы в редакции, ни квартиры в Москве он не получит!
Однако Селезнёва это не слишком расстроило. Как все кожиновские гости, он смотрел в рот хозяину, набираясь от него ума-разума. Но в отличие от Передреева или от того же рано умершего Рубцова, Селезнёв оказался зверским антисемитом. Так что, наслушавшись государственно-почвеннических лекций Кожинова, он явил собой гремучую смесь русского нацизма, которая взорвалась на собрании московских критиков в ЦДЛ, обсуждавших традиции в русской литературе. Третья мировая война, начала которой так боятся некоторые, – торжественно провозгласил Селезнёв, – давно уже идёт. И война эта с мировым сионизмом.
Такое заявление было оценено по достоинству. Почти тут же Селезнёв получил очень приличную квартиру и был приглашён занять кресло первого заместителя главного редактора журнала «Наш современник», печатал там статьи в духе того своего выступления. За не понравившийся кому-то в ЦК партии номер журнала, посвящённый Достоевскому, был снят со своего поста. Но – не пропадать же ценному кадру! – стал заведующим редакции серии «Жизнь замечательных людей», где немедленно подписал договор с Вадимом Кожиновым на будущую книгу о Тютчеве и с самим собой на книгу о Достоевском.
Личность Юрия Селезнёва и занимаемые им руководящие посты заставили меня переоценить Кожинова, который до этого казался мне человеком, не зависящим от внешних обстоятельств. Ещё как он от них зависел! «ЖЗЛ» была не только очень престижной серией, но и невероятно высокооплачиваемой. Ведь меньше чем стотысячным тиражом в ней книги не выходили. А это – чуть ли не по тысяче рублей (тогдашних!) за печатный лист. И Кожинов не устоял перед соблазном быстро разбогатеть. Вчерашний его жилец, получивший в Москве квартиру, стал для него источником благ, всегда правым, высказывающим мысли, которые Кожинов оспаривать не решался.
Мы много потом говорили о нём с Владимиром Соколовым, тоже любившим его, написавшим стихи, которые Кожинов положил на музыку, тем более что в них была лестная для Димы характеристика: «Пил я Девятого мая с Вадимом, / Неосторожным и необходимым». И Володя Соколов в конце концов расстался с Кожиновым. «Что Селезнёв? – говорил он мне. – Слышал бы ты, как Дима разговаривал по телефону с Глушковой. – За тридцать лет нашего знакомства я не наберу по весу столько сахара, сколько он высыпал на эту курву».
Злобные статьи поэтессы Татьяны Глушковой о поэзии, о критике, о литературоведении одно время привлекали к себе внимание литературной общественности. Особенно, когда она обрушивалась на Ахмадулину, которой подражала. Или когда уничтожала Давида Самойлова, нерусского, по её мнению поэта, который осмелился вторгнуться на чуждую ему территорию русской поэзии.
А Соколов имел в виду статью Глушковой, где она ругала Кожинова и одновременно давала свой анализ стихотворения Фета. Анализ Кожинову очень понравился. «Чего она взъелась на меня?» – миролюбиво говорил он мне.
Словом, надеюсь, понятно, почему я перестал встречаться с Вадимом Кожиновым. Он на глазах утратил оригинальность, независимость, прямоту в суждениях.
Я не читал его исторических штудий, которые из номера в номер печатал в девяностые годы «Наш современник». Слышал только, что он открыл в русской истории какое-то хазарское иго, которое было якобы много тяжелее для русского народа, чем татарское. Потом слышал уже от него о хазарском каганате, когда Кожинов выступал на семинаре поэтов, которым мы с Юрием Кузнецовым руководили на высших литературных курсах при Литинституте. Вадим утверждал, что совсем недавно нашли какие-то записки руководителей хазарского каганата, где они, исповедовавшие иудейскую религию, приказывали приобщить к ней и народ Древней Руси. «И на каком языке написаны эти записки?» – спросил я. «Разумеется, на иврите», – ответил он.
Ну что на это можно было сказать? Ведь хазары – это тюркское племя, у которого был свой, вовсе не древнееврейский язык. А думать, будто все, принявшие иудаизм, говорят на иврите, то же самое, как считать, что православные говорят только по-гречески. «Жулик!» – вспомнил я, как отзывались о Кожинове мои друзья. И с сожалением с ними согласился.
* * *
Моё знакомство с Иосифом Марковичем Машбиц-Веровым, родившимся 5 июля 1900 года, было коротким. Оно уложилось в несколько командировочных дней. Вместе со мной в Куйбышев от «Литературной газеты» был послан поэт Владимир Дагуров. Володя получил задание посмотреть стихи куйбышевских поэтов на предмет публикации. А мне ничего смотреть было не надо. Я ехал не от газеты, а от союза писателей РСФСР. Включил меня в делегацию бывший воронежский поэт Миша Шевченко, тогда работник аппарата, а позже ставший секретарём.
Нас посылали для выступлений не только в Куйбышеве, но главным образом в новом городе Тольятти, где совсем недавно пустили первую линию автомобильного завода.
Ещё не сомкнулись волжские воды над затопленными зданиями исчезнувшего с карты города Ставрополь-на-Волге, часть которого и стала Тольятти. Ещё не снесли гулаговских бараков, где жили заключённые, строившие Куйбышевскую ГЭС. Вот и показали нам и затопление, и один из таких бараков. Через два года я был в ГДР, видел барак, оставшийся от гитлеровского концлагеря в Бухенвальде. Сравнивал с тем, что видел под Куйбышевом. Похожи!
Ну, а Машбиц-Веров тут причём?
А при том, что он председательствовал на научной конференции, которая состоялась в рамках нашей поездки. Конференцию организовал Куйбышевский пединститут, где Иосиф Маркович был профессором и, кажется, заведовал кафедрой.
Конференция увязывалась с посещением Тольяттинского автозавода и была посвящена теме рабочего класса в советской литературе. Скучнейшая, конечно. С барабанными докладами и деревянными прениями. И Машбиц-Веров мало чем отличался от остальных её участников.
Может быть, я с ним и знакомиться не стал бы, если б не банкет. Он был дан силами института и местного отделения союза писателей. И потому выпивки стояло много, а когда водка была выпита, принесли ещё.
Вот здесь, хорошенько, как говорится, приняв на грудь, я стал вспоминать увиденный мною лагерный барак: как же там размещались на трёхэтажных нарах, неужто не замерзали в щелястом саманном строении? Или оно уже сейчас дыряво, а прежде всё было замазано?
Было шумно, но старичок-профессор, находившийся неподалёку от меня, услышал. Подошёл ко мне и обстоятельно ответил на все вопросы.
Не отказался от моего предложения выпить ещё. И ответил на новый мой вопрос: откуда ему всё это известно?
А он в таком лагере провёл немало времени, объяснил Машбиц-Веров. Взяли его в 1938-м. Осудили в 40-м. Дали восемь лет исправительно-трудового. А в 42-м сперва приговорили к расстрелу, но потом заменили десятью годами.
– Сколько же вы просидели? – спросил я.
– Это в тюрьме сидят, – усмехнулся Машбиц-Веров. – А в лагере не посидишь. Считайте. В 38-м арестовали, а в 54-м освободили. Реабилитировали в 55-м.
– Шестнадцать лет! – ахнул я.
– Да, – сказал старичок и назидательно поднял палец: – По ложному доносу!
– А вам сказали, кто доносчик? – спросил я.
– А я им сам догадался, – ответил Машбиц-Веров. – Работал у нас мерзавец, был зам секретаря парткома. Как раз перед арестом завёл со мной разговор: почему я не вступаю в партию, надо вступать: ведь я же на идеологической работе.
– Обещал дать рекомендацию, – осклабясь, добавил Иосиф Маркович.
– Так и не вступили, – поддержал я эту угрюмую шутку.
– Вступил, – сказал Машбиц-Веров и на моё удивление ответил: – Потому что партия за таких мерзавцев не отвечает, потому что правда на её стороне, и палачам меня в этом переубедить не удалось!
Признаться, я сначала ошалел от такого пафоса. А потом подумал, кто я такой, чтобы судить этого старичка!
Здесь подошёл лучезарно улыбающийся Володя Дагуров. А я знал, что последует за такой его улыбкой.
– Ещё? – спросил я Володю.
– Правильно, – ударил он меня по плечу. – Пошли, я тебя познакомлю с одним поэтом.
И я распрощался с Иосифом Марковичем, который прожил после этого относительно долго: скончался 17 декабря 1889 года.
* * *
Алёша Дидуров! Алексей Алексеевич Дидуров, скончавшийся 5 июля 2006 года (родился 17 февраля 1948-го). Поэт, драматург, бард. Создатель и ведущий рок-кабаре «Кардиограмма», где кто только не выступал: и Булат Окуджава, и Таня Бек, и Юлик Ким, и Володя Вишневский, и Женя Рейн. А ещё Виктор Цой, Александр Башлачёв, Юрий Шевчук и, как говорится, т.д. и т.п.
Мы познакомились с ним в журнале «Юность», где он в начале семидесятых работал в отделе публицистики.
Незадолго до его смерти мы сидели с ним в нижнем буфете ЦДЛ. И он сказал: «А знаете, Гена, я готов умереть. Мне только жалко своих планов на будущее».
Типичное стихотворение Алёши:
Я знаю, все договорятся, Отыщут умные слова. И перестанут притворяться, И все заборы – на дрова… И будет мир сплошным газоном. И уходить с него не смей! А над тобой с улыбкой сонной О, пусть летит бумажный змей! Все, как вином, напьются правдою. И даже мётлы расцветут. И всех любимых пересватают, А нелюбимых – разведут. Непонятости злые муки Не будут впредь терзать умы, И наши внуки… наши внуки… Ты мне кладёшь на плечи руки, Смеёшься: «Да, уже не мы…»Эти стихи положил на музыку Юрий Лоза. Но мне они нравятся без мелодии. Точнее у них – своя, не раскрытая композитором мелодия.
* * *
2 марта 1932 года Корней Иванович Чуковский записывает в свой дневник: «Умер Полонский. Я знал его близко. Сегодня его сожгут – носатого, длинноволосого, коренастого, краснолицего, пылкого. У него не было высшего чутья литературы; как критик он был элементарен, теоретик он тоже был домотканый, самоделковый, стихов не понимал и как будто не любил, но журнальное дело было его стихией, он плавал в чужих рукописях, как в море. Впрочем, его пафос, пафос журналостроительства, был мне чужд, и я никогда не мог понять, из-за чего он бьётся. Жалко его жену Киру Александровну».
Строг Корней Иванович и справедливо строг. Вячеслав Павлович Полонский, родившийся 5 июля 1886 года, ярким критиком не был. Но чуждый Чуковскому пафос журналостроительства действительно охватывал Полонского, когда он был редактором «Красная новь», «Прожектор», главным редактором журналов «Новый мир» и «Печать и революция». Полонский очень заботился о подписке на свои издания и потому находил авторов ярких, щедро предоставляя им журнальную площадь.
Надо учесть, что и в двадцатых годах действовала введённая большевиками цензура. Редактор Полонский умел проводить свой журнальный корабль сквозь цензурные плотины.
И добивался роста тиража. При нём «Новый мир» был самым тиражным советским изданием.
Кстати, именно Полонский напечатал в «Новом мире» «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, которая вызвала скандал сразу же после выхода журнальной книжки. Тираж допечатать не успели. И подписчики в неразошедшейся части тиража вместо повести Пильняка читали повествование А. Сытина о борьбе с басмачеством «Стада Аллаха».
А журнал «Печать и революция» Полонский сделал трибуной для литературных дискуссий. Здесь высказывались разные оценки о том или ином произведении, о том или ином периоде литературы, сшибались разные мнения, и эта борьба великолепно запечатлевала современную Полонскому литературную реальность.
Время большого террора Полонский не застал: умер, как уже сказано в 1932-м (правда, 24 февраля: Чуковский написал о его смерти несколько позже). Но с жёсткостью твердеющего режима столкнулся. В 1927 году его исключили из партии. Так откликнулось ему руководство в Гражданскую войну (1918-1920) литературно-издательским отделом политуправления Красной армии. А в то время руководители отделов политуправления армии подбирались Троцким.
Кстати, на правах старого знакомого он пишет Троцкому письмо и добивается назначения пособия бедствующему Фёдору Сологубу.
Через несколько месяцев после исключения Полонского в партии восстановили, но не приходиться сомневаться, что близость к Троцкому ему не забыли бы, как и то, что, вступил он в революционное движение в 1905 году как меньшевик.
Словом, со смертью ему повезло. Его книг не изымали из библиотек, не переводили в спецхран. Имя его не замалчивалось до полной немоты. Но, с другой стороны, его интереснейший дневник смог увидеть свет только в 2008 году, когда его почти целиком напечатал «Новый мир» в шести номерах (1-6).
* * *
Библиография книг, переведённых Натальей Леонидовной Трауберг, родившейся 5 июля 1828 года, настолько велика, что диву даёшься, как она успевала. Пэлем Гренвил Вудхауз, Гилберт Кий Честертон, Клайв Стеллз Льюис, Грэм Грин, Дороти Сейерс, Френсис Бернетт, Пол Геллико – это с английского. Хосе Ортега-и-Гассет, Фредерико Гарсиа Лорка, Хулио Кортасар, Мануэль Скорса, Марио Варгас Льоса, Мигель Анхель Астуриас, Хосемария Эскрива, – с испанского. Эса ди Кейрош и Лима Баррето – с португальского. Эжен Ионеско – с французского, Луиджи Пиранделло – с итальянского. Причём многие из этих авторов стали известны в России благодаря переводам Трауберг.
И при этом Наталья Леонидовна преподавала в Библейско-богословском институте имени святого апостола Андрея. Регулярно вела передачи на радиостанции «София».
Список авторов велик. Но изумление подвижническим трудом переводчика возрастает, когда мы узнаём, что у одного только Вудхауза Трауберг перевела девять книг, у Геллико – четыре, у Питера Крифта – четыре, у Льюиса – четырнадцать, в том числе и знаменитые «Хроники Нарнии», две книги Сирила Наркота Паркинсона, среди которых «Законы Паркинсона», двадцать одну книгу Честертона, его духовные труды и рассказы о патере Брауне, шесть книг Астуриаса, четыре – Анны Марии Матути, три – у Камело Хосе Села, две у Луиджи Пиранделло. А ещё «Носороги» Ионеско, ещё – восемнадцать произведений разного жанра Адольфа Густава Беккера.
Неутомимая!
А при этом ещё огромное количество публицистики, к которой Наталья Леонидовна относилась очень серьёзно. Близким её другом был отец Александр Мень, о котором она оставила яркие воспоминания.
Умерла 1 апреля 2009 года.
* * *
Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?
Хлестаков. Да, это моё сочинение.
Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.
Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.
Жена и дочь Городничего вряд ли были страстными любительницами чтения. Но Гоголь заставил их говорить о романе Михаила Николаевича Загоскина «Юрий Милославский», воссоздавая современные ему реалии. Гоголь хорошо знал, как невероятно популярен был этот роман. Его читали даже в таких медвежьих уголках страны, откуда, как говорит персонаж «Ревизора», «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».
Михаил Николаевич Загоскин, скончавшийся 5 июля 1852 года, до «Юрия Милославского» написал и поставил несколько пьес, которые пользовались успехом. Их автор внушал уважение и своей биографией. В 1812-м он записался в Петербургское ополчение, вступившее в бой с французами под Полоцком. Полоцк русская армия взяла, а Загоскин был ранен в ногу и получил орден Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость». После лечения провоевал до 1814 года.
Кроме драм Загоскин писал ещё и стихи. Написал даже комедию в стихах «Урок холостым, или Наследники».
Но роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» превзошел по успеху у читателя все прежние сочинения Загоскина. Белинский назвал его сочинение «первым хорошим русским романом». Пушкин писал Загоскину:
«Прерываю увлекательное чтение Вашего романа, чтоб сердечно поблагодарить Вас за присылку «Юрия Милославского», лестный знак Вашего ко мне благорасположения. Поздравляю Вас с успехом полным и заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи. Все читают его. Жуковский провёл за ним целую ночь. Дамы от него в восхищении. В «Литературной газете» будет о нём статья Погорельского. Если в ней не всё будет высказано, то постараюсь досказать».
Статья Погорельского в «Литературной газете» не появилась. Вместо неё появилась рецензия самого Пушкина, который продолжил свои похвалы:
«Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши – всё это угадано, всё это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной весёлости в изображении характеров Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея! Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, останавливается на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя. Разговор (живой, драматический везде, где он простонароден) обличает мастера своего дела».
(«Шиши» – это не большие пальцы, помещённые промеж указательных и средних, а лазутчики.)
Правда, на похвалах Пушкин не останавливается. Указывает и на недостатки романа. Но в целом Пушкин оценил роман Загоскина весьма положительно.
Вслед за «Юрием Милославским», вышедшим в 1829 году, последовал новый роман Загоскина «Рославлёв, или Русские в 1812 году» (1831), упрочивший успех Загоскина у читателей. Его избирают действительным членом Российской академии, а когда она присоединяется к академии наук, Загоскин становится почётным академиком по отделению русского языка и словесности. Ему 42 года (родился 25 июля 1789 года).
Он пишет роман о временах князя Владимира «Аскольдова могила» (1833). Но с этим романом происходит осечка. Его встречают холодно. И Загоскин на время прекращает писать на исторические темы. Его повести на темы современности в общем встречены неплохо. Но не сравнишь с тем, как встречали «Юрия Милославского».
В дальнейшем Загоскин вернулся к исторической теме. Написал романы «Кузьма Петрович Мирошев» – о времени Екатерины II (1842), «Брынский лес» – о начальной поре правления Петра (1846), «Русские в начале восемнадцатого столетия» (1848). Все они были хорошо приняты критикой и читателями.
А что до «Аскольдовой могила», то на её основе Загоскин написал либретто для оперы композитора А.Н. Верстовского. Она была поставлена в 1835 году и пользовалась не меньшей популярностью, чем романы Загоскина. Популярна она и по сей день.
6 ИЮЛЯ
Один из рано умерших писателей, с которым я дружил, – Борис Исаакович Балтер, родившийся 6 июля 1919 года.
Боря и ещё один мой друг – Лёва Кривенко были очень близки с Паустовским, который их, фронтовиков, выделял ещё, когда руководил семинаром прозы в Литературном институте.
Балтер участвовал в обеих войнах – в финской и Великой Отечественной. Командовал полком дивизионной разведки. Кончил войну майором. Поступил в академию имени Фрунзе. И даже год (1945-1946) в ней отучился. Но был отчислен. Официально по болезни. Но, как писал он сам, «незадолго до войны меня убедили, что я нужен армии и должен избрать военную профессию пожизненно. Она бы и была пожизненной. Но на войне меня не убили. А после войны офицеров осталось больше, чем нужно было в армии в мирное время. Мне предложили выбирать новую пожизненную профессию по моему усмотрению…». Почему предложили именно ему, Борис не сомневался: из-за пятого пункта, то есть из-за национальности. После войны набирала обороты политика государственного антисемитизма. Майор, пришедший в академию, должен был выйти из неё полковником. Руководство академии этого позволить Балтеру не захотело.
Борис поступил в Литературный институт. Учился в нём (1948-1953). За год до окончания в альманахе «Владимир» напечатал повесть «Первые дни» – о начале войны. Она потом вошла в первую книжку Балтера (1953). Ни повесть, ни книжка не были художественно совершенны. Но в них была правда войны, которую уже тогда пытались замолчать. Тем более начало войны. Словом, повесть не заметили. Институт Балтер окончил как раз в тот момент, когда евреев на культурную (она считалась идеологической) работу не брали.
И здесь Балтеру помог однокурсник хакас Михаил Кильчичаков. Он замолвил слово за товарища в Хакасском обкоме. Борису дали жилплощадь в Абакане и назначили заведующим отделом в хакасском НИИ языка, литературы и истории. На этом посту он обрабатывал подстрочники хакасских сказок. В переводе, литературной обработке и с предисловием Балтера вышли «Хакасские народные сказки» и две книги исторических повестей о прошлом хакасского народа «Степные курганы» и «О чём молчат камни».
В Москву он переехал благодаря Виктору Полторацкому, который, став главным редактором только что открывшейся газеты «Литература и жизнь», предложил Борису место репортёра.
Но долго на этом месте Балтер не пробыл. Он не умел приукрашивать действительность. «Правда всегда горьковата, – писал Борис своему учителю Паустовскому. – Я благодарен Вам за то, что люблю этот привкус». Он-то любил и писал, что видел. А редакцию это не устроило. Он перешёл в «Литературную газету» на нештатную работу при знаменитом в ту пору отделе литературы. Отвечал на письма вместе с Наумом Коржавиным и Владимиром Максимовым. С ними и с работниками отдела Лазарем Лазаревым, Бенедиктом Сарновым, Станиславом Рассадиным Борис сохранил дружбу на всю жизнь.
Известность принесла ему повесть «До свидания, мальчики!», опубликованная в «Юности» в 1962 году (Балтер назвал её по строчке из песни Булата Окуджавы, с которым дружил). Точнее, она была републикована. Потому что за год до этого появилась в разгромленном властями сборнике «Тарусские страницы» под названием «Трое из одного города». Справедливости ради, отмечу, что Балтер сменил в ней не только заглавие, но существенно её переработал.
Я хорошо помню, как трудно было взять в библиотеках журнал с этой повестью. На него записывались в очередь. Вышедшая отдельной книгой в 1963 году повесть на полках магазинов не лежала. Скупали, как только узнавали о поступлении в магазин!
Повесть «До свидания, мальчики!» была переведена на многие языки мира.
Балтеру предложили встать на учёт в партийную ячейку «Юности» («Я вступил в партию не для карьеры и не ради того, чтобы мне легче жилось, – писал Борис. – В феврале 1942 года под Новоржевом 357-я стрелковая дивизия попала в окружение. В этой обстановке самой большой опасности подвергались коммунисты, войсковые разведчики и евреи. Я был начальником разведки дивизии и евреем. Тяжело раненный, я вступил в партию»). Началась недолгая эпоха его триумфа. Вместе с В. Токаревым он написал пьесу по мотивам повести. Она шла во многих театрах. Вместе с кинорежиссёром Михаилом Каликом Балтер написал по мотивам повести сценарий. В фильме «До свидания, мальчики!» Михаила Калика трёх друзей сыграли Евгений Стеблов, Николай Досталь и Михаил Кононов. Причём для Стеблова и Кононова это были дебютные роли. А Н. Досталя знали до этого, как режиссёра.
В октябре 1965-го «Юность» напечатала рассказ Балтера «Проездом». Рассказ был данью популярности Балтера, но её не укреплял. Читатели ждали новых публикаций.
И не дождались. В 1968 году Балтер подписал письмо советскому руководству в защиту арестованных Юрия Галанскова и Александра Гинзбурга. Руководство приказало первичным партийным организациям разобраться с коммунистами, подписавшими письмо. Ячейка «Юности» фактически выступила в защиту Балтера. «Для меня, – сказал, например, будущий министр культуры России, а тогда заведующий отделом критики журнала Евгений Сидоров, – майор Борис Балтер являет собой пример подлинного коммуниста». Получив выговор, Боря отправился в райком партии, где его спросили, кто ему дал подписать письмо и кто передал письмо западным корреспондентам. Категорически отказавшись сообщить, кто дал ему подписать письмо, на второй вопрос Балтер, усмехнувшись, ответил, что это ни для кого не является секретом и что на Запад подобные материалы передаёт известный стукач Луи Филипп.
У Бориса была смешная привычка путать имена и фамилии. Вот и здесь. Он назвал имя французского короля по созвучию. Имя и фамилия стукача, работавшего в АПН, была Виктор Луи.
Разумеется, не эта путаница побудила райком исключить Балтера из партии. Борис вёл себя на том заседании вызывающе. Не только не повинился, хотя его упрашивал об этом секретарь партбюро «Юности» Натан Злотников, но сказал, что, подписав письмо, он поступил согласно своей партийной и гражданской совести.
В СССР исключение из партии подчас было исключением из жизни. Особенно, когда речь шла о писателях. Печататься под своим именем Балтер больше не мог. Все заключённые с ним договоры были расторгнуты. Друзья нашли для него выход. Ему давали подстрочники прозы писателей национальных республик. И он обрабатывал их. Чаще всего под именем кого-нибудь из друзей, который потом получал и отдавал ему деньги за перевод.
Неподалёку от подмосковного дома творчества писателей «Малеевка» в деревне Вертушино Борис приобрёл старый дом, который перестроил вместе с мастерами. Там мы с ним встречались, когда я приезжал в Малеевку.
Там Борис и умер 18 июня 1974 года.
* * *
Родившийся в Париже 6 июля 1934 года Никита Игоревич Кривошеин оказался в Советском Союзе в 1947-м, приехав со своими родителями на их родину, откуда они бежали после Октябрьской революции.
После Второй Мировой многие эмигранты поверили сталинскому прощению и дарованной Сталиным милости вернуть им гражданство.
Семья репатриантов Кривошеиных по возвращении была направлена в Ульяновск. Там Никита работал на заводе, одновременно учась в вечерней школе рабочей молодёжи, которую закончил.
Его отец Игорь Александрович Кривошеин, побывавший во время оккупации Франции в гитлеровских концлагерях Бухенвальде и Дахау, очень быстро заинтересовал компетентные органы, которые его арестовали и отправили отбывать наказание в ту самую шарашку в Марфине, где сидели Копелев, Солженицын, Панин. Копелев очень интересно рассказал о нём в книге «Утоли моя печали».
Никита же Кривошеин окончил Московский институт иностранных языков и в августе 1957 года был арестован за напечатанную во французской газете неподписанную статью о подавлении советскими войсками венгерского восстания.
Был в мордовских лагерях, где содержали политзаключённых.
Освободившись, прописался в калужском городке Малоярославце. Десять лет (1960 – 1970) работал письменным и синхронным переводчиком. Добивался разрешения выехать назад во Францию.
В 1971-м ему это разрешили.
С тех пор занимается переводами русской литературы на французский язык, печатает рассказы, статьи, публицистику во Франции и в России. Был активным автором сетевого «Ежедневного журнала», к которому сравнительно недавно власти очень усложнили доступ.
Стал одним из персонажей документального фильма в пяти сериях М. Демурова и В. Эпштейна «Не будем проклинать изгнание».
* * *
Столкнувшись в декабре 1825-го с бунтом, император Николай I, родившийся 6 июля 1796 года, остался навсегда им напуганным. Его цербер Бенкендорф озвучил для Пушкина, написавшего по просьбе Николая записку «о народном воспитании», мнение царя: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному».
Любопытная закономерность, правда? Как только самодержец или избранный президент поведут дело к самодержавию, они обязательно обрушатся на просвещение! Чувствуют, кто и что может помешать их планам!
Напомнив о том, что его брат и предшественник Александр I не дал крестьянам волю, Николай сказал: «Я тоже никогда на это не решусь […] в настоящую эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства».
Лицедей, он начертал на рапорте о тайном переходе двух евреев через реку Прут: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне её вводить!»
Наконец, его речь перед депутатами петербургского дворянства 21 марта 1848 года: «У меня полиции нет, я не люблю её: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит».
Так что совершенно справедливо и поделом П.А. Валуев, будущий глава правительства Александра II, в своей «Думе русского» обрисовал угрюмое казарменное николаевское правление: «Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания […] Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах […] Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Узаконениями о службе гражданской сглажены, по мере возможности, все различия служебных достоинств, и все способности подведены под мерило срочных производств и награждений».
Как видите, история повторяется. И не по одному разу. И не обязательно как фарс!
О его смерти 2 марта 1855 года утверждают разное. Одни считают, что это была естественная смерть, другие, что он покончил самоубийством, проиграв крымскую кампанию.
* * *
С Василием Павловичем Аксёновым, умершим 6 июля 2009 года (родился 20 августа 1932-го), я познакомился в начале шестидесятых в «Юности». Он дружил с критиком Станиславом Рассадиным, который был и моим другом. Одно время они с Рассадиным были не разлей вода. Даже вместе писали от Васиного имени статью в «Правду», после того как Хрущёв на встрече с интеллигенцией обрушился на Аксёнова, заподозрив, что тот выступает мстителем за репрессированных родителей. «Правда» предоставила тогда возможность оправдаться обруганным Хрущёвым на той встрече писателям.
А потом Вася опубликовал в «Литературной газете» сатирический рассказ, герой которого был литературным критиком по фамилии Рассолов. И Рассадин с Аксёновым рассорились навсегда.
На наших с Васей отношениях их ссора не отразилась. Мы хорошо относились друг к другу. В то время Аксёнов был женат на Кире, родственнице моего старшего друга – Владимира Михайловича Померанцева, и мы встречались и у Владимира Михайловича, жившего у метро «Семёновская».
Ранние произведения Аксёнова «Коллеги», «Звёздный билет», «Апельсины из Морокко», «Пора, мой друг, пора» мне нравились. Конечно, в них был налёт ремаркизма, в чём упрекали Василия критики. Но Вася писал, не отступая от исторической правды: мы все тогда увлеклись освобождёнными от сталинских запретов и возвращёнными нам Ремарком и Хемингуэем. Так что это не Аксёнов подражал Ремарку, а его герои. Вася же зафиксировал в своих романах время.
Но потом большие вещи Аксёнова мне нравиться перестали. Началось это с «Затоваренной бочкотары» и продолжалось до самого отъезда Васи из СССР в 1980 году.
Ни «Ожог», который мне дал почитать сам Аксёнов, ни самиздатовский «Остров Крым» меня не увлекли. Ему я это не говорил, но мне кажется, что он это почувствовал. Однако на наших отношениях это не сказывалось.
Зато я очень любил его рассказы. «На полпути к луне», «Папа, сложи!», «Победа», «Местный хулиган Абрамашвили». Я носился с ними как с писанной торбой. Всем их рекомендовал. Хвалил их автору. И Вася чувствовал, что я не кривлю душой.
При мне в писательском доме творчества в Дубултах Гриша Поженян, Овидий Горчаков и Аксёнов сочиняли роман-пародию на западный боевик. Гриша и Вася приносили мне написанные главы. Я отнёсся к ним без восторга. Потом книга «Джин Грин – неприкасаемый» была напечатана под коллективным псевдонимом Гривадий (ГРИша+ ВАся+ овиДИЙ) Горпожакс (ГОРчаков+ПОЖенян+АКСёнов). Но я её целиком так и не прочёл.
Как известно, Аксёнов уехал в Америку в 1980 году после того, как выступил одним из редакторов-составителей неподцензурного альманаха «Метрополь». Позже Феликс Кузнецов, первый секретарь московской писательской организации и ретивый погромщик талантливых людей, утверждал, что Аксёнов сознательно спровоцировал скандал, который ему был выгоден на Западе. Это ложь. Вася был человеком добрым и бескорыстным. Никаких сценариев заранее не проигрывал. Его имя на Западе значило много и без «Метрополя». А его не опубликованные в СССР книги «Золотая наша Железка», «Ожог» и «Остров Крым» нашли своего издателя и читателя в Америке как раз тогда, когда он в неё приехал.
Там Аксёнов работал профессором русской литературы в разных университетах. Больше всего на последней своей работе в университете Джорджа Мейсона в Виргинии, где начал читать лекции за два года до возвращения ему советского гражданства и куда приезжал преподавать и после того как вернулся в СССР.
На Западе, кстати, он продолжал проявлять свою удивительную работоспособность. Написал пять или шесть романов. Рассказы. Кстати, выучил английский настолько, что смог писать и на нём. Его роман «Желток яйца» был первоначально написан по-английски. Вася потом перевёл его на русский.
Последним законченным романом Аксёнова стала «Таинственная страсть». Она издана с подзаголовком «Роман о шестидесятниках». Здесь Аксёнов поступил, как Катаев: укрыл под прозрачными псевдонимами легко узнаваемых мастеров литературы и культуры шестидесятых годов.
* * *
Лев Васильевич Пумпянский умер 6 июля 1940 года (родился 5 февраля 1981-го).
В 1918-1919 гг. жил в Невеле, преподавал литературу в Невельской единой трудовой школе и участвовал в деятельности Невельского философского кружка вместе с другими учёными М.М. Бахтиным и М.И. Каганом.
В 1921-1924 гг. преподавал литературу в Тенишевском училище Петербурга. Участвовал в работе сектора по изучению русской литературы XVIII века в ИРЛИ РАН (Пушкинском доме).
По делу религиозного кружка «Воскресенье» был арестован в 1928 году, но через непродолжительное время выпущен: компромата на Льва Васильевича следователи не нашли.
В 1934 году Пумпянский – профессор Ленинградской консерватории, а в 1936-м – профессор филологического факультета Ленинградского университета.
Был выдающимся исследователем литературы XVIII века и творчества её основателей – Ломоносова, Тредиаковского, Кантемира. Оставил замечательные труды по творчеству Пушкина, Лермонтова и Тютчева, по истории русского классицизма и сентиментализма.
Считается, что отдельные черты Пумпянского изображены в образе Тептелкина в романе К.К. Вагинова «Козлиная песнь» и в Пупочке – персонаже романа философа А.Ф. Лосева «Женщина-мыслитель».
Пумпянский оставил нам в своих записях лекции и выступления М.М. Бахтина 1924-1925 гг. Есть они в Интернете.
7 ИЮЛЯ
«Книга эта – попытка взглянуть на христианство глазами светского, нецерковного человека, найти такие слова и подходы, которые могли бы помочь взаимопониманию христиан и неверующих. Лишь позднее Желудков узнал, что он излагает те же идеи, что и некоторые теологи Запада, например Дитрих Бонхеффер («секулярное христианство») и Карл Ранер («анонимное христианство»). Со строго церковной точки зрения в книге С.[ергея] А.[лексеевича] есть немало спорных мест. Любой православный богослов мог бы многое возразить на его экспериментальное изложение христианства. Мне самому приходилось с ним много спорить. Но, думается, не правы те, кто считал его чуть ли не еретиком. Согласно православной традиции, еретик – это тот, кто сознательно и упорно противопоставляет свои взгляды церковному учению, принятому на Вселенских Соборах. У Желудкова такого намерения не было. Он лишь ставил вопросы, как бы приглашая собеседников и оппонентов к дискуссии. Не раз он говорил мне, что хочет «выбить искру», вызывая спор, подвергая сомнению устоявшееся и привычное. Умственные сомнения, поиск истины он не считал грехами при всей рискованности многих своих идей оставался христианином».
Так писал отец Александр Мень о книге отца Сергия Желудкова «Почему и я христианин».
Сергей Алексеевич Желудков родился 7 июля 1909 года. В 1928 году, окончив восемь классов, поступил в Духовную Академию – единственное религиозное учебное заведение, которое разрешили большевики. Разрешили, потому что эту школу открыли в 1923 году «обновленцы». Так называли тех священников, кто пошёл на сотрудничество с советской властью. Сперва они упразднили патриаршество за «монархический и контрреволюционный способ руководства Церковью», перешли на григорианский календарь и ввели институт белого (женатого) епископата. Но потом поумерили прыть. Поняв, что верующие не одобряют их реформы, «обновленцы» разрешили использовать как грегорианский, так и юлианский календари, отменили объявленные прежде реформы уклада церковной жизни. Однако демонстративно провозглашали свою лояльность новой власти, которая создавала видимость дискуссии с ними. В те годы многих привлекали диспуты между Луначарским и главой «обновленцев» Александром Введенским.
Желудков не окончил Академии. Но годы учёбы в ней были для него не вовсе бесполезны.
После войны, когда легализовалась Московская Патриархия, Желудков поступил псаломщиком в нижнетагильскую церковь. В мае 1946 года принял сан священника. Поступает и в 1954 году заканчивает ленинградскую духовную семинарию. Его постоянные перебрасывания из прихода в приход – в Челябинск, в Псков, в Тулу, в Смоленск – показывают, что церковные иерархи были раздражены свободомыслием иерея и искали повод освободиться от него.
Повод нашёлся: в 1959 году отец Сергий Желудков вступился за больную девушку, которая утверждала, что получила излечение после молитвы у гробницы блаженной Ксении. Слухи о чудесном её излечении распространялись с огромной скоростью. От девушки потребовали отречения. А отца Сергия уволили за штат.
Последние годы жизни Сергия Желудкова прошли в Пскове. Он сблизился с правозащитниками, переписывался с Солженицыным, Сахаровым, стал членом «Эмнисти интернэшнл».
А книга «Почему и я христианин» возникла на основе переписки Сергея Алексеевича со многими людьми, которых волновали вопросы, связанные с церковной жизнью, со службой священника и с его языком. Отец Сергий и отвечает на эти вопросы. Его книга стала апологетикой христианства.
Её с пользой для себя прочтут и неверующие. Тем более что отец Сергий Желудков писал в ней:
«Я могу уверенно заключить, что как ни мало сравнительно арифметическое число верующих христиан – принципиальное значение нашей интуиции Личности Христа, Вечного Человека, универсально. Последователи других религий полагают, что мы идеализировали Учителя Иисуса, приписали Ему Божественную Святость. Но они сами почитают Божественную Святость – ту самую, что мы увидели во Христе. И неверующие – не служители зла, а неверующие люди доброй воли, у них нет никакой реальной интуиции и, видит Бог, они в этом не виноваты; но есть у них, как это можно назвать, интуиция ДУХОВНОЙ КРАСОТЫ. Она направляет их лучшие поступки, во всяком случае – их стремления и оценки, – и это та самая, одна и та же, единственная, абсолютная КРАСОТА ПРЕСВЕТЛАЯ, которую явил нам Христос…»
Разумеется, в семидесятые годы, когда она была написана, нечего было и думать о публикации на родине. Книга была напечатана в Мюнхене. В России издана в 1995-м – через одиннадцать лет после кончины замечательного человека и священника, которая настала 30 января 1984 года.
* * *
Литературный критик Владимир Фёдорович Огнев, родившийся 7 июля 1923 года, в шестидесятых и в годы застоя считался человеком прогрессивных взглядов.
Моё знакомство с ним началось с 1963 года, когда я купил его небольшую «Книгу про стихи». Что ж. Дурных поэтов Огнев не хвалил. Хвалил хороших. Правда, о плохих он, как правило, и не писал, но я не сомневался, что их он не любит.
Потом, в «Литературной газете» состоялась и непосредственное наше знакомство. Огнев много писал о литературе стран так называемой народной демократии. Часто ездил туда в командировки от Союза писателей и от нашей газеты. Писал о литераторах из союзных советских республик – о Гамзатове, о Марцинкявичусе, о грузинских писателях.
Меня смущала близость Огнева к Георгию Мокеевичу Маркову – первому секретарю Союза писателей. Марков много способствовал заграничным командировкам Огнева, сделал его чуть ли не своим советникам по литературе стран народной демократии. И всячески поощрял. Хотя бы тем, что Огнев входил в правление большого Союза. А с 1991 года занял Владимир Фёдорович номенклатурный пост президента Литфонда СССР.
Литфонд в писательском фольклоре называли «лифондом» и расшифровывали как личный фонд секретарей Союза.
Дело в том, что был поставлен верхний предел на пособие, которое мог запросить у Литфонда нуждающийся писатель. Я никогда ничего у Литфонда не просил, поэтому боюсь соврать, но, кажется, что верхний был в 1500 или 2000 рублей. Такую сумму Литфонд мог выдать только на условиях займа. Безвозвратная ссуда, полагающаяся нуждающемуся писателю, была много меньше.
Так вот. Рассказывали, что каждый январь правление Литфонда рассматривало просьбу секретаря союза писателей (фамилию я знаю, но не назову, чтобы задним числом не обвинили в клевете) о выдаче ему предельной возвратной ссуды. Разумеется, ссуда ему выдавалась. А в декабре, подводя итоги года, правление снова возвращалось к выданной секретарю ссуде. Было у правления право списывать эти деньги в исключительных случаях. Исключения не прописывались, но понятно, что их легко придумать: тяжёлая болезнь или там какое-нибудь природное бедствие: пожар, например. Легко догадаться, что для секретаря исключение находили. Деньги он не возвращал.
Тот, кто читал «Шапку» Владимира Войновича, помнит об иерархии писателей, которые устанавливал литфонд. Это касалось любого вида обслуживания – от распределения путёвок до распределения дач.
Словом, пост, который занял Владимир Фёдорович, был внушительный и лакомый, после того как Союз писателей СССР приказал долго жить. Руководители Литфонда не церемонились: приватизировали и продавали на сторону былую общую писательскую собственность.
Так и получилось, что московские писатели остались без своей роскошной поликлиники, оборудованной новейшей медицинской техникой. Называли очень крупную сумму, которую поделили между собой после её продажи Владимир Огнев и главный врач поликлиники Евгений Нечаев.
Печально, конечно, но, кажется, что Владимир Фёдорович Огнев останется в истории литературы поступками, не имеющими никакого отношения к самой литературе.
* * *
В 1961 году в библиотеке, доставшейся жене от её родителей, я обнаружил небольшую книгу Лиона Фейхтвангера «Москва 1937», которая в то время была изъята из библиотек и переведена в спецхран, куда вход был по особым пропускам.
Позже я прочитал о судьбе этой книги, понравившейся Сталину. О том, как по приказу Сталина заведующий издательским сектором ЦК ВКП(б) Василий Сергеевич Молодцов обеспечил за одну ночь печать массового тиража книги Фейхтвангера. Позже она исчезла не оттого, что разонравилась Сталину. А потому, что сообщала о некоторых известных тогда фактах, какие Сталин предпочёл не вспоминать. О них уже не было дозволено знать советским гражданам. Например, о том, что Троцкий был организатором Красной армии.
Эренбург в своих воспоминаниях с каким-то мстительным удовлетворением написал, что Сталин легко обвёл вокруг пальца Фейхтвангера, считавшего себя опытным лисом. Я удивился стоявшему за этим подтексту самораскрытию: Эренбурга, стало быть, Сталин не провёл? Тогда вырисовывается не очень симпатичная фигура лакея, знавшего цену хозяину, но беспрекословно исполнявшего все хозяйские прихоти!
Возвращаюсь к моему первому чтению книги «Москва 1937». Истины она мне не открыла. Я читал ещё старшеклассником стенограммы процессов Бухарина, Рыкова и других, которые сохранял старший брат моего отца. Но личность Фейхтвангера, родившегося 7 июля 1884 года, мне пришлось переоценить. Его романы я прочёл недавно и видел за ними человека, который ищет в истории ответ на вопросы, поставленные перед ним его современностью. Но вот он сталкивается с самой современностью. Перед ним руководитель огромной страны, которую Фейхтвангер посещает во второй раз в момент, когда большинство из тех, с кем он встречался прежде, исчезли:
«Мы говорили со Сталиным о свободе печати, о демократии и об обожествлении его личности. В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам партийного лексикона. Позднее я перестал чувствовать в нём партийного руководителя. Он предстал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь со мной, он всё время оставался глубоким, умным, вдумчивым».
Но как же так! Если ты различаешь шаблонные обороты партийного лексикона, на котором и сам партийный вождь поначалу объяснялся, если, судя по всему, тебе они претят, то почему не задумываешься над тем, кто эти шаблоны внедрил и приказывает им следовать? А если понял, что для самого Сталина общие фразы и шаблонные обороты – маска, которую он при тебе же и снял, то отчего не различаешь его нехитрой двойной игры, его весьма примитивного актёрства? Поддался обаянию? Но историческому писателю такая эйфория не простительна.
Надо сказать, что книга «Москва 1937» сильно повлияла на моё дальнейшее отношение к Фейхтвангеру, умершему 21 декабря 1958 года.
8 ИЮЛЯ
Помню, вызывает меня Кривицкий, заместитель главного редактора. «Геннадий, – говорит, – нужны письма в поддержку присуждения Егору Исаеву ленинской премии. Набросайте три. Одно от имени студента, другое – от рабочего, а третье – вообще из какого-нибудь сибирского региона, подписанное несколькими читателями». Знал, конечно, Евгений Алексеевич, что были у нас в отделе подлинные письма о поэме Егора Исаева «Даль памяти», недоумевающие, возмущающиеся: за что выдвинули эту малограмотную поэму на ленинскую премию? Я сам их Кривицкому показывал. Усмехался в ответ Евгений Алексеевич: вот, дескать, показать бы их Егору, но не вздумайте, Геннадий, не надо! Знал Кривицкий, да и я знал, да и кто из окололитературной публики не знал, что продвигает Исаева сам Михаил Васильевич Зимянин, секретарь ЦК по идеологии. Егорушкой его называет, глазки сладко прикрывает, слушая исаевское чтение.
Три письма накануне созыва Комитета по премиям – такой заказ не оставляет сомнений: премию, стало быть, дают! «Дают! – подтверждает Кривицкий. – Действуйте!»
Или другое воспоминание. Я не помню – зачем, зашёл к поэту Николаю Старшинову, который живёт в писательском доме в Безбожном, рядом с моим – в Астраханском. У Коли включён телевизор, его жена Эмма смотрит программу «Время». Слышим – зовёт Эмма: «Смотрите!» Подходим: по случаю юбилея Егор Исаев удостоен звания героя соцтруда. А вот и он сам. Делится с интервьюершей фактами фронтовой биографии: «Сидим, бывало, с ребятами в землянке, байки травим…» На что Коля сказал: «Верный признак, что Егор не воевал. В землянках офицеры жили, а мы, солдаты, в окопах. Да и какая у Егора война? – он достал с полки тоненькую книжку – первый исаевский сборник стихов и показал мне аннотацию. – Видишь, что написано: «Служил в конвойных войсках в Австрии»?»
Да, и в самом деле – какая война была у Егора Александровича Исаева, умершего 8 июля 2013 года (родился 2 мая 1926-го)? С той войны у него две медали – «За оборону Москвы» и «За победу над Германией». Не густо. Потом уже много позже к юбилею Победы получил, как все фронтовики, орден Отечественной войны II степени…
Но любопытно, что начинал свою войну Егор в войсках НКВД (недаром он закончил её в конвойных войсках!). Первая же операция закончилась для него крайне неудачно. Он принял участие в депортации кавказского народа, но, конвоируя, оступился и упал в пропасть. Потом долго лежал в больнице перед тем, как уехать в Австрию.
Егор был на редкость малограмотным человеком и поэтом. Но его заприметил и стал продвигать Николай Васильевич Свиридов, работавший сперва в ЦК партии, а потом председателем Госкомпечати РСФСР. Убеждённому националисту Свиридову взгляды Исаева очень пришлись по душе, и он не только закрепил Егора на посту заведующего редакцией поэзии издательства «Советский писатель», но и поспособствовал тому, чтобы оброс Исаев необходимыми связями с влиятельнейшими людьми. Вот откуда знакомство Исаева с секретарём ЦК КПСС М. В. Зимяниным, который, как я уже говорил, расположился к Егору, пробил ему ленинскую премию, сделал секретарём большого Союза писателей. Хамоватый Егор никогда не отвечал по телефону на моё «здравствуй», всегда нукал после того, как я представлялся, так что, обнаружив это, я больше с ним не здоровался, а называя себя, немедленно переходил к делу. «Ну что, – лениво-небрежно спрашивал Исаев, – даёт «Литературка» на меня рецензию?» «Спроси об этом Кривицкого», – отвечал я. Свою маловразумительную поэму Егор печатал по частям и жаждал положительного отклика на каждую публикацию. Кривицкий его не разочаровывал. Тем более что, как все хамы, Егор был холуём сильных мира сего. А, как все холуи, набивал себе цену. В разговорах с нашим заместителем главного редактора намекал на связи с такими людьми (куда до них Зимянину!), от чего у Евгения Алексеевича Кривицкого перехватывало дыхание.
Большой кабинет Кривицкого располагался стенка в стенку с кабинетом Сырокомского. Егор однажды, попугав как всегда Евгения Алексеевича, перешёл к чтению отрывков из своей поэмы. Читал Егор долго и очень громко, подвывая в ударных местах. Я, придя к Кривицкому раньше Исаева, слушал чтение с тоской: оно затягивалось, а дело, по которому я зашёл, было срочным. Но распахнулась дверь кабинета – и Сырокомский резко оборвал чтеца: «Это ещё что за концерт в рабочее время?» «Читаю из новой поэмы, Виталий Александрович!» – умильно заулыбался Егор. «Так пригласите Кривицкого к себе домой или сами к нему приходите и там читайте, – жёстко сказал Сырокомский. – А здесь вы мешаете людям работать!»
Он повернулся и вышел, а съёжившийся Егор испуганно посмотрел на Кривицкого, тихо спросил: «Как ты думаешь, он не помешает рецензии?» «Думаю, нет», – ответил Евгений Алексеевич, а когда Исаев ушёл, в сердцах сказал мне: «Вот трепло!» Я понял, о чём он: если б Егор на самом деле тесно общался с теми, о ком он только что ему, Кривицкому, рассказывал, пугаться Сырокомского он бы не стал.
О дружбе Исаева со Свиридовым я узнал от Анатолия Передреева. Толя жил в Грозном, его жена Шема работала в вагон-ресторане фирменного поезда, на котором Передреев частенько приезжал в Москву. Здесь, в Москве, он довольно много печатался, здесь брал в издательствах подстрочники для переводов. Навсегда перебраться в Москву было заветной мечтой Толи и Шемы.
И Егор им помог. После того, как Передреев напечатал в кочетовском «Октябре» статью «Читая русских поэтов», где обругал стихотворение Пастернака «О, знал бы я, что так бывает…», – обрадовал русскую партию.
И Исаева, её активного члена, тоже. Встретив Передреева в издательстве «Советский писатель», он, зав отделом поэзии, зазвал Толю к себе в кабинет, долго дружески с ним беседовал, выведывал, не нуждается ли тот в чём-нибудь. И, узнав, что мечтает Толя о московской прописке, позвонил Свиридову, с которым говорил почтительно, но по-приятельски, посоветовав чиновнику ознакомиться с передреевской статьёй. «Он перезвонит», – сказал Передрееву Исаев после того, как положил трубку.
И действительно. Получаса не прошло, рассказывал мне Толя, как Свиридов позвонил и попросил Егора немедленно направить Передреева к нему.
Так что Егор Исаев имел, разумеется, мощную поддержку в среде партийной номенклатуры. Но хотелось помощнее. Хотелось, чтобы трепетали от одних только называемых им имён людей, с которыми он якобы запросто общается. И он блефовал. Как и в истории со своим участием в войне.
Забавна его судьба в постперестроечное время. Его огромная дача в Переделкине помогла ему обзавестись натуральным хозяйством. Он занялся разведением кур.
В здравом смысле ему не откажешь: понял, что литературой больше не прокормишься. Совсем было смирился с новым своим положением. Но забрезжила надежда на возвращение назад – и замелькал с подборками небольших стихотворений, разумеется, невероятно злободневных – на вечную ещё со сталинских времён тему.
Оцените:
Опять, опять сомноженные силы Всем Западом придвинулись к России, Грозятся с боевого рубежа. Опомнись, ум, осторожись, душа!«Сомноженные» и «осторожись» – это фирменные словечки поэта ещё той удостоенной ленинской премии поэмы «Даль памяти», в сюжет которой так никто и не смог проникнуть, чтобы понять, о чём она написана. Незадолго до смерти тоже написал какую-то поэму, за что немедленно получил ростовскую премию имени Шолохова. Благодарил губернатора. Умильно улыбался.
Но я-то помнил его – самоупоённого, возвышающегося на сцене перед делегатами съезда писателей. «Секцию поэзии, – объявлял им Егор, – поручено вести мне – избранному вашей волей секретарю Союза».
Делегаты мрачно молчали. Они знали, кому обязан Исаев секретарством. Знали, что те, кому он обязан, с их волей не посчитались бы. А если б посчитались, не оказался бы этот графоман в руководителях.
* * *
Великий французский баснописец Жан де Лафонтен родился 8 июля 1621 года (умер 13 апреля 1695-го). Прославился шестью книгами своих басен, которые вышли в 1668 году. В 1684 году за свои басни Лафонтен получает звание академика Французской академии наук изящных искусств. Наряду с древнегреческим поэтом Эзопом считается классиком в басенном жанре.
Его басни оказали огромное влияние на Ивана Андреевича Крылова, который переложил некоторые из них для русского читателя. Эти переложения много раз были предметом сравнительного исследования учёных, высоко оценивавших обоих замечательных баснописцев. Я уже приводил в календаре интереснейшее сопоставление басни «Волк и Ягнёнок» Лафонтена и Крылова в книге Л.С. Выготского «Психология искусства».
9 ИЮЛЯ
Отец известного диссидента Борис Соломонович Мейлах, родившийся 9 июля 1909 года, был вполне лоялен советской власти. За свой труд «Ленин и проблемы русской литературы конца XIX – начала XX века» получил в 1948 году сталинскую премию второй степени. Тут ещё показательна дата: в 1948 году к евреям уже относились… скажем так: недружественно. Правда, показательно и то, что книга Мейлаха «А.С. Пушкин и его эпоха» была издана в 1949 году. А следующая – «Вопросы литературы и эстетики» через девять лет – в 1958-м. Перерыв красноречив: Мейлах был очень работоспособен, писал много. Библиография напечатанных им трудов обширна.
Да и сама биография профессора: в 1941-м исполняет обязанности директора ленинградского Института русской литературы (Пушкинского дома). В 1942-м в эвакуации – в Ташкенте становится главой Ташентского отделения этого института и руководит кафедрой русской литературы в Среднеазиатском госуниверситете. Вернулся в Ленинград. Скорее всего, на должность старшего научного сотрудника ИРЛИ, которую занимал до исполнения обязанности его директора. Правда, он уехал в эвакуацию кандидатом филологических наук, а вернулся доктором (защитил докторскую в 1944-м в Ташкенте). Но нигде никаких сведений о его работе до 1955 года я не нашёл. В 1955-м он профессор Ленинградского университета. Одновременно с преподаванием в 1961-м заведует группой пушкиноведения в составе сектора новой русской литературы ИРЛИ. Дальше – по восходящей: в 1963 – председатель Комиссии по взаимосвязям литературы, искусства и науки, организованной при ленинградском отделении Союза писателей РСФСР. С 1968 возглавлял Комиссию комплексного изучения художественного творчества при АН СССР.
Был ли он хорошим литературоведом? Я сказал бы, что он был добросовестным учёным. Его работы научно взвешены. Скороспелых выводов в них нет.
Он умер 4 июня 1887 года.
* * *
Борис Андреевич Губер, родившийся 9 июля 1903 года, сейчас мало кому известен. А напрасно. Он был одарённым писателем. Его книга «Шарашкина контора» (1924) – словно воскрешает чеховских героев. Во всяком случае, героиня Губера Зинка, уволенная по сокращению штатов и оказавшаяся в деревне, тоскует по оставленной Москве, где только и можно жить, и всё время мысленно туда стремится. А в деревне, изображённой Губером, царят мрак и запустение нравов. В ней жить нельзя.
Губера обвиняли в пессимизме, в искажении советской действительности. И это притом, что Губер сам же советскую власть и устанавливал. Воевал в Гражданскую на стороне красных.
Но последующие его книги так же натуралистичны и бесперспективны.
Вот начало его повести «Осколки» (1927):
«Фомин приехал в этот большой незнакомый город с твёрдой уверенностью, что именно здесь окончатся его мытарства. Чтобы раздобыть денег на дорогу, ему пришлось спустить всё, уцелевшее за долгие месяцы безработицы. Возврата к прежнему уже не могло быть. Но даже это не тревожило его: вместе с распроданным скарбом сгинули последние колебания, и он не сомневался в том, что жизнь начнётся заново, по-хорошему. Да и как могло бы случиться иначе, если Матвей Козырев, старый товарищ и друг, вместе с которым Фомин проработал первые годы революции, занимал в губернии важнейшее, ответственейшее место? Словом, Фомин чувствовал себя прекрасно».
И вот конец этой вещи, где тот же Фомин, полностью разочаровавшийся в своих надеждах, озлобленный на всех и на всё, бьёт в пивной тяжёлой бутылкой по голове одного из собутыльников:
«Фомин стоял, свесив вдоль бёдер руки, машинально сжимая пальцами остатки твёрдого стеклянного горлышка. Он смутно и отдалённо чувствовал, что случилось непоправимое, наступил конец всему – и это нисколько не пугало его. Люди напирали на него плотной живой стеной, толкаясь и вытягивая шеи, смотрели куда-то вниз, на пол. Он тоже хотел посмотреть туда, но не успел: перед ним стоял человек в чёрной шинели, занесённой снегом. У него было доброе, несколько испуганное лицо с молодыми розовыми прыщиками на лбу. – Что же это вы наделали, гражданин? – сказал он укоризненно. И Фомин, услышав его голос, очнулся, понял всё. Он понял, что пришли за ним, и покорно двинулся к дверям, на ходу поднимая воротник и застёгиваясь. Осколки стекла сухо хрустели у него под ногами».
Губер примыкал к литературной группе «Перевал», был дружен с организатором этой группы А.К. Воронским, впоследствии арестованным и уничтоженным чекистами.
Впрочем, пострадал не один Воронский. Уничтожен был и формальный глава «Перевала» Иван Зарубин. И такие его члены, как Артём Весёлый и Иван Катаев. Арестовали и расстреляли 13 августа 1937 года и Бориса Губера.
* * *
ДРУГУ-ПЕРЕВОДЧИКУ Для чего я лучшие годы Продал за чужие слова? Тарковский Нет, мы не годы продавали - Кровь по кровинкам отдавали. А то, что голова болела, – Подумаешь, большое дело… И худшее бывало часто: Считались мы презренной кастой, Как только нас не называли! Друзья и те нас предавали! А мы вторую жизнь давали Живым и тлеющим в могиле. Достанет нашего богатства И на тысячелетья братства. Ты самого себя не слушай, Не ты ль вдувал живую душу В слова, просящие защиты! Так на себя не клевещи ты, Ты с фонарём в руках шагаешь, То там, то тут свет зажигаешь, Как тот же путевой обходчик. … Вот что такое переводчик.Это стихотворение Вера Клавдиевна Звягинцева, скончавшаяся 9 июля 1972 года (родилась 12 ноября 1894-го), написала о себе. Она была тем самым путевым обходчиком, освещая то там, то тут дорогу иноязычных поэтов к русскому читателю. Она познакомила его со многими поэтами, жившими в национальных образованиях Советского Союза.
Особенно много она переводила с армянского, за что благодарные ей армяне установили на её могиле памятник скульптора Самвела Казаряна.
* * *
Разумник Васильевич Иванов-Разумник, скончавшийся 9 июля 1946 года, до революции был близок к эсерам, а после революции – к левым эсерам, с которыми, как известно, большевики образовали коалиционное правительство. Но после убийства немецкого посла Мирбаха, в котором большевики обвинили своих союзников, коалиция распалась, и руководство левых эсеров было отправлено в ссылку.
Разумник Васильевич вместе с Андреем Белым и Сергеем Мстиславским (тоже, кстати, бывшим эсером) редактирует сборники «Скифы» в 1917-1918 годах, где печатает статьи о Есенине, Орешине и Клюеве, которых считает «подлинно народными поэтами нашими», сближается с этими поэтами, дружит с ними.
Но его эсеровское прошлое ему не прощают. Несколько раз, начиная с 1919 года, арестовывают. В последний раз – в 1937-м. Продержали два года в тюрьме, но выпустили.
В октябре 1941 года немцы, оккупировавшие Пушкин (бывшее Царское Село), вывезли оттуда в Германию Иванова-Разумника вместе с женой и поместили их в лагерь для перемещённых лиц. Освободившись, жил сперва в оккупированной Литве, потом в Германии.
Умер в Мюнхене 9 июня 1946 года. Написал о своей жизни после революции книгу «Тюрьмы и ссылки».
* * *
Марк Яковлевич Поляков, автор многих книг о Белинском, казался мне литературоведом из далёкого прошлого. Оказалось, что умер он не так давно 9 июля 2011 году. Но в США, в Пристоне.
Кроме Белинского, Поляков, родившийся 1 апреля 1916 года, писал о Шевченко, о теории драмы и о театре, об исторической поэтике и теории жанров.
На мой взгляд, ему мешало многословие. Каждую его книгу хочется отжать, как отжимают мокрое бельё. Думаю это им пошло бы на пользу. Хотя его ценили такие литературоведы, как Витторио Страда, Роман Якобсон и Глеб Струве.
10 ИЮЛЯ
«Избегай многословия. Отдавай себе ясный отчёт в том, зачем ты вступил в разговор. Говори просто, чётко и понятно. Избегай однообразия речи. Владей основными правилами культуры языка. Умей находить общий язык. Умей не только говорить, но и слушать. Следуй высоким образцам. Помни, что вежливость и благожелательность – основа культуры речевого поведения. Помни, что ты имеешь право нарушить любую заповедь, если это поможет лучше достичь поставленной цели общения».
Эти десять заповедей Татьяна Григорьевна Винокур, родившаяся 10 августа 1924 года, озвучила в интервью, данном ею корреспонденту, в 2002 году.
Но, кажется, следовала им всю свою творческую жизнь.
«Таня, дочь Григория Осиповича Винокура, великого русского учёного, одного из основоположников «московской лингвистической школы», была увезена в эвакуацию осенью 1941-го. В знаменитом писательском Чистополе она страдала, рвалась в Москву и в итоге сбежала оттуда судомойкой на речном военном пароходе», – писала о ней её подруга и одноклассница, искусствовед Нея Зоркая.
Сбежав в Москву, она поступила на теоретическое отделение Московской консерватории, отучившись на нём два года (1942 – 1943). Наверное, это объясняет красивую модуляцию её голоса, о которой говорят многие (к примеру, академик Ю.С. Степанов), слушавшие её передачи «Беседы о русском языке» на «Радио России».
Она, известный лингвист, доктор филологических наук, сотрудница Института русского языка АН СССР, сама интересовалась и умела заинтересовать читателя проблемами стилистики художественной речи и разговорной речи, умела живо рассказывать в своих книгах об истории русского языка.
«Книжка Ваша многому научила меня, – писал ей Корней Иванович Чуковский, – прочитав книгу Т. Винокур «Древнерусский язык». – Я не знал, что капуста происходит от capitum, что верблюд от готтского ulblandis, что первичное значение ноги – копыто».
Кстати, в том же письме К.И. Чуковский опровергает распространённую версию о Достоевском, обогатившем якобы русский язык словом «стушеваться»: «Слово стушеваться не было новообразованием Достоевского. Оно существовало у чертежников – и было обычным в Инженерном училище, где он обучался. Д.[остоевский] только расширил его применение».
Татьяна Григорьевна трагически погибла под колёсами автомобиля 22 мая 1992 года.
* * *
Мать поэтессы Веры Михайловны Инбер, родившейся 10 июля 1990 года, была двоюродной сестрой Льва Троцкого. Это в дальнейшем во многом определило судьбу поэтессы. Тем более что ещё в 1925 году в своём стихотворном сборнике «Цель и путь» она поместила стихотворение, посвящённое Троцкому «Ни колебаний. Ни уклона…». В нём писала:
При свете ламп – зелёном свете Обычно на исходе дня, В шестиколонном кабинете Вы принимаете меня.Троцкий поспособствовал родственнице укрепиться в литературе, где ей жилось поначалу вольготно. С ней дружат литераторы. Прочитав её строчки: «Ой ты гой еси царь-батюшка, / Сруби лихую голову!», Маяковский отозвался озорной эпиграммой: «Ах, у Инбер, ах, у Инбер что за глазки, что за лоб! / Так всю жизнь бы любовался, любовался на неё б!» Её приглашают принять участие в коллективном романе, который напечатан с подачи кольцовского журнала «Огонёк» под заглавием «Большие пожары». Роман заканчивался оповещением: «Продолжение событий – читайте в газетах, ищите в жизни! Не отрывайтесь от неё! Не спите! «Большие пожары» позади, великие пожары – впереди». Для Инбер великим пожаром оказалось смещение её двоюродного дядю со всех постов и высылка его за границу.
Нужно было очень сильно постараться, чтобы Сталин простил ей факт такого родства. И Вера Инбер очень старалась, что и зафиксировал в своём известном «Лексиконе русской литературы XX века немецкий славист Вольфганг Казак: «Инбер начинала как одарённая поэтесса, но растеряла свой талант в попытках приспособиться к системе. Её безыскусно рифмованные стихи порождены рассудком, а не сердцем; её стихи о Пушкине, Ленине и Сталине носят повествовательный характер. Отличительными особенностями поэм Инбер, посвящённых актуальным темам советской действительности, являются однообразие, растянутость; они далеко не оригинальны».
Да, ранние её стихи с последующими сравнения не выдержат. Исчезла страсть, желание высказаться о том, что тебя действительно волнует. Стихи её и проза стали похожи на старательно выполненные ученические задания.
Сталин это оценил. В первое большое награждение писателей в 1939 году Инбер была отмечена. Поскольку все знали, что награждение шло по трём категориям: высшей (орден Ленина), средней (орден Трудового Красного Знамени») и низшей («Знак Почёта»), Инбер отнесли к низшей: она получила орден «Знак Почёта». Но вряд ли была разочарована. Она приняла участие в создании знаменитой книги, которую заказал писателем НКВД, по чьей командировке они ездили на строительство заключёнными Беломорско-Балтийского канала и описали строителей так, как этого желали чекисты. Разными орденами были награждены все участники.
За поэму «Пулковский меридиан», написанную во время ленинградской блокады, и за блокадный дневник «Почти три года» Вера Инбер получает сталинскую премию. Но не расслабляется. Что, конечно, оценивает Сталин, следящий за родственницей своего врага.
В 1943 году её принимают в партию. И в дальнейшем почти постоянно избирают членом парткома писателей.
Кампания борьбы с космополитами её обошла. Зато она не обошла эту кампанию. Выступала на партийных собраниях, громя безродных гадин.
В 1946 году Анне Ахматовой для гарантии выхода её книги предложили обратиться к Вере Инбер, чтобы та написала вступительную статью. Ахматова решительно отказывается.
Сталин умирает, но маска, некогда надетая Инбер, оказывается сросшейся с её лицом. Инбер принимает участие в травле Пастернака, Лидии Чуковской и других прогрессивных писателей. Получает в награду два ордена Трудового Красного Знамени.
Её проза, её стихи последних лет уступают ранним. Правда, она писала ещё детские стихи и очень хорошие. Но потом перестала. Умерла 11 ноября 1972 года.
* * *
Трудно представить себе, что от одной из самых знаменитых французских книг начала XX века – от романа «В поисках Свана», начавшего серию романов под заголовком «В погоне за утраченным временем» писателя Марселя Пруста, отказывались многие издательства, к которым обращался не слишком известный тогда автор, родившийся 10 июля 1871 года. Тем не менее это так. В конце концов, Пруст нашёл издателя, согласившегося выпустить книгу за счёт автора. Интуиция издателей не подвела. Роман «По направлению к Свану», вышедший в ноябре 1913 года, был встречен публикой более чем прохладно.
Началась Первая Мировая. Пруст на неё не попал. В годы войны он продолжает работать над серией романов. Написал пять. Кроме «По направлению к Свану», это были «Под сенью девушек в цвету», «У Германтов», «Содом и Гоморра» (распавшийся потом на «Пленницу» и «Беглянку»), «Обретённое время».
Отношение к Прусту как к писателю меняется. Крупнейшее французское издательство «Галлимар» в 1919-1927 годах выпускает все тома.
И уже после публикации романа «Под сенью девушек в цвету» Марсель Пруст получает престижную Гонкуровскую премию. Интерес к писателю возрастает. А протяжённость публикации «Галлимаром» во времени объясняется тем, что Пруст постоянно вносил правку в свои романы. До самой смерти не считал их совершенными и правил. Умер он неожиданно. Заболел бронхитом, возвращаясь из гостей. Бронхит перешёл в пневмонию. Она и свела его в могилу 18 ноября 1922 года.
Начатый в 1909 году цикл «В погоне за утраченным временем» состоит из семи романов. Лучшие переводы на русский язык принадлежат Николаю Любимову, выдающемуся мастеру художественного перевода. Он блистательно перевёл шесть романов. Последний – «Обретённое время» выходил дважды в разных переводах – А. Кондратьева и А. Смирновой.
После смерти Пруста Грэм Грин назвал его лучшим романистом XX века. А Сомерсет Моэм сказал, что цикл Пруста – лучшее художественное произведение «на сегодняшний день». Моэм умер, а его оценка как бы пролонгирована во времени: Пруст справедливо считается классиком модернизма в литературе.
* * *
Крупным поэтом Михаил Осипович Цетлин, родившийся 10 июля 1882 года, не был. Его стихи, которые он писал как под своей фамилией, так и под псевдонимом Амари, не вызвали особого интереса у критиков. Хотя, как замечала Н. Берберова, в его стихах можно найти сильные строфы.
Сам Цетлин был невероятно скромен. О своих стихах мнения был невысокого. Но в стихи современников влюблялся. Недаром, находясь в эмиграции, организовал в 1915 году в Москве издательство «Зёрна», где выпустил поэтические сборники М. Волошина и И. Эренбурга. В эмиграции он оказался как член партии эсеров, а главное – как член редакционной комиссии эсеровского издательства «Молодая Россия», заинтересовавшего полицию выпуском книг революционного содержания.
После Февральской революции Цетлин вернулся в Россию, после Октябрьской – перебрался к белым в Одессу, потом в Италию. Из неё – во Францию. Основал и был в 1823-1824 годах главным редактором парижского журнала «Окна». Там же в Париже 20 лет – с 1920 по 1940 – заведовал отделом поэзии в журнале «Современные записки». Вместе с женой Цетлин устраивал в своём доме литературно-музыкальные вечера, на которых бывали Бунин, Алданов, Волошин, Мережковский, Ходасевич, Цветаева, Эренбург, Дягилев, Стравинский.
В ноябре 1940-го Цетлин уехал из оккупированной Франции в Португалию, а оттуда в США. Вместе с Алдановым Цетлин основал нью-йоркский «Новый журнал».
Потомок крупного коммерсанта Цетлин много тратил из доставшегося ему наследства на нужды бедных литераторов.
Умер 10 ноября 1945 года. Оставил замечательную библиотеку с уникальными изданиями, которую его вдова Мария в 1960 году передала в дар Еврейской национальной и университетской библиотеке в Иерусалиме. А кроме того вдова пожертвовала Израилю великолепную коллекции живописи и скульптуры, на основе которой создан Музей русского искусства имени Марии и Михаила Цетлиных.
* * *
В альбом малолетнему сыну Петра Яковлевича Вяземского Павлу Пушкин записал замечательное стихотворение «Князю П.П. Вяземскому»:
Душа моя Павел, Держись моих правил: Люби то-то, то-то, Не делай того-то. Кажись, это ясно. Прощай, мой прекрасный.(Ох, не могу отказать себе в удовольствии привести комментарий к этим строчкам моего старшего товарища Симона Львовича Соловейчика из его книги «Педагогика для всех»:
«В шести строчках – всё искусство воспитания!
«Душа моя Павел» – люби ребёнка, как душу свою, умей выразить любовь в ласковом слове, в ласковой интонации.
«Павел», «Кн. П.П.Вяземскому» – обращайся с ребёнком как с равным, как со взрослым, невзначай подчёркивай, что он уже большой – Павел! Дети никогда не бывают для себя маленькими, они всегда «уже большие». И как бы ты ни любил ребёнка, будь с ним немножко сдержан, особенно с мальчиком: «Душа моя», но «Павел».
«Держись моих правил» – сначала обзаведись, пожалуйста, своими правилами жизни, убеждениями, принципами – без них к ребёнку лучше и не подходить. И это должны быть свои правила, своею жизнью выработанные, чужие правила детям внушить невозможно. Сколько неудач в воспитании из-за того, что мы пытаемся вбить в детские головы правила, которых сами не придерживаемся! Нет, «держись моих правил» – слово, убедительное для ребёнка своей честностью. И не назидание, а дружеское: «держись». Совет, которым можно и не пользоваться. В необязательном «держись» поучение, необходимое ребёнку, и свобода от поучения. Взрослый направляет, а действует ребенок сам.
«Люби то-то, то-то…» – люби! Всё воспитание держится на одном этом слове: люби! Воспитание – это не запреты, воспитывать – пробуждать способность любить. Где любовь, там и благодарность, там волнение, там доверие, там все лучшие человеческие чувства – люби.
«Не делай того-то» – сказано категорично и без объяснений. Отметим тонкость: «не делай» – относится к автору, взрослому человеку, это ведь из его правил – «не делай», это правило взрослого, а не особое детское правило для маленьких. «Не делай» – закон взрослых, серьёзных, честных людей. Не запрещено, не осудят, не накажут, но не делаю – не в моих правилах. «Не делай» и «люби» – двух этих слов достаточно. Есть поле человеческого поведения. Нижняя граница его твердая: «не делай», а верхней границы нет, она бесконечна – «люби!».
«Кажись, это ясно» – ребёнку и надо внушать, что все наши установления и советы просты, понятны, безусловны, ими весь мир живёт. А ты маленький, умница, ты всё понимаешь с полуслова, ты не нуждаешься в длинных нотациях. Пусть ребенок не понял взрослого – не страшно. Вера в понятливость мальчика постепенно сделает его умнее: люди удивительно быстро умнеют, когда их держат за умных. И с какой лёгкостью говорит поэт с мальчиком о самых важных правилах жизни, с какой лёгкостью! «Кажись, это ясно…» Он открывается перед мальчиком. Он не просто подчёркивает равенство обращением «Павел», он в самом деле чувствует себя равным с мальчиком. Не демонстрирует равенство, а искренне проявляет его тем, что говорит с мальчиком всерьёз, хоть и в шутливой форме, и говорит не заученное, а только что самим открытое.
«Прощай, мой прекрасный» – прощай! Взрослые и не должны слишком много заниматься детьми. Ребятам лучше быть в компании сверстников, отдаваться играм и своим делам. Поиграли, поговорили, объяснились в любви – и достаточно, беги к своим игрушкам, там твой мир.
И словно кольцо замыкается: «Прощай, мой прекрасный». Внушайте ребёнку, что он прекрасен в глазах взрослого! Кто умеет от сердца сказать маленькому: «Мой прекрасный» – тот счастлив в детях и у него счастливые дети. Между двумя этими обращениями, «душа моя» и «мой прекрасный», заключено всё искусство воспитания детей».)
Павел Петрович Вяземский, как и его отец, прожил большую по времени жизнь. Умер Павел Петрович 10 июля 1888 года (родился 15 июня 1820-го). Был блестяще образован. После окончания Петербургского университета работал в русских дипломатических миссиях в Константинополе, Гааге, Карлсруэ и Вене. Тогда же начал собирать предметы искусства XV-XVI веков Германии и сопредельных с ней стран. В своём имении в Остафьеве оборудовал Готический зал, где развесил по стенам уникальные картины, воскрешавшие аромат Средневековья.
После возвращения в Россию работал в Министерстве просвещения. В 1862 году перешёл на работу в Министерство внутренних дел. Был председателем Санкт-Петербургского комитета иностранной цензуры. Почти два года – с апреля 1881 по январь 1883 – работал на посту Начальника Главного управления по делам печати.
Все, знавшие Павла Петровича, отмечают его либерализм на этих цензорских постах. Возможно, поэтому он так недолго возглавлял управление по делам печати.
Литературой Павел Петрович занимался серьёзно. Он написал очень незаурядную работу «Слово о полку Игореве. Исследование о вариантах». Он опубликовал любопытную «Докладную записку о сборном каталоге рукописных житий русских святых М.Н. Барсукова». Его статья «Волк и Лебедь сказочного мира» основана на глубоком знании русской фольклористики. Кроме того, П.П. Вяземский серьёзно изучил архив своего отца и находящихся в нём материалов, связанных с другом отца Пушкиным, так сердечно приветствовавшим мальчика Павла.
* * *
О пшавах Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона сообщает, что это грузины-горцы, большей частью высокорослые. Живут, занимая среднее течение реки Арагви и по оба берега Иоры притока Алазани. В грузинской летописи они известны храбростью, непокорным характером и буйным нравом. Отрезанные от соседей ущельями и труднопроходимым реками, пшавы, в отличие от других грузинских племён, не знали ни сословий, ни крепостной зависимости.
Жили пшавы родами. Один из родов носил фамилию Разикашвили. Первый представитель этого рода Имеда Разикашвили был прославленным храбрым воином. Его сын Бесо тоже был храбрым воином, но отличался буйным характером. Однажды он отрезал правую руку у некоего Пилашвили за то, что тот дотронулся ею до платья жены Бесо. Но самым известным в роду Разикашвили стал его внук Лука Павлович, который под псевдонимом Важа Пшавела (сын из пшавов) вошёл в грузинскую литературу как один из великих её поэтов, её классик.
Важа Пшавела, умерший 10 июля 1915 года (родился 26 июля 1861), окончил учительскую семинарию в городе Гори и уехал в Петербург продолжать образование. Но у выпускников семинарии не было права поступать в университет, и Важа Пшавела был в нём вольнослушателем юридического факультета. Проучился год и был вынужден из-за материальных трудностей оставить учёбу и вернуться на родину. Служил сначала домашним учителем детей князя, а потом и сельским учителем.
Его поэзия во многом воссоздаёт социально-этнографическую картину быта горцев. Скажем, действие одной из поэм Важа Пшавела разворачивается вокруг средневекового пшавского обычая, называемого цацлоба.
Пшавы, у которых женщины лишены право голоса и не принимаются всерьёз, тем не менее отстаивают этот обычай, позволяющий незамужней девушке заводить знакомство с мужчиной, разрешая ему всё кроме физической близости. Важа Пшавела считал, что в подобные отношения девушка могла вступить только с кровным родственником. Но некоторые грузинские исследователи проводили параллели между цацлоба и ночами, которые проводили в одной постели Сигурд и Брунхильда. Как известно, чтобы не допустить интимной близости Сигурд клал между собой и Брунхильдой обоюдоострый меч.
Важа Пшавела написал 36 поэм и около четырехсот стихотворений. Кроме того, он писал пьесы и рассказы. Его произведениям присущ антропоморфизм – резко выраженное одушевление природы.
Стихи его, которые на русский переводили Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Заболоцкий, в большой степени пронизаны мотивом ускользающей надежды, за которую цепляется лирический герой поэта. Как, например, в «Песне» Важа Пшавелы, переведённой Николаем Заболоцким:
Ты на том берегу, я на этом. Между нами бушует река. Друг на друга мы с каждым рассветом Не насмотримся издалека. Как теперь я тебя поцелую? Только вижу смеющийся рот. Перейти сквозь пучину такую Человеку немыслимо вброд. Не пловцы мы с тобой, горемыки, Нет ни лодки у нас, ни руля, Не ответит нам небо на крики, Не поможет нам в горе земля. Целый день ожидая друг друга, Мы смеёмся сквозь слёзы с тобой. Я кричу, но не слышно ни звука - Всюду грохот и яростный вой. Умирает мой голос тревожный, Утопающий в бурной реке… Как теперь я в тоске безнадёжной Проживу от тебя вдалеке? И не лучше ли смерть, чем томленье, Чем бессильные эти слова? Нет, пока ты видна в отдаленье, До тех пор и надежда жива!* * *
Очень давно, как говорится, жизнь тому назад, – в самом начале шестидесятых я, тогдашний двадцати-с-небольшим-летний критик опубликовал статью о поэзии своих ровесников. Недавно она попалась мне на глаза: сохранилась в домашнем архиве.
Я не к тому сейчас, что написана она плохо. Не для самоуничижения сообщаю о ней. А к тому, что, проглядывая её, я воскрешал в памяти забытые имена, с горечью повторяя за Пушкиным: «О много, много рок отъял!»
Среди тех иных, кого «уж нет», – Володя Луговой, красавец и жуир, любимец женщин и любивший их, умевший очень эффектно подавать себя во многих разных компаниях, где чаще всего становился их душой.
Он, когда мы жили в уютных домиках в Красной Пахре, приглашённые московским комсомолом на семинар творческой молодёжи, приводил к нам Беллу Ахмадулину, тогдашнюю жену Юрия Нагибина, которая с охотой выслушала стихи и небольшие рассказики обитателей нашего домика и сказал, обращаясь к Луговому: «Не обижайся, дорогой, но настоящее будущее за этим мальчиком» – и приобняла Гришу Горина.
Володя не обижался. Он от души радовался за Гришу.
Приходил он ко мне и в «Литературную газету». Не со стихами. И не с просьбой о рецензии на себя. Он хлопотал за знакомую поэтессу, которая приехала в Москву из провинции, смогла найти для себя уголок в каком-то общежитии, но работу найти не смогла. Так не смогу ли я помочь ей в поисках какого-нибудь заработка? Год потом работала эта поэтесса внештатно при нашем отделе писем – рецензировала стихи графоманов. Работа была трудной: отказывать в печати им нужно было деликатно, не обижая. Но их обижал сам факт непубликации, и никакие сожаления рецензента по этому поводу они не принимали.
Потом эта поэтесса исчезла. А прежде неё надолго исчез Володя Луговой и вынырнул из небытия во время перестройки как сторонник возникшего тогда христианско-демократического движения.
К этому времени я никаких его стихов нигде не встречал, хотя до этого оценил его как детского поэта.
О том, что Владимир Моисеевич Луговой умер 10 июля 2006 года (родился 21 июля 1940-го), я узнал только через несколько лет. Вот как мы отдалились друг от друга! Тогда же я узнал, что его тексты исполняла популярная группа «Весёлые ребята». Ничего удивительного, что я об этом не знал: я не слежу за музыкальными группами.
Я сказал, что оценил Лугового как детского поэта. В моей памяти он остаётся им: игровым, весёлым, неожиданным. Как в этом стихотворении:
Дятел синице в лесу говорит: «Глянь на рябину! Рябина горит!» Громко синица заспорила с ним: «Если горит – Покажи-ка мне дым! Разве бывает без дыма пожар?» Дятел в ответ лишь плечами пожал – что тут сказать? Но уже от рябины вспыхнул орешник, и следом – осины, дуб занялся, почернела трава… За две недели сгорела листва! Нынче про дятла в лесу говорят: «Красноголовый во всем виноват: словно от тлеющего фитилька, вспыхнул пожар от его хохолка!»11 ИЮЛЯ
Не любитель я бардовой песни. Понимаю, что не прав, что, отвергая её, я отказываю целому пласту искусства быть искусством. А таких прав мне никто не вручал. И всё же, всё же, всё же…
11 июля 1990 года скончался Михаил Леонидович Анчаров (родился 28 марта 1923 года), один из основоположников жанра бардовой песни.
Он писал не только песни. Романы, пьесы, киносценарии. Один из них – «Мой младший брат» написан по повести Василия Аксёнова «Звёздный билет», и немудрено поэтому, что Аксёнов стал соавтором Анчарова. Понятно и почему ещё одним соавтором стал режиссёр Александр Зархи, снявший ленту. Она удалась. Во многом, благодаря актёрскому составу. В фильме снимались А. Збруев, О. Даль, А. Миронов, О. Ефремов.
* * *
Анатолий Игнатьевич Приставкин, умерший 11 июля 2008 года, стал известен сравнительно поздно. Я имею в виду читательскую известность. В литературных кругах его знали как добросовестного повествователя, родившегося 17 октября 1931 года, писавшего документальные повести.
Даже опубликованный им роман «Городок» особого впечатления на литературную публику не произвёл.
Но его повесть «Ночевала тучка золотая», напечатанная в «Юности» в 1987 году оглушила и поднятой в ней темой – сталинской депортацией чеченского народа, и тем, с какой неподдельной болью и с какой живой сопричастностью автора к героям она решена.
После неё Приставкин, что называется, проснулся знаменитым. Государственная премия, переводы на 30 языков, фильм по повести, который вышел на экраны в 1990-м.
В 1988 году опубликована новая повесть Приставкина «Кукушата». Теперь уже ясно, что она слабее «Тучки». Но тогда и её появление восприняли с большим энтузиазмом. Она была отмечена Общегерманской национальной премией по детской литературе.
С большим энтузиазмом писатели, поддержавшие горбачёвскую перестройку и создавшие независимое движение «Апрель», избрали Приставкина председателем совета.
С 1992 года Анатолий Приставкин возглавляет Комиссию по помилованию при Президенте РФ, куда вошло немало выдающихся общественных деятелей, деятелей культуры и науки. В то время не была ещё отменена смертная казнь. Комиссия за 10 лет своего существования заменила смертную казнь пожизненным заключением почти 13 тысячам человек. 57 тысячам заключённым был смягчён вынесенный приговор. Сейчас подобные вещи читаются, как сказка, правда?
Увы, в 2001 году новый президент принял решение распустить комиссию. И здесь Приставкин, как ни больно об этом писать, уронил свою репутацию. Как вспоминает бывший член Комиссии Александр Борин в книге «Пугай меня, Господи», Приставкин вместе со всеми возмущался решением Путина и обещал уговорить президента оставить так необходимую на правовом поле Комиссию. Но результатом беседы было назначение Приставкина советником Путина по вопросам помилования. Комиссию всё-таки распустили, а на посту советника воспрепятствовать судебному произволу Приставкин не смог.
* * *
Александр Хаимович Горфункель, родившийся 11 июля 1928 года, один из выдающихся архивистов нашего времени. Его изыскания в архивах положены в основу его книг «Джордано Бруно», «Томмазо Кампанелла», «Гуманизм и натурфилософия Итальянского возрождения», «Философия эпохи Возрождения», что дало им дополнительную научную основательность. Переводил с латинского и итальянского произведения философов Средневековья и эпохи Возрождения. Составил несколько печатных каталогов редких книг в научной библиотеке Ленинградского университета. В соавторстве с Н.И. Николаевым выпустил книгу «Неотчуждаемая ценность. Рассказы о книжной редкости университетской библиотеки».
Перед тем, как уехать в США был заведующим сектором редких книг и книговедения Государственной публичной библиотеки, переименованной в 1992 году в Российскую национальную библиотеку.
В США, куда он вместе с женой выехал в 1993 году, ему предоставили работу в Центре российской истории при Гарвардском университете. Там он стал заниматься изучением жизни и творчества русского философа XVII века Яна (Андрея) Белобоцкого.
Жаль, что Россию покинул учёный таких энциклопедических знаний.
* * *
Четырежды лауреат сталинской премии Пётр Андреевич Павленко, родившийся 11 июля 1889 года, был обласкан властями до такой степени, что ему позволили присутствовать на одном из ночных допросов Осипа Мандельштама. Спрятавшись, Павленко мог наблюдать допрос. Рассказавшая об этом Надежда Яковлевна Мандельштам воспроизвела картину, воссозданную Павленко для друзей. Мандельштам, рассказывал Павленко, был жалок. Брюки с него спадали, и он всё время за них хватался. На вопросы следователя отвечал невпопад, путался, порол чушь, вертелся, как карась на сковороде.
Сразу вспоминается строчка Есенина, которую ценил Мандельштам, «не расстреливал несчастных по темницам»! Пётр Павленко, вопреки традиции русской литературы, был душою с палачом, а не с жертвой.
И такую душу выражал в своих книгах и киносценариях.
Сейчас почти не вспоминают его роман «На Востоке» (1937) – о грядущей войне Советского Союза с Японией. А в своё время газета «Правда» не просто хвалила этот роман, но сетовала, что писатели почти не создают книг о будущей войне на Дальнем Востоке. Было созвано совещание оборонных писателей, где руководитель Союза писателей Ставский назвал роман Павленко «прекрасной книгой». «Она берёт тему войны на границах нашего Союза и на территории врага, – сказал Ставский, – куда мы перенесём войну тотчас, как враг нападёт на нас, как об этом ярко, красочно записано в Полевом уставе РККА».
То есть, никто и не скрывал, что роман Павленко является агиткой – листовкой, прославляющий сталинский строй.
Сталина Павленко не пережил. Умер 16 июня 1951 года.
В посмертно опубликованной в 1994 году полумемуарной повести «Дафнис и Хлоя» Юрий Нагибин утверждает, что Павленко связал себя с органами безопасности с первых литературных шагов. Очень похоже на правду. Во всяком случае, органы безопасности благоволили к Павленко на протяжении всей его жизни.
12 ИЮЛЯ
«Одним словом, без меня никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными: народ не мог бы долго сносить своего государя, господин – раба, служанка – госпожу, учитель – ученика, друг – друга, жена – мужа, квартирант – домохозяина, сожитель – сожителя, товарищ – товарища, ежели бы они взаимно не заблуждались, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга мёдом глупости».
Это высказывание философа, которого прозвали «князем гуманистов». Это цитата из его всемирно известной книги «Похвала глупости».
Больше 475 лет прошло с того дня (12 июля 1536), как не стало великого Эразма Роттердамского (родился 28 октября 1469 года). Он многим обогатил человечество. Подготовил первое издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями, положил начало критическому осмыслению текста Священных писаний. Писал по латыни. Способствовал возвращению в культурный обиход литературного классического наследия.
Полемизировал с Лютером по поводу доктрины свободы воли. В конце концов не принял Реформацию.
Сразу после издания своего первого сочинения – сборника изречений и анекдотов, извлечённых из книг различных античных писателей, сдружился в Париже с Томасом Мором, Джоном Колетом, с принцем Генрихом, будущим королём Генрихом VIII. Совершает путешествие по Англии, приезжает в Италию, где Туринский университет преподносит ему диплом почётного доктора богословия. А римский Папа в знак особого благоволения к Эразму дал ему разрешение вести образ жизни и одеваться сообразно обычаям каждой страны, где ему приходилось жить.
После двух лет путешествия по Италии возвращается в Англию, где на трон всходит его друг король Генрих VIII. Оба знаменитых университета – Оксфордский и Кембриджский предлагают ему профессуру.
Он выбирает Кембридж, где несколько лет преподаёт греческий и читает богословские курсы, в основе которых им положен подлинный текст Нового Завета. В этом был вызов остальным богословам, которые предпочитали средневековую схоластику.
В 1511 году Эразм становится Профессором богословия леди Маргарет Кембриджского университета.
Но через некоторое время он уже навсегда возвращается на европейский континент. Его под своё покровительство взял сам Карл Испанский (будущий император Священной Римской империи Карл V). Его назначают «королевским советником», что окажется пожизненной синекурой: от него ничего не требуется. А ему пожизненно выплачивают большую сумму. До самой смерти – до 12 июля 1536 года.
Из его учений мы возьмём основные идеи, на которых построена его педагогика:
1. Людьми не рождаются, но делаются путём воспитания;
2. Человека человеком делает разум;
3. Человек обладает свободной волей, и только поэтому возможна его моральная и юридическая ответственность;
4. Выступал против всякого насилия и войн;
5. Ребёнка надо правильно воспитывать с самого рождения. Лучше, если это делают родители. Если они не могут это делать сами, то должны подобрать хорошего учителя;
6. Ребёнку надо дать религиозное, умственное и нравственное воспитание;
7. Важно физическое развитие.
А из его сатиры «Похвала глупости» мы выпишем то, что, кажется, не устарело и сегодня:
«Папы, кардиналы и епископы не только соперничают с государями в пышности, но иногда и превосходят их. Вряд ли кто помышляет о том, что белоснежное льняное одеяние означает беспорочную жизнь. Кому приходит в голову, что двурогая митра с узлом, стягивающим обе верхушки, знаменует совершеннейшее знание Ветхого и Нового завета? Кто помнит, что руки, обтянутые перчатками, суть символ чистого и непричастного ко всему земному совершения таинств, что посох изображает бдительную заботу о пастве, а епископский крест – победу над всеми страстями человеческими? И вот я спрашиваю: тот, кто поразмыслит над подразумеваемым значением всех этих предметов, не будет ли вынужден вести жизнь, исполненную забот и печалей? Но почти все избрали благую часть и пасут только самих себя, возлагая заботу об овцах либо на самого Христа, либо на странствующих монахов и на своих викариев. И не вспомнит никто, что самое слово «епископ» означает труд, заботу и прилежание: лишь об уловлении денег воистину пекутся они и здесь, как подобает епископам, смотрят в оба».
* * *
30 сентября 1930 года Корней Иванович Чуковский посетил в Алуште Сергеева-Ценского и в обширной своей записи об этом визите в «Дневнике», в частности, заметил: «Бранит Бабеля. «Что это за знаменитый писатель? Его произвели чуть не в Толстые, один Воронский написал о нём десятки статей, а он написал 8 листов за всю жизнь!»
«Я протестовал…» – комментирует слова Сергеева-Ценского Чуковский.
Надо сказать, что С.Н. Сергеев-Ценский был не так уж не прав. К тридцатому году Бабель напечатал небольшую книжку «Рассказы» в издательстве «Огонёк» (1925), сборник «Конармия» (1926), «Еврейские рассказы» (1927) и пьесу «Закат» (1927). В 1927-м принял участие в создание коллективной книги «Большие пожары», печатавшейся в кольцовском «Огоньке». Всё!
Правда, ещё в 1918-м напечатал цикл статей «Дневник» о своей работе в ЧК и в Наркомпросе. Но кто тогда его знал?
И всё же по большому счёту Сергеев-Ценский, конечно, был не прав. «Написал 8 листов»? Но каких!
Известность к Исааку Эммануиловичу Бабелю, родившемуся 12 июля 1894 года, пришла, когда он в 1921 году в популярной тогда одесской газете «Моряк» напечатал свой знаменитый в будущем рассказ «Король» – о еврейском бандите Бене Крике. И дальше – по 1924 год включительно публикует рассказы, составившие потом две книги – «Конармию» и «Одесские рассказы».
Причём «Конармию» Сергеев-Ценский, наверное, прочитал. Как и полемику вокруг неё. Всё-таки затеял её не кто-нибудь, а сам Будённый. Тот в ярости назвал Бабеля «дегенератом от литературы» в статье, напечатанной в 1924 году в журнале «Октябрь», – «Бабизм Бабеля из «Красной Нови». (Думаю, что пародическим обыгрыванием такого заглавия явился анекдот, который я слышал в юности: «Когда Будённого спросили, нравится ли ему Бабель, он ответил, лихо подкручивая усы: «Смотря, какая Бабель»!».)
Четыре года длилась полемика, которая, наверное, и раздражала Сергеева-Ценского. В конце концов, Бабеля защитил Горький, который покровительствовал писателю и опекал его.
Между прочим, вне этой полемики, но наверняка в связи с ней зародилось такое отношение властей к писателю, которое в будущем привело его к гибели. Известна фраза Ворошилова, сказавшего Мануильскому, что стиль «Конармии» «неприемлем». И ещё более зловещее: отзыв Сталина, который прочитал «Конармию» и нашёл, что Бабель «писал о вещах, которые не понимал». Несомненно, правы те исследователи, которые увидели в этом, что Сталин был раздражён самим желанием Бабеля задокументировать поход будённовской конницы на Львов. Львов Будённый не взял – не смог выполнить желания Сталина, бывшего тогда комиссаром на юге. В то время Сталин показал себя плохим стратегом. Отвлекаясь на Львов, он сорвал наступление Конармии на Варшаву. В результате польская кампания была проиграна.
Известно, что в 1925 году Сталин запросил для себя из архивов все материалы, связанные с этим походом Будённого, и не вернул их. Можно не сомневаться, что упоминание об этом походе у Бабеля Сталина не обрадовало. Он затаился, а смерть Горького, покровителя Бабеля, развязала ему руки.
Тем более что Бабель не остановился на рассказах об одесских уголовниках и о конниках Будённого. В 1931 году он отправился в Украину собирать материалы для романа о коллективизации. Первую главу его, названную «Гапа Гужва», он опубликовал в 10 номере «Нового мира» за 1931 год. Но уже следующая глава «Колывушка» опубликованной быть не смогла (напечатана в годы перестройки). По многим свидетельствам, Бабель ужаснулся увиденному, сказал Багрицкому, что эти страшные картины научили его спокойнее смотреть на расстрелы людей. Другому своему приятелю он сказал, что происходящее в деревне намного страшнее того, что он видел в гражданскую войну.
Надо сказать, что при жизни Горького Бабеля пусть и неохотно, но выпускают за границу. С сентября 1927 и по октябрь 1928 года и с сентября 1932 по август 1933-го он живёт во Франции, где жила гражданская жена Бабеля Наталья Каширина, которая в 1929-м родила ему дочь, живёт в Бельгии, в Италии. Похоже, что власти не возражали бы, если б он стал невозвращенцем. Но Исаак Эммануилович возвращался на родину. Последний раз с антифашистского конгресса писателей в 1935 году.
Уничтожили Бабеля тогда же, когда и Мейерхольда. И, как и режиссёра, пытали. Вынудили под страшными пытками признать, что он намеренно искажал действительность, вёл среди деятелей культуры антисоветские разговоры и шпионил в пользу Франции.
О том, что её мужа расстреляли 27 января 1940 года, вдова Бабеля узнала только через много лет. Перед ней долго разыгрывали комедию, подсылали ложных свидетелей, встречавших якобы Бабеля в тюрьмах и лагерях военной и даже послевоенной поры. Зачем это делали? Из садистского сладострастия.
* * *
Павел Григорьевич Беспощадный, родившийся 12 июля 1895 года в Смоленской губернии, уже с 1907 года работал шахтёром в Донбассе. Там встретил революцию. Оттуда ушёл на гражданскую войну. И вернулся с неё, чтобы работать в газете «Кочегарка». Переехал вместе с редакцией в Горловку в 1932 году. Был в эвакуации во время Отечественной войны. Жил после войны в Краснодоне, в Ворошиловграде. А с начала 50-х навсегда перебрался в Горловку.
В своих стихах и поэмах воспевал шахтёрский труд. Удостоен звания «Почётный шахтёр СССР».
Хотя его произведения о шахтёрах неинтересны. Изредка попадаются в его наследии и неплохие стихи.
Оцените:
Всё мне кажется это странным, И себе я не верю сам, Чтоб мальчишка, крепыш колчеданный, О шахтёрах стихи писал. Ну, когда мне им было учиться, Я отчёта себе не дам: С малолетства я стал трудиться, Кое-как читал по складам. Жизнь была только в корке хлеба. Грызя чёрствую, трудно рос, Батька клял и пласты, и небо И с тоски меня бил до слёз. Вечно бедность и недостатки, Бесконечный тяжёлый вздох. И ругала с тоскою матка: – Лучше б ты, не родившись, издох! Ну, а если увидят книжку - Пропадай и скрывайся с глаз! Даже грамоте, видно, мальчишку Научил ты, старик Донбасс! Потому-то во всех моих строчках Только лавы, забои, забут. Лица чёрные, в угле сорочки К песням строгим меня зовут.Умер Беспощадный 25 мая 1968 года.
* * *
Я женился рано, на однокурснице, коляска с сыном, пока мы с женой по очереди сидели на лекциях, нередко стояла во дворе университета на Моховой, благо жили мы недалеко. Двух стипендий нам, конечно, не хватало, и мой гонорар (а в университете я начал печататься) часто нас спасал.
И всё-таки надо было думать о постоянном заработке. Университет ещё не был закончен, но это меня не смущало: меня знали в редакциях, и я мечтал, в какую-нибудь из них устроиться.
И вот – улыбка Фортуны! Только я это про себя решил, как в журнале «Москва», куда я зашёл вычитывать гранки своей статьи, встречаю Александра Львовича Дымшица, про которого я знал, что он поссорился с Кочетовым и ушёл из «Октября» из-за Солженицына. Дымшиц написал положительную рецензию на «Один день Ивана Денисовича», а Кочетов расценил это как предательство. Мы не были близко знакомы, но при встрече раскланивались.
– Александр Львович, – сказал я, – у вас нет на примете какой-нибудь редакторской работы?
– Для кого? – спросил Дымшиц.
– Для меня.
Дымшиц весело посмотрел на меня и сказал: – А вы оставьте мне свой телефончик, очень может быть, что я скоро вам позвоню.
Он позвонил даже быстрее, чем я думал, – дня через три. И предложил работу во вновь создаваемом Госкомитете по кинематографии.
– И какого рода будет эта работа? – спросил я удивлённо, поскольку до этого никогда не имел дела с кино.
– Редакторская, – коротко ответил Дымшиц и добавил: – Будете работать у меня. Завтра придёте в отдел кадров по Малому Гнездниковскому переулку (он назвал дом) со всеми документами – паспортом, дипломом… Что? У вас нет диплома? – он задумался, выслушав мой ответ. – Хорошо, – сказал он, услышав от меня, что ради такого дела я готов перевестись на заочный, – переводитесь, только не тяните, приходите в отдел кадров и подавайте заявление. Они в курсе.
Понимаю тех, кто поморщится от одного только имени моего покровителя. Александр Львович Дымшиц, родившийся 12 июля 1910 года, так и остался в истории литературы с репутацией свирепого гонителя талантов. Его размолвка с Кочетовым из-за Солженицына объяснялась только благосклонностью к первой солженицынской повести Хрущёва, а Александр Львович в отличие от твёрдокаменного Кочетова всегда держал нос по ветру. Оправдывать его не собираюсь. И всё-таки повторю то, что позднее мне рассказывал о нём Владимир Михайлович Померанцев, который в одно время с Дымшицем находился в советской оккупационной зоне Германии. До создания ГДР Дымшиц практически был министром культуры зоны, которого немцы полюбили за… либерализм. Да-да, в то время он был либералом, и его коллеги в Германии (тот же Померанцев) знали его как умного, интеллигентного человека, который едко отзывался о бездарных новинках, во множестве печатавшихся в советских журналах, и сочувственно – о том немногом, что было отмечено талантом. А потом его словно подменили. Конечно, это он переменился сам, вернувшись в Россию в самый разгар набравшей силу кампании борьбы с космополитами (читай: с евреями!). И страшно испугался этой кампании: стал клеймить заклеймённых и обслуживать погромщиков.
Он выбрал для себя определённую позицию и от неё уже не отступал. Но при этом, говорил мне Владимир Михайлович, был способен на щедрые дружеские жесты. Например, когда за статью «Об искренности в литературе» Померанцева не топтал только ленивый, когда его не только не печатали, но отрезали пути к любому заработку, Дымшиц почти насильно всучил ему крупную сумму денег, категорически оговаривая, что возвращать её ему не нужно.
Чужая душа, как известно, потёмки. Помнится, как тщательно и любовно готовила «Библиотека поэта» первую после гибели Мандельштама книгу стихов этого поэта. Была написана и вступительная статья. Но министерские и цековские чиновники добро этой книге не давали. И не дали бы, если б кому-то в редакции не пришло в голову заказать новую вступительную статью Дымшицу. Он согласился. Конечно, книжка стала хуже, в статье было немало уксуса, но ведь книга вышла! И дала возможность другим изданиям потихоньку публиковать стихи уже не опального, а полуопального (таких изредка печатали) поэта.
Помню, как охотно откликался Дымшиц на предложения «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» написать вступительную заметку к стихам того или иного обэриута. С таким «паровозом» стихи проходили даже через сверхбдительного зама главного редактора Тертеряна.
А, возвращаясь к Госкино, скажу, что редакторская работа, о которой говорил мне Дымшиц, оказалась попросту цензорской. На ней я пробыл недолго. И наши отношения с Дымшицем после того, как я ушёл из Комитета по кинематографии, остались очень натянутыми: мы холодно кивали друг другу при встрече и ни о чём никогда не разговаривали. Я и о том, что он умер 6 января 1975 года, узнал много позже этой даты.
* * *
Бориса Николаевича Полевого, скончавшегося 12 июля 1981 года (родился 17 марта 1908 года), я очень хорошо помню. Встречал много раз и в «Литературной газете», и на пленумах и съездах Союза писателей, где Полевой был секретарём.
Занимал он бесчисленные общественные посты: Председатель правления Советского фонда мира и по этой должности – член бюро Всемирного совета мира, вице-президент Европейского общества культуры, депутат Верховного совета РСФСР. И самая памятная – главный редактор журнала «Юность», который не стал изменять политику своего предшественника Валентина Петровича Катаева, но привёл в журнал и своих авторов, менее интересных, чем катаевские.
Помню и героя его «Повести о настоящем человеке» лётчика Алексея Петровича Маресьева, у которого из-за тяжёлого ранения на фронте были ампутированы обе ноги, но который сумел вернуться в строй и летал с протезами.
Он был у нас в «Литературной газете», и очень всем понравился. Держался скромно, даже застенчиво.
Полевой узнал о его подвиге, работая военным корреспондентом «Правды». Написал о нём. А потом, слегка изменив его фамилию на Мересьев, сделал героем своей повести, разумеется, отмеченной сталинской премией и введённой в школьную программу. Я по ней писал сочинение.
Увы, писателем Полевой так и не стал. Говорят, что он был неплохим журналистом. Но я читал только его статьи в «Правде». Меня они не трогали.
Когда я был главным редактором «Литературы», мне в газете пришлось отбиваться от чиновников Министерства образования, замысливших вернуть повесть Полевого в школьную программу. Логика чиновников: чему учит такая книга? – патриотизму! А я доказывал им, что сильно расширенный беллетризованный очерк, выдаваемый за художественную литературу, патриота не воспитает, а сбить школьника с панталыку «Повесть о настоящем человеке» может несомненно. Ведь научить детей отличать литературу от подделки под неё – первостепенная задача педагога-словесника.
Полевой, когда брался за повесть, разумеется, хотел своему герою хорошего. И Алексей Маресьев наверняка испытывал к нему благодарность. Возможно, что он просто постеснялся указать автору на кричащее неправдоподобие и в описании воздушного боя, и в воссоздании такой ситуации, когда любой профессионал прыгнет с парашютом, а не воткнётся самолётом в лес. Быть может, постеснялся Маресьев, у кого, как и у Мересьева в повести, оказались раздробленными все косточки стопы, объяснить Полевому абсурдность вымышленной им в этом случае героики. Человек в таком положении просто физически не сможет снять, а потом снова натянуть на ноги унты и тем более не сможет ходить на раздробленных ногах!
Я делюсь сейчас чужими наблюдениями над «Повестью о настоящем человеке» – писателя Михаила Веллера. И не надо меня ловить на том, что, читая в школе повесть, я ничего подобного не замечал. Что, скажите, хорошего, если ребёнку врезываются в память подробности, не имеющие никакого отношения к действительности? А порой и комически неправдоподобные.
Помню, смотрел я в детстве фильм, куда перекочевал из книги эпизод встречи покалеченного Мересьева, которого играл Павел Кадочников, с медведем. Затаив дыхание, следил я за тем, как подошёл к человеку зверь, как цапнул его когтями, как, превозмогая боль, успел выхватить Мересьев пистолет. А через много лет прочитал подробный комментарий этой сцены:
«Лежит. Медведь подходит, шатун. Ходил я на медведя… Если на лес грохнется самолёт поблизости, то медведь тут же обделается и удерёт от этого необъяснимого ужаса и приблизится очень нескоро и очень осторожно. Ну, шатун, жрать хотел – пришёл. Когтем цапнул – комбинезон не подался. Да он цапнет – жесть раздерёт, голову оторвёт! «комбинезон не подался»! Понюхал! – решил: мёртвый. Это, может, Полевой решил бы, что мёртвый, а медведь – он как-нибудь разберёт, кто мёртвый, а кто живой. И свернёт шею. Голодный – закусит сразу, сытый прикопает, чтоб запашок пошёл, но сытый шатун – это редкость большая. Короче, глупый медведь попался и несчастливый. Потому что человек тут же, лёжа, выстрелил в медведя из пистолета и убил его. Это, стало быть, лёжа, навскидку, одним выстрелом, из пистолета ТТ – какого ж ещё? – калибра 7,62 – уложил медведя. Странно ещё, что не из рогатки он его убил. Как пропаганду мощи советского стрелкового оружия я это понимаю, а как рецепт охоты на медведя – пусть мне писатели растолкуют, это я не понимаю. Эту живучую махину – из этой пукалки? в сердце – фиг, на дыбки поднимать надо, иначе не попасть, с черепа рикошетом соскользнёт, позвоночник из этого положения такой ерундой тоже не перешибёшь. Короче, охотник на привале» (Михаил Веллер. «Кавалерийский марш»).
Ну? И для чего эту осмеянную вещь возвращать в школу? Вспомните, как в похожей ситуации действует пушкинский Дубровский, выдающий себя за француза Дефоржа. Его, ради барской потехи, впихнули в клетку с медведем: «Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился». А ведь речь идёт об оставшейся неотредактированной Пушкиным вещи, где сам автор не решил окончательно, кем ему представить Дубровского – пехотным гвардейским офицером или гвардии корнетом конного полка. Но в реалистических и психологических деталях Пушкин точен и здесь. Как везде.
Но с Полевого, как говорится, взятки гладки. Писателем, как я уже сказал, он не был.
* * *
С Вадиком или, как ещё его звали друзья, Димой Сикорским меня познакомил Евгений Винокуров. Женя часто приходил в его сопровождении. «Мой адъютант», – смеялся он, показывая на высоченного широкоплечего Сикорского. «Скорее, твой охранник», – вторил я такому юмору.
Вадим Витальевич Сикорский, скончавшийся 12 июля 2012 года, занимался литературой профессионально. Он был сокурсником по Литературному институту Винокурова, Ваншенкина и чуть их постарше. Они родились в 1925-м, а он 19 марта 1922 года.
Будучи студентом, прочитал на семинаре написанное им стихотворение «Бабы». И немедленно был исключён с формулировкой «за искажённое изображение жизни в колхозе и судьбы колхозницы». Но вскоре на счастье Сикорского пришёл новый ректор – Фёдор Гладков, которому понравились стихи Вадика, и он восстановил его в институте.
Отличался неплохим литературным вкусом, много знал наизусть хорошей поэзии. Говорил мне: «Ты – критик. Твоё дело – пить нектар из стихов и сообщать мне, каков он на вкус!» Писал стихи и прозу, переводил многих поэтов на русский.
Был в его биографии примечательный факт. В 1941-м он находился в эвакуации в Чистополе, дружил с Муром, сыном Марины Цветаевой. Сикорскому пришлось вынимать Цветаеву из петли. Рассказывая об этом, он всё время сдерживал слёзы.
А в стихах подражал своему другу Винокурову. Хотя есть у него и самобытные стихи:
Я не был на свете вечность. И не буду на свете вечность. Уйду под покровом ночи или в сиянии дня. Солнце, звёзды, луна – великолепные вещи, но они легко обходились, обойдутся легко без меня. А быть может, в безжизненной скуке пламени, камня, металла, в столетья, когда пространства особенно тихи, вселенная обо мне, о живом и весёлом, мечтала и слагала меня, быть может, как я вот эти стихи.* * *
В школьной моей юности мне попалась книга литературных пародий. Называлась «Парнас дыбом». И действительно произвела на меня впечатление сообразно своему названию: авторы, заставили каждого поэта и каждого прозаика – классиков и современников – рассказывая истории на известные сюжеты, говорить своим собственным, очень узнаваемым голосом. Это было настоящее искусство перевоплощения, которым отменно владели все три автора: Э.С. Паперная, А.Г. Розенберг и А.М. Финкель.
Ничего я о них больше не знал. Позже – через много лет была переиздана в России эта уникальная книга.
Среди вариаций на песню «Жил был у бабушки серенький козлик» мне нравилась пародия Э.С. Паперной на некоего неизвестного мне Семёна Юшкевича:
«Старая Ита была очень бедная женщина, и козлик у ней был, ой так это же мармелад, антик марэ, что-то особенное, а не козлик! Ой, как Ита его любила! Как своё дитё она его любила. Но, как говорится, козла сколько ни люби, а он всё в лес смотрит. Ну, так он убежал. В лес убежал. Гулять ему захотелось. А в лесу, думаете, что? Волки, уй, какие волки! Серые, страшные, с зубами. Разве они имеют жалость к еврейскому козленку? Ну, так они его таки да съели. Только рожки да ножки остались. Ой, как Ита плакала! Как малое дитё она плакала».
Разумеется, мне захотелось прочитать этого Юшкевича. И я таки его прочитал.
Это была повесть «Евреи», посвящённая Горькому. Сюжет её я подзабыл. Но интонацию повествования отлично помню. Паперная воспроизвела её мастерски.
И ещё что я уловил у Юшкевича: его герои – именно русские евреи. Ни в какой стране они жить не смогли бы
Семён Соломонович Юшкевич умер 12 июля 1920 года в эмиграции, в Париже. Родился в Одессе 7 декабря 1868 года.
Все, писавшие о судьбе эмигрантов из России, подчёркивают, что Юшкевичу в Париже было несладко. Еврейская тема не слишком волновала французов. И тем более их не интересовали изображённые Юшкевичем типы евреев-одесситов.
Юшкевич бросил еврейскую тему. Пробовал писать о вненациональных героях. Но потерял узнаваемый свой стиль. Перестал быть оригинальным.
Некогда Чехов писал о нём Вересаеву: «По-моему, Юшкевич умён и талантлив, из него может выйти большой толк». Эти слова оказались справедливыми для писателя, пока он жил в России. Уехав из неё, он оторвался от своих корней, – не смог воспроизводить иных персонажей, нежели евреи, укоренившиеся в русской земле.
13 ИЮЛЯ
Когда я стал профессионально заниматься Пушкиным, я начал избавляться от обаяния, которые вызывали во мне работы некоторых пушкинистов. Например, Михаила Гершензона. Его книгу «Мудрость Пушкина» я прочёл ещё студентом и многие выводы учёного принял на веру.
Потом уже я понял, что стало отталкивать меня от пушкиниста Гершензона. Он невероятно субъективен. Не даёт себе труда вчитаться в пушкинский текст. Он не проникает в него, а читает, подчиняя текст своей концепции. Иными словами, он не литературовед, а философ, для которого литература – такой же жизненный материал, как и всё остальное в его сущем. Опираясь на него, он учит жить.
Подобный подход к литературе после Гершензона оказался свойственен многим пушкинистам. Но Гершензон, кажется, и сам понимал, что его призвание не литературоведение, а философия. Где-то я прочитал о нём: историк духовной жизни России, и такая его характеристика мне представляется верной.
Михаил Осипович Гершензон родился 13 июля 1869 года. Сумел поступить на историко-филологический факультет Московского университета и получить золотую медаль за сочинение «Афинская полития Аристотеля и жизнеописания Плутарха». В дальнейшем оказался выдающимся архивистом, исследователем семейных архивов многих дворянских родов. Так на основании собранных им материалов он написал «Жизнь В.С. Печерина» (1910), воскресив почти из небытия колоритную фигуру этого философа, одного из ранних русских эмигрантов. Так он публиковал открытые им архивные материалы в сборниках «Русские Пропилеи» (1916 – 1919) и в томе «Новых Пропилеев» (1923).
В 1909 году он выступил инициатором издания философского сборника «Вече», который Ленин назвал энциклопедией либерального ренегатства. Такая характеристика либералов, допущение, что либерализм скрывает в себе возможность ренегатства, убеждённость, что либерал может пойти в коллаборанты, особенно обрисовывает конформистов любого времени и нашего, разумеется, тоже.
Между тем, авторы «Вече» выступали против господства мировоззрения, построенного на коллективизме, на поклонении народной коллективной мудрости, на нигилизме и безрелигиозности.
К чему привело мировоззрение, которое отвергали «веховцы», мы убедились на примере его победы в государстве, возникшем после Октября 1917-го.
Гершензон был весьма разносторонним литератором. Его исторические штудии не устарели и поныне. Документы, которые он предал гласности, уникальны и бесценны для исследователей эпохи Николая I (так называется книга Гершензона) и других русских императоров. Его философия выражена им в книге «Творческое самосознание» (1909) и в уникальной книге «Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон. Переписка из двух углов» (1920).
Не говорю уже о его работах, изданных в разное время, – об Огарёве (1900, 1904), «П.Я Чаадаев. Жизнь и мышление» (1907), «История молодой России» (1908), «Образы прошлого» (1912), «Грибоедовская Москва» (1914). Все они, как отмечал Плеханов, содержат много ценного для понимания умственного развития русской интеллигенции.
После революции он остался верен своим идеалам, не принимал безбожия и революционного нигилизма. Писал об этом в книгах «Ключ веры» (1922) и «Гольфстрем» (1922). Работал в Наркомпросе, в Главархиве, заведовал литературной секцией Государственной академии художественных наук.
До разгула большевистского бандитизма не дожил. Скончался 19 февраля 1925 года.
* * *
Душа моя, как птица, Живёт в лесной глуши, И больше не родится На свет такой души. По лесу треск и скрежет: У нашего села Под ноги ели режет Железный змей-пила. Сожгут их в тяжких горнах, Как грешных, сунут в ад, А сколько бы просторных Настроить можно хат! Прости меня, сквозная Лесная моя весь, И сам-то я не знаю, Как очутился здесь, Гляжу в безумный пламень И твой целую прах За то, что греешь камень, За то, что гонишь страх!Это начало стихотворения Сергея Антоновича Клычкова, родившегося 13 июля 1889 года.
Да, душа этого поэта жила в природе. Его поэзии был в высшей степени присущ антропоморфизм. Поэтому Клычков сошёлся с близкими ему по духу крестьянскими поэтами и, в частности, с Сергеем Есениным.
Клычков обрабатывал фольклор, выпустил при жизни немало книг стихов. Написал три романа.
И словно предвидел свою судьбу в том стихотворении, начало которого я привёл. Оно продолжается и заканчивается так:
И здесь мне часто снится Один и тот же сон: Густая ель-светлица, В светлице хвойный звон, Светлы в светлице сени, И тёпел дух от смол, Прилесный скат – ступени, Крыльцо – приречный дол, Разостлан мох дерюгой, И слились ночь и день, И сели в красный угол За стол трапезный – пень… Гадает ночь-цыганка, На звёзды хмуря бровь: Где ж скатерть-самобранка, Удача и любовь? Но и она не знает, Что скрыто в строках звёзд!… И лишь с холма кивает Сухой рукой погост…Погост манит Клычкова не зря. Он разделил судьбу крестьянских поэтов. Был арестован и расстрелян 8 октября 1937 года. Прах его – в общей могиле уничтоженных чекистами – на Донском кладбище в Москве.
* * *
Валентин Савич Пикуль, родившийся 13 июля 1928 года, особенно памятен многим скандалом, какой разгорелся вокруг напечатанного в журнале «Наш современник» его романа «У последней черты», который изданный книгой носит длинное и по-своему вызывающее заглавие: «Нечистая сила. Политический роман о разложении самодержавия, о тёмных силах придворной камарильи и бюрократии, толпившейся возле престола; летопись той поры, которую зовут реакцией между двумя революциями; а также достоверная повесть о жизни и гибели «святого чёрта» Гришки Распутина, возглавляющего сатанинскую пляску последних «помазанников Божиих».
Пикуль показал себя в этом романе убеждённым монархистом, и по слухам за ним, по распоряжению главного идеолога партии М.А. Суслова, был установлен тайный надзор.
В романе проскальзывали отчётливые антисемитские нотки, о чём в семидесятые годы писать было нельзя. Поэтому критики романа сосредоточились на исторических погрешностях Пикуля.
А их, как и в любой другой его книге, было немало. По свидетельству людей, знавших его, Пикуль не работал в архивах. Он отталкивался от какой-нибудь исторической книги, и на её основе описывал придуманный им сюжет.
Но умело гримировал свои сочинения под подлинно исторические, что сделало их невероятно популярными. Знаю людей, которые по книгам Пикуля изучали историю.
Пикуль писал быстро. Написал больше двух десятков романов и больше сотни исторических новелл. Купить его книгу в магазинах в советское время было невозможно. Хотя они издавались огромными тиражами. Читатели устремлялись на чёрный рынок, платили за них цену, иногда вдесятеро превышающую номинальную.
Можно было бы сравнить его роль на тогдашнем книжном рынке с ролью Марининой или Донцовой на нынешнем, но такое сравнение полного представления о роли Пикуля не даст. Общий тираж его книг при жизни Пикуля (умер 16 июля 1990 года) достиг 20 миллионов экземпляров. А на 2008 год, по словам вдовы писателя, тираж книг мужа исчислялся уже полумиллиардом экземпляров.
Не тот случай, о котором сказал Гоголь, что, если в России вышла книжка, то в этой огромной стране отыщется и читатель её. Здесь отыскалась тьма читателей!
За книжками Пикуля охотятся и сегодня. Почему? На мой взгляд, из-за удручающей бедности исторического образования российских граждан.
* * *
Об этом поэте «Литературная Россия» написала: «Очень хотел сделать свой перевод «Песни о полку Игореве». Но Юрий Георгиевич Разумовский, родившийся 13 июля 1919 года, успел завершить работу над «Словом» как раз в год своей смерти в 2000-м (умер в декабре).
Он был фронтовиком. Кроме стихов, писал ещё и детские книги.
Мы познакомились с ним в 1983-м в туристской поездке, где он показал себя доброжелательным мягким человеком.
Рассказывал, что был профессиональным волейболистом. Потом я узнал, что он входил в тренерский состав по подготовке сборной СССР по волейболу.
А стихи его были честными. Он не любил фальши:
Наш старшина – Кравцов Алёшка – Лежит ничком, и кровь кругом: Нога оторвана, а ложка Ещё торчит за сапогом… А началось всё как-то просто: Мы шли – мальчишки – по войне, И леса обожжённый остров Шёл рядом с нами – в стороне. Гудели самолёты глухо, И мнилось, это всё – игра, Но бомбы сыпались из брюха, Как рыбья чёрная икра. Они свистели бесновато Над каждым скрюченным бойцом, И, чуя смертную расплату, Я распластался вниз лицом. И мне казалось – я и не был, Не мыслил, не жил, не страдал. И я, под этим гулким небом, Иною землю увидал. И мне врасти хотелось в травы, Зарыться глубже, с головой: Уйти от огненной раправы И юность унести с собой. Как пред грозой природа стихла. Вдруг твердь ушла из-под меня, И пред лицом моим возникло Лицо огня… Я эту первую бомбёжку Не позабуду и вовек, И этот лес, и эту ложку, И слёзы капавшие с век.* * *
Гриша Анисимов, мой хороший знакомый искусствовед и художник. Его мастерская была у нас во дворе. Писатель, выступивший с повестью о художнике О.М. Матвееве «От рук художества своего». Издал он и повесть о жизни Пушкина с предисловием Григория Григорьевича Пушкина, потомка великого поэта.
Интересно ещё, что книга о Пушкине вышла в издательстве «Мусагет», которое Гриша и воскресил – воссоздал, узнав, что «Мусагет» прежде находился в доме рядом с его мастерской (Гоголевский бульвар, 31). Потом, вступив в ПЕН-центр, Гриша передал ему права на издательство, которыми, судя по всему, ПЕН не воспользовался.
Умер Григорий Анисимович Анисимов 13 июля 2011 года (родился 31 января 1934-го).
14 ИЮЛЯ
Знаменитый фольклорист, собиратель и исследователь былин Александр Фёдорович Гильфердинг родился 14 июля 1831 года.
Служил российским консулом в Боснии, где написал книгу «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (1859) – об истории этих стран. Из Боснии в конце 60-х ездил в Македонию. Издал брошюру на французском языке «Les slaves occidentaux».
В 1867 году возглавил петербургское отделение Славянского благотворительного общества. Возглавлял и этнографическое отделение Императорского Русского географического общества.
После появления «Песен, собранных П.Н. Рыбниковым» Гильфердинг предпринял в августе 1871 года поездку по Олонецкой губернии, где прослушал 70 сказителей, собрал 318 былин. Так что он существенно дополнил собрание Рыбникова.
Летом 1872 года снова поехал в Олонецкую губернию для записи и изучения устного народного творчества. Собрался ехать в Каргопольский уезд. Но в Каргополе слёг и в течение пяти дней сгорел от тифа. Умер 2 июля 1872 года. Был Гильфердингу 41 год.
За недолгую свою жизнь Александр Фёдорович написал множество работ об истории славян и о древнем их быте. По результатам поездки в Олонецкую губернию посмертно издана его книга «Олонецкие былины». Многих исследователей фольклора Александр Фёдорович Гильфердинг заразил своим собирательством.
* * *
Название стихотворения Олега Чухонцева «Похвала Державину, рождённому столь хилым, что должно было содержать его в опаре, дабы получил он сколько-нибудь живности», соответствует факту биографии Гавриила Романовича Державина. Вот и Ходасевич записывает в своей книге «Державин» о будущем поэте: «От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое: по тогдашнему обычаю тех мест запекали ребёнка в хлеб».
Родился Гавриил Романович 14 июля 1743 года в семье обедневших дворян. Поэтому и не был записан в гвардейский полк уже сержантом, как пушкинский Пётр Гринёв. Державин служил в Преображенском полку рядовым, служил с 1762 года и принимал вместе с полком участие в дворцовом перевороте 28 июня 1762 года. Переворот возвёл на трон Екатерину.
В 1773-1775 годах уже офицером этого полка участвовал в подавлении восстания Пугачёва. Наблюдательный Державин без труда разглядел причину крестьянских волнений. О чём и написал в официальном донесении казанскому губернатору и начальнику Секретной следственной комиссии генералу Бранту: «Сколько я смог приметить […] лихоимство производит в жителях наиболее ропота, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь недовольною и, если смею говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая теперь свирепствует в нашем отечестве».
В будущем он напишет стихотворение «Памятник», где поставит себе в заслугу умение «истину царям с улыбкой говорить». Истину Державин старался говорить всегда.
В 1780 году в переложении 81 Псалма «Властителям и судьям» он скажет:
Цари! Я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья, Но вы, как я подобно, страстны И так же смертны, как и я.Открыв это, он через два года пишет знаменитую свою оду «Фелица», где в нарушение одического канона представляет не парадный, а человеческий портрет государыни. Он говорит ей истину с улыбкой, и она улыбается ему в ответ: щедро вознаграждает автора, продвигает его по службе.
В мае 1784 года Державин назначен гражданским губернатором только что образованной Олонецкой губернии. С 1786 по 1788-й служит Тамбовским губернатором. В 1791 по 1793 является статс-секретарём императрицы. В 1793-м Державин – сенатор и тайный советник. В 1795-м – президент Коммерц-коллегии. В 1802-1803 году его назначают министром юстиции.
И на всех постах Державин проявляет свой характер. Борется с мздоимством, не переносит лести, информирует Екатерину об истинном положении дел в местах, где он служит.
В конце концов он утомляет своей правдивостью императрицу, и её распоряжением он «уволен от всех дел» – 7 октября 1803 года отправлен в отставку.
Всё это время он занимается литературной деятельностью – расшатывает в своих стихах классицистические нормы, по существу расчищает дорогу предромантизму.
«Тьфу, романтические бредни: / Фламандской школы пёстрый сор», – обозвал автор «Евгения Онегина» собственное начало повествования: «Порой дождливою намедни / Я, завернув на скотный двор…»
Но «пёстрый сор» фламандской школы появился в русской поэзии ещё до «Онегина». Его занёс туда Державин. Его стихи плотские, сочащиеся грубой земной жизнью, не чуждающиеся просторечий, радуют слух, радуют глаз. И в то же время радуют душу. Ибо Державин умел одухотворить картины вроде бы даже приземлённой жизни. Его шутки грубоваты и одновременно пронзительно лиричны:
Если б милые девицы Так могли летать, как птицы, И садились на сучках, Я желал бы быть сучочком, Чтобы тысячам девочкам На моих сидеть ветвях. Пусть сидели бы и пели, Вили гнезда и свистели, Выводили и птенцов; Никогда б я не сгибался, Вечно ими любовался, Был счастливей всех сучков.Умер 20 июля 1816 года.
* * *
Стихотворение, в подлинности которого сомневаться не приходиться:
Парижская сутолока, вечер, Сердец металлический стук, Я знал лишь случайные встречи, Залог неизбежных разлук. А счастье мне даже не снилось, Да я и не верил ему, И всё-таки как-то прожилось, Но как, до сих пор не пойму.Слово «сутолока» ещё в моём детстве произносили не в четыре, а в три слога: «сутолка». А уж уехавшие много лет назад из России эмигранты унесли это слово, произносимое именно в три слога.
Так его и произносит поэт Кирилл Померанцев, родившийся 14 июля 1906 года и покинувший вместе с семьёй Россию в 1919-м.
С 1927 года Кирилл Померанцев живёт во Франции, в Париже. Во время войны перебирается в Лион, участвует в Сопротивлении. И возвращается назад в Париж, где живёт долго и умирает 5 марта 1991 года.
Увы, такова горькая участь эмигранта, что его почти не знают на родине. А жаль. Кирилл Померанцев был поэтом Божьей милости:
На исходе двадцатого века В лабиринте космических трасс - Чем пополнили мы картотеку Барабанных, штампованных фраз? Декларации, лозунги, речи… Смена вех и дорог без конца… Чем приблизили лик человечий К лучезарному лику Отца? Лёгкой дымкой небесная слава Поднималась над стойкой бистро, И в Париже Булат Окуджава Что-то пел о московском метро. Вот она, эта малая малость, Чем, воистину, жив человек, Что ещё нам от Света осталось В наш ракетно-реакторный век. Постараемся ж не задохнуться, Добрести, доползти, додышать, Этой малости не помешать, Предпоследнему дню улыбнуться.* * *
С Юрием Дмитриевичем Черниченко, прекрасным писателем, публицистом и гражданином, мы прощались спустя два дня после его смерти, случившейся 14 июля 2010 года. Все выступавшие на панихиде так или иначе вспоминали его бойцовский характер, горячий темперамент и готовность отстаивать правду, чего бы это ему ни стоило.
Сам Юра, родившийся 7 августа 1929 года, в книге «Время ужина» назвал себя «писарем-летописцем при аграрном цехе». И в этом шуточном определении много правды, о чём говорят сами названия его книг: «Ржаной хлеб», «Земля в колосьях», «Яровой клин», «Русский чернозём», «Про картошку».
Главное, что было в его «летописи» аграрного цеха – это раннее понимание того, что выстроен цех неправильно и оттого так немощна его продукция.
Он утверждал это задолго до начала перестройки. Не удивительно, что иные его статьи и очерки были предметом обсуждений и осуждений на высшем партийном уровне.
Почти каждое его выступление в нашей «Литературной газете» обрастало шлейфом, которое оно тянуло за собой: возмущённые отклики начальства и восторженные – от читателей, подтверждающих правоту Черниченко, изумлённых смелостью автора и редакции.
Он любил подчёркивать, что является автором 36 статьи российской конституции, которая закрепляет право гражданина иметь землю в частной собственности. Но то, как воспользовались граждане России этим правом, его ужасало. Возмущало, что «государевы слуги» – бывшие секретари райкомов и председатели колхозов за бесценок скупали у колхозников их сертификаты на владение землёй, становясь крупными латифундистами. Возмущала жадность бывших сельских номенклатурщиков, формально ставших владельцами огромных угодий, а фактически – спекулянтами, зарабатывающими на перепродаже плодородной земли под возведение частных усадеб.
Он оглушал цифрами, говорил в одном интервью, что «в России около 30 миллионов гектаров земли не пашется, зарастает лесом и бурьяном, какого я в жизни не видал». Он бередил равнодушных, ссылался на извечный закон человеческого существования, о котором знали древние, о котором писал ещё Гомер: «Раб нерадив. Не принудь господин повелением строгим к делу его, за работу он сам не возьмется охотой. Тягостный рабства удел избрав человеку, лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет». «Раб нерадив!» – восклицал Юра. И призывал освободить от рабства бывшего советского крестьянина – колхозного раба, как называл его Черниченко. Понимал, что сделать это очень непросто: рабство въелось в психологию, – отчуждаясь советской властью от земли, колхозник не был заинтересован в плодах своей работы на ней. Понимал Черниченко и то, что в освобождении крестьянина от рабской психологии бывшая номенклатура, становясь ею нынешней, не заинтересована. И в этом смысле называл государство «кликухой местной бюрократии». Но Черниченко был природным борцом за справедливость. А таких людей в своей борьбе согревает надежда на то, что справедливость обязательно победит.
Как не хватает нам сейчас таких людей!
15 ИЮЛЯ
Рафаэло Джованьоли, умерший 15 июля 1915 года (родился 13 марта 1838-го), лично мне известен как автор прочитанного в детстве романа «Спартак».
Я его не перечитывал, но в то время он мне понравился. Привлекал своим свободолюбивым героем Спартаком, возглавившим восстание рабов против римских патрициев.
Позже я узнал, что известному футболисту и тренеру Николаю Старостину роман Джованьоли подсказал название нового спортивного общества в 1936 году.
А ещё позже – что «Спартак» открывает собой целый цикл исторических романов Джованьоли о Древнем Риме.
Но я их не читал.
* * *
Однажды, идя по арбатскому переулку Сивцев Вражек, я увидел на его конструктивистском доме памятную доску с надписью: «Здесь появилась песня «Подмосковные вечера». Автор М. Матусовский». И подумал: какая, однако, великая честь этой песне! Не совсем, правда, понятно, почему умолчали о композиторе В. Соловьёве-Седом, без которого песня не появилась бы! Возможно, что на доске вместо «появилась» надо было бы поставить «зародилась». Но даже такая поправка не прояснит смысла появления памятной доски. Ведь не хотели же сказать те, кто её устанавливал, что поэт-песенник только одну песню в этом доме и написал?
Если хотели, то это неправда! Михаил Львович Матусовский, скончавшийся 15 июля 1990 года (родился 23 июля 1915-го), написал великое множество стихов, которые стали песнями. За что, кстати, был даже отмечен Государственной премией. Среди этих песен есть немало ставших популярными. Навскидку: «Вернулся я на Родину», «Школьный вальс» «Вечер вальса», «Чёрное море моё», «Летите, голуби, летите», «Скворцы прилетели», «Старый клён», «Лодочка», «Это было недавно» «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Что так сердце растревожено». Ну, не верится, что Михаил Львович не написал слов какой-нибудь из названных здесь песни в этом доме! Или он не жил там? Зашел к кому-нибудь в гости и сочинил «Подмосковные»? Тогда эту информацию надо бы добавить! Скажем, написать «в гостях».
* * *
О Марке Аркадьевиче Тарловском, скончавшимся 15 июля 1952 года, мне было известно, что он автор русского текста военных стихов Джамбула Джабаева, в том числе и того стихотворения, которое мы учили в школе, – «Ленинградцы, дети мои». Потом я узнал, что акын Джамбул вообще не напевал этих текстов. К нему приставляли литературных секретарей, полагавшихся членам Союза писателей. А Джамбул был не только членом этого союза, но и лауреатом сталинской премии. Тарловский работал секретарём акына с 1941 по октябрь 1943 года. Так что укрепил репутацию казахского старца.
Правда, информацию о том, что Джамбул не писал своих стихов, пытались не раз опровергнуть. В частности, пытался это сделать и Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, бывший в 1954 году первым секретарём ЦК компартии Казахстана. Но, по правде сказать, лучше бы не пытался. Вот что он сказал, называя Джамбула Жамбылом, на состоявшемся в то время III съезде казахских писателей: «После смерти Жамбыла, – прошло много лет, остались все его секретари, переводчики, но почему-то нет ярких стихов Жамбыла, дело видно в том, чтобы гранить как алмаз (что якобы делали его секретари, переводчики), надо иметь этот самый алмаз, чем и была поэзия Жамбыла».
Странное опровержение, правда? Кому бы из тех, кто писал за Джамбула, могло прийти в голову продолжать писать за него стихи после смерти акына?
Ну, а что касается Тарловского, то он в юности примыкал к южно-русской (одесской) поэтической школе, написал стихотворные мемуары о Багрицком «Весёлый странник», выпустил три книги собственных стихов, переводил не только Джамбула и не так, как Джамбула, Беранже, Гюго, Гейне, других поэтов.
Об этом мне рассказывал Семён Израилевич Липкин. Он не то что ценил переводы Тарловского, но не отвергал их. Он, кстати, рассказывал и о том, как однажды в Коктебеле королём поэтов избрали Волошина, а принцем – Тарловского. И этим обидели Шенгели, который хотел быть принцем.
Но потом я нашёл тот же рассказ в «огоньковской» книжке Липкина. Цитирую оттуда:
«Не будучи избранным в принцы, Шенгели по-детски обиделся на Марка Тарловского. Мне рассказывали, что в своё время Тарловский пришёл к нему как ученик: «бей, но выучи». Но получилась так, что, по крайней мере в литературной среде, пусть на мимолётный миг, вспыхнула слава Тарловского в то время как имя Шенгели угасло. Напомню, что Максим Горький, открывая своим предисловием «Библиотеку поэта», цитирует в первом её томе стихотворение Тарловского, правда, без восторга, даже поругивая, но с несомненным интересом к содержанию…»
Оборву цитату. Липкин цитирует стихотворение Тарловского. Но мне оно не нравится.
Всё-таки, думаю, что стихи Тарловского, родившегося 2 августа 1902 года, в истории литературы не остались. Он остался в ней как автор стихотворения «Ленинградцы, дети мои», конечно, в той мере, в какой осталось в истории литературы это стихотворение. И тем ещё, что известный поэт Арго был его двоюродным братом.
* * *
У Антона Павловича Чехова, умершего 15 июля 1904 года (родился 29 января 1960-го), люблю почти всё. Обожаю его пьесы. В особенности, «Вишнёвый сад», на долю которого выпала трагическая участь: его поставил Художественный театр как трагедию. Умирающий Чехов, написавший комедию, воспрепятствовать этому не мог. С тех пор так и читают, так и ставят, – как трагедию.
Эту традицию удалось поломать Сергею Шелехову, выпустившему в издательстве МГУ «Путеводитель по комедии А.П. Чехова «Вишнёвый сад». К сожалению, эта серия путеводителей, где я – главный редактор редколлегии, не раскручена издательством. Многие о книгах, вышедших в ней, просто не знают. И многие, особенно преподаватели литературы, благодарят меня за наводку.
В старости я особенно оценил запись героя Чехонте в его «Жалобной книге»: «Лопай, что дают!» и правила воспитанного человека, которыми Чехов поделился со своим братом Николаем:
«Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:
1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних…
2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом…
3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.
4) Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.
5) Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: меня не понимают!…
6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями, восторг встречного в Salon’e, известность по портерным…
7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой…
8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт… Спать с бабой, дышать ей в рот […] выносить её логику, не отходить от неё ни на шаг – и всё это из-за чего? Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот […], не ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без устали… Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не […], а матерью… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только, когда свободны, при случае… Ибо им нужна mens sana in corpore sano».
Латинская концовка переводится на русский, как в здоровом теле здоровый дух! В свете восьмого правила это напоминание особенно уместно.
* * *
Открытое письмо Вениамина Александровича Каверина Константину Александровичу Федину я прочитал в том же 1968 году, когда оно было написано. Бывший «Серапионов брат» извещал своего собрата по Серапиону, что знать его больше не хочет. Мотивы понятны: некогда талантливый Федин не просто растерял свой художественный талант, но взамен обрёл новый – сервильный – талант угадывать с первого взгляда, с первой минуты, что от тебя требуется хозяевам и немедленно бросаться исполнять требования.
Речь шла о публикации романа Солженицына «Раковый корпус», который уже обсудило и приняло решение печатать разрешённое властями собрание московских писателей. От Главного Писателя СССР – Председателя правления Союза писателей Федина ждали поддержки этого решения. Но горько ошиблись в своих ожиданиях. Хотя, на мой и тогдашний взгляд, фединское поведение было абсолютно предсказуемо. Возможно, конечно, что он добился бы разрешения печатать Солженицына, которого основательно пощипала бы цензура. Но, скорее всего, он понимал, что ничего от него не зависит. Что пойди он на поводу у писателей, и волшебные его номенклатурные привилегии исчезнут. А ими дорожили и не пробрасывались.
Мне рассказывал один мой бывший коллега, известный критик, которого поддерживал и которому одно время помогал Феликс Кузнецов, как очутились они с жёнами в Ленинграде. Коллегу поселили в обычном гостиничном номере, а Феликсу союз писателей оплачивал «люкс». Кузнецов с женой принимали приехавшую с ними семейную пару у себя в номере весьма радушно, возили на персональной машине, которую закрепили за первым секретарём московского отделения союза писателей, депутатом Верховного Совета РСФСР Феликсом Феодосиевичем Кузнецовым, едва он ступил на ленинградскую землю.
– Хочешь так жить? – благодушно спрашивал моего бывшего коллегу Феликс. – Для начала вступай в партию. А там положись на меня.
Коллега, который умел держать нос по ветру не хуже Феликса, коллега, который сумел даже расположить к себе самого Георгия Мокеевича Маркова, первого секретаря всего писательского союза, и получать от Маркова заграничные командировки, – этот мой коллега вступать в партию решительно отказывался: не мог простить большевикам репрессированных родителей и своё нищее детдомовское детство. И обдумывал, как бы ему обойти этот этап. Потому что жить, как Феликс, очень хотел. Ведь первому секретарю московского отделения привилегии установили на уровне республиканского министра.
Ну, а председатель правления Союза писателей СССР входил в номенклатуру политбюро ЦК партии. Он на номенклатурной шкале был приравнен к зампреда Совмина СССР. Федина сделали депутатом Верховного Совета СССР, академиком большой академии, практически взяли на полное государственное содержание, исполняли почти все его желания. За что? За то, чтобы он поддержал решение печатать роман Солженицына?
Конечно, Серапионов брат не ответил на письмо собрата. Да он и собратом его не ощущал. Когда это было – Серапионовы братья? Давно быльём заросло!
Но именно в пору «Серапионов» Федин, умерший 15 июля 1977 года, не считался, а был писателем. Повесть «Анна Тимофеевна» (1923), романы «Города и годы» (1924), «Братья» (1928), рассказы тех лет обнаруживают то, что и должно обнаружить – ни на кого не похожий собственный стиль, в котором сказ сочетается с декадентской расхристанностью. Умел Федин, родившийся 24 февраля 1892 года, с самого начала повествования заинтриговать читателя и держать его в напряжении до конца. Тонкий психолог, он создавал живых героев.
Этому своему умению он изменил уже в романе «Похищение Европы», который писался в 1935-1936 годах не «Серапионом», а членом правления Союза писателей СССР. В роман врывается политика; два его героя олицетворяют два мира. Обречённая на гибель Европа дана глазами большевика Рогова, крепнущая Советская Россия, привносящая новое в мир страна Советов – глазами капиталиста, лесного короля Ван-Россума. Нетрудно догадаться, кому в этом столкновении отдаст победу автор. В 1940 году в романе «Санаторий Арктур», перепевающем «Волшебную гору» Томаса Манна, победа здорового СССР над гнилым Западом подтверждена и утверждена окончательно.
Ну, а что до его трилогии: «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947-1948) и «Костёр» (начат в 1961-м), то она зафиксировала падение. За два первых романа Федин удостоен сталинской премии 1 степени, что означало: они понравились Сталину. Новые главы «Костра» появлялись в «Новом мире», кажется, только для того, чтобы свидетельствовать: писателя Федина больше нет!
Недавно в «Дружбе народов» я прочитал воспоминания о Федине бывшего работника его аппарата Юрия Оклянского. Оклянский представляет Федина едва ли не скрытным оппозиционером, нажимает на то, что Константин Александрович помог некоторым литераторам, на то, что в учениках Федина был Юрий Трифонов.
Но помогали литераторам, порой отверженным, и другие писательские функционеры, которые не были тупо свирепы, как, допустим, Анатолий Софронов или Пётр Проскурин. А Трифонов был благодарен Федину, который его отличал в своём семинаре в Литинституте, но на сталинскую премию, как пишет Оклянский, трифоновских «Студентов» не выдвигал. Выдвинула его редакция журнала «Новый мир» Твардовского. «Студенты» были дипломной работой Трифонова. Он защитил диплом под руководством своего руководителя Федина, к которому и в дальнейшем относился хорошо. Но Федину и в голову не пришло выдвинуть повесть своего дипломника на сталинскую премию. Говорю не в осуждение, а в опровержение мнимой заслуги.
* * *
Борис Леонтьевич Горбатов, родившийся 15 июля 1908 года, начинал как пролетарский писатель и был одним из организаторов объединения пролетарских писателей Донбасса. С 1928 года – представитель ЦК комсомола в Госиздате (была прежде такая номенклатурная должность). В 1931-м зачисляется в штат газеты «Правда», ездит по стране, пишет статьи и очерки. Во время войны является военным корреспондентом этого центрального органа компартии. Его книгу «Письма к товарищу» (1941-1944) высоко оценил К. Симонов, который назвал её «вершиной публицистики военных лет».
Его романы, написанные до войны, «Наш город», «Ячейка» сейчас мало кому известны. И поделом: художественной ценности они не представляют.
Со многими оговорками можно принять повести «Моё поколение» (1933) и «Непокорённые» (1943), за которую Горбатов получил первую свою сталинскую премию. Вторую – за написанный им в 1950-м сценарий фильма «Донецкие шахтёры».
Задумал Горбатов многотомный роман «Донбасс» – о стахановском движении и жизни советских пролетариев в тридцатые годы. В 1950-м закончил первый том. Дальше работа не пошла. А 20 января 1954 года он умер.
Был секретарём Союза писателей СССР. Дружил с К. Симоновым, который выступил в 1974 году соавтором сценария «Обыкновенная Арктика» по рассказам Горбатова, какие он написал, работая в «Правде».
В воспоминаниях актрисы Т. Окуневской, его первой жены, Горбатов охарактеризован как слабовольный, но добрый человек.
Наверное, так оно и было. Т.К. Окуневская была арестована в 1948 году. И Горбатов, который женился второй раз и тоже на актрисе, от какой у него осталось двое детей, много сделал для освобождения первой жены, которая вышла из лагеря в 1954-м, в год смерти своего бывшего мужа.
* * *
Ну, разумеется, занимаясь поэзией в «Литературной газете», мне пришлось сталкиваться с ростовским поэтом Даниилом Марковичем Долинским, родившимся 15 июля 1925 года. Потом я узнал, что после войны (а он на ней воевал) он вместе с Булатом Окуджавой в Тбилиси входил в кружок «Соломенная лампа», названного в честь абажура в квартире тёти Окуджавы, где собирался кружок.
Любые самостийно возникшие кружки вызывали интерес к себе госбезопасности. Булат и Даниил дёшево отделались: Окуджава успел уехать в Москву, а Долинский в Ростов-на-Дону. Многие не успели удрать, и были арестованы.
На следующий день после смерти Окуджавы Даниил Долинский написал:
Как под лампою «соломенной» Мини-солнышко жило!… Виснул гром на ветке сломанной - Добела её прожгло. Время было не весеннее - Речь кровили удила, И на ниточке висели мы, Прошивающей дела. Чьи-то строчки… где-то… что-то там Молодняк да наивняк: То да сё… Никак не шёпотом Да и вслух – почти никак. Пронесло… Прошло… В прогалины Чист средь тучищ небосклон! Ты влюблён в улыбки Галины, Я – в Иринины влюблён. Сквозь старенье наше сирою На скамеечке места Всё нам держат Галя с Ирою У Мухранского моста, Где Кура рядится истово Белогривым скакуном, Где шуршанье многолистово, Где рассвет пьянит вином… Две сестрицы – две красавушки (где тот дом, и где та дверь?!) Две плакучих – после ивушки Незабудки две теперь. Всё то памятью несломленной Сохранилось в вихре лет. Но под лампою «соломенной» Время выключило свет…Вот, оказывается, как оно было: Булат и Даниил ухаживали за сёстрами Смольяниновыми. Галина потом стала первой женой Булата.
Ничего этого я, разумеется, не знал. Мне и в голову не приходило спрашивать у Булата о Долинском. Хотя о «Соломенной лампе» я кое-что от него знал.
Мне Даниил Маркович всегда был симпатичен, хотя стихи его нравились не очень. Кажется, он это понимал, потому что никогда не просил меня о рецензии.
У нас был в Ростове общий знакомый Лёня Григорьян, очень хороший поэт. Вот о нём мы с Даниилом Марковичем говорили часто. Долинский был рад, что я ценю Лёню, а я оценивал ещё и благородство Даниила Марковича: радоваться за другого – умение, какое даётся далеко не каждому!
Впрочем, не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я считаю Долинского графоманом. Это неправда. Я перечитал его уже после его смерти, которая случилась 2 ноября 2009 года, и убедился, что есть у него и очень неплохие стихи:
Не помышляя о покое, Воистину устав от дел, Я видел многое такое, Чего бы видеть не хотел. И, видя, как светило гасло Среди колючек и колья, Я улыбался многим назло, Желавшим, чтобы плакал я…16 ИЮЛЯ
Оказывается, семейство Аникстов вернулось из эмиграции в Россию в 1917 году так же, как и Ленин с Крупской, – в специальном вагоне и с разрешения германского правительства, которое не без основания рассчитывало, что большевистский лозунг «превратим мировую войну в гражданскую» послужит разложению русской армии.
Абрам Моисеевич Аникст к 1917-му стал большевиком. Но поначалу им не был. Вступал в революционное движение как анархист. Это ему, занимавшему в стране Советов крупные государственные посты, будет зачтено. 2 ноября 1937 года его арестуют, а 19 марта 1938-го расстреляют.
Его жена Ольга Григорьевна Аникст с 1915 года по рекомендации Ленина и Крупской работала в Швейцарии секретарём Общества помощи ссыльным и политкаторжанам. После эмиграции руководила организацией профессиональных заведений, перестройкой школьной системы, подготовкой рабочих на производстве. Была редактором журнала «Жизнь рабочей школы», организовывала съезды по образованию рабочих подростков и по рабочему образованию. Была в 1930-м командирована в Германию и после возвращения создала и возглавила в качестве его первого ректора Московский институт новых (иностранных) языков (нынешний Московский государственный лингвистический университет). Работала начальником Управления учебных заведений в Наркомате местной промышленности РСФСР.
И, разумеется, была арестована. Сразу же после расстрела мужа. Как член семьи изменника родины. Провела восемь лет в мордовских лагерях и ещё десять в ссылке в Свердловской области.
Оставила воспоминания, где рассказала об истории семьи Аникстов и где очень тепло вспоминала о своих встречах с Лениным и с Крупской.
В этой семье и родился в Цюрихе 16 июля 1910 года Александр Абрамович Аникст. «Он очень увлекался игрой в марки и знал всех депутатов английского парламента, – вспоминает его мать. - Хватал наши газеты, читал все речи их. Играя в марки, он устраивал войну между королями Англии и др. Дедушка его называл «Чичерин» и настаивал, чтобы он пошёл на Международный факультет. Однако, когда Саша окончил 10 классов, мы попытались определить его в 1-ый МГУ. Но оказалось, что по математике он не сдал даже на «хорошо», несмотря на то, что дома имел репетитора. Не любил математики, и всё. Впоследствии он поступил в институт имени Либкнехта на литературное отделение. Затем, после какой-то реорганизации института, он был переведён во 2-ой МГУ на педагогический факультет, который и окончил».
В 1938 году он защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Мильтона. С началом войны вступил в московское ополчение. Четыре года был на фронте. После возвращения преподавал историю английской и американской литературы, занимался исследовательской, авторской, составительской и комментаторской работой. Защитил докторскую диссертацию по творчеству Шекспира в 1963 году.
Стал крупнейшим специалистом по шекспироведению, по которому опубликовал больше ста работ. Среди них не только великолепно написанная книга о великом писателе и драматурге, изданная в серии «Жизнь замечательных людей» (1964), но и такие, представляющие огромную научную ценность, как «Театр эпохи Шекспира» (1965), «Первые издания Шекспира» (1974), «Шекспир. Ремесло драматурга» (1974), «Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий» (1986). Не говорю уже о многих предисловиях к отдельным публикациям драм Шекспира, о статьях в научных изданиях, во многом по-новому осветивших ту или иную проблему шекспироведения.
Впрочем, вклад Аникста в науку о литературе ещё обширней. Он писал книги о Бернарде Шоу (1956) и Даниеле Дефо (1957), о «Фаусте» Гёте (1979 и 1983), о творческом пути Гёте (1986). Наконец, следует отметить его книги о теории драмы: «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» (1967), «Теория драмы в России. От Пушкина до Чехова (1972), «Теория драмы на Западе в первой половине XIX века» (1980) и во второй его половине (1988).
Он был почётным доктором Бирмингемского университета. Был председателем Шекспировской комиссии Академии наук. А по воспоминаниям близко знавших его людей, был прекрасным общительным человеком. Студенты его обожали. Профессора тоже. Столетию его памяти были посвящены сборники «Шекспировские чтения 2006» и «Шекспировские чтения 2008-2010». В одном из них опубликовано завещание Аникста «Остающимся в живых», которое даёт объёмное представление об этом незаурядном человеке. Он умер 24 декабря 1988 года.
* * *
Женя Богат, Юра Тимофеев – люди, крепко дружившие между собой и по-своему невероятно интересные в отделе так называемого коммунистического воспитания «Литературной газеты», с которыми я познакомился в 1967 году, когда пришел в неё работать. Работала в отделе ещё и приветливая Таня Снегирёва, но она быстро сгорела – рано умерла.
А своего заведующего – Валентину Филипповну Елисееву отдел не любил. Она, как и сама говорила об этом на летучках, подходила к печатающимся материалам с партийных позиций. Когда я пришёл в газету, её пыл поубавился, поутих. Но старые работники вспоминали её пламенным обличителем.
Юра был общим любимцем. С ним сразу переходили на «ты», выпивали большой компанией, в которую он любил собирать сотрудников и вести к себе домой. Был он добр и беспечен. Занимал прежде должность главного редактора детского издательства, но в номенклатуре не удержался: он для неё не был создан.
А Женя был церемонен. Амикошонства не любил. Выпивать тоже. Сближался с людьми труднее. Но если сближался, то дружил с тобой прочно. Недаром, когда он умирал, и больница попросила добровольцев в редакции сдать для него кровь, вызвались очень многие.
Евгений Михайлович Богат родился 16 июля 1923 года. Работал до «Литературки» в разных газетах. В московском областном «Ленинском знамени» его заприметил главный редактор «Вечерней Москвы» Виталий Михайлович Сырокомский. «Вечёрка», «Ленинское знамя», «Московская правда» и «Московский комсомолец» находились в одном здании, принадлежавшем горкому и обкому партии и комсомола. Сырокомский читал статьи Богата и они ему нравились. Он мне рассказывал потом, что подумывал переманить Женю в свою газету. Но не успел: его самого переманил Чаковский к себе первым замом. Чаковский задумал реформу «Литературной газеты» и позвал Сырокомского её осуществлять, предоставив ему полномочия набирать тех, кто ему нужен, и избавляться от тех, кто ему не нужен. Так и оказался Женя в «Литературной газете».
Он очень ценил это своё рабочее место. Говорил мне, что долго не мог поверить тому, что Сырокомский окажется в состоянии пробить такие материалы, о которых нельзя было и подумать в «Ленинском знамени». «Я убивал в себе внутреннего цензора, – говорил Женя. – И такое убийство давалось нелегко: привычка – вторая натура!»
Тем не менее её, эту злополучную привычку, он преодолел. Привык к другому – к полному самораскрытию собственной личности в своих статьях, что обеспечило ему успех у благодарных читателей, а нашей газете добавило подписчиков.
Он и был из тех публицистов, которых называли «золотыми перьями» редакции: Толя Рубинов, Аркадий Ваксберг, Алик Борин, Ольга Чайковская, Паша Волин, Толя Левиков, позже – два Юры – Щекочихин и Рост.
Женя выделялся и на их фоне: его очерки были философичны и, посвящённые конкретному событию, оказывались как бы вне конкретного времени. Потому что писал Богат о человеческой душе, открывал в ней огромные моральные возможности для реализации, предупреждал о её хрупкости и призывал к сбережению её в чистоте, не пятная. Нет, он не был религиозен. Но статьи его были проповедническими, обращёнными к внимающей автору пастве. Такая стилевая манера отличала ещё одного нашего автора – Симона Соловейчика. Но Сима в редакции не работал. К тому же цензору с Симой было намного легче, чем с Женей. Соловейчик писал о школе, освещать проблемы которой можно было только в рамках установленных цензурой правил. Помню, как придирался цензор к Симе и как обдумывали в отделе пути, какие помогли бы обойти цензурные преграды. Не думаю, что статьи Богата нравились цензору. Но насчёт души цензура чётких установок не имела, а что до запретных философов, чей список был у цензора, то Женя их и не цитировал. Мог отослать читателя к Монтеню или Руссо, цитировал русских и зарубежных классиков литературы – что было в этом запретного?
Забавно, что обоих – Соловейчика и Богата – в редакции звали «гривастыми». Не из-за стилевого сходства, разумеется, а потому что у обоих причёски были на самом деле похожи на львиную гриву, у обоих длинные волосы как бы развевались при походке.
Женя умер относительно рано – 7 мая 1985 года, не достигнув 62 лет. Он оставил после себя внушительное количество книг, которые в своё время были не менее популярны, чем его статьи в «Литературной газете». К примеру, «Ахилл и черепаха» или «Урок». Будут ли читать их в будущем? Судить не нам. История знает немало примеров возвращения забытых было книг в литературу. Иногда они возвращаются спустя весьма продолжительное время.
* * *
Володю Британишского я помню по литературному объединению «Магистраль», куда они ходили с женой Володи Наташей Астафьевой, тоже поэтессой.
Он в её честь назвал одну из первых своих книг «Наташа», которую мы обсуждали в «Магистрали».
Родился Владимир Львович Британишский 16 июля 1933 года. Вообще-то набирался соков он в Питере. Там жил и посещал знаменитое литобъединение ленинградского Горного института, которое вёл Глеб Семёнов. Оттуда вышли А. Битов, Г. Горбовский, А. Городницкий. Британишский знал Кушнера, Соснору, Рейна. Упоминал о его стихах Бродский в одном из своих интервью. Володя печатался в «Звезде» с 1955 года. И уже в 1961-м его приняли в Союз писателей.
Членство в Союзе не мешало ему приходить в «Магистраль», которую посещали Булат Окуджава и Володя Войнович, Эля Котляр и Нина Бялосинская, тоже ставшие членами писательского Союза.
Наверное, ему были интересны наши выступления. Могу сказать, что его стихи были интересны нам, «магистральцам». Мне, например, понравилось его стихотворение «Читая Ремарка»:
Человек пришёл с большой войны. Цело, невредимо было тело. Но война из-за его спины Глядела, За плечами у него сидела Крепче ведьмы, цепче сатаны. Человек пришёл с большой войны В дом, в четыре собственных стены. Но война его не отпустила, Тягостная, у него гостила, Комната едва её вместила, Были стены для неё тесны. Человек пришёл с большой войны. Вот он лёг, заснул и видит сны, Окружённый, как тогда, в Арденнах, Ужасами яростной войны… Человек нашёл себе жену, Он рождения увидел чудо. Но остался у войны в плену, Без надежды вырваться оттуда. Он мальчишкам роздал ордена, Штатское купил себе с получки. Но сидела за столом война И кусок брала себе получше. Умер он через пятнадцать лет. Врач пришёл пролить научный свет. Бездыханное молчало тело. Было всё: латынь, учёный вид… А война По-прежнему глядела Из больших, ввалившихся орбит. Человек был на войне убит.Была в его стихах, какая-то крепкая основательность, которая, как я потом уже понял, вообще отличала птенцов гнезда Глеба Семёнова. Семёнов выпустил настоящих профессионалов. Не случайно, что В. Британишский публиковал в «Вопросах литературы» статьи о польском барокко. Семёнов научил студийцев понимать, что содержание и есть форма стиха. Они и выбирали форму по своему содержанию.
Я встречал потом много публикаций Британишского. Поражался его работоспособности. Он ведь ещё и переводил. И печатал свои переводы с польского, с английского, с чешского, словацкого. Переводил У. Уитмена, Я. Ивашкевича, Ч. Милоша, У.К. Уильямса. Начинал печататься с переводов негритянского поэта Л. Хьюза. Особенно много перевёл польских поэтов.
А кроме того, Британишский писал прозу. Выпустил книгу ещё в 1969 году. В 2008-м в издательстве «Аграф» вышла книга его прозы «Выход в пространство».
В заключение снова хочется процитировать Британишского. На этот раз стихотворение, которое написано намного позже того, которое я процитировал раньше:
Марине Дочь у меня – психолог, работает в диспансере. Она отделять обязана нормальных от ненормальных. Она мучительно ищет некий надёжный критерий, чтоб точно чертить границу безумья их и ума их. Но нет такого критерия. Похоже, что все – больные, не то, чтобы инвалиды, но очень уж неполноценны, а что особенно часто её повергает в унынье: не столько они шизофреники, сколько олигофрены. Да, да, дураки, недоумки. Как быть с ними? Что возьмёшь с них? С дебилов и с идиотов, с бессмысленных имбецилов? Что делать с малыми сими? Беспомощность и невозможность. И Бог, обидевший всех их, всем им помочь не в силах. А ей что? Не брать же их на руки – утешить их и утишить! Она их классифицирует, она сортирует, бракует… Потом домой возвращается – кричит на своих мальчишек, на мать, на мужа… И курит, и курит, и курит…Умер Владимир Британишский 24 декабря 2015 года.
* * *
С поэтом Андреем Дементьевым у меня отношения складывались странно. В одной из своих статей я критиковал его стихи, напечатанные, наверное, в «Юности». Точно не помню, но кажется, что там. Потому что заведующий отделом поэзии этого журнала поэт Натан Злотников, встретив меня, заголосил: «Геночка, ты обидел очень хорошего человека. Это добрейший малый. Его ценит Борис Николаевич». Борис Николаевич – главный редактор «Юности» Полевой. Что речь шла о стихах именно Дементьева, я очень хорошо помню.
Донесли мне, что якобы он в Калинине (Твери), где жил тогда, сказал кому-то: «Красухин просто искал, по кому ударить. И здесь я попался ему под руку. Он выполнял редакционное задание». Если он это сказал, то критики моей не опроверг. Просто представил её вынужденной, какой она, конечно, не была.
А потом Дементьев переехал в Москву, стал в «Юности» заместителем Полевого, и я перестал там печататься даже с маленькими рецензиями. Не предлагал их, потому что был уверен: не опубликуют. Но вот Дементьев после смерти Полевого назначен главным редактором «Юности». И через какое-то время подходит ко мне в «Литературной газете». «Почему, – спрашивает, – вы у нас не печатаетесь?» «Да никто не зовёт», – отвечаю. «Я зову, – твёрдо говорит Дементьев. И улыбается мне: – Буду рад видеть вас на наших страницах».
Вот здесь я и вспомнил Злотникова. Его отзыв: «Добрейший малый».
Что ж. На дворе стоял 1984 год. Моему другу Булату Окуджаве в мае исполнялось 60 лет. Я предложил статью о нём главному редактору «Юности».
– Очень хорошо! – сказал он. – Пишите, поставим в пятый номер. Поздравим Булата.
Я прочитал гранки статьи, идущей в майском номере. Однако, как через несколько дней сказали мне в секретариате, из майского номера Дементьев её вынул.
Он позвонил мне домой, извинился, сказал, что статья ему нравится и что она пойдёт в седьмом, то есть июльском номере. «От вас и от меня такая перестановка не зависит», – сказал он.
И в седьмом номере «Юности» статья, которая очень понравилась жене Булата, Оле, действительно вышла.
Вот так ответил мне поэт на критику его стихов. Не припомню больше подобного случая.
К тому я это рассказываю, чтобы подтвердить: Андрей Дмитриевич Дементьев, родившийся 16 июля 1928 года, человек незлобный.
Как я отношусь к его стихам? Да, пожалуй, что мнения о них я не переменил. Другое дело, что он поэт-песенник. А к текстам для музыки нелепо предъявлять такие же требования как к стихам.
* * *
Летом 1978 года оказался я в Новосибирске на Днях советской литературы. На таких днях я был не в первый раз и знал, что меня ждёт беспробудная пьянка с секретарями райкомов, председателями колхозов и директорами предприятий. В основном, конечно, это ожидание подтвердилось. Но на моё счастье в городе работал собственный корреспондент «Литературной газеты» Коля Самохин. И хотя я приехал не от газеты, а от Союза писателей, Коля бросился ко мне и стал в этой поездке меня опекать.
Вне программы поехали мы с ним на его дачу, где прогулялись по дивному лесу, постояли у ослепительного озера. Коля предложил искупаться, но плавок у меня не было. Поэтому Коля ушёл в воду, а я остался на берегу. И вот ко мне подошёл пожилой мужчина, который заговорил со мной, как со старым знакомым. Я отвечал, удивляясь смелости собеседника: мы говорили о роскошной природе этих мест, о том, как губит природу выросшее вокруг военное производство. Так, не знакомясь, мы болтали весьма оживлённо, пока не вышел на берег Коля.
– А, – сказал он, – вы уже познакомились. Это хорошо. Пойдёмте, Юрий Михайлович, ко мне посидим. – Как вам мой коллега? – обратился он к Юрию Михайловичу.
– А вы коллеги? – спросил в свою очередь тот.
– Так вы так и не познакомились? – удивился Коля. – Это Юрий Михайлович Магалиф, наш поэт, – сказал он мне. – А это… как твоё отчество? – спросил он меня.
Я сказал. И он представил меня Магалифу.
На даче у Коли было очень неплохо. Мешало только, что Магалиф, узнав, что имеет дело с критиком, начал зачитывать меня своими стихами. Но, зная за собой привычку, выпивая, хвалить человека, я его остановил. Сказал, что стихи со слуха не воспринимаю.
Юрий Михайлович не обиделся. Рассказывал о себе. В 1938 его вместе с родителями выслали в Казахстан. А в 1941-м посадили за найденную в бумагах стенограмму Первого съезда Союза писателей.
Я удивился. Он объяснил, что стенограмма в то время была изъята и относилась к запрещённым книгам, которые из-за запрета считались антисоветскими. Его осудили на пять лет за хранение антисоветской литературы, и послали в лагерь под Новосибирском. Так он в этом городе и оказался.
Назад мы ехали втроём. Магалиф рассказывал о недавно умершем художнике. Я знал, что Окуджава посвятил ему стихотворение. Но что это за художник, Булат не говорил. Точнее, я о нём его не спрашивал. Машина повезла нас в дом художника, где нам открыли и не обрадовались. Во-первых, для гостей время было позднее. А во-вторых, хозяева сразу поняли, что гости навеселе.
Но обаяние Магалифа и здесь подействовало. Мне показали акварели и пейзажи Николая Грицюка, и хмель слетел с меня. Радостно было смотреть эти полотна и рисунки. Разноцветье пело, и душа отзывалось этому пению.
Я потом пересмотрел картины Грицюка, когда мы вернулись в Новосибирск из поездки в районную Колывань. Проверял себя: действительно ли они так прекрасны или я перехваливаю, как обычно, когда выпиваю. Нет, не перехваливал: опять на меня хлынуло это поэтическое разноцветье, и я купался в нём.
Я остался благодарен поэту и прозаику и, кажется, ещё и драматургу Юрию Михайловичу Магалифу (16 июля 1918 – 28 января 2001), за приобщение меня к миру замечательного художника. Кстати, и Магалиф написал о Грицюке:
Моё сердце мы завтра Отправим в починку – Что-то тянет оно Не вперёд, а назад… А сегодня поставим Большую пластинку, Где военные марши Гремят и гремят. Ну-ка, марш – начинай! Раскачай эти стены! Чтоб картоны, срываясь, Летели из рам! Утверждай, Что вовеки пребудут нетленны Все картины, Где краски и кровь пополам! Мы реальны, как цвет, Как простейшая гамма. Жизнь позирует нам От темна дотемна. Только смерть - (Эта слишком конкретная дама) – Притворяется, Будто абстрактна она… Громче музыка – Музыка света и славы! - Мы всегда Этим трубам Внимаем всерьёз. В нашем деле Ни прибыли нет, Ни забавы: Смотрим, Слушаем, Терпим. До боли, До слёз. …И уходит В бессмертье Кто храбрее И старше; Кто в труде исступлённом Был грешен И свят. Он боец. Он вернётся. Военные марши Всё гремят и гремят… Всё гремят и гремят…Понимаю, что «Песенка о Пиросмани» Окуджавы, посвящённая художнику Николаю Грицюку, не пойдёт в сравнение с этим стихотворением. Не удивительно: Булат был поэтом, а Магалиф всего лишь стихотворцем. Но я ему остался благодарен: он открыл мне чудесного художника.
* * *
О Николае Николаевиче Асееве (10 июля 1889 – 16 июля 1963) мне рассказывал Станислав Рассадин. Асеев опекал молодых поэтов. Хвалил Соснору, Ахмадулину, Вознесенского. Особенно покровительствовал Юрию Панкратову и Ивану Харабарову.
Два этих последних учились в Литинституте, увлекались поэзией Серебряного века и выступили в печати со статьёй против традиционной поэзии. Они противопоставили ей оперённое «новой» рифмой четверостишие одного из них – Панкратова:
Зима была такой молоденькой, Такой весёлой и бедовой. Она казалась мне молочницей С эмалированным бидоном.Позже критик Бенедикт Сарнов будет высмеивать это четверостишие, спросит: «Вы когда-нибудь видели у молочниц эмалированные бидоны? Скажете: пустяк? А я отвечу, что это отсутствие интереса к реальной жизни, пренебрежение реальностью ради поэтического фокусничанья». Я пересказываю Сарнова своими словами, но смысл его высказывания передаю точно.
Но Асееву такие стихи нравились, и он носился с ними, как с писаной торбой.
Особенно, рассказывал Рассадин, они увлекались стихами Пастернака, с которым познакомились и который их хорошо принял, похвалил их стихи. Но, когда потребовали отречься от мэтра, они сделали это, не задумываясь. И, мало того, чуть ли не с благословения самого Пастернака, которому поведали, что отрекутся от него, хотя и не перестанут любить его стихи. «Что ж, – понимающе сказал Пастернак, – у вас ещё жизнь впереди». Окрылённые его пониманием, они перешли с пастернаковской дачи на асеевскую, поставили на стол бутылку водки и рассказали хозяину дома об удачно проведённой ими операции. «Вон! – рявкнул Асеев. – И забудьте ко мне дорогу». Но минут через десять они снова постучались к Асееву. Николай Николаевич открыл дверь: «Ну, что ещё вам здесь надо?» «Простите, Николай Николаевич, – ответили они. – Мы у вас нашу водку забыли». Асеев отдал им бутылку и захлопнул дверь.
В «Книге памяти» Рассадин рассказывает этот эпизод с водкой иначе. Но когда я напомнил ему его же рассказ мне, он сказал, что правда не в его книге, а в том, что он мне рассказал. А в его памяти наложились друг на друга два разных не связанных между собой эпизода. Один из них к Асееву отношения не имеет. Имеет тот, что он рассказал мне. И просил, если не удастся ему исправить эпизод в новом издании книги, найти повод и восстановить истину. Новое издание его книги не вышло. Поэтому выполняю его просьбу.
Николай Николаевич был человеком порядочным и сердечным. Это утверждали все мои старшие друзья. И я им верю. Тем более что он часто воплощал свою сердечность, свою нежность в стихах.
Тихо-тихо сидят снегири на снегу меж стеблей прошлогодней крапивы; я тебе до конца описать не смогу, как они и бедны и красивы! Тихо-тихо клюют на крапиве зерно,- без кормёжки прожить не шутки!- пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно, да хоть что-нибудь будет в желудке. Тихо-тихо сидят на снегу снегири - на головках бобровые шапочки; у самца на груди отраженье зари, скромно-серые перья на самочке. Поскакали вприпрыжку один за другой по своей падкрапивенской улице; небо взмыло над ними высокой дугой, снег последний позёмкою курится. И такая вокруг снегирей тишина, так они никого не пугаются, и так явен их поиск скупого зерна, что понятно: весна надвигается!* * *
Петра Лещенко обожаю! Моё детство. Патефон, который подкручивается специальной ручкой, вставляемой в боковое отверстие. Чёрные пластинки. И ещё гнущиеся, записанные «на рёбрах». Их называли так, потому что были они на рентгеновских снимках.
«Чубчик»! «Чёрные глаза»! «Марфута всё хохочет, / Марфута замуж хочет»! «Всё что было, / Всё, что мило, – / Всё давным-давно уплыло»…
Уже потом я узнал, какой смертью погиб 16 июля 1954 года Пётр Константинович Лещенко, родившийся 14 июня 1988 года. Читал мемуары его жены Веры Белоусовой-Лещенко, которую приговорили сперва к смертной казни, а потом к 25 годам за брак с иностранцем, то есть с Лещенко, который в эмиграции получил румынское подданство. Его арестовали и уничтожили уже в народной Румынии, где местные органы безопасности тесно сотрудничали с нашими. А её переправили в Москву и объявили этот удивительный приговор.
Горько! Такого проникновенного, берущего за душу певца загубили!
17 ИЮЛЯ
Критика Берту Яковлевну Брайнину, родившуюся 17 июля 1902 года, я помню на «круглом столе» «Литературной газеты», где она выступала. Я не запомнил её выступления. Думаю, что оно не стоило того, чтобы о нём помнили. Возможно, что и не запомнил бы Брайнину, если бы завершая «круглый стол», Александр Борисович Чаковский не поминал её часто и, на мой взгляд – молодого тогда человека, – причудливо. Он вообще построил своё выступление как обращение к ней, говорил: «Тебе, Берта, этого не понять», «Ты, конечно, права, Берта», «Ты же помнишь, Берта», «Нас не спишешь в расход, правда, Берта!»
Так и осталось в моей памяти это выступление Чаковского, насквозь прошитое «Бертой», так и осталась этим Берта Брайнина в моей памяти!
А больше ничего от неё в моей памяти не осталось!
Умерла Берта Яковлевна в 1984 году.
* * *
С Анной Александровной Вырубовой, родившейся 17 июля 1884 года, связан довольно громкий литературный скандал. В двадцатые годы в советской России стал печататься «Дневник Вырубовой». Одновременно его перепечатывали за границей. Но жившая тогда в эмиграции Анна Александровна выступила с резким заявлением: текст ей не принадлежит! Дневник – мистификация!
Однако чего не ожидала, конечно, Вырубова, её заявление только добавило притягательности книге: «Дневник» стал бестселлером, издатели охотно допечатывали его, удовлетворяя массовый спрос.
В мистификации подозревали писателя Алексея Николаевича Толстого и крупнейшего архивиста и историка литературы Павла Елисеевича Щёголева. Тем более что в это же время они написали пьесу «Заговор императрицы», многими сюжетными мотивами схожую с «Дневником Вырубовой».
Натан Эйдельман, с которым я дружил, говорил, что мистификация обнаруживается сразу, когда читаешь парижскую книгу Вырубовой «Страницы моей жизни». «Видишь, что это не её стиль, – говорил Тоник (домашнее имя Эйдельмана), – но исторические реалии воспроизведены в «Дневнике» точно». «Ничего удивительного, – объяснял Эйдельман, – Щёголев, как член Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию царских преступлений, учреждённой в марте 1917 года, имел доступ к секретным архивам!» «Алексей Толстой, конечно, мог безукоризненно подделаться под любой стиль, – заключал Тоник, – мистификация была его стихией. Но «Страницы моей жизни» тогда ещё не были изданы. Толстому пришлось придумывать чужой стиль, а Щёголев, если и читал подлинные письма Вырубовой, то воспроизвести их стиль не мог – ему это не было дано».
На Царскосельской даче Вырубовой, фрейлины императрицы Александры Фёдоровны, императрица и другие члены её семьи встречались с Григорием Распутиным, хорошим знакомым Вырубовой.
В «Дневнике» много намёков на их физическую связь, но в реальности она не подтвердилась. Старец имел духовное влияние на Анну Александровну, которая в 1915 году попала в железнодорожную катастрофу, передвигалась тогда в кресле-каталке и уверовала в сверхчеловеческие возможности Распутина. Она стала ближайшей подругой императрицы, которой часто передавала рекомендации «Друга» (так обе назвали Распутина), а та уже своему мужу.
Работая в архивах, Щёголев понял, что Николай был подкаблучником, что император во многом подчинялся своей жене. Историк Щёголев верно определил роль Вырубовой при дворе. И зафиксировал её (роль) в литературе, выступая в соавторстве с Алексеем Николаевичем Толстым.
Что в этом оба были правы, подтвердил мне Тоник Эйдельман, ссылаясь на собственную автобиографическую книгу Вырубовой «Страницы моей жизни».
Вырубова довольно долго жила в эмиграции. Умерла 20 июля 1964 года.
* * *
Одна моя знакомая, имевшая доступ в книжную экспедицию ЦК КПСС, сделала мне в наступающем 1967 году новогодний подарок – книгу Роже Гароди «Реализм без берегов», изданную «для служебного пользования». Этим грифом помечались запретные для советского читателя книги. А для работников ЦК ничего запретного не существовало. Им такую литературу читать было можно. А порой даже нужно, чтобы понимать всю опасность подобных книг. Конечно, я оценил роскошь такого подарка.
Я прочёл книгу и не понял, какую опасность представляло для советского читателя это идеологически выдержанное в марксистском духе сочинение. Перечитал его бранную у нас критику и увидел, что книга Гароди оказалась в центре борьбы «остроконечников» и «тупоконечников» (вспомните «Гулливера» Свифта). Оказывается, Гароди слишком расширительно, по мнению наших идеологов, трактует понятие «реализм», размывая этим любезный их сердцам термин «социалистический реализм».
Господи! Всего-то! Стоила ли овчинка выделки? Так вот в чём грех тогдашнего «еврокоммунизма».
Нет, конечно, грех самих «еврокоммунистов» был не только в этом. Французская и итальянская компартии не поддержали нашу интервенцию в Венгрии. А Гароди был членом политбюро ЦК французской компартии. Но и эта партия признала тезисы книги Гароди неверными и несовместимыми с пребыванием в партии. Гароди из неё исключили в 1970 году, о чём с торжеством известили советских граждан наши идеологи.
Но они почему-то хранили молчание, когда Гароди принял ислам и стал выступать с яростными антисемитскими заявлениями и статьями. В 1995 году он выпустил книгу «Les Mythes fondateurs de la politique israelienne» («Основополагающие мифы израильских политиков»), где поставил под сомнение факт Холокоста – тотального уничтожения евреев нацистами во Второй Мировой войне. «Нацистский Холокост, – писал Гароди, – это миф, ставший догмой, которая оправдывает политику Израиля и США на Ближнем Востоке и во всём мире». Во Франции разгорелся скандал. Суд оштрафовал Гароди на 120 тысяч франков. Он получил огромную поддержку из арабских и мусульманских стран, а супруга президента Объединённых Арабских Эмиратов с лихвой компенсировала Гароди этот штраф, подарив ему 300 тысяч франков.
Тем не менее, тот оспорил решение французского суда в Европейском суде по правам человека. Но поддержки там не нашёл. Суд подтвердил, что книга идёт вразрез с Европейской конвенцией о защите прав человека и нарушает ту её статью, которая предназначена, чтобы «помешать тоталитарным группам эксплуатировать в своих интересах принципы, сформулированные в Конвенции».
Вот когда должна бы развернуться у нас критика Гароди, родившегося 17 июля 1913 года. Но нет. В посткоммунистической России появилось только его одобрение. Газета «Завтра» напечатала весьма сочувственное интервью с ним.
Впрочем, я не убеждён, что его критиковали бы за такие вещи прежде – в советской России. Отрицание Холокоста – это вам не реализм без берегов. СССР всегда был союзником арабских и мусульманских стран. Поэтому если б не одобрили, как в 1998 году «Завтра», то промолчали бы непременно.
Умер Гароди 13 июня 2012 года.
* * *
О Борисе Андреевиче Лавренёве, родившемся 17 июля 1891 года, могу сказать, что в юности больше всего мне нравилась его небольшая повесть «Комендант Пушкин». Пьесу «Разлом» посмотрел по телевизору в восьмом, кажется, классе. И она мне не понравилась.
Наоборот: мне понравился фильм «Сорок первый» с Изольдой Извицкой и Олегом Стриженовым в главных ролях. Я учился тогда в 10 классе, прогуливал уроки: часто ходил вместо школы в кино. Пошёл в библиотеку, взял повесть «Сорок первый». Прочитал, и она на фоне фильма показалась мне блёклой.
И уж совершенно не понравились мне пьесы «За тех, кто в море» и «Голос Америки». Я слушал их по радио в пятом или в шестом классе. И почувствовал фальшь. Особенно в «Голосе Америки». Патетически-обличительная, с какими-то неестественными монологами героев и с дешёвой театральностью монологов. Так я, конечно, тогда не думал, но ощущал именно так.
Позже я узнал, что именно за эти пьесы Лавренёв получил сталинские премии. Не удивился.
Умер 7 января 1959 года.
* * *
Про Евгения Ивановича Осетрова, родившегося 17 июля 1923 года, я уже рассказывал в связи с его дружбой с Николаем Рыленковым. Он всегда был со мной подчёркнуто радушен. Приглашал на заседания Клуба книголюбов, который он создал в ЦДЛ и неизменно им руководил. Звал печататься и в «Альманахе библиофила», который тоже создал и которым тоже руководил.
Но я отзывался редко. Отчасти потому, что в ЦДЛ ходил в основном в ресторан или в нижнее кафе, отчасти потому, что отчаянным книжником я не был.
Была ещё одна причина: как ни радушен был со мной Осетров, я подспудно ощущал его неискренность. И не ошибся. Потом мне передавали, что отзывается он обо мне весьма нелестно, что у меня, по его мнению, совершенно неверные ориентиры в поэзии, что я не люблю Исаковского.
Это было неправдой. Исаковского я как раз любил. Особенно те стихи, которые стали народными песнями. Знал их наизусть. Любил и сам их напевать.
Но не идти же опровергать это к Осетрову! Пусть думает, что хочет!
Он был в номенклатуре. Работал в «Правде», в «Литературе и жизни», в «Литературной газете» ещё до моего прихода туда, потом – заместителем главного редактора в «Вопросах литературы».
Там он курировал отдел национальных литератур, но сотрудники ему материалы не носили. Он их проглядывал в секретариате. В журнале, возглавляемом Озеровым, секретарём Союза писателей, на самом деле был чернорабочим Лазарь Ильич Лазарев, другой заместитель Озерова. Осетров там по существу ничего не делал. Все это знали, и никто против этого не возражал.
Но Озеров, участвуя в аппаратных играх секретариата Союза писателей, оставил журнал, а потом спохватился и стал искать для него своего преемника. Однако аппарат ЦК настоял на своей кандидатуре. Главным был назначен Мстислав Борисович Козьмин, который до этого был директором музея Горького при Институте мировой литературы.
И все сразу почувствовали разницу. Журнал, бывший флагманом советского литературоведения, словно опустил паруса. Публикации появлялись казённые, беззубые, бездумные. А главное – Козьмин стал опираться на Осетрова, который как бы вышел из спячки, оттеснил Лазарева, начал определять политику журнала.
Так продолжалось ни много ни мало – восемь лет.
На сменившего Козьмина Дмитрия Михайловича Урнова «русская партия» опиралась не в меньшей степени, чем на Осетрова. Но у Мити Урнова, человека рафинированной книжности, была слабость: он любил литературу. И потому восстановил статус-кво. Оттеснил Осетрова и снова поставил Лазаря на капитанский мостик.
Сам Митя, воспользовавшись перестройкой, много выезжал за границу читать лекции по английской литературе. И в конце концов остался преподавать за рубежом. А редакция воспользовалась данным ей правом выбирать главного редактора и избрала Лазарева. Осетрова к тому времени в редакции уже не было.
Осетров написал много книг. О поэзии Николая Рыленкова и о Михаиле Исаковском. О древней Руси и о Москве. Говорят, что написал «Повесть о великом Андрее» – об Андрее Рублёве. Но она до сих пор не издана. А другие книги на меня впечатления не произвели. Скучно написано.
Умер 19 июля 1993 года. И, кажется, довольно прочно забыт.
* * *
Писатель Бруно Ясенский, родившийся 17 июля 1901 года, оказался очень опасен для сталинской власти. Он, бывший член французской компартии, написавший фантастический роман-памфлет «Я жгу Париж» в ответ на антисоветский памфлет П. Морана «Я жгу Москву», был арестован и выслан из Франции. В СССР вступил в компартию, был редактором журнала «Интернациональная литература», выходившем на четырёх языках.
Известным стал после выхода романа «Человек меняет кожу» (1932-1933) о строителях оросительного канала и социалистической нови в Таджикистане. Писал другие книги, восхваляющие социалистические преобразования в СССР.
Однако после публикации повести «Нос» (1936) отношение верховной власти к нему меняется. Эта антирасистская фантасмагория написана по следам принятых гитлеровской Германией в 1935 году так называемых «нюрнбергских законов» – о чистоте крови и о том, кто может быть гражданином Германии, а кто будет числиться в её негражданах.
Между тем, прочитав эту повесть, органы заподозрили, что Ясенский написал фантасмагорический памфлет не столько на гитлеровский режим, сколько на сталинский. Разумеется, писателя арестовали. В 1938 году он был приговорён к 15 годам заключения. Дальнейшие сведения о нём разнятся. В расстрельных списках «Мемориала» он числится расстрелянным 17 сентября 1938 года. Но Евгения Гинзбург в книге «Крутой маршрут» пишет, что Ясенский умер на этапе в поезде на пути в Колыму.
Я помню три номера «Нового мира» 1956 года с неоконченным романом Бруно Ясенского «Заговор равнодушных». Арестованная НКВД, она чудом оказалась на журнальных страницах. Потому что послужила ещё одним доказательством для органов, что под видом фашистского гитлеровского Ясенский изображает сталинский мир.
Любопытно, что даже саму такую возможность взялись сегодня отрицать официозные историки. Их довод таков: гитлеровский нацизм осуждён Нюрнбергским процессом, а сталинский – нет. Конечно, процесс в Нюрнберге судил поверженную в войне систему. Победителей он не судил. Но его решения – приговор не просто побеждённым. Оно юридически обосновано для преступлений, подобных тем, что совершила гитлеровская камарилья. Именно подобных, которые могут открыться и после суда. Возмездие должно настигнуть и того, кто будет уличён в преступлениях по открывшимся обстоятельствам. А из «Заговора равнодушных» до сих пор помню наизусть:
«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».
Абсолютно верно. Проверено жизнью! Равнодушных, увы, большинство в государстве. Это конформисты.
* * *
«Вот кому повезло!» – всякий раз завистливо восклицал поэт Валентин Проталин, когда мы с ним и с поэтом Джимом (Джеймсом) Паттерсоном ездили выступать куда-нибудь от Бюро пропаганды писателей. Завидовал Проталин Паттерсону, который всякий раз, прежде чем начать читать стихи, рассказывал залу о своём отце, Ллойде Паттерсоне, который приехал в СССР из США вместе со съёмочной группой, чтобы создать документальный фильм о неизвестной американцам стране. Фильм по каким-то причинам снять не удалось. Но Ллойд Паттерсон в Америку не вернулся. Устроился работать англоязычным диктором радиовещания, женился на театральной художнице Вере Ипполитовне Араловой. Джим родился 17 июля 1933 года и двухлетним ребёнком стал кинозвездой: снялся в кинофильме «Цирк» (1936) в роли маленького сына цирковой актрисы Марион Диксон, которая находится на гастролях в Советском Союзе и вынуждена прятать ребёнка от людей. Американка Марион, которую играет Любовь Орлова, хорошо знает, как в её стране относится толпа к женщине, родившей от чернокожего. Она верит импресарио (чудесная роль Павла Масальского), что в СССР к ней отнесутся так же. Верит, что если не будет ему подчиняться, он разоблачит её. И в то же время ей нравится в Советском Союзе, нравится актёр Иван Петрович Мартынов (играет Сергей Столяров), нравится директор цирка Людвиг Осипович (роль Владимира Володина). Она влюбляется в Ивана Петровича и тайком репетирует с ним номер, который должен превзойти тот известный всему миру, звездой которого она является. Прознавший про репетиции импресарио сперва устраивает провокации советским актёрам, а потом, обращаясь к публике, громогласно объявляет, что у Диксон чёрный ребёнок. Здесь и появляется маленький Джим, к которому публика относится сердечно и нежно.
Разумеется, Джим так подробно известную всем картину не пересказывает. Он говорит об отце, который был контужен в Москве от взрыва бомбы, подлечился и отправился на Дальний Восток работать переводчиком и диктором на радио. Но здоровье его было подорвано, и в 1942 году он умер в военном госпитале. Говорит о брате Ллойде, который погиб в 1960 году в автомобильной катастрофе.
Очень тепло рассказывает о Любови Орловой и её муже Григории Александрове, с которыми он и его мама были дружны, часто приезжали к ним на дачу во Внуково. Орлова называла его «киносыном», он её «киномамой». Здесь Джим слегка задумывался и читал стихотворение, посвящённое любимой актрисе:
Был я мал во время киносъёмки, Было лишь чуть больше года мне. И засвечено немало плёнки, что поделать, по моей вине. Сроки кинодублей протекали, каждый непосильней во сто крат. Знаю, ваши руки затекали, но воздушный эпизод отснят. Я бы вам своей игрой помог, Будь тогда я хоть чуть-чуть постарше. И согретый искренностью вашей, Посвящаю вам волненье строк. Ваше мастерство и человечность Были совершенны без прикрас. Потому и замерцала вечность В глубине рассветных Ваших глаз!Рассказывал Джим о Нахимовском военно-морском училище в Риге, где он учился после войны, и, окончив которое, служил морским офицером на подводной лодке в Чёрном море. Через десять лет демобилизовался и, благодаря поэту Михаилу Светлову, которому нравились стихи Паттерсона, поступил в Литинститут.
А дальше начиналось чтение стихов.
Нет, Паттерсон не был большим поэтом. Стихи его не отмечены индивидуальностью, страдают излишней патетикой.
К примеру:
В суровом неистовстве Чёрное море Швыряет крутые валы. Они налетают, но крушит их вскоре Оскаленный выступ скалы. То ласково плещется сонное море И песню чуть шепчет прибой, Волшебно сияют вечерние зори, Ширь волн озаряя собой. Ты здесь забываешь про всякое горе И гордый Отчизной родной, Ты счастлив, что в море в далёком дозоре Дежуришь на вахте ночной. А море кипит, и бегут волны споря В дали необъятно большой, И чувствуешь вновь, что простор Черноморья Ты всей своей любишь душой.Но прав Проталин: Джиму повезло с биографией! Уже только из-за неё он становился любимцем зала, который долго ему бисировал.
Родись я в Америке, говорил Паттерсон залу, моего отца линчевали бы в 30 штатах по местным законам, запрещающим расово-смешанный брак, а мама по тем же законам сидела бы в тюрьме.
А потом он перестал говорить подобные вещи, рассказывал только о «Цирке» и о дружбе с Орловой и Александровым.
Мне он говорил о быстро исчезающем в Америке расизме и о том, что мы называем толерантностью: американские родственники Джима писали ему, каких высот в административном управлении может достичь в стране человек с чёрной кожей!
Сказка, некогда рассказанная в кинофильме «Цирк», обрела неожиданный конец именно в Соединённых Штатах Америки, куда в 1994 году уехал вместе с матерью тот самый ребёнок, судьбу которого в кинокартине демонстрировали как счастливое исключение из суровых нравов действительности. Да, поэт Джим Паттерсон уехал на родину своего отца. Могли бы предполагать такое Орлова и Александров? А зрители в их картине, распевающие колыбельную негритёнку, и реальные зрители по другую сторону экрана? Вряд ли даже в самых страшных снах они смогли бы увидеть нынешний смертоубийственный разгул ксенофобии на улицах родных российских городов.
Вера Ипполитовна Аралова скончалась в 2001 году. Брат Джима Том, бывший кинооператор, перевёз её прах в Россию и захоронил его на армянском кладбище рядом с могилой другого брата Джима Ллойда.
О судьбе самого Джима почти ничего неизвестно. Несколько раз из Америки приходили сообщения о его смерти. Можно ли им верить? Их трудно проверить, поскольку жил Джим один, а после смерти любимой матери и вовсе стал затворником.
* * *
У выдающегося литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург, умершей 17 июля 1990 года (родилась 18 марта 1902-го), до сих пор не опубликованы целиком её уникальные записные книжки 1920 – 1980 годов. Сама Гинзбург называла их жанр «промежуточной прозой». Их фрагменты появились ещё при жизни Лидии Яковлевны. Благодаря кропотливой работе поэта Александра Кушнера большая часть этой промежуточной прозы с толковым предисловием Кушнера напечатана отдельной книгой в 2002 году. Но, разумеется, что будет горько, если сохранившиеся фрагменты останутся неопубликованными. Лидия Яковлевна из тех литераторов, у которых ценен каждый рукописный лист. Потому что Л.Я. Гинзбург знала, что такое искусство. И выразила своё знание в прекрасных книгах «О лирике», «О психологической прозе», «О литературном герое», «О старом и новом». Каждая из этих книг пережила своего автора: она актуальна и сегодня. Думаю, что их актуальность бессрочна. Ибо Лидия Яковлевна постигла главный из законов искусства: «…счастье и красота – реальный наш опыт, и только этот опыт дает страданию цену и отрицанию диалектический смысл… Само себя гложущее несчастье никогда не загорится трагическим огнём». Золотые слова!
* * *
Вот уж кого не люблю из критиков так называемого демократического лагеря шестидесятых годов XIX века, так это Дмитрия Ивановича Писарева, скончавшегося 17 июля 1868 года (родился 14 октября 1840). Какое невероятное самомнение в отрицании Пушкина, Лермонтова, Гоголя! И какой убогий, глупый, хулиганский разбор их произведений.
«Ты в сновиденьях мне являлся». – Да я-то в чём же виноват? – подумает Онегин. – Мало ли что ей могло присниться? Не отвечать же мне за всякую глупость, какую она во сне видела…» – должно быть, Писарев полагал, что читатель оценит его остроумие. Но в чём оно? В том, что критик нарушает законы своей профессии, для чего-то влезая в шкуру литературного героя и вещая из неё, как спрятавшийся ребёнок из тёмного угла? Читатель-то в чём же виноват? Для чего заставлять его читать эту бредятину? Оттого, что не владеешь мастерством разбора?
В Википедии я прочёл о нём, что «начав с разрушения «отвлеченной эстетики» и с сомнения в «пользе» красоты, он закончил созданием «эстетики полезности», возвеличил свободный созидательный труд как основное эстетическое начало, как средство воплощения деятельной природы человека, развития его физической и духовной красоты». Это цитата из автореферата кандидатской диссертации Анатолия Степанова из Самары. Странная похвала этой «эстетике полезности». Неужто нужно возвеличивать труд, пусть и свободный и созидательный, как основное эстетическое начало? Да и кто должен возвеличивать труд – писатель или критик? Если писатель, то в чём здесь участвовать критику? Отслеживать – возвеличил ли писатель свободный труд как эстетическое начало? Быть, стало быть, при писателе неким ОТК (аббревиатура советского времени; означает: отдел технического контроля)? А если это предлагается делать критику, то он вправе и отмахнуться: у него и своих обязанностей, своих обязательств перед читателем не мало, – зачем ему чужие?
Словом понятно, почему, как сообщает та же Википедия, ссылаясь на Крупскую, любил Писарева Ленин. Так любил, что даже взял с собой в ссылку в Шушенское его портрет.
Трогательно. Глядел, значит, на портрет и наглядеться не мог! Так и слышится что-то ленинское, что-то этакое: «Не придирайтесь, товарищи, к человеческой слабости!»
Да кто ж придирается, Владимир Ильич? И что это за слабость: не знать азы собственной профессии? Впрочем, Вы ведь спецов не любили. Так что не промахнулись: какой из этого краснобая спец? Считать его профессионалом могли только те, для кого книга была листовкой. И соответственно портреты таких «спецов» – иконами. Вот почему Владимир Ильич не расставался с портретом Писарева!
18 ИЮЛЯ
В 1984 году проходило очередное Всесоюзное совещание молодых писателей. Меня пригласили быть соруководителем семинара поэтов. Официально он назывался семинаром Винокурова. Но Женя присутствовал на нём всего один день – в самом начале.
Он объяснил мне накануне, почему придёт: «Вообще-то, я бы не пошёл. Читал я рукописи: ни одной живой строчки! Но Толька упросил: он сунул дочку ко мне. Нужно её поддержать».
«Толька» – это Анатолий Андреевич Ананьев, родившийся 18 июля 1924 года. В то время он был главным редактором журнала «Октябрь». Винокуров и сам в ту пору заведовал отделом поэзии в «Новом мире», который некогда – больше десятилетия назад, когда Женя там не работал, противостоял «Октябрю». Но с уходом Твардовского с поста главного редактора «Нового мира» это противостояние стало стираться, а с приходом Ананьева в «Октябрь» от бывшей вражды не осталось и следа. Циник и прагматик Винокуров печатался у Ананьева, и отказываться от этой площадки для выступления не хотел.
«И тебе советую, – говорил он мне. – Поддержи дочку Ананьева. – И, услышав мой ответ, охотно подтвердил: – Ну да, графоманка! А кто там у них не графоман? Ну, не выступай против. Толька – человек злобный, мелкий!»
Я уже не помню, под какой фамилией выступала в печати Елена Ананьева. Её стихи появились сразу во многих изданиях. Сейчас речь должна была пойти о её книжке, которую бы рекомендовало к изданию совещание. Такая рекомендация была почти обязательной для издательства Союза писателей.
То есть, имея такого отца, она издала бы книгу и без совещания. Но рекомендация этого форума была как почётная грамота. Да и означала бы: всё без блата, всё чисто!
Словом, Винокуров только по поводу этой Лены и высказался. Хвалил умеренно, указывал на недостатки, но не увлекаясь. А закончил уверенно: «Книжку можно будет издать, материал есть. А отгрести сор и собрать всё, что следует, – это уже дело издателей».
Я не стал его опровергать. Нашёл у Лены стихотворение «Гренада», где она недавнее изгнание американцами с острова кубинских войск, которые помогали коммунистическим диктаторам утвердить в Гренаде своё господство, как-то увязала со стихотворением Светлова «Гренада». Сказал, что обращение к советской классике знаменательно. И дальше говорил только о светловской балладе.
Хитрость? Конечно. Но я любил Винокурова. И для чего бы стал донкихотствовать? Не похвалил стихи, ни слова не сказал о книжке – и ладно!
Но в этот же день встретил Ананьева во дворе. Мы жили в одном доме, в разных подъездах, и официально знакомы не были. Он вообще редко кого замечал. Выходил из персональной машины и направлялся в свой подъезд.
А здесь из машины вышел и подошёл ко мне, прогуливающемуся по двору с коллегой по «Литературной газете» Пашей Волиным, тоже живущем в нашем доме. Подошёл Ананьев ко мне, протянул руку и, пожимая мою, сказал: «Спасибо! С этого времени считайте себя автором «Октября».
Этим приглашением я не воспользовался.
Я ничего у Ананьева не читал. Много писали о его романах «Танки идут ромбом» и «Вёрсты любви». Хвалили. За «Вёрсты любви» дали госпремию РСФСР. Но для меня это ни о чём не говорило. Ананьев был секретарём Союза писателей РСФСР. Премия ему полагалась по чину.
В том же, 1984-м, к пятидесятилетию Союза писателей СССР он не просто попал в черненковский список награждённых, но стал героем соцтруда, что тоже не удивило: перед тем, как перейти первым замом главного редактора в «Знамя», а потом – главным в «Октябрь», он работал в аппарате этого Союза, был там, как говорили, человеком Маркова, который этим же черненковским указом был возведён в дважды герои соцтруда.
Но в перестройку пошёл за теми, кто возвращал в литературу запретные прежде книги, добиваясь резкого увеличения тиражей своих изданий. Напечатал роман Гроссмана «Жизнь и судьба», чем невероятно обозлил руководство Союза писателей РСФСР. «Октябрь» был его органом, и оно попыталось сместить Ананьева, объявило о его смещении на пленуме (или на съезде? не помню!) и назначило на место Ананьева Личутина. Но не тут-то было! Коллектив журнала воспользовался только что предоставленным трудовым коллективам правом – перерегистрировался, объявил себя независимым журналом и вновь избрал Ананьева своим главным. В Союзе РСФСР аж зубами скрипели от злости! Кричали о бандитизме, о рейдерском захвате, но своего не добились. Добились окончательного разрыва с этими секретарями Ананьева, который оставался главным в «Октябре» до самой смерти (7 декабря 2001 года).
В последние несколько лет его жизни журнал из номера в номер печатал его историческое повествование о древней Руси. И кончил его печатать после смерти Ананьева. То есть, повествование, должно быть, осталось незаконченным.
* * *
Миша Дёмин часто приходил в «Литературную газету». Он писал стихи, и газета изредка его печатала. Был он весёлым, шумным, любителем выпить и пообщаться. А такие любители не только шли в ЦДЛ. Шли и к нам в газету, если, конечно, они были знакомы с кем-нибудь из нас. Миша Дёмин был знаком, кажется, со всеми «литгазетовцами». Он выпивал и царствовал в отделе писем с пьющими его сотрудницами, от них шёл к нам в комнату, куда набивались сотрудники разных отделов, исхитрялся порой выпивать и в диспетчерской с отработавшими свою смену шофёрами.
Был он прирождённым рассказчиком. Травил байки, которых знал великое множество и которые слушали с наслаждением. Особенно его рассказы из блатного мира.
Да, прежде он был блатным. По стихам, которые он печатал, об этом не скажешь: то были бесцветные, казённые вирши. Но он писал ещё и прозу, которую не печатали. Точнее, он и сам не отдавал её в печать. Понимал, что отдавать бессмысленно – не напечатают. Порой читал её отрывки нам, предваряя: «Из автобиографического».
А биография его действительно удивительна.
Настоящие его имя и фамилия – Георгий Евгеньевич Трифонов. Родился 18 июля 1926 года в семье командарма Евгения Андреевича Трифонова, который был родным дядей писателя Юрия Трифонова. Юра не поддерживал разговор о своём двоюродном брате, замыкался.
Боевой командарм погиб в 1937-м. Как написал его сын, от инфаркта, ожидая ареста.
Сын после смерти отца скитался, попал в плохую компанию и вместе с ней в колонию для несовершеннолетних. Отбыл два года и был направлен на фронт. Демобилизовался. Поступил в художественный институт, скрыв, что у него судимость. Бежал, когда это открылось. Связался с уголовниками, стал поездным вором, участвовал в убийстве человека. В 1947-м был арестован и по приговору 6 лет провёл в лагере. Жил там с привилегиями, которые полагались ему как «блатному». После освобождения до 1956 года находился в сибирской ссылке.
А, отбыв её, «завязал» – порвал с уголовным прошлым. Стал писать стихи, которые публиковал под псевдонимом Михаил Дёмин. Приехал в Москву. Поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте. На курсы принимали членов Союза писателей, не имеющих высшего филологического образования. И, значит, что Дёмин поступил на них как член Союза писателей.
Он дарил мне книги стихов. Но почти все книги с дарственными надписями авторов у меня в моё отсутствие из квартиры украли. Хотел процитировать какие-нибудь Мишины стихи, но обнаружил, что украли и его книги.
У Трифоновых во Франции была довольно близкая родня. Миша порывался ухать к ней сразу после войны. Но границу перейти не сумел. То есть, понял, что не сможет, и не стал пытаться. А в 1968-м добился разрешения навестить родственницу по её приглашению. Выехал в Париж и там остался.
В нью-йоркском «Новом журнале» и в израильском «Время и мы» печатал свои автобиографические повести, из которых он нам, «литгазетовцам», когда-то читал. Они сейчас доступны русскому читателю. Выложены и в Интернете.
«В его героях, – написал известный славист Вольфанг Казак, – шокирует бессовестность, подлость, отсутствие чувства вины, раскаяния, любых этических норм, проявляющихся в отношении к другим; в частности, к политзаключённым». Шокирует, это правда. Но так и относились к себе и к другим блатные. За это и ненавидел их Шаламов.
Шаламов, конечно, писатель крупнее Дёмина. Но, складывая их книги вместе, мы получим объёмную картину лагерного быта.
Умер Миша от инфаркта в Париже 26 марта 1984 года.
* * *
Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года, но в результате ошибки паспортистки при обмене документа, в него вписан другой год рождения – 1933. Поэтому поздравления с юбилеем он принимает дважды в десятилетие.
Его стихи в оттепельное время стали не просто популярными, но популярными, по словечку Северянина, «всеградно»: их знала и любила вся страна.
Он начал печататься очень рано. Я хорошо знал поэта Николая Николаевича Тарасова, который работал в «Советском спорте» и напечатал там первое стихотворение пятнадцатилетнего Евтушенко. Женя потом его не забыл – помогал с публикацией в неспортивной печати. В спортивной – Николай Тарасов мог напечатать себя и сам: после «Советского спорта», где он много лет был замом главного редактора, он стал главным редактором журнала «Физкультура и спорт». Очень был привязан к Евтушенко и к тем, кто выходил к читателю с ним в одно время, – особенно к Белле Ахмадулиной.
Надо сказать, что Евтушенко приняли в Союз писателей ещё до взрыва его популярности – в 1952-м. Был он тогда самым молодым членом Союза.
Евтушенко писал и работал во многих жанрах, показал себя отличным фотографом, снимал по своим сценариям как режиссёр художественные фильмы «Детский сад» и «похороны Сталина».
Я любил его стихи периода оттепели. Позже они меня трогать перестали: Женя сворачивал в них на публицистическую стезю. Но стихи «Окно выходит в белые деревья», «Вальс на палубе», «Я разный. Я натруженный и праздный…» входили мне в душу и в ней остались.
Публицистическая его поэзия очень неровная. Порой он был в ней отчаянно, даже безрассудно смел. В стихотворении «Бабий Яр» по существу впервые выступил в печати, рассказывая о массовом уничтожении евреев нацистами, нарушив державшийся со времён Сталина запрет на эту тему, который вовсе не собирались снимать преемники Усатого. В стихотворении «Сергею Есенину» очень нелицеприятно, называя его по имени, отозвался о тогдашнем руководителе комсомола Павлове, которого после такого публичного поношения пришлось переводить не на крупный партийный или государственный пост, как это делалось со всеми остальными первыми секретарями комсомола. Смещённый Павлов оказался на посту председателя Комитета по физкультуре и спорту и там увял. Причём это стихотворение не было напечатано, но Евтушенко выступил с ним в Колонном зале на заседании, посвящённом юбилею Есенина, и это выступление разошлось по стране в магнитофонной записи.
А с другой стороны, его стихотворная и прозаическая публицистика воспевала ленинский гений и завоевания Октября, мало чем отличаясь от передовых статей партийной печати.
После развала СССР Евтушенко упрямо именовал себя советским поэтом, отказался от ордена, которым наградил его президент Ельцин, но и не пошёл с теми, кто ностальгировал по советскому прошлому. Потому и не вписался в нынешнее время.
Я бы закончил заметку о нём воспоминанием о его щедрости. Рассказывают, что в одной из поездок большой группы писателей, Евтушенко неизменно расплачивался в ресторане за всех. Но однажды официант не принял денег, сказав, что стол оплачен. «Кем!» – вскинулся Женя. Оказалось, что Павлом Антокольским, который, чтобы смягчить негодование Евтушенко по этому поводу, сказал, оправдываясь: «Мне захотелось хоть раз почувствовать себя Евтушенко!» Я много раз сидел с ним за столом и не помню, чтобы Женя разрешил кому-нибудь заплатить за себя, хотя многие и порывались это сделать.
И ещё. Он был отзывчив. Любил талантливых людей. Если открывал в ком-нибудь дарование, то не успокаивался, пока это не признавали другие. Черта редкая, свойственная очень немногим художникам.
* * *
Старший сын Пушкина Александр Александрович родился 18 июля 1833 года. Это о нём писал Пушкин жене в апреле 1834 года: «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тёзкой: с моим тёзкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибёт…».
Пушкин беспокоился зря. Поэтом Александр Александрович не стал. А что до порфироносных своих тёзок – императоров Александра II и Александра III, то он отлично с ними поладил. Избрав военное поприще, он при Александре II дошёл до генерал-майора, а при Александре III стал генерал-лейтенантом, потом был переименован в гражданский чин статского советника, поскольку стал занимать гражданские должности. Дошёл до почётного опекуна московского присутствия Опекунского совета Учреждений императрицы Марии – государственного органа по управлению благотворительностью в России.
Поладил и с императором Николаем Вторым, который вновь перевёл его в военный чин генерал-лейтенанта для того только, кажется, чтобы повысить до генерала от кавалерии. Военных должностей он больше не занимал. Оставался почётным опекуном до конца жизни.
Был он храбрым воином и талантливым полководцем, о чём свидетельствуют полный набор степей ордена Св. Анны, ордена Св. Владимира 2, 3 и 4 степени, орден Св. Станислава 1 степени, орден Белого Орла, орден Св. Александра Невского и другие, не менее почётные знаки отличия.
Жил долго. Скончался 1 августа 1914 года – накануне Первой Мировой войны.
* * *
6 декабря 1960 года Самуил Миронович Алянский пишет письмо Корнею Ивановичу Чуковскому, в котором, в частности, делится своими впечатлениями о праздновании в Ленинграде 80-летия со дня рождения Блока:
«Пушкинский дом, Инст[итут] литературы Ак[адемии] Наук и литературный музей помещаются в здании бывшей Таможни (рядом с Биржей) на Тучковой набер[ежной]. Мне рассказали, что в этом доме жил когда-то дед Ал.Ал. – Лев Александрович Блок, он был начальником ведомства, которому была подчинена таможня.
В Лит[ературном]музее 26-го ноября открылась комната А. Блока. В ней собрана кое-какая мебель из квартиры на Офицерской, библиотека Ал.Ал., картины и репродукции, которые висели на Офицерской. В стороне у окна стоит письменный стол А.А., за которым написано большинство произведений. Вещей не так уж много, но всё, что я увидел спустя 39 лет, меня так взволновало, что к горлу подступил какой-то комок, который мешал мне отвечать на вопросы работников музея. Мне пришлось выйти в соседнюю комнату.
Три года в моей жизни срок небольшой – это арифметически – всего четыре сотых всей жизни. А вот три с лишним года, больше тысячи дней рядом с Ал.Ал. Блоком – это целая жизнь, это больше нормальной жизни. Я оказался неподготовленным к такой встрече с прошлым. Стол, у него я сидел рядом с Ал.Ал. Книжный шкаф, у которого мне вспомнился Ал.Ал в июне или июле 1921 г. Я пришёл днём и застал Блока, перебиравшего любимые книги и альбомы его заграничных путешествий, он с удовольствием показывал мне альбом его путешествия по Италии и по поводу каждой вырезанной картинки рассказывал мне, откуда она (из какого музея). «Там мы были с Любой, а здесь я был один». Давал оценку произведениям искусства и, отвлёкшись от альбома, рассказывал о том, как они путешествовали. Я слушал Блока с необыкновенным интересом и ушёл от него обогащённым, но почему-то мне стало грустно. Таких встреч у книжного шкафа было потом ещё несколько, и позднее я понял, что Блок прощается с любимыми книгами, перебирает свои воспоминания.
Всё это мне вспомнилось, когда я увидел книжный шкаф. И как было не взволноваться?
Была у меня встреча, которая тоже взволновала меня. В первый день заседания в Пушк[инском] Доме мне сказали, что со мной хочет встретиться Л.А. Дельмас. Сначала я испугался, что увижу развалину, которая прошамкает неизвестно что. Я издали увидел Л[юбовь] А[лександровну], а когда в перерыве она подошла ко мне, я был приятно поражён. Она уже седа, но еще стройна и в глазах сверкает огонёк. Она быстро, быстро заговорила, вспомнила с подробностями нашу последнюю встречу, которая была 39 лет назад, пожаловалась на то, что вытащили откуда-то плетёные кресла Люб[ови]Дм[итриевны] и поставили их в кабинет Ал.Ал., где они никогда не стояли (и это верно). И что вообще все они врут.
– Встреча Ал.Ал. с Маяковским у костра была при мне. Мы вечером проходили вместе через площадь. Ал.Ал. издали увидел Маяковского, показал его мне, и мы вместе подошли к нему. Блок сказал Маяк[овскому]: «А ведь мою библиотеку в деревне всю сожгли». На то Маяковский сказал что-то невнятное, и мы с Ал.Ал сразу отошли. Больше ничего не было сказано, а теперь, Бог знает, что придумали. Зачем врать? – заключила рассказ Люб[овь]Алекс[андровна]. Всё это было очень живо рассказано, и я поверил ей. Да и рассказ её больше похож на правду, чем рассказ Маяковского.
На конфер[енции] В Пушк[инском] Доме с вступительным словом выступил Вл.Н. Орлов. Это было краткое слово о Блоке. Несколько раз в этом слове Орлов ссылался на Ваши воспоминания и на Ваши критические статьи.
Этого, к сожалению, нельзя сказать о вспоминателях Антокольском и Рождественском, которые оба, как сговорились, спёрли у Вас портрет Блока: загорелый, похож на норвежского шкипера – и ни слова – откуда они это взяли.
Выступление Антокольского – было странным выступлением. Он назвал его, кажется, так: «Как я не познакомился с Блоком».
На эту тему можно сочинить довольно много рассказов, вероятно, это можно сделать и талантливо. Рассказ Анток[ольского] не был талантливым. Талант был заменен кривлянием и выкриками плохого провинциального актёра, который во что бы то ни стало решил завоевать успех у публики. И пока это была выдуманная беллетристика, не имевшая никакого отношения к Блоку (хотя имя Блока там упоминалось много раз), я не обращал внимания на это выступление. И вдруг я слышу рассказ о том, что в Союзе писателей какой-то тип бросил Блоку слова о том, что он покойник. Вслед за этим типом, по словам Антокольского, выступил Сергей Бобров, который будто напал на крикнувшего.
Какое всё это враньё и вздор. Во-первых, это происходило не в Союзе писат[елей], а в Итальянском О[бществе], во-вторых, слова о покойнике бросил Блоку именно Бобров, и это известно из нескольких источников. Зачем Антокольский взялся выгораживать этого Булгарина – неизвестно.
«Хорош» был и другой вспоминатель Вс.Рождественский, он рассказывал о шуточных стихах Блока, помещенных в Чукоккале, не указав откуда он их взял, рассказывал какие-то скучнейшие байки о Блоке…».
Эту обширную цитату я привёл ради фактов, которые проясняет Самуил Миронович. Согласитесь, что рассказ Маяковского о Блоке, у которого сожгли библиотеку, настолько втемяшился в наше сознание, что теперь приходится выбивать из него колом – то есть свидетельством людей, которые присутствовали на той встрече Блока и Маяковского.
А главная порука в том, что сейчас рассказана правда, – это личность Самуила Мироновича Алянского, скончавшегося 18 июля 1974 года. Родился 28 мая 1891-го.
Все знавшие Самуила Мироновича вспоминают о нём как о правдивейшем человеке, которого оскорбляла любая ложь, любое позёрство.
Его книга «Встречи с Александром Блоком» в этом смысле бесценна для тех, кто хотел бы уяснить себе, что представлял собою этот поэт.
Алянский издал её в 1969 году, по всей очевидности, долго её отшлифовывая, уточняя для себя все реалии тех трёх лет – с 1918 по 1921, о которых он написал Чуковскому.
В 1918 году Алянский основал и стал руководить издательством «Алконост», в котором выпустил книги стихов Ахматовой, Белого, Блока, Сологуба, Вяч. Иванова.
С 1929 по 1932-й стоял во главе Издательства писателей в Ленинграде. Оно выпустило в это время книги О. Форш, Ю. Тынянова, В. Каверина, К. Федина, М. Шагинян, К. Паустовского и других писателей.
А дальше уже как редактор работал в разных издательствах. Особенно долго в Государственном издательстве детской литературы.
После войны переехал в Москву, где снимал небольшую комнату в квартире на Гоголевском бульваре. О его жизни и деятельности хорошо рассказал книговед С.В. Белов в своей работе «Мастер книги. Очерк жизни и творчества С.М. Алянского» (1979). Рекомендую. Написана увлекательно.
* * *
С Еленой Сергеевной Булгаковой, скончавшейся 18 июля 1970 года (родилась 21 октября 1893-го), я познакомился, когда работал в журнале «РТ-программы». На дворе стоял 1966 год. Булгакова тогда только начинали печатать. Я позвонил его вдове с предложением дать что-нибудь из неопубликованного нам, и она пригласила меня к себе.
Она жила в пятиэтажном доме в самом конце Суворовского (теперь – Никитского) бульвара на противоположной стороне от кинотеатра повторного фильма (как раз напротив теперешнего театра Марка Розовского). Елена Сергеевна познакомила меня с гостившим у неё Абрамом Вулисом, написавшим предисловие к пока ещё не вышедшему в «Москве» урезанному варианту романа «Мастер и Маргарита», и вынесла аккуратную стопку небольших переплетённых книжечек.
Я открыл верхнюю. «Михаил Булгаков. Полное собрание сочинений», – прочитал я машинописный текст.
– Когда умирал Миша, – сказала Елена Сергеевна, – я поклялась ему, что напечатаю всё, что он написал. И я исполню свою клятву. Всё это, – она кивнула на книжечки, – я печатала сама, чтобы не было в рукописи никаких ошибок.
Вулис показал мне «Мастера и Маргариту». Роман занимал книжек шесть или семь.
– Лучшее, что написал Михаил Афанасьевич, – сказал он. И добавил: – Очень может быть, что вы этот роман скоро прочитаете в нашей печати.
– Миша писал одинаково хорошо, – не согласилась с Вулисом Елена Сергеевна. – Это откроется, когда будут изданы все его вещи. Наверное, Бог и продлевает мне жизнь, чтобы я смогла их все напечатать.
Я с удивлением посмотрел на изящную, миниатюрную, красивую, немолодую, конечно, женщину, но уж никак не старуху! О чём она говорит?
Потом-то я узнал, что она вовсе не кокетничала: ей и в самом деле было много лет – 73 года, гораздо больше тех, на которые она выглядела. А выглядела она лет на 60!
Эта мужественная женщина, посвятившая свою жизнь сохранению и публикации булгаковского наследства, не стала спорить с цензорами журнала «Москва», согласилась на купюры в «Мастере и Маргарите», которые они потребовали сделать, а потом собственноручно все эти купюры перепечатала, пометила, на какую журнальную страницу и в какой абзац их следует вставить, и пустила в самиздат. Сильно подозреваю, что именно это обстоятельство заставило «Художественную литературу», издавая «Мастера и Маргариту», особо оговорить, что данный вариант романа полностью сверен с рукописью. Конечно, власти всё сделали, чтобы затруднить для обычного читателя приобретение такой книги. Часть тиража направили за границу, часть – в закрытые распределители. Но ведь и читателям, отстоявшим ночь перед дверьми магазинов, куда по слухам завозили по несколько экземпляров книги, хоть что-то да перепало! А это значит, что роман начал своё победное, не зависящее от властей шествие. И добилась этого хрупкая женщина – Елена Сергеевна Булгакова!
Что она дала нам в журнал? Рассказ «Псалом», который мы опубликовали. Великолепная миниатюра!
* * *
О Викторе Луи, умершем в Лондоне 18 июля 1992 года, говорили, что он теснейшим образом связан с КГБ.
Он побывал в тюрьме и в Гулаге. Был арестован в 1944-м. Получил 25 лет. Но за что? Он работал в составе обслуживающего персонала в разных иностранных посольствах в Москве. Поэтому правдоподобно, что его обвинили в шпионаже. В то время шпионов видели в любом человеке, общающемся с иностранцами. С другой стороны, есть версия, что его посадили за спекулятивные махинации, что тоже правдоподобно. Через посольство можно было приобрести красивую одежду, хорошую аппаратуру, – всё, чего были лишены советские граждане.
Так или иначе, в 1956 году он освободился и получил реабилитацию.
Через много лет Андрей Дмитриевич Сахаров написал о нём: «Виктор Луи – гражданин СССР и корреспондент английской газеты (беспрецедентное сочетание), активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения. Говорят, сотрудничать с КГБ он стал в лагере, куда попал много лет назад. КГБ платит ему очень своеобразно – разрешая различные спекулятивные операции с картинами, иконами и валютой, за которые другой давно бы уже жестоко поплатился».
Но и задания, которые выполнял Луи, тоже весьма своеобразные.
В 1958 году он продал западным средствам массовой информации стенограмму пленума Союза писателей СССР, исключившим из союза Пастернака за публикацию на Западе «Доктора Живаго».
В 1967 году продал за границу без ведома автора «20 писем к другу» Светланы Аллилуевой.
В 1968-м опять-таки без разрешения автора переправил рукопись романа Солженицына «Раковый корпус». В то время судьба романа была неясна. Московские писатели обсудили рукопись и обратились к властям с призывом разрешить её напечатать. Публикация романа на Западе сняла любую возможность её публикации на Родине.
В 1984-1985 годах продал на Западе видеозаписи, запечатлевшие жизнь А.Д. Сахарова в ссылке в Горьком. Вопреки информации о голодовке, видеозапись показывала Сахарова, который читает американский журнал и ест. В другой видеозаписи Сахаров говорил, что Запад преувеличивает значение Чернобыльской катастрофы. Жена академика Елена Боннэр называла эти записи провокацией КГБ, какой они безусловно и были.
За подробный пересказ допросов немецкого лётчика Матиаса Руста, посадившего самолёт на Красной площади, Луи получил от западного журнала сумму с пятью нулями.
Выполнял Луи и поручения, связанные с передачей информации странам, с какими у СССР не было дипломатических отношений: летал на Тайвань, в Израиль.
Словом, понятно, почему Борис Балтер на вопрос райкомовцев, разбиравших его персональное дело: кто передал на Запад подписанное им коллективное письмо в защиту диссидентов? – уверенно указал на Луи. Балтер, как я уже писал, обладал смешной привычкой путать фамилии и имена, сказал: «Луи Филипп», но потом исправил ошибку.
По-моему, пустое дело затевал генерал-майор КГБ Вячеслав Ервандович Кеворков, утверждая в книге «Виктор Луи. Человек с легендой» (2010), что Луи не был связан с органами безопасности и выполнял личные поручения Андропова бескорыстно. Он продавал информацию. И не верится, что отдавал КГБ всю полученную за это сумму. Да и КГБ дивилась бы подобному бескорыстию и подозревала бы подвох. Не в правилах этих рыцарей щита и меча верить в человеческую порядочность.
Родился Луи 5 февраля 1928 года.
* * *
В известном своём стихотворении Маяковский вспоминал о дипломате Теодоре Нетто, что тот «напролёт болтал о Ромке Якобсоне…»
В ту пору «Ромка Якобсон» был автором статьи о Хлебникове, которую ценил Маяковский.
Впрочем, Маяковский наверняка знал Якобсона и раньше. Он читал поэму «150000000» в Московском лингвистическом кружке, где Роман Осипович был первым председателем с 1915 года и председательствовал довольно долго – до 1920-го.
Из этого кружка выйдут много крупнейших русских филологов самого разного направления. Существенным окажется и то, что Якобсон сблизится там с так называемыми опоязовцами, углублённо изучавшими форму произведения, что было близко и Маяковскому.
Когда Роман Осипович Якобсон, умерший 18 июля 1992 года (родился 10 октября 1896-го), оказался в Праге, он в 1926 году стал вице-президентом Пражского лингвистического кружка – основного центра структурной лингвистики. В какой-то мере этот кружок можно рассматривать как продолжение Московского лингвистического. Тем более что в нём задавали тон бывшие посетители Московского кружка Якобсон и Н.С. Трубецкой.
В Праге Якобсон оказался в 1921 году как переводчик миссии Красного Креста по репатриации военнопленных. Поступил работать в советское постпредство и вызвал у чехословацких властей подозрение в шпионаже. Сразу после обыска у него, устроенного полицией в январе 1923-го, назначается заведующим бюро печати постпредства, в 1927-м году советскому постпреду Антонову-Овсеенко предписано уволить Якобсона с должности как беспартийного, но постпред поначалу этому не подчиняется и Якобсон проработал у него ещё год.
Очевидно, эти вести из Москвы способствуют тому, что Роман Осипович остаётся в Чехословакии. В 1937 году он получает чехословацкое гражданство. В эти годы он примыкает к евразийству, лидером которого являлся Н.С. Трубецкой.
В 1939 году после ввода гитлеровских войск в Чехословакию уезжает сперва в Данию, а потом в Норвегию, но и туда в апреле 1940-го вторгаются гитлеровцы. Якобсон вместе с семьёй успевает бежать в Швецию, из которой в 1941 году отправляется в США, чтобы осесть там.
В 1948 году он публикует работу в защиту подлинности «Слова о полку Игореве». Он выступает против мнения французского слависта Андре Мазона, что «Слово» есть позднее подражание «Задонщине». Но бушующая в США кампания маккартизма втягивает в свой водоворот и Якобсона. В Колумбийском университете, где он преподаёт, студенты распространяют листовки о прокоммунистических взглядах профессора, которые они нашли в его статье о «Слове о полку Игореве». В 1949 году он уходит из этого университета. Точнее, переходит в Гарвардский, где работает 16 лет, получив в 1952 году американское гражданство.
С 1956 года предпринимает поездки в СССР на разные научные заседания и съезды. Встречается со старыми друзьями, например, с Виктором Шкловским, с Лилией Яковлевной Брик.
Его научные интересы разнообразны. Его вклад в науку невероятно весом. Вместе с Н.С. Трубецким он создаёт новую отрасль в лингвистике – фонологию, которая различает признаки звуков, из каких состоят фонемы. Якобсон установил 12 бинарных акустических признаков, которые составляют фонологические оппозиции, являющие универсальными, лежащими в основе любого языка.
Как разъясняет Вячеслав Всеволодович Иванов, «язык возник как комбинация жестов и выкриков, которые превратились в фонемы. Эта идея принадлежит Роману Якобсону и Клоду Леви-Строссу: что человек от предков отличался тем, что он взял унаследованную от предков систему сигналов и надстроил над ней свой этаж: каждый звуковой сигнал при этом потерял смысл, но послужил строительным материалом для нового этажа».
Понимаю, что всё это слишком научно. Поэтому закончу сообщением о том, что Якобсон заложил основы еще одного нового направления в науке – нейролингвистики. А что это за направление, объяснять не буду.
19 ИЮЛЯ
День рождения Маяковского (1893), из-за которого я ругался, кажется со всеми моими друзьями.
Да я всё понимаю. Можно не писать стихи, а их «работать». Относиться к поэзии как к столярному делу. Кстати, кажется, в 1960 году выходила книжка Владимира Николаевича Турбина «Товарищ время и товарищ искусство». Там на полном серьёзе «делание» стихов сравнивалось с изготовлением табуреток.
Зачем? А чтобы снять некий мистический туман, окутывающий стихотворчество.
Блок писал об этой мистике: «На бездонных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, – катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные, процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир».
Услышать эти ритмические колебания, эти звуковые волны, по Блоку, может только поэт.
И правда:
Вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе. «Приду в четыре»,– сказала Мария. Восемь. Девять. Десять. Вот и вечер в полную жуть ушёл от окон, хмурый, декабрый. В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры.Казалось бы, какая связь между малярией и Одессой? О каких канделябрах, которые хохочут и ржут в спину, идёт речь?
А вот о тех, по которым засекаешь время. Они словно издеваются над тем, кто поверил любимой. «Приду в четыре»! Как же? А всё-таки, почему не пришла? Почему не идёт? Что здесь? Страх – до малярийного озноба – за неё прежде всего. И предчувствие какой-то сатанинской насмешки судьбы, которая выражена в этом хохоте, в этом ржанье канделябров.
Стихия так же бредово неспокойна, как и герой. Как он, она тоже ушла «в полную жуть».
А в какую «жуть» ушли эти строки:
Лишь лёжа в такую вот гололедь, Зубами вместе проляскав - Поймёшь: нельзя на людей жалеть Ни одеяло, ни ласку…Вроде всё сказано правильно. Но только почему «лишь»? В любой мороз, в любой холод, понимаешь, что людям нужно тепло. А уж то, что к людям нужно быть ласковым, – это почти аксиома. Или скажем так, – неопровержимая нравственная проповедь.
Та и та цитата принадлежит Маяковскому. Разница только в том, что Мария – героиня дореволюционной поэмы. А радетель о том, чтобы всем людям хватило одеял и ласк, – герой послереволюционной.
Страсть уступила некой инвентаризации хозяйчика, в которого, хотел или нет, превратился Маяковский, с головой бросившийся в быт, почувствовавший себя ответственным за то новое, что принесла стране революция.
Можно, наверное, оставаться поэтом и в комчванстве, и раздавая тычки и зуботычины «дряни», и утверждаясь над другими людьми планеты, которым не выпало счастье жить в стране социализма.
Наверно, повторяю, это можно. Но Маяковский не смог. Он не был на это запрограммирован. И, по-моему, его слова: «…я себя смирял, становясь на горло собственной песне» – это подписанный самому себе приговор, за которым и прозвучал выстрел. Да, смирял. Да, смирил. Убив в себе поэта! Страшно, что в буквальном смысле слова: застрелился 14 апреля 1930 года.
* * *
«Певец Лауры» – так из поколения в поколение называют Франческо Петрарку.
Он встретил Лауру в Авиньоне, где принял духовный сан. Нет, никаких воздыханий и любовных прогулок. Говорят, что Петрарка и видел возлюбленную всего несколько раз в жизни. Но в том-то и дело, что сонеты, которые Петрарка писал только ей и о ней, зафиксировали огромное по своей духовной значимости любовное чувство автора.
Лаура оказалась жертвой эпидемии чумы. Но и после её смерти Петрарка не перестаёт воспевать её. Ещё десять лет появляются сонеты к ней.
Петрарка выпустил сборник итальянских стихов «Canzoniere». Он делится на две части: «На жизнь мадонны Лауры» и на «Смерть мадонны Лауры». В этом сборнике он выступил не просто новатором (хотя один итальянский, на котором прежде не писали, чего стоит!), но гением, открывшим новый путь любовной лирике. Петрарке удалось воплотить свой духовный идеал в образе реальной, земной, плотской женщины. Такое долго не удавалось никому другому. Да и то сказать эта итальянская книжка Петрарки выдержала ещё до начала XVII века более двухсот переизданий.
Умер Франческо Петрарка 19 июля 1374 года. Родился 12 июля 1304-го.
* * *
«…Дал ли ты Онегину поэтические формы кроме стихов?…» – возмущённо спрашивал Пушкина романтик Александр Александрович Бестужев, недовольный первой главой романа в стихах. И пояснял: «Я вижу франта, который душой и телом предан моде – вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов».
«Дождись других песен […] 1-ая песнь просто быстрое введение…» – отвечал Пушкин Бестужеву.
Пушкин очень оживлённо переписывался с Бестужевым и Рылеевым, соиздателями альманаха «Полярная звезда», когда был в Одессе, а потом и в Михайловской ссылке. Далеко не всегда это было полемикой. Пушкин дружил с обоими, и друзья сообщали ему о новостях, о новинках литературы, в том числе, как мы только что прочитали, и мнение о тех новинках, которые выходили в Петербурге под пушкинским именем.
Пушкин ценил критика Бестужева. Его «Взгляды на русскую поэзию» – ежегодные обзоры новейшей литературы в «Полярной звезде», существовавшей в 1823, 1824 и 1825 годах. Не соглашаясь и с иными оценками критика, Пушкин соглашался с его концептуальным взглядом на развитие литературы, порвавшей с классицизмом и утверждающей романтический метод, который и Пушкину был близок.
Уже тогда Бестужев начинал печатать свою прозу, и Пушкин одобрил его «древнюю повесть» «Роман и Ольга» и его «Вечер на бивуаке»: «Всё это ознаменовано твоей печатью, т.е. умом и чудесной живостью». Пушкину нравилась дума Рылеева «Войнаровский», о чём он писал тому же Бестужеву, нравилась другая дума «Иван Сусанин». Кроме того, и сам Пушкин охотно печатался в «Полярной звезде». Только в 1824 году там появился отрывок из «Кавказского Пленника» и 9 стихотворений.
Но Рылеев ввёл Бестужева в «Северное общество», где, в отличие от радикального Рылеева, Бестужев занял умеренную позицию сторонника конституционной монархии. Тем не менее на Сенатскую площадь Бестужев вышел. После подавления восстания добровольно отдался в руки Николая. Чистосердечно раскаялся. В 1827-1829 годах отбывал ссылку в Якутии. В 1829-м по его личной просьбе переведён рядовым в действующую армию на Кавказе. Он много пишет и печатается как прозаик. Но его известность и личная храбрость не действуют на воинское начальство, которое только в 1835 году согласилось, чтобы тот получил чин унтер-офицера. А через два года в битве при Адлере 19 июля 1837 года Бестужев был убит (родился 3 октября 1797-го).
Его ставшие весьма популярными кавказские произведения, которые он подписывает, прибавив к своей фамилии ещё одну, – Бестужев-Марлинский, открыли дорогу авантюрным романтическим произведениям, каких в подражание Марлинскому появилось немало. Сами произведения Марлинского «Аммалат-Бек», «Мулла-Нур», «Фрегат Надежда» отличаются от ранних произведений Бестужева мрачностью тона, выспренностью описаний (пейзажа, битв с горцами), эротикой. Популярности Марлинского у читателей фактически положил конец Белинский, резко раскритиковавший роман «Аммалат-Бек» в специальной статье.
Но ещё долго русская литература преодолевала влияние Бестужева-Марлинского.
* * *
Ольга Ивановна Высотская, родившаяся 19 июля 1903 года, написала большое количество стихотворений для детей, а для взрослых – намного меньше. Кроме того некоторые композиторы написали песни на её тексты. Среди них – Д. Кабалевский.
Между тем, на мой взгляд, Высотская, овладевшая техникой стиха, не сумела выразить им собственную личность. Её стихи словно принадлежат всем и никому в отдельности. В моей молодости это называлось «общим местом»:
Жёлтый клён глядится в озеро, Просыпаясь на заре. За ночь землю подморозило, Весь орешник в серебре. Запоздалый рыжик ёжится, Веткой сломанной прижат. На его озябшей кожице Капли светлые дрожат. Тишину вспугнув тревожную В чутко дремлющем бору, Бродят лоси осторожные, Гложут горькую кору. Улетели птицы разные, Смолк их звонкий перепев. А рябина осень празднует, Бусы красные надев.Такой рисунок принадлежит всем, потому что не принадлежит никому. Все образы знакомые. Для ребёнка никаких открытий.
Умерла в 1970-м. День и месяц смерти Интернет не указывает.
* * *
Известность Фаины Георгиевны Раневской, скончавшейся 19 июля 1984 года (родилась 27 августа 1896-го), такова, что мне вряд ли удастся сообщить об этой актрисе и уникальном человеке что-либо новое. Поэтому представляю маленькую коллекцию её высказываний:
«Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа».
«Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться».
«– А как вы считаете, кто умнее – мужчины или женщины? – спросили у Раневской.
– Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?»
«Раневская ходит очень грустная, чем-то расстроена.
– У меня украли жемчужное ожерелье!
– Как оно выглядело?
– Как настоящее….»
«Возле «Сикстинской мадонны» стоят две шикарно одетых дамы, и одна обращается к другой.
– Не понимаю, что все так сходят с ума и чего они в ней находят…
Случайно оказавшаяся рядом Фаина Георгиевна так на это отреагировала:
– Милочка! Эта дама столько веков восхищала человечество, что теперь она сама имеет право выбирать, на кого производить впечатление».
«Раневскую о чём-то попросили и добавили:
– Вы ведь добрый человек, вы не откажете.
– Во мне два человека, – ответила Фаина Георгиевна. – Добрый не может отказать, а второй может. Сегодня как раз дежурит второй».
«Однажды Завадский закричал Раневской из зала: «Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел!» «То-то у меня чувство, как будто наелась говна», – достаточно громко пробурчала Фаина. «Вон из театра!» – крикнул мэтр. Раневская, подойдя к авансцене, ответила: «Вон из искусства!»
«Старость – это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости».
«– Посмотрите, Фаина Георгиевна! В вашем пиве плавает муха!
– Всего одна, милочка. Ну сколько она может выпить?!»
«Знаете, – вспоминала через полвека Раневская, – когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности».
«Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности брюнетки или блондинки?»
Не задумываясь, Раневская ответила: «Седые!»
«Неужели я уже такая старая? Ведь я ещё помню порядочных людей».
«Раневская обедала в ресторане и осталась недовольной и кухней, и обслуживанием.
– Позовите директора, – сказала она, расплатившись. А когда тот пришёл, предложила обняться.
– Что такое? – оторопел директор.
– Обнимите меня, – повторила Фаина Георгиевна.
– Но зачем?
– На прощание. Больше вы меня здесь не увидите».
«Одиночество – это когда в доме есть телефон, а звонит будильник».
«Четвёртый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать: сегодня актёры играли как никогда!»
«Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню.
Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку.
Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью.
Союз умного мужчины и умной женщины порождает лёгкий флирт».
«Пионэры! Идите в жопу!»
20 ИЮЛЯ
Лет двадцать назад режиссёры Вадим Зобин и Леонид Пчёлкин сняли сериал «Петербургские тайны» по роману писателя XIX века Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». Помню оживление в книжных магазинах: люди покупали этот роман, хотя прежде наверняка не слышали о таком писателе.
Вдохновлённые успехом Зобин и Пчёлкин обратились к циклу романов Александра Фомича Вельтмана, родившегося 20 июля 1800 года «Приключения, почерпнутые из моря житейского». По первому роману «Саломея» Вадим Зобин написал сценарий, а Леонид Пчёлкин отснял десять серий.
Кто знает: заверши кинематографисты свой замысел (предполагалось, что всего будет 40 серий), и, возможно, у пяти романов, входящих в вельтмановский цикл, появились бы издатели и читатели. Но завершить замысел не получилось. Сперва помешали проблемы с финансированием. Потом – цепь трагедий: умирает Леонид Пчёлкин, заболевает и умирает исполнительница одной из главных ролей Наталья Гундарева, попадает в катастрофу другой исполнитель главной роли Николай Караченцов. А в 2010 году умирает Вадим Зобин.
Этот цикл романов Вельтмана по-прежнему находится в забвении.
Правда, помимо него, Вельтман написал много романов, повестей, рассказов, стихотворных сказок. Самым известным его произведением является роман «Странник», который хвалил ещё Белинский: «Как бы то ни было, по крайней мере, вы не утомитесь, не соскучитесь от этой книги, прочтёте её от начала до конца, безо всякого усилия, и это, согласитесь, – большое достоинство. Много ли книг, которые можно читать без скуки, добровольно?»
Комплимент может показаться сомнительным, но Белинского понять можно: бедняге-подёнщику приходилось читать всю тогдашнюю литературу. А это адский труд.
Но и Пушкин сказал о «Страннике», что «в этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант».
Они с Вельтманом не то, что были дружны, но поддерживали хорошие отношения. Узнав, что Пушкин собирается затеять журнал, Вельтман высылает ему для «Современника» 4 февраля 1833 года (да, уже в то время авторы готовились печататься у Пушкина) свой перевод «Слова о полку Игореве», присовокупляя: «Желал бы знать мнение Пушкина о Песни ополчению Игоря, говорят все добрые люди, что он не просто поэт, а поэт умница, и знает, что смысл сам по себе, а бессмыслица сама по себе; и поэтому я бы словам его поверил больше, чем своему самолюбию».
Вельтман был не просто чрезвычайно плодовитым писателем. Он занимался ещё и наукой. Написал историческое эссе «О Господине Великом Новгороде». Изучал античные, византийские, арабские, древнеиндийские, средневековые немецкие и скандинавские сочинения, переводил из «Махабхараты», издал комментарий к Тациту. Отметим его увлечение картографией: он составлял карты древних мест.
Но, разумеется, главным занятием Вельтмана было сочинительство.
«Странник» был задуман Вельтманом как первая часть триптиха. Он его написал. «Странник» был романом о настоящем, «MMMCDXLVIII Год. Рукопись Мартына Задека» – роман о будущем, а «Александр Филиппович Македонский» – о прошлом.
Вельтмана считают родоначальником жанра исторического фэнтези, подчёркивают, что он один из первых применил приём путешествия во времени: от глубокой старины до захватывающе отдалённого будущего. Настолько отдалённого по времени, что иные его вещи относят к жанру утопии. А иные его «преданья старины глубокой» восхищённо оценивал Бестужев-Марлинский: «Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслию». Добавим к этому, что Вельтман пробовал себя в самых разных жанрах. В том числе написал рассказ «Иоланда», в котором выступил зачинателем детективного жанра.
«Он никогда не надоедает, ибо благодаря неизменно очаровательному юмору и прихотливому стилю читать его – всегда наслаждение», – писал о Вельтмане Д.П. Святополк-Мирский. Однако, сохраняя объективность, замечал: «Вельтман начал свою литературную деятельность в 1830 г. и продолжал её до самой смерти, хотя после упадка романтизма в 40-х гг. практически лишился читателей».
В том-то и дело, что развитие литературы обогнало Вельтмана. Реалистические его вещи не идут в сравнение с романтическими. А к романтическим публика становилась холодной.
Умер Александр Фомич почти в безвестности 23 января 1870 года. «Почти» – потому что «Странник» всё-таки пережил своего автора: читатели у него были.
Из безвестности самого Вельтмана вытащил в литературоведении Переверзев, назвав писателя «предтечей Достоевского». Другое дело, насколько справедлива такая характеристика.
* * *
Пожалуй, что князь Иван Сергеевич Гагарин, родившийся 20 июля 1814 года, оставил в русской литературе своеобразный след. Это он в 1836 году, покидая Мюнхен, где служил на дипломатической службе вместе с Тютчевым, взял у последнего тетрадку со стихами и привёз её в пушкинский «Современник». Стихи Тютчева были прекрасно встречены Вяземским и Жуковским, и Пушкин опубликовал в двух номерах 24 стихотворения нового под псевдонимом (Ф. Т-въ) поэта.
Тютчева, который на протяжении всей жизни выказывал равнодушие к своим стихам, это известие не тронуло, но Некрасов публикацию запомнил и через десятилетие написал статью об этих стихах.
Собственно, на этом вклад Гагарина в русскую литературу кончается. И начинается совсем другая его деятельность. Находясь на дипломатической службе в Париже, он становится завсегдатаем модного салона своей дальней родственницы, перешедшей в католическое вероисповедование, Софьи Свечиной. Общение с образованными католиками, изучение церковной истории приводит князя к убеждённости в истинности католичества. В 1842 году он принимает католическую веру. А в 1843-м вступил в новициат (то есть стал послушником) ордена иезуитов. Через два года он принёс обеты в Обществе Иисуса, приняв монашеское имя Ксаверий.
После публикации книги Гагарина «Россия, станет ли она католической?» ему закрывают доступ в Россию, где он лишён всех имущественных и сословных прав.
Кроме собственных работ Гагарин издал на Западе Чаадаева, записку барона Гакстгаузена, анекдоты графа де Местра, мемуары нунция Аркетти…
Умер Гагарин в Париже 20 июня 1882 года.
* * *
Лёня Губанов – основатель неофициального литературного кружка СМОГ (Смелость, Мысль, Образ, Глубина). Родился Леонид Георгиевич Губанов 20 июля 1946 года. Писал стихи, которые при его жизни публиковались в основном в самиздате.
Правда, в детстве он опубликовал несколько стихотворений в «Пионерской правде». Увлёкся футуризмом, создал самиздатовский футуристический журнал «Бом», выступил со стихами вместе с друзьями в нескольких школах. Обратил на себя внимание именитых поэтов. В 1964 году Евтушенко смог напечатать в «Юности» отрывок из поэмы Губанова.
В СМОГ вместе с Губановым вошли В. Алейников, В. Батшев, В. Кублановский и другие менее известные.
По предложению Губанова 14 апреля 1965 года СМОГ провёл демонстрацию в защиту «левого» искусства, а 5 декабря 1965 года принял участие в «митинге гласности» на Пушкинской площади.
Был госпитализирован в психиатрическую больницу, где у него требовали свидетельств против Александра Гинзбурга.
В конце 1966 года под давлением властей СМОГ прекратил существование. Губанова не печатали, и он зарабатывал на жизнь дворником, грузчиком, пожарным. Порой удавалось устроиться художником или фотолаборантом.
Умер в безвестности в 38 лет 8 сентября 1983 года.
Начали печатать его в 90-е. Вышли книги, стихи положили на музыку.
* * *
Первое своё стихотворение Михаил Васильевич Исаковский опубликовал ещё в 1914 году в четырнадцатилетнем возрасте. С тех пор им написано много поэтических книг, много стихотворений, ставших популярными песнями.
Лучшим стихотворением Исаковского следует считать, наверное, «Враги сожгли родную хату». Недаром именно на него обрушилась партийная печать сразу после войны. Войну требовали изображать как лихой богатырский подвиг, а Исаковский написал о трагедии солдата-победителя. Трудно не расслышать щемящую тоску, подавляемое горе, еле сдерживаемый в груди героя вопль, – трудно всё это не расслышать, чтобы обвинить поэта в пессимизме, в искажении правды о войне.
Кстати, критика этого шедевра показала, как мало понимали в художественности текста партийные лидеры, предпочитавшие барабанные, бесчеловечные упражнения в рифму полноценным стихам.
Впрочем, если стихи были, так сказать, на приветствуемую ими тему, они рады были, когда имели дело с изделием мастера.
Таким изделием стало написанное Исаковским в 1945 году «Слово к товарищу Сталину».
Уже во время перестройки я прочитал в статье одного маститого критика, что оно, это «Слово», конгениально стихотворению «Враги сожгли родную хату» и что, таким образом, гениальных стихотворений у Исаковского два.
Но мне кажется кощунственным приравнивать стихи о трагедии к оде во славу вождя, написанную в восточном духе.
А о восточном духе говорит уже первое четверостишие «Слова»:
Оно пришло, не ожидая зова, Пришло само – и не сдержать его… Позвольте ж мне сказать Вам это слово, Простое слово сердца моего.Вчитайтесь в текст. Что значит: «не ожидая зова»? Кто должен был вызвать слово и откуда? Эта явная неловкость – от невероятного упоения, с каким согласен стоять на коленях или лежать на брюхе перед вождём поэт:
Спасибо Вам, что в годы испытаний Вы помогли нам устоять в борьбе. Мы так Вам верили, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе.Ну какие уж это гениальные строки? Те, кто смотрел «Падение Берлина» – лживый, перевирающий исторические события фильм, подтвердят общность его поэтики со стихами Исаковского. А ведь Исаковский начал раньше. Чаурели и Павленко выпустили «Падение Берлина» в 1949-м, когда давно уже было застолблено для советских граждан верить не себе, не своим глазам, а власти, вождю.
Мне скажут: но ведь стихи Исаковского искренны? Да, Исаковский искренен в своём «Слове». Даже в этой его концовке:
Вы были нам оплотом и порукой, Что от расплаты не уйти врагам. Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку, Земным поклоном поклониться Вам За Вашу верность матери-отчизне, За Вашу мудрость и за Вашу честь, За чистоту и правду Вашей жизни, За то, что Вы – такой, какой Вы есть. Спасибо Вам, что в дни великих бедствий О всех о нас Вы думали в Кремле. За то, что Вы повсюду с нами вместе, За то, что Вы живёте на земле.Но искренность, как однажды замечательно заметил прекрасный критик Аркадий Белинков, может придать человеку (или тексту) почтения. Но она никогда не добавит ему ума.
Воспевать в 1945-м «чистоту и правду» жизни вождя, забыть об огромной полосе отступлений и ошибок Красной армии, в которых, конечно, повинен её Верховный Главнокомандующий, об огромных жертвах, которые по его вине принёс на алтарь победы народ – не самое замечательное свойство поэтической мысли, переворачивающей ситуацию с ног на голову: «О всех о нас Вы думали в Кремле». Объективная искренность Исаковского не заслонила фактической лжи, воссозданной в этом портрете Сталина.
Нет, не станем приравнивать лживую оду к стихам, гениально выразившим трагедию возвращающихся с войны фронтовиков. Недаром облаяли не «Слово», а «Враги сожгли родную хату».
В 1960 году Марк Бернес впервые спел это стихотворение, положенное на музыку Матвеем Блантером. С тех пор песня считается одной из лучших, написанных о войне.
У Исаковского много таких лучших песен. «В лесу прифронтовом», «Огонёк», «До свиданья, города и хаты», «Как с войны пришли ребята», «Каким ты был, таким ты и остался».
Кроме собственных стихов Исаковский переводил поэзию украинских, белорусских и венгерских поэтов.
Не устарела его теоретическая книжка «О поэтическом мастерстве».
Наконец, он оставил мемуары. Книгу «На Ельнинской земле. Автобиографические страницы» можно прочитать и сейчас. Она доступна.
Умер Михаил Васильевич 20 июля 1973 года.
* * *
Дважды горели рукописи Якова Эммануиловича Голосовкера, выдающегося филолога и философа. В первый раз после того, как в 1936 году Голосовкера репрессировали, их сжёг его друг в 1937-м. Второй раз в 1943-м во время пожара дома, где хранились рукописи. И дважды автор возвращал их к жизни, затратив на это огромное количество времени.
Яков Эммануилович скончался 20 июля 1967 года (родился 4 сентября 1890-го). Только через двадцать лет – в 1987 году его книги вернули читателю. Стоит назвать издателей его архива Н.В. Брагинскую и Д.Н. Леонова.
Прочитал я историю его книги «Достоевский и Кант». Издательство АН СССР отвергло её и отдало своему сотруднику Евгению Михайловичу Кляусу для возврата автору. Имя Голосовкера ничего Кляусу не говорило. Он решил полистать эту небольшую по объёму рукопись, но, начав читать, не смог оторваться. И пробил книгу, которая вышла в 1963 году.
За что арестовали Голосовкера? Говорят, что за висевший у него на стене портрет Ницше, которого тот уважал и переводил. Получил три года лагерей. Потом три года ссылки. А с 1944 года Голосовкер, не имеющий дома, жил у друзей на дачах в Переделкине.
Между прочим, перевод «Так говорит Заратустра» Ф. Ницше, который Голосовкер делал в стол, был опубликован в 1994 году. Примерно в это же время опубликовали и другие переводы Голосовкера из античных и немецких поэтов. Он, кстати, первым перевёл на русский язык немецкого классика 18 века Гельдерлина.
Но главную известность Голосовкеру принесли исследования о сказке. О мифах. Его «Логика мифа», изданная в 1987 году, сразу обозначила крупнейшего учёного в этой отрасли. Стоит отметить такую его книгу, как «Засекреченный секрет. Философская проза» (1991). Посмертно, но не полностью издан «Иминагативный абсолют» Голосовкера – о механизме и значении творческого воображения.
А при жизни учёного в Детгизе были изданы написанные ритмической прозой «Сказания о титанах» и «Сказание о кентавре Хероне». В них Голосовкер предпринял попытку восстановить утраченные древнеэллинские мифы.
* * *
Не только в ИМЛИ, где он работал, его звали «Овчаркой». Это прозвище просто срослось с Александром Ивановичем Овчаренко, злобным, облаивающим всё и вся критиком.
Помню, как читали по «Голосу Америки» поэму Твардовского «По праву памяти». И через несколько дней – собрание критиков и литературоведов Московской писательской организации. На трибуне Овчаренко: «Моё поколение не забыло кулацкие обрезы, помнит, как кулаки гноили хлеб, прятали зерно, лишь бы не досталось голодающему народу. И вот вчера я включил западное радио и среди прочей брехни услышал новую поэму Твардовского. Говорят, что он был народным поэтом. Я никогда не был его поклонником. Всегда с отвращением относился к его позиции на посту главного редактора «Нового мира». Но то, что я услышал, вообще не укладывается в сознание. Твардовский выступает подлинным кулацким поэтом. Коммунист, он выступает против политики партии в области коллективизации. Я считаю своим долгом заявить о неприятии такой позиции так называемого народного поэта».
Собственно, «Овчарка» был в своём репертуаре. Никто его выступлению не удивился. Удивились, когда, громя «Новый мир», секретариат Союза писателей СССР ввёл в редколлегию Овчаренко. Ввёл при живом редакторе, явно рассчитывая, что соглашаться с этим Твардовский не будет и с поста главного уйдёт сам.
Расчёт оправдался. И всё-таки многие считали, что после ухода Твардовского Овчаренко и сам откажется войти в редколлегию. Не отказался. Умер 20 июля 1988 года через совсем короткое время после того, как перестройка вышвырнула его из этого кресла. Родился 28 января 1922 года.
21 ИЮЛЯ
Что говорить, Роберт Бёрнс известен у нас в основном в переводе Маршака. Иностранцы мне говорили, что у Бёрнса часто другая ритмика, которая соответствует шотландской народной поэзии.
Может быть, это и так. Но другого (кроме маршаковского, отчасти ещё и в переводе Багрицкого) Бёрнса я не знаю. А того, кого знаю, очень люблю.
Биография Бёрнса нелегка. С детских лет он наравне с взрослыми занимался крестьянским трудом. Считается, что он надорвался уже тогда. Читать стал рано. И книги, бывшие в его доме (а это были Шекспир, Поуп, Свифт, Мильтон) прочитал.
Бёрнс одинаково хорошо говорил на английском и на шотландском. Но для своих стихов выбрал шотландский, считая его более музыкальным. Рано начал сочинять. Но по-настоящему стал известен, выпустив в 27 лет книгу, тираж которой был мгновенно раскуплен. Потребовалась допечатка.
Помимо прочего, это принесло Бёрнсу согласие его возлюбленной на брак. Дело в том, что репутация у Бёрнса была скверной: он был отцом двух незаконнорождённых детей. Ясно, что и родители Джин долго не хотели этого брака. Но согласились.
Увы, их брак был недолгим. Бёрнс умер в 37 лет 21 июля 1796 года. Родился 25 января 1759 года.
Мне трудно выбрать для цитирования из стихов и баллад Бёрнса: я многое у него люблю. И всё же выбираю:
Пробираясь до калитки Полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки Вечером во ржи. Очень холодно девчонке, Бьет девчонку дрожь: Замочила все юбчонки, Идя через рожь. Если кто-то звал кого-то Сквозь густую рожь И кого-то обнял кто-то, Что с него возьмёшь? И какая нам забота, Если у межи Целовался с кем-то кто-то Вечером во ржи!…* * *
Я не знал, что слово «велтист» в переводе с древнерусского «великан». Евгения Серафимовича Велтистова, родившегося 21 июля 1934 года, оно характеризовало безукоризненно. Это был высокий человек, ростом в 2 метра 2 сантиметра.
А познакомились мы, когда я пришёл на временную работу (заменял ушедшего в творческий отпуск поэта Евгения Храмова) в журнал «Кругозор». Евгений Серафимович был его главным редактором.
Очень интеллигентный, очень вежливый, очень приветливый. Мало того, что хорошо меня принял, но постоянно хвалил за работу.
Иногда к нему в журнал приходила женщина постарше его. Мне объяснили, что это знаменитая Марта Баранова, очерки которой я читал ещё в «Пионерской правде». Марта была женой Велтистова и, очевидно, его пробивной силой.
Деловая, энергичная, она писала с ним вместе очерки, которые печатала в «Учительской газете», в «Комсомолке». А потом заставила его самого писать.
Но это уже было без меня. Я работал в «Кругозоре» два месяца.
А потом узнал, что вот уже год (включая время, когда я там работал), как Велтистов – автор повести-фантазии «Электроник – мальчик из чемодана». Евгений Серафимович продолжил эту серию приключений школьника Сыроежкина, и по двум первым повестям из этой серии был снят фильм, который отметили Госпремией СССР.
Писал Велтистов для детей много. Ушёл из «Кругозора» в аппарат ЦК КПСС. Думаю, что и там он сделал людям немало добра. Умер рано в 53 года 1 сентября 1989-го.
* * *
Очень хорошо помню Третий съезд писателей РСФСР. Конец марта 1970-го. Я работаю в бригаде «Литературной газеты» по освещению съезда. Курсирую порой несколько раз между кремлём и Цветным бульваром (там располагалась газета). Но вот – сегодня заключительный день работы. Утром, как обычно, соберётся так называемая партийная группа съезда, которая проголосует за список правления, какой вынесут для голосования на съезд, и за кандидатуру Председателя – его съезд после этого утвердит.
Но это партийной группе пока что неизвестен список. А у нас он набран ещё вчера вечером. Никто не сомневается, что именно за этот список партгруппа и проголосует.
Так что подъезжаю в Кремль не к 10 утра, а чуть попозже. И сразу же натыкаюсь на зама главного редактора «Литературки» Кривицкого.
– Вы чего опаздываете?
– А куда, – говорю, – спешить. – Партгруппа наверняка ещё не закончилась.
– Она не закончилась, – говорит Кривицкий. – Поезжайте в редакцию, отвезите вот это, – даёт мне листки с длинным списком фамилий. – Пусть перебирают. Я им уже звонил. Возьмите мою машину.
Вот так штука! Выхожу. Разыскиваю машину Кривицкого. Просматриваю список. Ничего интересного: полно бездарей, много вообще неизвестных.
Отдаю ответственному секретарю Горбунову. Тот усмехается: «Накрылся Леонид Сергеевич!» «Какой, – спрашиваю, – Леонид Сергеевич?» «Да Соболев, какой же ещё», – удивляется Горбунов. Я смотрю список: «Да вот же он!», – показываю. «Ладно, езжайте на съезд, – говорит Горбунов. – Здесь мы без вас справимся».
Еду назад. На этот раз фойе заполнено. Лица писателей возбуждены. Подхожу к инструктору ЦК КПСС Геннадию Гусеву, с которым вчера меня познакомила моя коллега Валя Помазнёва. «Что случилось?» – спрашиваю. «А то и случилось, – отвечает, – что мы не спали ночь. Михалков принёс список своего правления, и мы его фильтровали». «Как Михалков? – изумляюсь. – А Соболев как же?» «А Соболева никто не предупредил, – охотно объясняет Гусев. – Он пришёл на партгруппу со своей папкой. А секретарь ЦК (он назвал фамилию, да я её забыл) начал с того, что ЦК КПСС выражает благодарность Соболеву и предлагает избрать председателем Михалкова. Тот немедленно вышел на трибуну с нашим списком».
Соболева я увидел в фойе. Его рыхлое толстое лицо почернело. Он стоял с женой в чёрном платье и огромной чёрной шляпе. Ещё вчера вокруг жены вились, как она в их присутствии говорила, «приживалки». Сегодня семейная пара стояла в одиночестве.
Ну, а вечером, как обычно, был банкет в Большом Кремлёвском Дворце. Стол президиума, рассчитанный человек на сто, был заполнен. Как впрочем, и весь зал, уставленный длинными параллельными столами. Между залом и столом президиума цепочка людей в штатском. Охрана.
Микрофон на столе президиума в руках Михалкова. Он долго, заикаясь, благодарит Соболева, называет его «нашим основателем» – то есть основателем этого союза писателей РСФСР. «Я г-гов-ворил н-нашим п-партийным т-това-арищам, – заикается Михалков, – что Леон-нид С-сергеевич – ценный кадр. М-мне б-было отвеч-чено: ну так в-вы остав-вите его в п-правлении?»
Здесь на весь огромный зал раздаётся рыдание, усиленное многими микрофонами. Все видят сидящую с краю жену Соболева. Точнее, её шляпу, которая сотрясается от вибраций. Рядом с ней сбоку Соболев. Он её не утешает. Чувствуется, как унизительно ему сидеть сбоку. Он привык – в центре. Но там сейчас Михалков.
А ко мне подошёл Анатолий Алексин. «Поздравь», – говорит. «Секретарь?» – спрашиваю. «Да, буду, как и в московском, заниматься детской литературой». И, оглянувшись, тихо: «У такого гориллы изо рта кусок вырвали!»
Соболев действительно был основателем этого Союза. Хрущёв создал Союз писателей РСФСР именно под Леонида Сергеевича. Отрадное впечатление произвело на Хрущёва соболевское выступление на совещании с интеллигенцией. Говорили, что, разглядев это отношение Хрущёва к Соболеву, с Леонидом Сергеевичем сильно подружился секретарь ЦК по идеологии Ильичёв.
Соболев, родившийся 21 июля 1898 года, умел подольститься к вождям. Сталину понравилась его фраза на Первом Всесоюзном съезде советских писателей (1934): «Партия и правительство дали советскому писателю решительно всё. Они отняли у него только одно – право плохо писать».
Сталин оставил его беспартийным, который одобрял бы все партийные решения. И Соболев не подкачал. Неизменно, в каждом своём выступлении ратовал за партийность литературы.
Во время войны модно было передавать присуждённую тебе сталинскую премию в Фонд обороны на нужды армии. Вот и Соболев передал свою с просьбой построить на эти деньги катер и назвать его «Морская душа».
Ещё в 1932 году он начал писать роман «Капитальный ремонт». В 1962-м, добавив в роман новые главы, показал, что право писать плохо у него лично не отнимали.
Почему он слетел после Хрущёва? Потому что для новых вождей он был хрущёвским кадром. Хотя и они к нему относились благосклонно. Дали Героя соцтруда, два ордена Ленина.
В последнее время он был неизлечимо болен раком желудка. Не вынеся болей, застрелился 17 февраля 1971 года. Завещал развеять свой прах над морем. Но жена не позволила. Похоронила на Новодевичьем.
* * *
Я оценил его по роману «Каждый умирает в одиночку». Великолепно описаны персонажи – и еврейка, которая выбрасывается из окна, когда её готовы схватить фашисты. И супруги Квангели, потерявшие на войне сына, и вступившие в группу сопротивления в Берлине.
А почти безумное решение Квангели писать открытки против гитлеровского режима и бросать их в почтовые ящики. Безумное – потому что для фашистского комиссара Эшериха помечать флажками места, где появляются открытки, стало вроде спортивной игры.
Каждый умирает в одиночку – так и получилось в этом романе Ганса Фаллады, родившегося 21 июня 1893 года. Я прочитал ещё его романы «Что же дальше, маленький человек?», «Волк среди волков», «Железный Густав». Достойные художественные произведения.
Между прочим, Ганс Фаллада – это псевдоним Рудольфа Дитцена, который составил себе псевдоним из двух сказок братьев Гримм, Ганс – из сказки «Счастливый Ганс», а Фаллада – говорящий конь из сказки «Гусиная пастушка».
Умер 5 февраля 1947 года.
* * *
По поводу нескольких не пропущенных цензором строчек «Сказки о золотом петушке» Пушкин записал в дневнике: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова».
Горечь этой записи усилена воспоминанием о цензорах времён пушкинской молодости, прославившихся тупым умением подозрительно обнюхивать каждое слово, нагоняя тоску и уныние даже на преданных режиму литераторов. «Бируков и Красовский невтерпёж были глупы [и] своенравны и притеснительны», – писал Пушкин брату в 1824 году. «Это долго не могло продлиться», – резюмировал он, конечно, не предполагая, что через десять лет ему снова придётся столкнуться с той же «невтерпёж» нелепо-охранительной цензурой. Да и не стал бы Пушкин так уничижительно отзываться об умственных способностях весьма неглупого Никитенко, сравнивать того с дураком Бируковым, если б всего только подпускал в не пропущенные Никитенко строки политических шпилек.
Впрочем, пушкинские отношения с Никитенко складывались по-разному. Порой приязненно.
Александр Васильевич Никитенко, скончавшийся 21 июля 1877года, родился 12 марта 1804 года крепостным крестьянином и получил вольную, благодаря хлопотам Жуковского.
В 1833 году был назначен цензором и спустя короткое время провёл восемь дней на гауптвахте за то, что пропустил перевод стихотворения В. Гюго, выполненный М. Деларю.
В 1842 году Никитенко проводит на гауптвахте ночь за пропуск в «Сыне отечества» повести «Гувернантка», якобы насмешливо отзывающейся о фельдъегерях.
В конце 1850-х годов Никитенко редактировал «Журнал Министерства народного просвещения».
Кстати, был профессором Санкт-Петербургского университета и действительным членом Петербургской Академии наук.
Оставил после себя трёхтомный «Дневник», любопытный живым свидетельством времени и отчётливым старческим брюзжанием, которое связывают с биографией Александра Васильевича, с крепостным правом, от какого он с трудом освободился и какое наложило отпечаток на эту незаурядную натуру.
* * *
Антоний Погорельский прежде всего для многих поколений автор сказки «Чёрная курица, или Подземные жители», которая написана для мальчика Алексея Константиновича Толстого, племянника Алексея Алексеевича Перовского, выступившего под псевдонимом Антоний Погорельский.
Впервые под этим псевдонимом он опубликовал в 1828 году повести «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».
Фантастическая повесть Перовского «Лафертовская маковница» (1825; опубликована под собственной фамилией) была восторженно встречена Пушкиным, который позже процитировал её в своём «Гробовщике».
Выйдя в отставку в 1830, полностью посвятил себя воспитанию племянника Алёши, ездил с ним за границу. Скончался от туберкулёза по дороге к месту своего лечения в Ниццу 21 июля 1836 года (из даты рождения известен только год 1787).
22 ИЮЛЯ
Ну кто мог ожидать, что в общем-то очень средний писатель Сергей Алексеевич Баруздин, родившийся 22 июля 1926 года, окажется весьма прогрессивным редактором журнала. И дело здесь даже не в степени дарования (в конце концов, Андрей Дементьев или Анатолий Ананьев писали не лучше), а в том, что Баруздин начинал свою служебную карьеру как весьма злобный чиновник.
Разумеется, он поучаствовал в травле Пастернака, опубликовавшего на Западе «Доктора Живаго». Но главное – это его свирепая позиция, которую он демонстрировал на посту секретаря Союза писателей РСФСР (1957-1965), да и на посту секретаря СП СССР, избранный уже после того, как стал главным редактором «Дружбы народов», вёл себя не намного лучше.
Поднимите стенограммы обсуждения секретариатом (республиканским или союзным) каких-нибудь не нравящихся властям произведений, авторов или поднятых общественностью проблем. Даже Салынский так обставит своё выступление, что можно решить: он за гонимого автора. Даже Симонов или Озеров будут взывать к смягчению наказания. Баруздин – нет! Баруздин никому не даст сомневаться в своей верноподданности.
Мне рассказывал человек, близко знавший Чуковского, что тому однажды принесли большой свёрток. Сняв бумагу, Чуковский увидел настенный портрет Баруздина в дорогой раме. На обороте Баруздин писал, что дарит Корнею Ивановичу портрет в его портретную галерею. Не зная, что делать с подарком, Чуковский положил его в прихожую на пол, где портрет очень скоро оказался раздавленным. И Чуковский распорядился убрать его как сломанную вещь.
Конечно, это было до того, как Баруздин пришёл в «Дружбу народов». Но, зная Корнея Ивановича, я уверен, что он не повесил бы на стену и редактора журнала.
У нас в газете в отделе проверки работала Роза Сафарова, высокая худая крашеная блондинка. Как все старые девы, она с большим неодобрением относилась к постоянным пьянкам в редакции. Большая была любительница чтения – все выпивать, а она на приглашение только: «идите, идите!» и тут же достанет из сумки какой-нибудь журнал или книгу.
И вот – сенсация: Розу видят в Центральном доме литераторов за столиком с Баруздиным. Тот был запойный пьяница. Но Роза, сидя с ним, зорко следила, чтобы не больше пятидесяти грамм коньяка, как он ей обещал. Причём закуски заказывал, словно собирался выпить хотя бы бутылку.
А дальше это вошло почти в систему. После работы за Розой заезжала машина. Шофёр Баруздина укладывал её сумку. И они мчались в ЦДЛ.
«Смотри, не спейся!», – смеялись над Розой. Смеялись напрасно. Баруздин в неё очень серьёзно влюбился. И женился. И не печатал в журнале произведения, не прочитанного и не одобренного Розой.
«Неужели и тебя предварительно читает?» – спрашивал я у Окуджавы. Тот рассмеялся. Сказал, что в первый раз позвонил Баруздин и попросил Булата выслушать Розины замечания. Но замечаний не было. Наоборот. Роза рекомендовалась Булату его поклонницей и сказала, что всё, что он принесёт в журнал, «мы напечатаем».
А то, что она не бросала слов на ветер, поняли работники «Дружбы народов». Влюблённый и любивший Розу до конца жизни Баруздин делал всё, что она хотела.
Наверное, следует тут сказать, что и Роза по-настоящему полюбила Баруздина. Всё сделала, чтобы скрасить ему их годы женитьбы. Баруздин даже пить перестал. Его испитое морщинистое мефистофельское лицо словно выгладилось, стало добрее.
Ну, а добрый человек всегда прогрессивнее злого. Вы не замечали такую зависимость? Напрасно. Добро – это желание порадовать. В том числе и жену. В том числе и читателя, которого жена безумно хочет сделать союзником мужа.
Умер Баруздин 4 марта 1991 года.
* * *
Юра Карякин стал известен очень рано. С тех пор, как напечатал в «Новом мире» статью об отношении китайцев и северных корейцев к Ивану Денисовичу Солженицына.
А потом был знаменитый вечер Платонова в ЦДЛ в 1968 году. И Юрий Фёдорович Карякин, рождённый 22 июля 1930 года, произнёс такую пламенную антисталинскую речь, что горком партии исключил его заочно, даже не настаивая на его присутствии. Он потом обо всём этом подробно написал в своих воспоминаниях. Написал и о том, кто восстановил его в партии, – Пельше, председатель центральной контрольной комиссии. Восстановил, потому что за Карякина просили бывшие его сотрудники по работе в пражском журнале «Проблемы мира и социализма». Вообще-то, когда читаешь его воспоминания «Перемена убеждений», чувствуешь, что это восстановление в партии было ему уже не нужно. Он не верил в коммунистические идеи, а то, во что он не верил, для него не существовало.
Это был человек с необычайно горячим темпераментом. Мог лезть на рожон поперёк любого батьки, в каких чинах ни находился бы этот батька и какую должность бы ни занимал. Потому и в друзьях у него были люди чистые, светлые, такие, как Андрей Дмитриевич Сахаров, или Александр Николаевич Яковлев, или Эрнст Неизвестный.
Юрий Фёдорович оставил немало работ. Большинство из них посвящено Достоевскому, которым Карякин занимался очень серьёзно. Но не только. Он оставил ещё и сборники своей пламенной публицистики.
Я вспоминаю один рассказ Юры, как он готовится перейти дорогу от старого здания Генштаба к новому, то есть ждёт зелёного света, чтобы идти в метро «Арбатская». И вдруг рядом замечает очень знакомую фигуру. Вглядывается: «Молотов?» Тот кивает. Юра: «Ты, оказывается, ещё жив, мерзавец! Ползаешь по земле, поганец! Мне сейчас некогда – спешу. Давай завтра. Приходи на это же место во столько же. Душить буду тебя душегуба!» «Товарищи!» – кричит Молотов. «Ну откуда у тебя могут быть какие-нибудь товарищи, – рассудительно говорит Юра. – Ты же их всех предал!»
Разумеется, назавтра Молотов не появился. А я вспомнил эту историю, чтобы показать, каким редким бескомпромиссным бесстрашием обладал Карякин. Многие, может быть, содрогнулись, узнав о победе жириновцев на первых же свободных выборах в Думу. И только он, Карякин, прокричал: «Россия, ты одурела!»
Скончался 18 ноября 2011 года.
* * *
Что можно сказать о поэтессе Каролине Карловне Павловой, родившейся 22 июля 1807 года? Во-первых, она пережила неудачную любовь к Мицкевичу, что потом отразилось на её характере. Во-вторых, она не была счастлива в творчестве, отчасти потому что переводила русских поэтов на иностранные языки. В будущем, когда она начнёт писать по-русски и стихи, и прозу, они будут выглядеть написанными иностранцем. В-третьих, она долго бедствовала и потому не выходила замуж: бесприданницы редко в этом смысле бывают счастливы. Но в 1836 году её семье достаётся значительное наследство, которое притягивает к 29-летней старой деве женихов. Каролина выходит замуж за писателя Николая Филипповича Павлова, первого русского переводчика Бальзака, автора известного сборника «Три повести». Женившись, Павлов, сам родом из крепостных крестьян, человек очень среднего достатка, стал жить на широкую ногу, прокучивая богатство жены.
Понятно, что мира в их доме не было. А 1852 году между супругами произошёл полный разрыв. Говорят, что стараниями жены муж был посажен в долговую яму, а потом сослан под надзор полиции в Тверь.
Во всяком случае, бежать от сплетен Каролина Павлова решила за границу. Побывав в Константинополе, Италии и в Швейцарии, она в 1861 году окончательно поселилась в Дрездене, очень редко и ненадолго приезжая в Россию.
Её смерть 14 декабря 1893 года была почти незамеченной. Её стихи никто уже не помнил. Их воскресил Брюсов, который издал в 1915 году собрание её сочинений. Но что значит воскресил? Своего собственного места в русской литературе у Каролины Павловой не оказалось.
* * *
Оказавшись после ухода из Госкино СССР, как тогда говорили, «на вольных хлебах», я очень долго искал штатного места: жена зарабатывала совсем немного, и своего требовал трёхлетний сын. Меня познакомили с ответственным секретарём журнала «Семья и школа» Петром Ильичём Гелазонией. Он сказал, что им нужен заведующий литературным отделом, эту ставку сейчас занимает поэт Барков, но он собирается уйти. На его место претендует некий детский писатель. Выбирать из нас двоих будет член редколлегии журнала Владимир Михайлович Померанцев. Он курирует литературу. А я пока что могу привлечь к публикации в журнале новых авторов. Лучше всего – известных писателей. За каждую их публикацию мне будут платить определённую сумму.
Дня через два позвонил Померанцев и сказал, что хотел бы со мной познакомиться. «Я объяснил Петру Ильичу, – сказал он, – что критик предпочтительней прозаика. У критика взгляд на литературу шире и беспристрастней».
На встречу с Померанцевым в Центральном доме литераторов я пришёл не с пустыми руками: получил повесть о сельском учителе от Булата Окуджавы, дали стихи Варлам Шаламов и Олег Чухонцев, взял статью у критика Бенедикта Сарнова. Померанцев расцвёл. «Вот и прекрасно. Будет у нас нормальный журнал», – сказал он, листая рукописи, и спрятал их в портфель.
Из дома литераторов мы поехали к Владимиру Михайловичу (две трамвайные остановки от метро «Семёновская») и ушёл я от него поздно, навсегда влюбившись в этого удивительного человека.
Как он вообще оказался в журнале? У старика Орлова, бывшего заведующего городским отделом образования в Москве, были со Сталиным свои счёты: большинство его родственников репрессировали. И хотя сам Орлов не пострадал, но хрущёвский доклад на XX съезде одобрил очень горячо. Жадно читал «Новый мир» Твардовского и был под огромным впечатлением от повести Солженицына. Назначенный главным редактором «Семьи и школы» он каким-то образом добился от академии педнаук (журнал был её органом) утверждения беспартийного Гелазония ответственным секретарём, и – мало того! – делил с Петром Ильичём редакторские обязанности – прислушивался к нему, подписывал почти всё, что предлагал Гелазония. Так вот Пётр Ильич и посоветовал Орлову взять в редколлегию Померанцева. И Орлов, помнивший и статью «Об искренности в литературе», напечатанную в 1953 году в «Новом мире» Твардовского, и то, как долго на разных собраниях клеймили её автора, согласился, чтобы литературу в его журнале курировал этот не так ещё давно бывший в глухой опале писатель. Померанцева и сейчас печатали не слишком охотно. Но – надо отдать должное Петру Ильичу: члену редколлегии академического журнала печататься всё-таки было легче, чем просто литератору, в прошлом опальному. Это почувствовал и сам Померанцев, который любил Гелазонию и был благодарен ему.
Я полюбил этого человека, родившегося 22 июля 1907 года. Его не сломило более чем двухлетнее безденежье, устроенное ему властями, ошельмовавшими его за статью «Об искренности в литературе»! Я наблюдал, как он ведёт себя с редакторами так и не вышедшей при его жизни книги. Категорически отказывался уступать! Присутствовал при его разговоре с Карповой – всесильным главным редактором «Советского писателя». «А ведь если мы не договоримся, – вкрадчиво сказала она ему, - ваша книга не выйдет». «На ваших условиях, – спокойно ответил Владимир Михайлович, – мы не договоримся никогда!» А как поразил нас с Гелазонией афоризм Померанцева – отзыв об одном знакомом: «Обыватель, не пожелавший стать гражданином». Речь шла о человеке, который за всю жизнь не обрёл себе ни одного врага! Не обрёл – значит прилежно обходил любые препятствия, старался понравиться всем, стать, как гоголевская дама, приятным во всех отношениях.
Я потом перечитал статью «Об искренности в литературе», Главное, что ему не прощали: он выступал против подмены литературного анализа произведения социально-политологическим. Кстати, сам Владимир Михайлович в той же статье выступил и превосходным критиком: показал, почему никакого отношения к литературе не имеют не только книги прочно забытого теперь С. Болдырева или изредка поминаемых С. Бабаевского, М. Бубеннова, но и роман Э. Казакевича «Весна на Одере». И наоборот: почему «Районные будни» В. Овечкина надолго останутся в литературе, несмотря на их злободневность. И всё же на Померанцева набросились не только за его конкретные оценки. Его яростно атаковали тогдашние критики, не владевшие искусством литературного анализа (увы, и в сегодняшней критике с этим не намного лучше!). «Нет, товарищ Померанцев, – восклицала, к примеру, Л. Скорино, – Ваши теоретические предпосылки не верны, а оценка явлений литературы, если говорить напрямик, узка и жеманна: у Вас получилась искажённая картина литературы, потому что Вы подошли к ней с идеалистических позиций…»
Сегодняшнему читателю мало о чём говорят эти «идеалистические позиции». А в то время это было очень серьёзным политическим обвинением. Померанцева топтали. Называли «антисоветчиком», «клеветником». Его громили в «Правде» и в других официальных органах печати, проклинали на состоявшемся в 1954 году Втором съезде советских писателей, призывали исключить из Союза.
Из Союза писателей его не исключили, но без куска хлеба оставили. Перекрыли любую возможность печататься. Попробовал Владимир Михайлович, юрист по специальности, устроиться куда-нибудь юрисконсультом, но его слава бежала впереди него. Никто брать на работу опального писателя не желал.
Владимир Михайлович не очень любил вспоминать то голодное для их семьи время, когда его жена Зинаида Михайловна, добрейший человек, с золотыми руками, вынуждена была шить очень красивые фартуки и продавать их с помощью знакомых. Но кое-что из его воспоминаниях о тех годах перепадало мне и Пете Гелазонии.
В командировку по российской глубинке его никто не посылал. Поехал сам. Жил у родственников, ездил по колхозам, встретил одного очень толкового председателя, о котором написал небольшую книжку.
Но кто её издаст? Хлопотали боевые товарищи Владимира Михайловича, майора, великолепно владевшего немецким, и потому служившего во фронтовом агитпропе, забрасывавшем противника листовками и карикатурами. Хлопотали за Померанцева и его сослуживцы по послевоенной Германии – демобилизовали Владимира Михайловича только через несколько лет после окончания войны. Словом, кто-то вышел на Николая Грибачёва, который работал тогда у Фурцевой, первого секретаря Московского горкома партии, советником по культуре.
Грибачёв позвонил в издательство «Знание», обычно выпускавшее небольшие книжечки многотысячными тиражами. Но книжку Померанцева решено было выпустить тиражом в одну тысячу.
Разумеется, Владимир Михайлович был рад и этому: во-первых, хоть небольшие, но деньги, а во-вторых, выход книжки автоматически сигналил другим редакторам: с публикаций этого автора запрет снят.
Словом, всё уже было готово. Пришли «чистые листы» книги, которые, как водится, послали в цензуру (Главлит), откуда прислали какие-то замечания. Их было немного, но всё-таки они были.
Ознакомившись с ними, Владимир Михайлович категорически отказался их учитывать.
– Что-то серьёзное? – спрашивали мы с Петей.
– В них не было никакого смысла, – ответил Владимир Михайлович, – чрезмерная перестраховка.
– И что дальше? – интересовались мы.
– А дальше – вот, – и Владимир Михайлович клал на стол самодельно переплетённую книжечку. – Я перёплел вёрстку, – объяснял он. - Книжку не пропустили и не выпустили.
Мы ахали: но как же так? Неужто нельзя было прийти к какому-либо разумному компромиссу?
– Есть вещи, – строго сказал Владимир Михайлович, – по которым никакой разумный компромисс невозможен. Точнее, он неразумен. Потому что без самоуважения жить на свете становится невыносимо.
Владимиру Михайловичу его принципиальность обошлась дорого. Три инфаркта, причём третий через неделю после второго, убили его 26 марта 1971 года. В 63 года.
Я впитывал его уроки. Насколько впитал, не мне судить. Но что интеллигент органически не способен воспринять уроки бессовестности, сервильности, желания холить собственные амбиции, знаю точно.
* * *
В редакцию газеты «Рыбинская среда» пришла рукопись. Её автор Галина Бурцева вспоминает в ней о Рыбинском детском доме имени Первого мая, закрытым около пятидесяти лет назад. Рукопись носит название «Вражьи дети», и уже по этому заголовку мы можем понять, какого рода детдом был в Рыбинске.
Впрочем, вот свидетельство самой Бурцевой – её послесловие:
«Первыми обитателями детдома были тринадцать подростков, привезённых сюда зимой 1938 года из Москвы. Это был необычный контингент – дети «врагов народа». Их семьи жили в Москве по одному и тому же адресу: Потаповский переулок, дом 9/11. В школьном архиве хранится даже фото детей, сделанное во дворе этого дома задолго до ареста родителей.
Как повествует один из школьных стендов, «в 1937 году заведующим детдомом имени Первого мая стал Александр Иосифович Жуков, до этого работавший воспитателем в Угличской детской трудовой колонии. Именно он принимал первую и единственную спецгруппу детей врагов народа… И хотя он должен был наблюдать за «настроениями» детей, Жуков делал всё, чтобы эти ребята не чувствовали себя несчастными и обделёнными».
Кто были эти подростки? Иосиф и Биба Дик (15-ти и 13-ти лет соответственно) были детьми одного из основателей Румынской компартии Иона Дическу-Дика, бывшего комиссаром Управления формирования войск Туркестанского фронта в годы гражданской войны. Раймонд и Эвалд Янсоны (14-ти и 13-ти лет) – сыновья латышского стрелка Кирилла Янсона, участника Гражданской войны, военного атташе СССР в Италии. Девятилетний Отто Пуккит был сыном высокопоставленного офицера НКВД. Одиннадцатилетний Виля Шварцштейн – сыном члена американской компартии, главного редактора советской газеты «Moscow Daily News». Родители Вольдемара Стригга были, по-видимому, связаны с советской разведкой. О родителях других воспитанников детдома – Карла Кристина, Сергея и Лиды Ленских, Миши Николаева, Саши Левина и Махача Тахо-Годи – известно совсем мало. В эти трудные годы самым близким для них человеком был директор Александр Иосифович Жуков. «Он всегда понимал положение детей, силой лишённых родителей, и никогда ни словом, ни жестом, ни намёком не одёргивал нас прошлым. Наоборот, он утешал нас, хотя сам прекрасно знал, что наши отцы – жертвы сталинского произвола – давно уже были расстреляны. Жили мы в детдоме, благодаря директору, не стеснённые ни в чём. У нас было самоуправление, разные кружки. Даже тот факт, что директор детдома дал возможность нам, ребятам из спецгруппы, закончить десять классов, говорит о многом», – написал позднее один из воспитанников Жукова.
Нас сплотило ненастье, Много лет пронеслось. Но нам время не застит То, что в детстве стряслось. Обыск ночью, аресты - Дважды в каждой семье. Где отец – неизвестно. Мать – в Бутырской тюрьме. Детприемник, охрана, Фото в профиль и в фас, Оттиск пальцев… Ну прямо Как преступников нас Еще тёпленьких взяли, Под конвоем везли. В город Рыбинск сослали, А и дальше б могли…Это строки из стихотворения Иосифа Дика. Разумеется, написано оно было для очень узкого круга лиц – для однокашников, которые потом на долгую жизнь сохранили чувство сиротского братства. Обстоятельства сложились так, что война отняла у них даже Жукова. Александр Иосифович погиб в бою в 1943 году.
Как сложились судьбы первых воспитанников детского дома имени Первого мая? Исследователи из 37-й рыбинской школы собрали немало сведений об этом. Иосиф Дик в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Там он получил тяжелое ранение – потерял кисти обеих рук. Но мужество и твердость характера были сильнее этого несчастья. Он хотел писать детские книги, и научился этому, не имея рук. Сегодня в школьном собрании есть особенный экспонат – протез Иосифа Дика, которым написаны все его литературные произведения, среди которых «Третий глаз», «В нашем классе», «Синий туман». Эти издания и сегодня ещё можно найти в некоторых детских библиотеках страны. Это хорошие книжки о справедливости и мужестве, которые так необходимы человеку даже в его повседневной жизни… Значительная часть фотографий, хранящихся в школе, – из личного архива Дика».
Собственно, именно об этом я и хотел написать. О невероятном мужестве Иосифа Ивановича (Ионовича) Дика, которого я хорошо знал. Это был жизнелюбивый человек, многое умевший. Он сам изготовил себе протезы для письма и пишущей машинки. Протезы в виде пальцев. И очень ловко печатал. И водил машину, тоже устроив для неё приспособление и получив права на вождение.
Его детские рассказы и стихи лучатся юмором и добротой. Его любили все, кто его знал.
Скончался Иосиф 22 июля 1984 года (родился 20 августа 1922 года).
Да, и одно добавление к запискам Бурцевой. О родителях Махача Тахо-Годи – отце Алибеке Алибековиче и матери Нине Петровне Семёновой – известно из воспоминаний сестры Махача, умершего в детском доме, Азы Алибековны Тахо-Годи, филолога-классика, переводчицы, доктора филологических наук, заслуженного профессора МГУ, вдовы великого А.Ф. Лосева. Алибек, её отец, был наркомом просвещения Дагестана, работал в ЦК ВКП(б), был профессором Моковского университета. В 1937 году арестован НКВД и 9 октября того же года расстрелян. Арестовали и мать, которая провела 5 лет в мордовских лагерях.
* * *
Донимали меня графоманы – «графы», как называл их мой недолгий коллега по «Литературке» Жигулин. Хороших поэтов всегда бывает мало, изделия их штучные, к тому же далеко не все их стихи проскочат через начальственное сито, а эти шли ко мне косяком. Пропускной системы, как в «Правде» или в «Известях», в редакции не было, пройти к нам с улицы мог кто угодно, и в результате на моём столе вырастали монбланы из толстых папок со стихами, которые не то что прочитать – перелистать – заняло бы уйму времени.
Правда считалось, что разобраться со стихами мне помогает член редколлегии Сергей Сергеевич Наровчатов. Но он обычно приносил если не свои, то стихи своих друзей, да и то не мне, а непосредственно Кривицкому. Ко мне он заходил раз в месяц за ставшей стандартной справкой-обращением в бухгалтерию. Я должен был ходатайствовать о выплате Наровчатову двухсот рублей за внутреннее рецензирование и чтение рукописей. Хотя ни того, ни другого он не делал, а моя справка была пустой формальностью, неким официальным оформлением награждения, так сказать, полуштатного члена редколлегии.
А потом Сергей Сергеевич резко пошёл в гору. В 1971 году его избрали первым секретарём Московской писательской организации. А эта должность предполагает избрание секретарём республиканского и большого Союзов писателей. Кроме того, место это – депутатское. И как венец: на нём можно получить героя соцтруда, которого Наровчатову дали в 1979 году, за два года до смерти. Он умер 22 июля 1981 года (родился 3 октября 1919 года).
Жаль Сергея Сергеевича. У него были стихи с душой и талантом. Вот – «Пёс, девчонка и поэт»:
Я шёл из места, что мне так знакомо, Где цепкий хмель удерживает взгляд, За что меня от дочки до парткома По праву все безгрешные корят. Я знал, что плохо поступил сегодня, Раскаянья проснулись голоса, Но тут-то я в январской подворотне Увидел замерзающего пса. Был грязен пёс. И шерсть свалялась в клочья. От голода теряя крохи сил, Он, присуждённый к смерти этой ночью, На лапы буйну голову склонил. Как в горести своей он был печален! Слезился взгляд, молящий и немой… Я во хмелю всегда сентиментален: «Вставай-ка, пёс! Пошли ко мне домой!» Соседям, отказав в сутяжном иске, Сказал я: «Безопасен этот зверь. К тому ж он не нуждается в прописке!» И с торжеством захлопнул нашу дверь. В аду от злости подыхали черти, Пускались в пляс апостолы в раю, Узнав, что друга верного до смерти Я наконец нашёл в родном краю. Пёс потучнел. И стала шерсть лосниться. Поджатый хвост задрал он вверх трубой, И кошки пса старались сторониться, Кошачьей дорожа своей судьбой. Когда ж на лоно матери-природы Его я выводил в вечерний час, Моей породы и его породы Оглядывались женщины на нас. Своей мечте ходили мы вдогонку И как-то раз, не зря и неспроста, Случайную заметили девчонку Под чёткой аркой чёрного моста. Девчонка над перилами застыла, Сложивши руки тонкие крестом, И вдруг рывком оставила перила И расплескала реку под мостом. Но я не дал девице утопиться И приказал послушливому псу: «Я спас тебя, а ты спасай девицу»,- И умный пёс в ответ сказал: «Спасу!» Когда ж девчонку, словно хворостинку, В зубах принёс он, лапами гребя, Пришлось ей в глотку вылить четвертинку, Которую берёг я для себя. И дева повела вокруг очами, Классически спросила: «Что со мной?» «Посмей ещё топиться здесь ночами! Вставай-ка, брат, пошли ко мне домой!» И мы девчонку бедную под руки Тотчас же подхватили с верным псом И привели от муки и разлуки В открытый, сострадательный наш дом. С утопленницей вышли неполадки: Вода гостеприимнее земли - Девицу вдруг предродовые схватки Едва-едва в могилу не свели. Что ж! На руки мы приняли мужчину, Моих судеб преемником он стал, А я, как и положено по чину, Его наутро в паспорт записал. Младенец рос, как в поле рожь густая, За десять дней в сажень поднялся он, Меня, и мать, и пса перерастая, - Ни дать ни взять, как сказочный Гвидон. В три месяца, не говоря ни слова, Узнал он все земные языки, И, постигая мудрости основы, Упрямые сжимал он кулаки. Когда б я знал, перед какой пучиной Меня поставят добрые дела: Перемешалось следствие с причиной, А мышь взяла да гору родила! В моём рассказе можно усомниться Не потому, что ирреален он, Но потому, что водка не водица, А я давно уж ввёл сухой закон. И в этот вечер я не встал со стула. История мне не простит вовек, Что пёс замёрз, девчонка утонула, Великий не родился человек!* * *
Паоло Яшвили начал печататься с 16 лет. В 1915 году в Кутаиси он организовал группу поэтов-символистов «Голубые роги», которая со следующего года стала выпускать альманаж «Голубой рог».
После революции Яшвили стал склоняться к реализму, воспевать коллективный труд, советскую новь.
В 1924 году его избрали кандидатом в члены ЦИК Грузии, а в 1934-м он стал членом Закавказского ЦИК.
В 1937 году были репрессированы и расстреляны близкие друзья Паоло: поэты Тициан Табидзе и Николо Мицишвили. В нервном напряжении, ожидая ареста, 22 июля 1937 года Паоло Яшвили застрелился. Родился 29 июня 1895-го.
На русский язык его стихи переводил Борис Пастернак:
Будто письма пишу, будто это игра, Вдруг идёт как по маслу работа. Будто слог – это взлёт голубей со двора, А слова – это тень их полёта. Пальцем такт колотя, всё, что видел вчера, Я в тетрадке свожу воедино. И поёт, заливается кончик пера, Расщепляется клюв соловьиный. А на стол, на Парнас мой, сквозь ставни жара Тянет проволоку из щели. Растерявшись при виде такого добра, Столбенеет поэт-пустомеля. На чернил мишуре так желта и сыра Светового столба круговина, Что смолкает до времени кончик пера, Закрывается клюв соловьиный. А в долине с утра – тополя, хутора, Перепёлки, поляны, а выше Ястреба поворачиваются, как флюгера Над хребта черепичною крышей. Все зовут, и пора, вырываюсь – ура! И вот-вот уж им руки раскину, И в забросе, забвении кончик пера, В небрежении клюв соловьиный.23 ИЮЛЯ
Нора Галь принадлежит к плеяде блистательных советских переводчиков. Подумать только, с какими шедеврами западной литературы она познакомила русского читателя. «Маленький принц» А. Сент-Экзепюри, рассказы Сэлинджера, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Посторонний» Камю, «Смерть героя» Р. Олдингтона, романы Томаса Вулфа, рассказы и повести Рэя Брэдбери и Клиффорда Саймака.
Я назвал лишь малую часть: список произведений, переведённых Норой Галь, внушителен. К тому же некоторые вещи она переводила в стол, зная, что их время печататься в России ещё не пришло. Таковы «Корабль дураков» Кэтрин Энн Портер – переведён в 1976, опубликован в 1989. Или романы Невила Шюта «Крысолов» и «На берегу» – оба опубликованы уже после смерти Норы Гали, случившейся 23 июля 1991 года (родилась 27 апреля 1912-го). А ведь перевод «Крысолова» был осуществлён ещё в 1942 году!
Но Галь не только великолепный переводчик, она исключительно профессиональный редактор, наделённый тончайшим слухом на художественное слово.
Её «Слово живое и мёртвое» оказалось настолько востребованным, что, впервые выйдя отдельной книгой в 1972 году, она была переиздана при жизни автора – в 1975, 1979, 1987 и после смерти Норы Галь – 2001, 2003, 2007, 2011. А ведь заставить издателя выпустить сейчас книгу намного труднее, чем в советское время. Издают! И пока в убытке не оказываются.
Хотел процитировать что-нибудь из этой книги. Но открыл её и зачитался. Цитировать можно многое. Поэтому делаю это методом тыка. Выписываю вот это:
«Современный французский роман. Героиню душит отвращение к жизни: «Точно грязная стоячая вода, которую нельзя остановить, оно захлёстывало её своими тяжёлыми мутными волнами».
Даже не глядя в подлинник, чувствуешь: образ развалился на части, ничего не вышло. Ведь стоячая вода – стоит, её незачем останавливать, она ничего не захлёстывает, у неё нет никаких волн!»
Очень талантливая женщина!
24 ИЮЛЯ
О Николае Гавриловиче Чернышевском, родившемся 24 июля 1828 года и умершем 29 октября 1889-го, могу сказать, что никогда не любил его сочинений (любых!) и всегда уважал его за твёрдость убеждений. Понимал, что подчас убеждения, за которые он готов был погибнуть, смехотворны. Но погибнуть за них он был готов взаправду. Поэтому спрашивал себя: «А ты сможешь?» И отвечал себе честно: нет, не смогу.
В этом смысле он для меня – недосягаемый идеал.
25 ИЮЛЯ
С Валентином Васильевичем Сорокиным поначалу дружеские отношения были не столько у меня, сколько у моего друга и коллеги по «Литературной газете» Анатолия Владимировича Жигулина.
Сорокин пришёл к нам сразу вскоре после того, как его и челябинскую поэтессу Людмилу Татьяничеву перевёл в Москву свеженазначенный первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников. Его перевели на этот пост с должности секретаря Чеолябинского обкома партии. В это время номенклатура настолько оплелась вокруг друг друга, что никого не смущало такое передвижение – из секретаря обкома партии в секретари ЦК комсомола. Татьяничева была переведена раньше, когда Тяжельников уже почти собирался покинуть партийный пост. Она осела в Москве секретарём Союза писателей РСФСР, а Сорокин был направлен завом в журнал «Молодая гвардия», но не поэзии, а публицистики. Было очевидно, что для него это место временное.
Жигулин тоже не так давно переехал в Москву из Воронежа. Они с Сорокиным встречались и до этого. А сейчас Валя приходил к Толе просто так: поточить лясы, может быть, и для того, чтобы ввёл его Жигулин в круг своих московских знакомых.
Но дальше Союз писателей России получает крупный подарок от ЦК – издательство «Современник», который подчинён этому союзу, как издательство «Советский писатель» – Союзу писателей СССР. Задача «Современника» – искать, находить и выпускать книги авторов из российской глубинки. Директором «Современника» утверждают Юрия Прокушева, активного автора софроновского «Огонька», а главным редактором – нашего с Толей Жигулиным знакомца Валентина Сорокина.
Надо сказать, что размывание Союза писателей началось едва ли не с его создания – то есть с 1934 года. Могли, конечно, принять в 20 лет Женю Евтушенко, у которого именно тогда и вышла первая книжка. Но это было скорее исключением из правил. А правила установили такие, что в первую очередь попасть в Союз могли работники литературной печати и издательств, которые печатали друг друга. Но и в этом случае, какая-то видимость известности претендента сохранялась. Помню, в 1962 году при либеральном Щипачёве Московская писательская организация принимает сразу на своём пленуме в члены Союза Б.Сарнова, В.Лакшина, Ст.Рассадина, Б.Ахмадулину, но и А.Говорова, полуграмотного поэта, и В.Фирсова, тоже того ещё грамотея…
Но и Говоров, и Фирсов известны не только тем, что один работает в «Огоньке», а другой – в «Молодой Гвардии». Они успели оскандалится – опубликовали мрачные шовинистические стишки. Ну и что из того, что шовинистические? Они запомнились.
«Современник» же поставил приём графоманов в члены Союза на поток. У дремучих провинциалов появилась реальная возможность выпускать книжки. А там – хороша она или плоха – но само её наличие обеспечивало проход в Союз писателей. Московских литераторов издательство выпускало весьма выборочно: поначалу, кажется, только одного – проверенного – направления. И немного. Книжные прилавки заполнили тусклые и тухлые сочинения провинциалов. Особенно отличался выпуском помоечной продукции отдел поэзии, который курировали Сорокин и его заместитель Юрий Панкратов.
Недалеко от Цветного бульвара, где тогда находилась «Литературная газета», за Садовым кольцом, располагался магазин поэзии «Искра» – кладезь наших авторов-фельетонистов. Нужна статья о дрянной поэзии, или же реплика о поэтической неграмотности, или же продемонстрировать, каким бывает бездарный автор, – мы отряжаем критика в «Искру». Знаем, что книжки «Современника» его чуткий вкус удовлетворят.
Потом я прочитал у директора Прокушева: «Вместе с Валентином Сорокиным нам довелось ещё в начале семидесятых годов создавать и отстаивать издательство российских писателей «Современник», под недремлющим оком «бдительных» идеологических монстров ЦК – всех этих беляевых, шаур, севруков; вместе нас по злобному доносу-пасквилю распинал «всесильный» тогда Пельше, на плахе КПК, (где он теперь этот Пельше или тень от него, кто его по-хорошему ныне вспоминает?)…»
Во расходился! Беляев, Шауро, Севрук действительно много значили тогда в идеологической жизни страны. Неужто они выступали против взятой Прокушевым с Сорокиным политики выпуска макулатуры? Неужто и Пельше требовал их за это на КПК (Контрольный Партийный Комитет) ЦК? Было ли такое время?
Нет. Такого, конечно, не было. А был внутренний скандал внутри издательства, когда выяснилось, что директор, главный редактор и парторг не гнушались прямым воровством.
Издательство имело право заключать с автором авансовый договор (25% от суммы на руки) не только под рукопись, но и под заявку. Разумеется, чтобы получить четверть гонорара, нужны были разрешения директора и главного редактора. Да и человек, написавший заявку, должен был им хотя бы быть известен. Что ж. За знакомцами дело не стало! Получая деньги, они относили условленные доли начальству. А дальше? Рукопись не представлялась в срок. Основание достаточное, чтобы закрыть договор и деньги списать. Можно было обойтись и этим. А можно было принять от автора заявки новое письмо, где он просил выплатить ему гонорар до 60% (ещё 35!) в виду тяжёлого безденежья, которое мешает закончить работу. Разумеется, и с этих 35% начальство свой навар снимало. До тех пор, пока растрата не обнаружилась.
Оба они – Прокушев и Сорокин были коммунистами. Ясно, что оставаться на своих местах они уже не могли. Ясно, что получили партийные выговоры от того же Пельше. Ясно и то, что будь их покровители не так могущественны, как Тяжельников или, допустим, Стукалин (зав. Отделом ЦК), Мелентьев (зам зава Отделом), и тот и другой могли бы вообще выскочить из партии. Но здесь пронесло! Не зря Прокушев, едва ли не посмеиваясь, вспоминает об этом.
Но о нём хватит. А о Валентине Васильевиче Сорокине, родившемся 25 июля 1936 года, стоит продолжить.
Он попадает в ещё одну интересную историю.
Дело в том, что при Литературном институте существуют двухгодичные Высшие Литературные курсы, которые принимают членов Союза писателей, не имеющих высшего филологического образования. Можно поступить туда и с аттестатом об окончании средней школы, если, повторяю, ты уже принят в Союз. Сорокин кончил Высшие литературные в 1964-м, после чего стал в Саратове заведовать отделом поэзии в журнале «Волга».
Но вот он побывал главным редактором издательства «Современник», выскочил оттуда, как пробка из-под шампанского, едва удержался в партии, смог, благодаря мощным партийным покровителям, впрыгнуть в кресло секретаря Союза писателей. Тяжельников помог устроиться проректором Литинститута-руководителем Высших Литературных курсов. И здесь кому-то зачем-то понадобился аттестат Сорокина об окончании школы. Выяснилось, что надул Сорокин в своё время родные Высшие Литературные: аттестат представил, но поддельный.
Скандал замяли.
Я там одно время руководил вместе с поэтом Юрием Кузнецовым семинаром поэзии. Стихи слушателей Курсов были чудовищны. Я к их приёму не имел отношения. Набирали их Кузнецов с Валентином Сорокиным, о котором Кузнецов однажды сказал мне: «Этот ещё хуже наших». Чувствовал, очевидно, Сорокин, как относится к нему Кузнецов, если сейчас вовсю кроет стихи покойного поэта: и то у него не по-русски, и это по-одесски (по-еврейски то есть)! За что его время от времени журят: ну что ты, Валя, нельзя же так – по своим!
Ну да ладно. Можно в заключение сказать, что отмечен Сорокин великим множеством всяких премий. За стихи. За поэмы. За одну поэму «Маршал Жуков».
Хороший ли он поэт? А вот прочитайте и решите:
Весёлый, надёжный, ершистый, Распахнут до самой души, Тебя не сломили фашисты, Но взяли в полон торгаши. Хмельные не высушить реки. Не вытолкать грубость взашей. И дети родятся – калеки. И жёны бегут от мужей. Извечный защитник святыни, Ты чуть притомился в пути, А недруги шепчутся ныне: – Спивается русский, гляди! Дурные кипят разговоры, Уже оскорбленье – не риск. А с братской могилы в просторы Летит на заре обелиск. Нет, поднятый силой таланта, Ты всё-таки спросишь в упор: – А чем рассчитается банда За свой алкогольный террор? А чем рассчитаются люди, От сотен и до одного, – Которые служат Иуде И гнусному делу его? Проклятьем отметится каждый, Кто нами давно пренебрёг И дух беззащитно-отважный От водочной мглы не сберёг. Не прихотью милости барской, Не жаждою златопогонь – Мы живы судьбой пролетарской И держим в запасе огонь!Кажется, это написано по поводу лигачёвско-горбачёвского антиалкогольного закона. Помните: «Партия не отступит!» А что до «судьбы пролетарской», то и пяти лет не пройдёт, как коммунист Сорокин пойдёт осенять себя крёстным знаменем. А запасной огонь, похожий на бронепоезд на запасном пути, видимо, его судьбу и разделил – тоже оказался ненужной страшилкой.
* * *
Что можно добавить к известности такой легендарной фигуры, как Владимир Семёнович Высоцкий, который скончался 25 июля 1980 года (родился 25 января 1938-го)? Мне лично добавить нечего. Да и не был я с Владимиром Семёновичем близко знаком.
Другое дело, что очень помню этот день. В Москве – Олимпиада, которая сейчас кажется бессмысленной. Ну, для чего этот праздник спорта в чёрный день мировой культуры? Неловкость, почти граничащая с ненавистью режиму. Режим делает вид, что ничего не происходит. Москва зачищена до блеска. Все неугодные режиму люди выселены за 101 километр. Ревут только стадион да официальные спортплощадки. Чинно ходит патруль: штатский, военный, милиционер. И вот так чинно, незаметно патруль соединяется с другим, другой с третьим: цепочка преграждает выход из метро, Таганка берётся в кольцо. К театру не пропускают. Люди возмущаются, нервничают. Где-то в отдалении голос Высоцкого и его гитара. А люди пребывают. Стена патрулей идёт на них. Их выдавливают назад в метро. Там полно вежливых штатских. «Не задерживайтесь!» – негромко.
Напоминает отпевание Пушкина. Когда всем дали один адрес – пустили по ложному следу, потому что наспех отпели в другом храме и тихо увезли тело.
Вот когда вспоминалось евтушенковское: «Поэт в России больше, чем поэт!»
* * *
Самуэлю Кольриджу приписывают знаменитое определение: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке».
Он задумал большую поэму, способную вобрать в себя квинтэссенцию всех наук, религий и философских учений. Но, понимая, что из-за пристрастия к опиуму ему её не написать, предложил эту идею своему другу У. Водсворту.
Женившись, Кольридж очень нуждается, предпринимает чтение лекций на политические темы, издание еженедельной газеты. Но то и то не имеет материального успеха. Не расходится и первая книга Кольриджа.
Он становится романтиком, изучает первобытные времена и Средневековье. К этому периоду относятся зачатки его пристрастия к опиуму. Переехал в деревню, жил там по соседству с Водсвортом. Здесь Кольридж переживает лучший период своего творчества. Выпускает совместно с Водсвортом книгу «Английские баллады» (1798), которая будет объявлена манифестом английского романтизма. Оба поэта посетили Германию, где слушали лекции немецких философов в Гёттингенском университете.
Вместе с поэтами Водсвортом и Саути основал в Англии новую школу, которую назвали «Озёрной». Водсворт задался целью внести поэзию в описание обыкновенных явлений городского и сельского быта. Кольридж выбрал область событий фантастического или романтического жанра, сообщая фантастике подобие действительности. Этот постепенный переход от реальности к фантазии – главный художественный приём Кольриджа, отчётливо просматривающийся в его «Старом мореходе», где события морского путешествия постепенно переходят в область чудесного (под заглавием «Старый Матрос» поэма впервые переведена на русский язык в 1851 году Ф.Б. Миллером).
«Озёрной» школу стали называть после того, как Кольридж с Водсвортом объездили английские озёра и вынесли оттуда красоту своей родины, которую и стали воспевать. На озёрах вместе с семьями этих двух поэтов поселился с семьёй Саути.
Причём признанным философом «озёрной школы» был именно Кольридж, который скончался 25 июля 1834 года (родился 21 октября 1772-го).
Для потомков Кольридж прежде всего автор «Старого морехода» и «Кристабель» – романтических поэм, в которых осуществляется переход от действительности к фантазии. На русский язык поэмы переводились неоднократно. В том числе И. Козловым, Н. Гумилёвым, А. Коринфским, Г. Ивановым. Стихи Кольдриджа переводили К. Бальмонт, С. Маршак, М. Лозинский, И. Меламед. Но цитировать их трудно: слишком велики по размеру.
26 ИЮЛЯ
Об Аделине Ефимовне Адалис, родившейся 26 июля 1900 года, известна не только история её пламенной любви к Брюсову, доходившей до того, что девушка ночевала под окнами поэта на 1 Мещанской (ныне – проспект Мира). Ночевала на принесённой с собой раскладушке, из-за чего часто оказывалась в отделении милиции.
Нет, мэтр в такие вещи не вмешивался. Он позволял любить себя. Но взаимностью не отвечал. Отчего после его смерти Аделина Ефимовна предпринимает попытку самоубийства. Неудачную, к счастью.
Ещё одна история, связанная с Адалис, приключилась с…таджикским поэтом Мирзо Турсун-Заде, который перевёл книгу Адалис «Индийские баллады». Казалось бы, ну и что? Перевёл так перевёл. Но шёл 1948 год. Мирзо было 37 лет. Решено было дать ему сталинскую премию. Но не за переводы же! Так русская книга оригинальных стихов Адалис «Индийские баллады» оказалась книгой переводов из Турсун-Заде, который за ЭТИ РУССКИЕ СТИХИ удостоен сталинской.
Третьей достопримечательностью следует счесть больше чем интерес Осипа Мандельштама к стихам Адалис из первой её книжки «Власть» (1934). Литературоведы находят даже, что в поздних мандельштамовских стихах используются некоторые мотивы творчества ранней Адалис.
А четвёртая история связана уже не с самой Адлис, а с её сыном, поэтом-переводчиком Владимиром Сергеевым.
Окна моей квартиры выходили во двор. Он был не слишком широким: несколько небольших старых домиков прикрывали собой красное кирпичное здание Астраханских бань, которые стояли ниже уровня двора – к ним нужно было спускаться по ступенькам. Прошёл слух, что пару домиков собираются сносить, но не для того, чтобы расширить двор, а ради какого-то нового строительства.
По квартирам нашего девятиэтажного пятиподъездного дома и примыкающего к нему справа от моего подъезда четырнадцатиэтажного, тоже писательского, ходили несколько жён писателей, во главе с Люсей – женой Феликса Кузнецова. Собирали подписи под письмом на имя председателя Моссовета Промыслова с просьбой построить на освободившемся пространстве многоэтажный гараж. У меня тогда машины не было, но письмо я подписал, – действительно это намного удобнее, чем плотно уставленный автомобилями двор.
В доме только и говорили, что о гараже. Говорили, что Феликс, который по своей должности первого секретаря Московской писательской организации был депутатом Верховного Совета РСФСР, побывал на приёме у Промыслова, что хозяин Москвы наложил нужную резолюцию и теперь нужно ждать строительную технику.
Она прибыла, но оказалась не очень солидной. Экскаватор был небольшим, ковш зачёрпывал неглубоко для возведения многоэтажного дома, и когда забор наконец сняли, все увидели пять каменных боксов под одной крышей. Гараж, оказывается, строили на пятерых. Один бокс занял Феликс Кузнецов, другой – спортивный комментатор Николай Озеров, который жил у нас в первом подъезде, третий – космонавт Георгий Гречко из пятого подъезда, четвёртый – ещё один космонавт (фамилию не помню) а в пятый машину поставил переводчик Владимир Сергеев.
Почему Сергеев? Есть такой анекдотический тест на антисемитизм. Представляешь, говорят кому-то, шли несколько человек там-то и там-то и несли плакат «Бей евреев и велосипедистов». «А велосипедисты-то тут причём?», – попадается на удочку слушатель.
Причём тут Сергеев? Как он затесался в звёздную компанию, я не знаю. Может быть, и тут вышло, как у Адалис с Турсо-Заде? Хотели вселить крупного национального деятеля литературы, а тот отказался в пользу сына Адалис?
Гаражи построили значительно после её смерти, случившейся 13 августа 1969 года.
27 ИЮЛЯ
Книга Анатолия Алексеевича Азольского, родившегося 27 июля 1930 года, «Клетка» находится в первой десятке романов, отмеченных премией «Русский Букер».
Премия считалась и считается очень престижной. Но, как и всё, данное людьми, несовершенна. Разные книги отмечены ею за 22 года.
Азольский получил премию за дело. В его случае все условия, на которых присуждается эта премия, соблюдены. «Клетка» – действительно роман. И роман новый, которых до Азольского не писали. Куда, к какому течению его отнести – к реализму? Но в книгу вплетаются элементы фантастического, подрывая всамделишную реальность происходящего? К постмодернизму? Но «Клетку» вполне можно рассматривать как авантюрный, приключенческий роман. Без какой-либо пародии на авантюрность.
Мне думается, что не стоит укладывать произведения писателя в прокрустовы жанровые рамки. Азольский поздно дебютировал – в 35 лет. Его проза весьма узнаваема – по огромным абзацам, содержащим в каждом столько информации, что её хватило бы у другого автора на отдельную новеллу. Но у другого. У Азольского это всего лишь малая часть его подчас сложно закрученного сюжета. И чтобы не потерять сюжетную нить повествования, этого писателя нужно читать очень внимательно – ничего не пропуская, всё отмечая и запоминая.
Умер писатель 26 марта 2008 года. Написал немало. Читают ли его сейчас? Не видел. Будут ли читать позже? Почти убеждён в этом. Его поклонники знают, как притягательна его проза. Начнёшь читать – не оторвёшься.
* * *
Владимир Васильевич Гиппиус (родился 27 июля 1876-го), брат поэта и пушкиниста Василия Васильевича, родственник поэтессы Зинаиды Гиппиус, сам был поэтом.
Первые свои книги выпускает под псевдонимами. «Возвращение» (1912) под псевдонимом Вл. Бестужев, «Ночь в звёздах» (1915) под псевдонимом Вл. Нелединский.
Преподавал словесность, в частности, в Тенишевском училище, где среди его учеников были О. Мандельштам и В. Набоков. Принимал участие в «Цехе поэтов.
В 1912 году в журнале «Гиперборей» (№ 2, ноябрь) была опубликована весьма своеобразная переписка Гиппиуса и Блока. Гиппиус поэтически отвечал-оспаривал стихотворение Блока «Всё на земле умрёт – и мать, и младость…». Блок так же поэтически ответил Гиппиусу стихотворением «Владимиру Бестужеву» (по тому псевдониму, каким Гиппиус подписался). Гиппиус в ответ написал цикл из четырёх стихотворений под названием «Александру Блоку».
Следует отметить и брошюру Владимира Гиппиуса «Пушкин и христианство» (1915), положившую, можно сказать начало прочтению, которую мы обнаружим во множестве нынешних работ о Пушкине.
Надо сказать, что оба его ученика – Мандельштам и Набоков упомянули его в своих произведениях. Набоков в «Других берегах» сказал о нём: «Тайный автор замечательных стихов». А Мандельштам посвятил ему небольшую главку в «Шуме времени». Главка называется «В не по чину барственной шубе». Отрывок из неё:
«Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю «русского языка». Вся соль заключалась именно в хождении «на дом», и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках.
Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, жёлчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье.
Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдаётся мне, сам превратился в зырянского божка. В. В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры.
Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонёк литературной (В. В. Г.) злости!
Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершённое, путешествие по патриархату русской литературы от «Новикова с Радищевым» до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал».
Умер Владимир Васильевич в военное время от голода в Ленинграде 5 ноября 1941 года.
А что до его стихов, то они ещё будут востребованы. Убеждают меня в этом такие его строчки:
Мне кажется – есть внутренняя связь Между железом крыш и светом лунным, - Как тайна света в волны ворвалась, Как есть печаль – одна – в напеве струнном, Когда ты пальцы водишь по струнам, Когда гнетёшь руками их молчанье… Пройдём, как сон по розовым волнам, Пройдём вдвоём в вечернем ожиданье! Сегодня ночь таит опять желанья. - Все, все желанья – в золотой луне, Когда она, как золото страданья, Стоит в неозарённой глубине… Но вот сейчас сойдёт восторг ко мне, Сейчас все крыши вспыхнут от желанья!* * *
Володю Глоцера я очень хорошо знал. Дружил с ним ещё с начала шестидесятых. Был он невероятно интересным человеком. Владимир Иосифович Глоцер, родившийся 27 июля 1931 года, служил литературным секретарём у Чуковского и Маршака. Хорошо, психологично судил о детском творчестве. Подарил мне прекрасную книгу «Дети пишут стихи».
Писал замечательные радиоинсценировки. Особенно нам с женой нравилась радиопередача о Хармсе, которая заканчивалась стихами этого незаурядного поэта о человеке, который вышел из дома:
И вот однажды на заре Вошёл он в тёмный лес, И с той поры, И с той поры, И с той поры исчез.Здесь говорящий актёр выдерживал паузу и неуверенно, явно скрывая в голосе тревогу, продолжал:
Но если как-нибудь его Случиться встретить вам, Тогда скорей, Тогда скорей, Скорей скажите нам.Время на дворе стояло уже брежневское. О сталинских репрессиях почти не упоминали. И мы оценили этот замечательный приём автора радиоинсценировки, сообщавшего своим слушателям о трагической судьбе Хармса.
Потом Володя занялся исследованием и публикацией обэриутов – Хармса, Введенского, Олейникова профессионально. Записал и опубликовал рассказ близкой подруги Хармса художницы Алисы Порет. Нашёл в Венесуэле вдову Хармса и записал её воспоминания «Мой муж Даниил Хармс».
Но вот я подхожу к эпизоду, который связан с нашей общей знакомой Маэлью Исаевной Фейнберг, вдовой знаменитого пушкиниста Ильи Львовича.
Я некогда написал рецензию на книгу Ильи Львовича, и Маэль Исаевна позвала меня к себе. Мы подружились. А через некоторое время она оказалась редактором моей книги в «Советском писателе», где она подрабатывала внештатно. Мы сблизились ещё теснее. Она познакомила меня с приятелем её трагически погибшего сына Сани. Это был известный ныне литературовед Игорь Шайтанов. Мы с женой подружились и с ним, и с его женой Олей. Маэль Исаевна называла их близкими, необходимыми ей людьми.
А потом прошло некоторое время. И бурное поначалу наше знакомство с Маэлью Исаевной стало затухать. Оно не исчезло. Но переговаривались мы в основном по телефону и намного реже, чем прежде.
И однажды на моём столе раздался звонок. «Гена, – сказал мне Володя Глоцер, – Маэль Исаевна умерла».
После похорон выяснилось, что Маэль Исаевна оставила ему квартиру.
В принципе это было справедливо и понятно: Маэль Исаевна тяжело болела полгода, и всё это время Володя жил у неё, был её сиделкой. Но Шайтанов объяснил мне, что квартира Глоцеру завещана не по этой причине.
– Маэль предлагала оформить завещание на меня, – сказал Шайтанов. – Но с тем, чтобы я продал квартиру и на вырученные от продажи деньги издал полное собрание Ильи Львовича. А ты же видел, как копалась она в рукописях Фейнберга, выуживала законченные тексты. Текстология не моё дело, да и чужой почерк мне разбирать трудно. И я отказался. Тогда Маэль и обратилась к Глоцеру.
– Но он же не продал квартиру, – удивился я. – Нарушил волю покойной?
– Выходит, что нарушил, – согласился Шайтанов.
Глоцера я встретил года через два после этого разговора.
– Как же вы могли, Володя, не посчитаться с волей Маэли Исаевны? – спросил я.
– То есть, как не посчитался, – удивился Володя, – я оплатил похороны, поминки. Вы ведь были и там и там, видели, что всё проходило очень достойно.
– Да, но Маэль Исаевна завещала вам квартиру с тем, чтобы вы её продали и на эти деньги издали полное собрание Ильи Львовича!
– Первый раз об этом слышу, – ещё больше удивился Глоцер. – Кто вам сказал о таком завещании?
– Шайтанов, – сказал я.
– Я так и подумал, – сказал Володя. – Как он облизывался на эту квартиру. Но она ему не досталась.
– Так что, – недоумённо спросил я. – Не выставляла Маэль Исаевна такого условия?
– Гена, – укоризненно сказал Глоцер, – вы меня знаете много лет и не считаете подлецом, правда?
– Чтобы оформить эту квартиру, мне пришлось влезть в немалые долги, – добавил Володя. – Но знал бы, что про меня будут распускать такие слухи, я не стал бы заниматься ею с самого начала. Кстати, я и сам спрашивал Маэль, не хочет ли она оставить квартиру Шайтанову с женой? «Нет!» – резко отвечала Маэль.
– А что ты хочешь, чтобы он тебе сказал? – спросил Шайтанов о Глоцере, узнав от меня об этом разговоре.
Вообще Маэль Исаевна была не постоянна в своих привязанностях. Одно время у неё жили бывшие киевлянки: вдова литературного критика Евгения Адельгейма с дочерью. Маэль Исаевна относилась к ним как к родственникам. Жила их интересами, которые не помню, в чём заключались. То ли гости добивались постоянного местожительства в Москве, то ли речь шла об итоговой книге Адельгейма, которая вобрала бы в себя его прежние работы о Маяковском, о Миколе Бажане. Так или иначе, но вдова часто бывала в Совете по украинской литературе Союза писателей. Её рассказы о тамошних чиновниках смешили Маэль, которая делилась ими по телефону с друзьями. Со мною, в частности.
И вдруг киевлянки исчезли. Куда? Маэль Исаевна недоумённо пожала плечами: «Не интересовалась». Выспрашивать подробности мне было неудобно. Позже Ира написала мне, что рассорились они из-за Ежи Кухарского, родившегося в России в семье польских коммунистов, репрессированных в конце тридцатых. Прекрасно знавший польский и французский, тонко чувствовавший музыку, он перевёл на русский письма Шопена. Перевёл (для себя, не для печати) Сартра и Дос-Пасоса. «Ему хотелось, – написала Ира, – чтобы мама посмотрела какие-то его тексты, он начал ей звонить, они несколько раз поговорили, а Маэли Исаевне категорически не понравилось, что её друзья общаются «за её спиной». Вот такая была неожиданная реакция».
В доме Маэли никогда больше не вспоминали о дочери Адельгейма и о её матери.
Могла ли Маэль Исаевна вот так же выкинуть из сердца Шайтанова и его жену, о чём говорил Глоцер? Могла, конечно. Не верить Володе я был не в праве: я его во лжи никогда не уличал. А Шайтанову, с которым мы тогда крепко дружили? И Шайтанов до сих пор меня не обманывал. Но – подчёркиваю – до сих пор!
Рассказал я это, чтобы снять тень недоверия к Глоцеру, которая могла у кого-нибудь из наших знакомых возникнуть. Он был порядочным человеком. Да и в квартиру Маэли так и не переехал. Приезжал в неё несколько раз на моей памяти. Умер 19 апреля 2009 года.
* * *
27 июля – день памяти Лермонтова. Он был убит 27 июля 1841 года. А родился 15 октября 1814 года – 200 лет назад.
Ну что о нём сказать: великий он и есть великий. Приведу почти не известный отзыв Толстого: «Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имеющий».
Прекрасный исчерпывающий образ юноши-гения!
* * *
А 27 июля 1873 года скончался ещё один великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев.
В небольшой календарной заметке много о нём не скажешь. И, стало быть, многие его черты не отметишь. Укажу на парадоксальную: сам Тютчев не придавал почти никакого значения своим рифмованным сочинениям. Ценил у себя только стихотворные политические отклики, которые печатал охотно.
Некоторые стихи его и сейчас печатаются с теми вымарками, которые в своё время сделала цензура. Когда позже обратились к Тютчеву с предложением восстановить цензурные купюры, он это сделать не смог: рукописи у него не было. А наизусть он собственных стихов не запоминал.
Первая его книжка была составлена из стихов, которые всякими правдами и неправдами добывали Тургенев и тютчевский зять Сушков. Наконец, они передали вёрстку книги Тютчеву с просьбой её прочесть к такому-то числу. Время подошло, и Тютчев вернул вёрстку неразрезанной: то есть он даже не заглянул в неё. Практически та же история произошла и со второй прижизненной книгой Тютчева. Его стихи редактировал другой зять Тютчева Иван Аксаков. А Тютчев словно не замечал исправлений, порой весьма существенных. Так многие его стихи и остались в чужой редактуре.
Известен анекдотический случай, когда на важном правительственном заседании Тютчев отключился, что-то быстро записал на листке бумаги. А, уходя, забыл этот листок. Его прихватил коллега Тютчева Капнист, впоследствии обнародовавший листок. Это оказались известнейшие, гениальные стихи:
Как ни тяжёл последний час - Та непонятная для нас Истома смертного страданья, - Но для души ещё страшней Следить, как вымирают в ней Все лучшие воспоминанья…Не правда ли, странное отношение к своим стихам? Кого из поэтов мы в этом отношении поставим рядом с Тютчевым? Некого. Хлебников, по рассказам друзей, мог терять свои стихи. Но он обладал феноменальной памятью: он их всех помнил. Эма Коржавин носил свои стихи в наволочке. И если б не его друг, многих ранних стихов Коржавина мы бы сейчас не прочитали. Но позже Коржавин стал более ответственно относиться к своему творчеству.
Тютчев (родился 5 декабря 1803 года) сохранял безалаберность до смерти. Очень похоже, что, создавая стихи, он и сам не знал им цены. А что это удивительно, мы поймём, прочитав ну хотя бы вот это – великое! – стихотворение:
Когда дряхлеющие силы Нам начинают изменять И мы должны, как старожилы, Пришельцам новым место дать, - Спаси тогда нас, добрый гений, От малодушных укоризн, От клеветы, от озлоблений На изменяющую жизнь; От чувства затаённой злости На обновляющийся мир, Где новые садятся гости За уготованный им пир; От жёлчи горького сознанья, Что нас поток уж не несёт И что другие есть призванья, Другие вызваны вперёд; Ото всего, что тем задорней, Чем глубже крылось с давних пор,- И старческой любви позорней Сварливый старческий задор.* * *
С Ириной Михайловной Семенко, родившейся 27 июля 1921 года, я лично знаком не был. Но с большим уважением относился к её литературоведческим штудиям. Читал её книгу о Жуковском. Есть у меня в малых «Литпамятниках» «Опыты в стихах» Батюшкова. Книгу подготовила Семенко. Безупречная работа публикатора, комментатора, литературоведа.
Была Ирина Михайловна женой Елеазара Моисеевича Мелетинского, выдающегося филолога.
И ещё один подвиг, который совершила в науке Ирина Михайловна, – её книга «Поэтика позднего Мандельштама. От черновых редакций к окончательному тексту». Для того, чтобы написать её, Семенко пользовалась рукописными источниками, предоставленными ей Надеждой Яковлевной Мандельштам. А Надежда Яковлевна была строга. Редко кому могла дать черновики мужа.
Умерла Ирина Михайловна в 1987 году.
28 ИЮЛЯ
Аполлон Григорьев – любимец Блока, который особенно оценивал его «цыганщину», критик и теоретик литературы, вслед за Белинским публиковавший ежегодные обзоры современной литературы, глава так называемой «молодой редакции «Московитянина», где особой любовью окружил А.Н. Островского, которого считал русским гением, наконец, активный литературный и театральный критик журнала «Время» братьев Достоевских, какой через несколько лет стал называться «Эпохой». Кажется, нет такой новинки, привлёкшей внимание публики, на какую не откликнулся бы Григорьев.
И в то же время читающая публика, потянувшаяся было к Григорьеву, быстро охладевала: его зажигательные статьи оказывались похожими и однообразными. Аполлон Александрович Григорьев, родившийся 28 июля 1822 года, называл свою критику «органической», противопоставляя ей революционно-демократическую Добролюбова и Чернышевского и «эстетическую» Дружинина. Но, в отличие от тех и других, был как бы бессистемен, мог легко бросить начатую было мысль, чтобы переключиться на другую, редко его работы оказывались логически выверенными.
В то же время эстеты упивались высказанными им мыслями. Он, тяготевший поначалу к славянофилам, оставил в своих кумирах одного только Хомякова, который не просто преклонялся перед народным русским духом, что Григорьева стало тяготить, но совмещал это преклонение с верой в безграничность жизни. А подобная вера по Григорьеву и есть питательная среда искусства.
Григорьев выступал против провозглашения в искусстве абстрактной голой истины. Он считал, что художник выражает истину цветную – справедливую для данного национального характера. Именно такую истину ищет и находит Григорьев в «Капитанской дочке» Пушкина и в «Герое нашего времени» Лермонтова. Понятно, что лермонтовского Максим Максимыча Григорьев превозносит как яркую фигуру национального характера, а Печорина – ненавидит, считая этого персонажа воплощением всего заимствованного, чуждого национальному.
Мне, по правде сказать, Григорьев-теоретик никогда не был ни близок, ни интересен. Но его поэзия меня трогала и трогает до глубины души. Ведь это он, Григорьев, умерший 7 октября 1864 года, написал «Цыганскую венгерку», которую придётся резко сократить: очень длинновата в цитировании:
Две гитары, зазвенев, Жалобно заныли… С детства памятный напев, Старый друг мой – ты ли? Как тебя мне не узнать? На тебе лежит печать Буйного похмелья, Горького веселья! Это ты, загул лихой, Ты – слиянье грусти злой С сладострастьем баядерки – Ты, мотив венгерки! […] Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка, С голубыми ты глазами, моя душечка! Замолчи, не занывай, Лопни, квинта злая! Ты про них не поминай… Без тебя их знаю! В них хоть раз бы поглядеть Прямо, ясно, смело… А потом и умереть – Плёвое уж дело. […] Шумно скачут сверху вниз Звуки врассыпную, Зазвенели, заплелись В пляску круговую. Словно табор целый здесь, С визгом, свистом, криком Заходил с восторгом весь В упоенье диком. Звуки шёпотом журчат Сладострастной речи… Обнажённые дрожат Груди, руки, плечи. Звуки все напоены Негою лобзаний. Звуки воплями полны Страстных содроганий… Басан, басан, басана, Басаната, басаната, Ты другому отдана Без возврата, без возврата… […]Ей-Богу, так и хочется, прочитав это, процитировать Аверченко, хотя он писал по другому поводу: «Отчего же вы не пьёте ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле – почему так странно трясутся ваши плечи: смеётесь вы или плачете?»
Блок обожал эти стихи. И я их очень люблю.
* * *
Однажды Фёдор Иванович Тютчев написал:
Эти бедные селенья, Эта скудная природа - Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймёт и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удручённый ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.Стихи эти попались на глаза Василию Степановичу Курочкину, родившемуся 28 июля 1831 года, который написал насмешливый ответ поэту:
Как не вскрикнуть тут с поэтом: Край родной долготерпенья! Если розги в крае этом Лучший метод просвещенья? Ладно всё. Отец не спорит И нисколько не в обиде, Хоть всю школу перепорет Кроткий пастырь в пьяном виде.Конечно, не сравнишь по силе поэтического воздействия с великими стихами Тютчева! Но сатирик Курочкин не случайно учуял слишком высокий пафос Фёдора Ивановича. И, так сказать, спустил его на землю.
О Курочкине, умершем 27 августа 1875 года, стоит вспомнить ещё, что он вместе с карикатуристом Николаем Александровичем Степановым основал журнал «Искра», в короткое время ставший очень популярным.
И ещё следует поставить в заслугу Курочкину, что он явился одним из первых русских переводчиков француза Пьер Жана де Беранже. Помните Фёдора Ивановича Шаляпина, распевающего песню А. Драгомыжского «Старый капрал»? Она написана на слова Курочкина, точнее, на его перевод Беранже.
* * *
Помнят ли сейчас о Вадиме Васильевиче Шверубовиче, родившемся 28 июля 1901 года, сыне Василия Ивановича Качалова и Нины Николаевны Литовцевой, актёров Художественного театра?
Шверубович и сам был работником МХАТа, имел право на броню. Но ушёл в ополчение и попал в плен под Вязьмой. Однако сумел не просто бежать из фашистского лагеря, но через альпийский перевал Сен-Ботард пробраться в Италию, в горный монастырь бенедиктинцев. Смог участвовать в движении Сопротивления, став командиром партизанского отряда. Победителем вернулся на родину, где его, разумеется, тут же арестовали и заключили в концлагерь. И, возможно, он бы разделил участь многих узников Гулага, если б не вмешался МХАТ, если б не великий отец Вадима Васильевича, благодаря просьбам которого Шверубович был освобождён.
Он написал несколько книг о себе, о семье, о МХАТе, которые читаются легко и с интересом: Шверубович писатель с несомненным даром.
Но мне хотелось бы процитировать не из этих его работ, а из небольшой статьи, которая называется «Добротворение, – радость немедленная и длительная»:
«Делание добра даёт радость, и немедленную, так как радостен самый процесс добротворения, и даёт радость длительную, создавая радостный и светлый строй жизни всей окружающей среды, создаёт атмосферу любви и заботы друг о друге, как бы жестоки ни были обстоятельства жизни. А иногда тем любовнее, чем тяжелее и пограничнее со смертью жизнь. Любовь и добро заразительнее, чем зло, и распространяются быстро и прочно. Они распространяются по спирали, захватывая всё большие и более широкие круги людей.
Добро в отношении к человеку выражается в самой мелкой и повседневной заботе о нём, начинается с пустяков – с уступки лучшего места: если холодно – того, где меньше дует, если жарко – того, где прохладнее, но под каким-нибудь предлогом, чтобы тот, кому уступаешь, не чувствовал «благодеяния»; уступки части пищи тому, кто особенно голоден, – под предлогом, что сыт. Между прочим, я проверил, что, лишив себя 20 граммов хлеба от ста, от этого с голоду не умрёшь, а удовлетворение от своей выдержки получишь большое и сил моральных, а от них и физических прибавится больше, чем от нескольких десятков граммов пищи. А силы нужны не только, чтобы выжить, а чтобы спасти и помочь выжить другим. Надо иметь силы для сознательного «захвата» худшего места, худшей пищи, более тяжёлой работы – это не может не вызвать подражания, это непременно заразит окружающих, и таким образом распространится стремление всех заботиться о каждом, каждого обо всех. Самое замечательное, самое ценное, что группа, ячейка, заражённая такими взаимоотношениями, питается лучше, чем та, где люди, как волки, рвут друг у друга пищу. Если налажен общий стол, образуются остатки, которые перетирались бы в карманах жадных. Труд спорится, так как каждый старается сработать больше, чтобы не переработал его друг; спится теплее и уютнее, так как все укрываются всеми шинелями. Люди становятся здоровее, выносливее, добрее и счастливее. И понимают причину этого. Группа делается ведущей, образцовой. Ей стремятся подражать, и, таким образом, добро и вера (первоначально в качестве понимания блага любви) распространяются всё шире…»
Хороший был человек, правда?
Скончался Вадим Васильевич 13 июня 1981 года.
* * *
Елизавету Ауэрбах я помню по её концертам, которые показывали по телевидению в моей юности. То есть, по её номерам в концертах. А таким номером, как правило, было чтение своей сатирической миниатюры, написанной как бы ребёнком, от его имени.
Правда, читала она не только детские рассказы, но мне запомнились именно они, исполненные очень артистично – с наивной детской верой во всё хорошее, которая на поверку утрачивает наивность и наоборот обрастает основательностью.
Однажды я увидел её в кино. Она сыграла одного из персонажей фильма «Чудак из пятого «Б» по сценарию моего знакомца Владимира Железникова.
Скончалась Елизавета Борисовна Ауэрбах 28 июля 1995 года (родилась 13 августа 1912-го). Жаль, если не будут переизданы её детские книги «Мои рассказы», «Маленький ансамбль». Нынешним детям не помешало бы их прочитать.
* * *
Из ранних впечатлений моих просмотров в Госкомитете по кинематографии СССР, где я недолго работал, особенно врезался в память кинофильм «Утренние поезда», где мне особенно понравились Валентина Малявина и Анатолий Кузнецов, тогда молодые ещё актёры. Фильм представлял один из режиссёров Фрунзе Довлатян (другим был Лев Мирский). Были на просмотре и сценаристы Авенир Зак и Исай Кузнецов.
Я не участвовал в обсуждении – не имел на это право. Высказывались только члены сценарной коллегии. И меня, совсем ещё молодого человека, бесили их вялые, принуждённые отзывы, словно не чудо было только что сотворено на наших глазах, а унылое действо из жизни молодых рабочих московского завода. Почему-то члены коллегии только на это и обратили внимание и разглагольствовали, насколько тот или иной образ соответствует привычному в ту пору образу молодого советского рабочего. Выходило, что в фильме далеко не все соответствуют этому образу.
Тем не менее фильм приняли. Высшую категорию ему не дали, но, кажется, что и режиссёр и сценаристы были довольны. И всё-таки я, выходя из зала вместе с Исаем Константиновичем Кузнецовым, высказал ему, что думал о своих коллегах. Сказал и что думаю о фильме сам.
Исай Константинович приостановился и сказал: «Не ожидал встретить в этих стенах! Кажется, молодое чиновничество способно будет спасти репутацию этого отстойника динозавров!»
Наверное, всё-таки надежды Кузнецова не сбылись. Из чиновничьего мундира я выпрыгнул довольно скоро. И судьбою бывших своих коллег не интересовался.
Да и уже потом, по рассказам того же Исая Константиновича, видел, что этот репрессивный аппарат в кино – Главная сценарная коллегия Комитета – только усиливает свои репрессии.
Подружились же мы с Исаем Константиновичем позже – встретились в доме творчества писателей в Дубултах, повспоминали прошлое, посидели в латышских подвальчиках-пивнушках и уже не возвращались к той моей ранней службе.
Его биография меня увлекла. Написал до войны вместе с Галичем и сыном Багрицкого Всеволодом пьесу «Дуэль». Репетиции спектакля по пьесе прервала война.
Прошёл всю войну солдатом. Только в Германии получил сержанта. Демобилизовался старшим сержантом с орденом Красной Звезды.
Принял приглашение Плучека – стал ассистентом режиссёра в Московском гастрольном театре. Но в 1949-м попал под колёса разогнавшейся кампании борьбы с космополитизмом – был уволен из театра.
Встретился с Авениром Заком. С ним написано много пьес и сценариев. Пьеса Зака и Кузнецова «Два цвета» была второй (после пьесы В. Розова), с которой начался театр «Современник».
За сценарий фильма «Москва-Кассиопея» они с Заком получили Госпремию РСФСР. Правда, больше ничем их за кино не награждали.
Прожил Исай Константинович большую жизнь. Не помню, чтобы на что-нибудь сетовал. С ним всегда было уютно. Потому, мне кажется, что он обходился тем, что есть, и не прожектёрствовал. Вот почему в одном из интервью, взятом по поводу его 90-летия, он сказал: «Сильного давления со стороны властей мы с Авениром не ощущали. Когда нас просили заменить какие-то фразы, мы легко меняли формулировку, но сохраняли смысл. Это всех устраивало: редакторская работа формально проведена, правка внесена. Возможно, цензорам не хотелось портить наши сценарии. Мы находили способ высказываться так, чтобы наши мысли прошли цензуру и дошли до зрителя».
Умер этот мудрый художник 28 июля 2010 года (родился 30 ноября 1816-го).
* * *
Борис Викторович Шергин (родился 28 июля 1893-го) был весьма разносторонним художником. Он окончил Строгановское центрально-промышленное художественное училище. Научился писать иконы в поморском стиле, расписывать утварь, ещё в школьные годы записывал северные народные сказки, былины, песни.
Познакомился с пинежской сказительницей М.Д. Кривополеновой, с фольклористами – братьями Соколовыми. В 1916 году познакомился с академиком А.А. Шахматовым. По инициативе Шахматова получил от Академии командировку в Шенкурский уезд Архангельской губернии, где исследовал местные говоры и записывал фольклор.
Первая книга Шергина «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924) составляют записи шести архангельских старин с нотаций мелодий.
Вторая книга «Шиш московский» (1930) – «скоморошья эпопея о проказах над богатыми и сильными». Здесь Шергин уже выступил писателем, обработавшим народные сказки, и имел колоссальный успех.
Третья книга «Архангельские новеллы» (1936) вобрала в себя новеллы, стилизованные под переводные «гистории» XVII-XVIII веков. Шергин уже не так зависим от фольклорного источника, хотя по скромности непременно его указывает.
В 1934 году Шергин принимает участие в Первом съезде советских писателей, становится членом Союза писателей.
После войны он выпустил книгу «Поморщина-корабельщина», которая была подвергнута резкой проработочной критике с вульгарно-социологических позиций. Стиль писателя был назван «грубой стилизацией», его обвиняли в «Извращении народной поэзии». Десять лет книги Шергина были недоступны читателю.
Но в 1955-м общественность добилась организации творческого вечера писателя в ЦДЛ, после которого издательство «Детская литература» выпустило его сборник «Поморские были и сказания» (1957).
Наиболее полное прижизненное издание Шергина «Запечатлённая слава» вышло в 1967 году.
Умер писатель 30 октября 1973 года.
29 ИЮЛЯ
С Владимиром Дмитриевичем Дудинцевым, родившимся 29 июля 1918 года, меня познакомил Владимир Михайлович Померанцев. Мы сидели в ЦДЛ за одним столом, и я смотрел на обоих как на легенду моей юности. Владимира Михайловича, которого тогда били за статью «Об искренности в литературе», я знал уже близко, и вот сижу с другим героем – автором романа «Не хлебом единым», который напечатал Симонов в «Новом мире» и по поводу которого дважды собирались московские писатели. Первый раз роман был горячо одобрен, но через несколько дней – так же горячо разгромлен. Я в школе читал и стенограммы этих заседаний, ходившие в списках, и страстную речь Паустовского не столько в защиту романа, сколько обличающую его номенклатурных героев.
Сидя с Дудинцевым за одним столом, я сказал ему о том, что думаю теперь: именно речь Паустовского и заставила партийную номенклатуру остро возненавидеть писателя. Владимир Дмитриевич согласился. Он вообще, как сказал, не ожидал подобного резонанса, а потом увидел, кто по-настоящему его враг, – номенклатура. Ведь и Симонов ничего подобного не разглядел, удивлялся Дудинцев, а уж у Константина Михайловича чутьё бежит впереди, как минёр на опасном поле.
Любопытно, что и Померанцев, и Дудинцев были по профессии юристами. Дудинцев даже служил в военной прокуратуре. Правда, после четырёх ранений в боях под Ленинградом в артиллерии, в пехоте.
Основательного продолжения наше знакомство с Дудинцевым не имело. Но встречались и приветствовали друг друга как хорошие знакомые. С Померанцевым я, можно сказать, сроднился, работая в журнале «Семья и школа», где он был членом редколлегии по литературе. А с Дудинцевым у нас такой общей площадки не было. Однако, когда ему в «Литгазете» заказали отрицательную рецензию на какое-то «новомировское» произведение, о каком он сказал кому-то, что оно ему не нравится, – он позвонил мне посоветоваться, как быть? С одной стороны, его давно уже не печатали, не поминали, а с другой – замаячило снятие табу с его имени. Я честно сказал, что рецензия его не украсит. И по тому, с какой горячностью он набросился на то «новомировское» произведение, как резко стал говорить, что всё-таки дать отпор халтуре не грешно, понял, что он уже всё решил без меня.
Правда, в «Литгазету» он рецензию не отдал. Напечатал её в «Литературном обозрении». С тех пор до самой его смерти 22 июля 1998 года я его не видел и с ним не говорил.
В годы перестройки он напечатал роман «Белые одежды», за что сразу же получил государственную премию. Но, думаю, что, присуждая её, учли и тот разнесённый в пух и в прах роман о том, как задушила номенклатура изобретателя.
Собственно, и в «Белых одеждах» речь идёт о противоборстве с той же номенклатурой, поддерживающей академика Лысенко и его сторонников, о том, как приходится ради науки маскироваться антилысенковцам, подвиг которых соотнесён с религиозным подвигом Святого Себастьяна, который был начальником охраны римского императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Себастьян тайно крестил во Христа полторы тысячи человек, и когда это открылось, принял мученическую смерть, расстрелянный тысячью стрелами. Так-то оно так. И всё же такие параллели показались мне проведёнными в романе искусственно. Впрочем, мой немецкий знакомец Вольфганг Казак говорил ещё о «Не хлебом единым», что не столько художественными достоинствами отличается роман, сколько обозначенной в нём борьбой между силами добра и зла. Вот и о «Белых одеждах» я могу сказать то же самое.
* * *
Яша Козловский наиболее верно описан в книге Владимира Войновича «Иванькиада». Я знал его довольно близко много лет. Знал за ним привычку не портить отношений с работниками печати. Входя, допустим, к нам в газету, он надевал благодушную маску, в которой показывался уже вахтёрам. Шёл по коридору, раскланиваясь направо и налево. Мне говорил: «Мы должны поддерживать друг друга. Я член литфонда, так что если нужна будет путёвка или пособие…» Эти посулы меня не манили. Мне же всё время доставались Яшины книги с тёплыми надписями. Он, в отличие от других переводчиков, таких, как Тарковский, или Липкин, или Гребнев, выпустил немало собственных стихотворных сборников, на которые помогал редакциям заказывать положительные рецензии.
«Закажи, – говорил он мне, – такому-то». «Такие вещи я самостоятельно решить не могу, – говорил я. – Иди к Кривицкому». И через какое-то время Кривицкий вручал мне Яшину книгу: «Надо бы дать рецензию», – говорил. «Мы в прошлом году рецензировали сборник Козловского», – напоминал я. «Не может быть», – вскидывался Кривицкий и подходил к столу, где громоздились стопки пошивок газеты за прошлые годы. «Да! – изрекал, убедившись, что я прав. – Ну, тогда не заметим».
Но не заметить не получалось. Козловский доходил со своими дарственными экземплярами до Чаковского. Тот, выслушивая информацию Кривицкого, досадливо ронял: «Ну, сделайте что-нибудь, где-нибудь упомяните. Мне уже о Козловском Гамзатов звонил!»
Легче всего было вставить небольшой отзыв в обзор читательских писем, посвящённый современной поэзии. Разумеется, читатели о новой книге Козловского в газету не писали. Но этого и не требовалось. Выдумывали читателя сами: дескать, прав какой-нибудь Никонов из Ярославля, когда пишет, что в самое последнее время книжная полка поэзии пополнилась такими интересными сборниками, как… Сюда и вставляли Яшину книгу.
Не скажу, что это ему нравилось, но запомнил, как на одном из писательских собраний он сказал: «У меня нет ни одной книги, не замеченной большой литературной печатью». Особенно при этом он упирал не на нашу газету, а на «Литературную Россию», которая и в самом деле печатала всякий раз развёрнутые положительные рецензии на Козловского. Объясняли это огромным влиянием, которое оказывал на редакцию тот же Расул Гамзатов.
Так что Володя Войнович списывает из жизни, воспроизводя в «Иванькиаде» фразу Козловского о том, что Иванько ему не так уж и нужен: у него уже есть Гамзатов.
Талантливым ли переводчиком был Яков Абрамович Козловский, родившийся 29 июля 1921 года? Мне лично кажется, что того же Гамзатова Н. Гребнев переводил более узнаваемо. Написал несколько песен на переводы Козловского из Гамзатова композитор Оскар Фельцман. И всё же таким шадевром, как «Журавли» Яна Френкеля на слова Гамзатова в переводе Гребнева они не стали.
Думаю, что Козловский не был оригинальным переводчиком. Порой в его переводах трудно отличить Гамзатова от Кешокова, Кулиева от Юсупова, Шинкуба от отца Гамзатова Цадаса. Их восточные лирические излияния очень похожи, а когда нет в стихах присущей только данному народу национальной специфики, то понять, какому из поэтов они принадлежат у Козловского нелегко.
Как оригинальный поэт он пытался (простите тавтологию!) оригинальничать. Уповал на каламбурную рифму.
Это кто стрелой из лука Прострелил головку лука?! Я ни слова, как немой, Словно выстрел был не мой». Снег сказал: – Когда я стаю, Станет речка голубей, Потечёт, качая стаю Отражённых голубей. Вместо рубахи не носите брюк вы, Вместо арбуза не просите брюквы, Цифру всегда отличите от буквы, И различите ли ясень и бук вы?Интересно? Любопытно, как любое фокусничанье. Смысла в этом подчас не доищешься:
Говорили тиграм львы: – Эй, друзья, слыхали ль вы, Что не может носорог Почесать свой нос о рог?Об этом, скорее всего, тигры и не слыхали. Но читатели не слыхать подобные каламбурные рифмы не могли. Сразу вспоминается Минаев, обращавшийся С КАЛАБУРОМ к финским СКАЛАМ БУРЫМ.
Или такое общеизвестное: «Однажды медник, таз куя, / Сказал жене, тоскуя: / – Задам же детям таску я / И разгоню тоску я».
Не получилось у Козловского, скончавшегося 1 июля 2001 года, быть оригинальным поэтом.
* * *
Однажды Ярослав Смеляков открыл свой почтовый ящик и прочитал: «Пишет Вам неизвестная личность, не знавшая Вас во времена жизни моего сына Бори Корнилова, который, как мне известно, был близким Вам другом».
Вот что он ответил на это письмо:
Где-то там, среди холмов дубравных, В тех краях, где соловьёв не счесть, В городе Семёнове неславном Улица Учительская есть. Там-то вот, как ей и подобает, С пенсией, как мать и как жена, Век свой одиноко коротает Бедная старушечка одна. Вечером, небрежно и устало, Я открыл оттуда письмецо, И опять, как в детстве, запылало Бледное недоброе лицо. Кровь моя опять заговорила, Будто старый узник под замком. Был ты мне, товарищ мой Корнилов, Чуть ли не единственным дружком. Мир шагал навстречу двум поэтам, Распрекрасный с маковки до пят. Впрочем, я писал уже об этом, Пусть меня читатели простят. Получил письмо я от старушки И теперь не знаю, как мне быть: Может быть, пальнуть из главной пушки Или заседанье отменить? Не могу проникнуть в эту тайну, Не владею почерком своим. Как мне объяснить ей, что случайно Мы местами поменялись с ним? Поменялись как, не знаем сами, Виноватить в этом нас нельзя - Так же, как нательными крестами Пьяные меняются друзья. Он бы стал сейчас лауреатом, Я б лежал в могилке без наград. Я-то перед ним не виноватый, Он-то предо мной не виноват.А ещё прежде он, вспоминая о своём друге: «А был вторым поэт Борис Корнилов…», вспомнил и ещё одного, отводя себе роль третьего: «А первым был поэт Васильев Пашка, / златоволосый хищник ножевой – / не маргариткой / вышита рубашка, / а крестиком – почти за упокой».
Вообще-то, как мне рассказывали, их было четверо. Четвёртым арестованным по тому же делу был поэт Сергей Поделков, которого я очень часто встречал, когда «Литературная газета» находилась на Цветном бульваре. Там же располагалась и «Литературная Россия», а Поделков был её членом редколлегии по разделу поэзии.
Поделков рассказывал, как помогал он родственникам расстрелянных Бориса Корнилова и Павла Васильева добиться реабилитации поэтов, как потом пробивал в печать их стихи. Но Ярослав Смеляков проходил мимо Поделкова, не раскланиваясь и не замечая. Однажды мы сидели в ЦДЛ с Володей Соколовым и Женей Храмовым. К нам подсел Смеляков. А через некоторое время Женя заговорил с проходящим по залу Поделковым, подвинул ему стул. Ярослав резко встал и зашагал прочь. «Ты чего, Ярочка?» – бросились мы с Соколовым вслед. «С гнидами сидеть не буду», – не оборачиваясь, бросил Смеляков. Поделков ушёл, и мы едва уговорили Смелякова вернуться к столу. О Поделкове он не вспоминал.
Но двух своих товарищей любил нежно. Особенно Бориса Васильева.
Конечно, он прав. Всё могло случиться иначе в этой лотерее НКВД. Могли расстрелять и его, Смелякова. А Корнилова после многолетних отсидок выпустить и даже увенчать Госпремией. Но лауреатом стал Смеляков, а в могилку без наград лёг Корнилов.
Борис Петрович Корнилов родился 29 июля 1907 года. Быстро заявил о себе как о талантливейшем молодом поэте России. Писал много. Стихи, поэмы, от которых веяло свежестью.
Ещё за год до ареста, в 1936-м писал удивительное, жизнеутверждающее:
По улице Перовской иду я с папироской, пальто надел внакидку, несу домой халву; стоит погода – прелесть, стоит погода – роскошь, и свой весенний город я вижу наяву. Тесна моя рубаха, и расстегнул я ворот, и знаю, безусловно, что жизнь не тяжела – тебя я позабуду, но не забуду город, огромный и зелёный, в котором ты жила. Испытанная память, она моя по праву, – я долго буду помнить речные катера, сады, Елагин остров и Невскую заставу, и белыми ночами прогулки до утра. Мне жить ещё полвека, – ведь песня не допета, я многое увижу, но помню с давних пор профессоров любимых и университета холодный и весёлый, уютный коридор. Проснулся город, гулок, летят трамваи с треском… И мне, – не лгу, поверьте, – как родственник, знаком и каждый переулок, и каждый дом на Невском, Московский, Володарский и Выборгский райком. А девушки… Законы для парня молодого написаны любовью, особенно весной, – гулять в саду Нардома, знакомиться – готово… ношу их телефоны я в книжке записной. Мы, может, постареем и будем стариками, на смену нам – другие, и мир другой звенит, но будем помнить город, в котором каждый камень, любой кусок железа навеки знаменит.Да что говорить, когда прославленная знаменитая песня «Встречный» Дмитрия Шостаковича («Нас утро встречает прохладой, / Нас ветром встречает река») продолжала исполняться и после ареста и расстрела автора слов – Бориса Корнилова. Случай беспрецедентный в сталинской России. Так нравилась Сталину песня, что он приказал помечать: «слова народные»!
Наследие Корнилова обширно. Здесь и чудесная лирика, и превосходные мощные эпические полотна поэм. «Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова, – записывает в дневнике в марте 1941-го Ольга Берггольц, – сколько в них силы и таланта! Он был моим первой мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребёнка, Ирки. Завтра ровно пять лет со дня её смерти. Борис в концлагере, а может быть, погиб».
Берггольц сама была арестована в 38-м, но попала под бериевскую амнистию 1939-го, которая выпустила на волю некоторое количество жертв врага народа Ежова.
Корнилова расстреляли 21 февраля 1938 года ещё до ареста его первой жены Берггольц. Бог знает, почему их с Васильевым погубили: пьянствовали, буйствовали? Но алкоголизмом страдали многие писатели того периода. Прав Смеляков: лотерея НКВД была непредсказуемой!
* * *
Вадима Борисова мне показали 20 августа 1991 года в зале «Литературной газеты» в Костянском переулке, куда пришли многие журналисты, решившие ответить гэкечепистам выпуском новой неподцензурной «Общей газеты». Договаривались, выступали. Помню яркие речи Карабчиевского, Роднянской, Ваксберга, Егора Яковлева. Борисов не выступал. Он держался скромно, но я, знавший его биографию, смотрел на него с большим уважением.
Вадим Михайлович Борисов, скончавшийся 29 июля 1997 года, в 50 лет (родился 9 февраля 1947 года), был из тех, кого зовут подвижником, кто словно призван Богом освещать своей жизнью другим путь к праведничеству.
По счастью, он не познал волчьих законов тюремной жизни, не прошёл адовых кругов Гулага. Но вёл себя жертвенно – ничего не страшась: бери и сажай!
С самого начала – с 1974-го выступил с открытым письмом в разгар газетной травли Солженицына, опубликовал в солженицынском сборнике «Из-под глыб» заметную статью, стал, наконец, доверенным лицом на родине писателя, выдворенного из России.
Подписывал письма против ареста Владимира Осипова, редактора рукописных журналов «Вече» и «Земля». Выступал в защиту отца Димитрия Дудко, лишённого властями прихода.
Для меня, экумениста, важно было, что Борисов в числе 27 христиан, принадлежащих к разным деноминациям, подписал «Экуменическое обращение», в котором анализировалась дискриминация верующих в СССР. Оно было направлено в адрес Президиума Верховного Совета СССР и Всемирного Совета Церквей.
Борисов составил самиздатовский сборник «Август Четырнадцатого» читают на родине». Составил обширный комментарий к роману Пастернака «Доктор Живаго», который напечатал вместе с романом в журнале «Новый мир», назначенный в перестройку заместителем главного редактора этого журнала.
Не знаю, быть может, этот шаг не понравился Солженицыну, но тот, предоставив Борисову напечатать в «Новом мире» «Архипелаг Гулаг», публикация которого снимало любые преграды для возвращения его автора на родину, вдруг отстранил Борисова от выполнения обязанностей своего агента, обвинив его в денежных злоупотреблениях.
Гром раздался среди ясного неба. Большей растерянности и недоумения среди знавших писателя и того, кто посвятил ему свою жизнь, я не помню.
Позже в «Новом мире» вспоминая Борисова, Солженицын писал: «Ошибку можно простить и миллионную. Обмана нельзя перенести и копеечного». Но не было обмана. Речь шла о том, что, не известив Солженицына, Борисов создал Издательский центр для выпуска его книг. Ещё Людмила Улицкая совершенно правильно написала в «Знамени», что, находясь в Америке, Солженицын не знал реалий 90-х, когда ежедневно вырастали в цене бумага, типографские услуги, когда промедлишь с покупкой необходимого реквизита для издания сегодня – завтра ты будешь наказан чудовищно вздутой ценой.
Но для меня особенно показательно, с какой жестокостью великий гуманист расправился со своим паладином. Сразу, не вдаваясь в подробности, не вникая в обстоятельства, выбросил из жизни.
Увы, это не метафора. Кажется, происшедшее подорвало жизненные силы Борисова. Возможно, что этим и объясняется его ранняя кончина. Тем более что после солженицынского изгнания Борисова последовало и изгнание Борисова из «Нового мира». Главный редактор Сергей Залыгин, отличившийся в советское время тем, что подписал вместе с другими против Солженицына гнусное письмо, теперь оказался проводником суровой воли классика, который переступил через Борисова, как некогда через Воротнянскую, у которой КГБ нашёл экземпляр «Ахипелага». Воротнянская повесилась, и Солженцын, кажется, был удовлетворён таким исходом дела. Борисов умер, и Солженицын вспомнил о копеечном обмане, которого простить покойнику ни в коем случае нельзя.
30 ИЮЛЯ
С Эдуардом Григорьевичем Бабаевым, родившимся 30 июля 1827 года, мы подружились ещё в шестидесятых. Одно время неразлучный с поэтом Евгением Винокуровым, он нередко приходил ко мне в «Литературную газету». К тому же и жили мы все трое почти рядом. Бабаев на самом Арбате, я в переулке Аксакова (теперь и до переименования – в Филипповском), а Винокуров – с другой стороны от Сивцева Вражка в печально-знаменитом писательском доме на улице Фурманова, которой тоже сейчас вернули старое название: Нащокинский переулок. Так что очень нередко мы втроём вместе гуляли по бульварам.
Работал Эдуард Бабаев тогда заместителем директора музея Толстого на Кропоткинской (ей после перестройки дали дореволюционное название: Пречистинка), был влюблен во Льва Николаевича, о ком, казалось, знал абсолютно всё, – во всяком случае, отвечал на любые вопросы и помогал отыскать цитату, когда к нему обращались за помощью. Он вообще очень много знал и был глубоким мыслителем, хотя не оставил философских трудов. Зато писал стихи и обаятельные детские книжки. Одну из них – «Чья это собака?» – у нас в семье очень любили, её много раз перечитывал сын, будучи младшим школьником. Когда у нас появилась собака, мы вспомнили эту волшебную книгу.
Потом Эдик перешёл в Московский университет, где стал любимцем студентов журфака. При его лекторском таланте, обширных знаниях и человеческой мягкости – иначе быть не могло. Когда я решил собрать свои довольно многочисленные работы по «Евгению Онегину» и защитить по ним диссертацию, Бабаев согласился быть у меня оппонентом. Мне это было очень важно в моральном отношении, потому что кроме человеческой теплоты и доброты Эдик был невероятно принципиален, когда дело шло о литературе, и, убеждён, он никогда не согласился бы оппонировать, если б диссертация ему не понравилась.
Он вызывался быть моим оппонентом и по докторской, но правила ВАКа не допускали, чтобы по обеим диссертациям в оппонентах числился один человек. В это время мы с ним крепко подружились. Я стал главным редактором «Литературы» – еженедельного приложения к газете «Первое сентября», и он часто украшал моё приложение своими занимательными литературоведческими статьями.
На праздновании пятилетия приложения в Центральном доме литераторов он выступил и рассказал, как в эвакуации в Средней Азии они подростками ходили по городу со своим другом – с будущим известным поэтом Валентином Берестовым и мечтали, чтобы когда-нибудь стала выходить газета занимательного литературоведения. Школьники любили книжки Перельмана «Занимательную физику», «Занимательную математику», а ничего подобного в гуманитарных науках не было. «У хорошей мечты, – закончил Бабаев, – есть такое свойство: иногда она сбывается».
Он пришёл ко мне в редакцию весной. Я хорошо помню, какой это был день недели – четверг. Он прочитал в наборной полосе свою статью о гоголевском капитане Копейкине, принёс мне новую – об «Эоловой арфе» В.Жуковского, а потом мы с ним гуляли по Маросейке, обсуждая предлагаемую им серию статей по занимательному литературоведению. Я проводил его до метро «Китай-город». А в субботу мне позвонила его жена Майя Михайловна и сказала, что ночью 11 марта 1995 года Эдуард Григорьевич умер от сердечного приступа…
Это был удивительно мягкий, доброжелательный человек. И при этом невероятно принципиальный. Многие удивлялись: как мог Эдик пожать руку «нерукопожатному» да ещё на глазах у всех, для чего он слушает излияния такого-то, которому устроил обструкцию почти весь дом творчества. Но Эдик не считал для себя возможным оскорблять людей, пусть даже ему несимпатичных.
Зато многие ли имеют в своём активе такой факт собственной биографии, о котором сейчас расскажу.
Эдик жил в Ташкенте. Его и жившего там же в эвакуации Валентина Берестова любили и опекали Корней Иванович Чуковский и Анна Андреевна Ахматова.
Бабаев мечтал об университете, но сумел у себя в Ташкенте поступить в транспортный институт. Потом после долгих мытарств перевёлся в Ташкентский университет. Сперва на физфак, а после окончания сессии – на филфак. Эдик был счастлив: сбылась его мечта.
Но на дворе стоял 1946 год. Были напечатаны знаменитое постановление ЦК о ленинградских журналах и доклад Жданова, где он хамски обрушился на Ахматову и Зощенко.
Зная о былой дружбе Бабаева с Ахматовой, партком приказал ему выступить на собрании, рассказать о том тлетворном влиянии, которое оказывает поэзия Ахматовой на молодёжь.
«Подумай, – сказали ему, не сомневаясь, что он выступит, – у тебя ещё жизнь впереди».
Подумав, Эдик написал заявление об увольнении с филологического, куда так стремился!
Чудесный был человек. Недаром один из его студентов, Александр Терехов, написал о нём повесть. Высокой души был человек. И мудрый. О чём говорят хотя бы вот эти строки за его стихотворения: «Прощай»:
Вы замечали? Если ненадолго Мы расстаемся, то легко и смело Мы говорим друг другу: «Ну, прощай!». Но если нам разлука путь укажет На много лет, мы говорим: «Всего! До скорой встречи! Напишу, конечно!». На письмах даты. Может быть, вся жизнь. И только тем, кого мы никогда Уже не встретим в этой жизни (странно, Что мы всегда угадываем это), Мы не решаемся сказать: «Прощай!». Вот так мы покидаем город детства. Вернёмся – нас никто не узнаёт. И мы глядим с таинственной улыбкой На тех, кто и не знал нас никогда… Так пролетают годы. Постепенно Мы учимся искусству узнавать Самих себя. И в том, что с нами было, И в том, что больше не вернётся.* * *
Владимир Георгиевич Маранцман, родившийся 30 июля 1932 года, считался крупным учёным-педагогом, членом Российской академии образования. Заведовал кафедрой методики преподавания русской языка и литературы в ленинградском Герценовском пединституте. Вместе со своими коллегами по институту выпустил много школьных учебников.
Его основной тезис: никакое интерпретирование художественного текста не может претендовать на истину в последней инстанции, любая однозначность интерпретации свидетельствует о примитивности концепции автора.
Всё это, быть может, и верно. Я знаю нескольких учителей, бывших учеников Маранцмана, скончавшегося 5 января 2007 года, ставших очень толковыми педагогами. Так что, возможно, что и воспитатель он был интересный.
Но, как пушкинисту, мне не повезло. Трактовки Маранцмана пушкинского текста примитивны, а порой и вульгарно социологичны. Здесь Маранцман ничем не отличается от других учёных филологов, навсегда усвоивших, что Пушкин через всю жизнь пронёс якобы близкие ему декабристские идеи и старавшихся втемяшить в сознание читателя образ Пушкина-революционера.
* * *
Почему-то, когда я учился в МГУ, ходила байка о родстве нашего профессора, заведующего кафедрой литературоведения Геннадия Николаевича Поспелова с партийным функционером, академиком Петром Николаевичем Поспеловым. Говорили, что они родные братья, и что благодаря этому Геннадий Николаевич, ученик Валерьяна Фёдоровича Переверзева, не предавший своего учителя, не был арестован, когда громили и уничтожали «переверзевщину» в филологической науке.
Нет, всё оказалось пустой выдумкой. Геннадий Николаевич, родившийся 30 июля 1899 года, не имел родственных связей с партийным академиком. И потому, когда его в 1930-м уволили с преподавательской и исследовательской работы как последователя Переверзева, никто за него не заступался. Постепенно он вновь возобновил преподавание. Преподавал на рабфаке имени М.И. Калинина, доценствовал (1932-1934) в редакционно-издательском институте. А потом перешёл в МИФЛИ, где стал профессором. В 1941-м ИФЛИ слили с МГУ. Так и оказался в университете Поспелов, который позже создал в нём кафедру литературоведения.
В университете я прочитал его книги «О природе искусства», и «Историю русской литературы XIX века. 40-60». Прочитал с интересом. Хотя на семинары к нему не ходил и лекций его не слушал. Да и мало кто слышал Поспелова. Он в мои годы никаких курсов, кажется, не читал. От его кафедры выступал в основном молодой доцент Иван Фёдорович Волков, который сделает хорошую карьеру в будущем: станет и доктором, и профессором, и деканом и перехватит у Поспелова кафедру.
А Геннадий Николаевич показывался у нас редко. Помню, на каком-то собрании после смещения с декана Романа Самарина выступил Поспелов с рассказом о Переверзеве. Того реабилитировали, но это не рекламировали. И Поспелов не столько говорил об учёном Переверзеве, сколько о Переверзеве-человеке. Надо отдать ему должное. Рассказывал он хорошо, любовно, даже приложил четыре пальца ко лбу. А потом отвёл их, вытянул вперёд, показывая любимый жест Переверзева, означающий, что учёный делится с тобой всем, что знает.
Редко показывался Геннадий Николаевич. Но запомнился большинству добрым, интеллигентным человеком.
Значительно позже я прочитал в тамиздате завещание академика Варги «Российский путь перехода к социализму и его результаты».
Ещё позже я узнал, что читал мистификацию. Что эта резко критикующая экономическую систему СССР работа на самом деле написана Геннадием Николаевичем Поспеловым, скончавшимся 12 апреля 1992 года.
* * *
В редакции «Медного Всадника», представленного Пушкиным на цензуру царю, мы найдём едкую иронию в адрес Дмитрия Ивановича Хвостова:
Поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье невских берегов,-ибо один только зачин его «бессмертных стихов» о наводнении, написанных по горячим следам событий, уже выдаёт честолюбивую надежду прославить своё имя за счёт животрепещущей темы:
О, златострунная деяний знатных Лира! Воспламеня певца безвестного средь Мира, Гласи из уст его правдивую ты речь.И не только напыщенностью отмечены эти стихи Хвостова. Они полуграмотны. Оцените его обращение к лире с призывом «гласить из уст певца»!
Дмитрий Иванович Хвостов родился 30 июля 1757 года. В принципе он достиг больших степеней и наград. Был почётным членом Императорской академии наук и действительным членом Императорской российской академии. Женатый на племяннице полководца Суворова, Хвостов одно время был обер-прокурором Святейшего Синода. А на сестре Хвостова был женат военный министр Алексей Горчаков, прославившийся своими балами, которые он давал после войны и на которых неизменно присутствовал и Дмитрий Иванович.
Служебная карьера Хвостова шла по нарастающей и дошла до своего пика, когда он был пожалован в действительные статские советники.
Что же до творчества, то он был настоящим графоманом. То есть писал много во всех жанрах и по любому поводу. Кому из сильных мира его он не поднес оду? Кажется, никого не пропустил: Аракчееву, Паскевичу, даже королю прусскому, от которого получил награду. Да и графство своё он заработал, польстив в стихах королю сардинскому. Тот в ответ возвёл Хвостова в графское достоинство своего королевства. А русский император дал своё соизволение на принятие этого достоинства и пользование им в России.
Над хвостовским творчеством потешались не только поэты пушкинского круга. Даже при вступлении Хвостова в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств его рекомендатель Дашков произнёс такую речь, превознося рекомендуемого выше Пиндара, Горация, Лафонтена, Буало, что все покатились со смеху. Приняв Хвостова, общество исключило Дашкова за неуместную иронию.
Надо сказать, что ироническому отношению к своим вещам способствовал и сам Хвостов, скупавший в больших количествах собственные книги и поднося их в дар официальным учреждениям. Так академия наук получила от него 900 экземпляров его пьесы «Андромаха», которая вообще пылилась на складе книгоиздателя.
Вместе с тем, был Хвостов, скончавшийся 2 ноября 1835 года, человеком незлобивым, добрым, даже щедрым. Много тратил средств на поддержание журналов, в которых помещал свои стихи. За ним знали слабость: он воздавал сторицей за похвалу любому своему произведению. И некоторые издатели (Шаликов, например, или Борис Фёдоров) этим умело пользовались.
«А всё-таки он помог множеству просителей, засыпавших его письмами, а зла никому не сделал, – написал о нём Евгений Евтушенко. – И несколько новых слов и оборотов привил не такому уж податливому русскому языку.
Что же нам делать? Жалеть его и любить, насколько сможем. Вот и Пушкин, услышав о его смерти (слух, правда, оказался ложным), вздохнул в письме П.А. Плетневу: «Наш Хвостов умер…»
* * *
Мне очень понравилась книга Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского». Я, который в своё время страшно обрадовался, прочитав, что Пастернак ценит только раннего Маяковского и «Во весь голос», обрадовался и ещё одному своему союзнику. С большинством друзей я не сходился во вкусах: им Маяковский нравился.
Поэтому я нисколько не удивился, что вышедшая на Западе и там премированная книга Карабчиевского, не вызвала энтузиазма при издании у нас: полувековая пропаганда своё дело сделала: даже дрянные стихи Маяковского благодаря мастерам художественного слова, постоянно их читавшим, внедрились в сознание как настоящая поэзия.
Ясно, что книгу Карабчиевского у нас обстреляли.
А мне она настолько понравилась, что я уговорил Юрия Аркадьевича Карабчиевского вытащить из неё кусочек, посвящённый юмору, и поместил его в газету, которую только что возглавил. Она была рассчитана на учителей, называлась «Литература». Заметочку «Юмор» я напечатал под рубрикой «Словарь»:
«Юмор – явление всеобъемлющее, это не окраска и не подсветка, это способ видения, способ жизни […] Человек, объясняющий смысл анекдота, нелеп не потому, что говорит очевидное, а, напротив, потому, что пытается осуществить невозможное. Но ни анекдот, даже самый глубокий – а бывают очень глубокие, – ни острота, ни шутка, ни комическая ситуация, ни вообще всё комическое вместе взятое – не заполнят и не отразят юмора, разве только одну из его сторон.
В словарях литературоведческих терминов на это слово даже нет отдельной статьи, а пишут: ЮМОР – см. КОМИЧЕСКОЕ. Не смотри «комическое», читатель, смотри «трагическое»! Потому что подлинный юмор всегда трагедиен в своей основе. Нет, я имею в виду не мрачные шутки, не чёрный юмор и не юмор висельников. Настоящий юмор всегда исходит из глубокого чувства трагизма жизни, из её потрясающей, головокружительной серьёзности.
Возьмём тот же анекдот как ближайший пример. Чем измеряется глубина анекдота? Тем количеством трагизма, которое он в себе содержит. Лучшие темы – тюрьма, болезнь или смерть, то есть такие, трагизм которых заведомо и не нуждается в подтверждении. И так же самый глубокий юмор свойствен народам самой страшной судьбы: евреям, полякам, русским…
Юмор и поэтический образ – вот два единственных средства, два способа видения, мышления, чувствования, с помощью которых мы можем объять необъятное, постичь непостижимое, овладеть ускользающим. И бывает так, но это редчайший случай, когда они объединяются в одном человеке, – тогда возникает величайшая концентрация поэтической энергии, любой своей частицей обнимающая весь мир. Тогда это – Шекспир, Пушкин, Мандельштам…»
Вот такие заметки я предлагал учителям в газетном словаре литературоведческих терминов. Карабчиевский был в восторге, прочитав гранки. Мы с ним набросали с десяток тем для словаря, который он собрался осветить. Я с нетерпением ждал его заметок. Не дождался. Через короткое время пришло сообщение, что Юрий Аркадьевич Карабчиевский покончил жизнь самоубийством 30 июля 1992 года. Ту свою заметку напечатанной в газете он не увидел…
Конечно, мне, беседовавшему с ним за несколько дней до трагедии, когда ничто её не предвещало, случившееся показалось ужасной нелепостью. Но чужая душа – потёмки. Да и как говорил поэт, кто смеет молвить «до свиданья» чрез бездну двух или трёх дней!
Тем более нелепостью показалось мне решение Карабчиевского расстаться с жизнью, что к тому времени я прочитал и «Жизнь Александра Зильбера», и «Незабвенного Мишуню», и «Тоску по Армении». И убедился, что Карабчиевский, родившийся 14 октября 1938 года, – один за лучших писателей, которых мне пришлось прочитать в конце восьмидесятых.
* * *
Мой старший товарищ Сарнов вспоминал, как пришли они, студенты Литинститута, вчетвером (ещё Бондарев, Бакланов и Поженян) сдавать экзамен по русской древности к профессору Шамбинаго. И, чтобы задобрить профессора, с места в карьер задали вопрос: чей перевод «Слова о полку Игореве» на русский язык Сергей Константинович Шамбинаго считает самым лучшим из всех известных?
– Мой! – рявкнул профессор. И не согласился с прозвучавшим словом «перевод»: дескать, «Слово» тоже написано на русском, так что правильней вести речь о переложении.
Конечно, оспаривать мнение Шамбинаго четвёрка трусивших студентов не решилась бы. Но специалисты отдают пальму первенства не переложению Шамбинаго, а переложению Сергея Васильевича Шервинского.
В частности, такой крупнейший наш учёный, как О.В. Творогов отмечал, что Шервинский «бережно относился к передаче текста С[лова], не допускал, как сам подчёркивал, в перевод «слов и выражений, обтрепавшихся в суматохе повседневной речи, таких, которые оказались бы плоскими в контексте древней, условной по стилю поэмы».
«Перевод Шервинского один из лучших в истории переложений С[лова]», – уверенно возглашает Творогов, не слишком, как видим, различая здесь понятия «перевод» и «переложение», которые категорически различал Шабинаго. И, думается, что, не поддерживая Шабинаго, Творогов прав. Древнерусский слишком далеко ушёл уже от современного русского, чтобы говорить всего лишь о переложении. Да, чаще всего мы имеем дело с подлинным переводом. А Шервинский не просто переводил. Он посвятил много времени комментарию отдельных слов или «тёмных мест» «Слова», расшифровывая их, разъясняя их.
Впрочем, Шервинский остался в истории литературы не только с этим переводом. Он переводил – и очень успешно – древних римлян и греков, средневековую арабскую поэзию, Ронсара, Гёте, армянских поэтов. Опубликовал историческо-приключенческий роман «Ост-Индия» (1933), написал совместно с поэтом А.Кочетковым пьесу «Весёлые фламандцы».
И всю жизнь до самой смерти, случившейся 30 июля 1991 года (родился 9 ноября 1892-го), писал стихи.
Вот – одно из поздних:
Я к ней вошёл по пропуску родства Один. И видел чудо: предо мною Она лежала, подлинно мертва, И красотой сияла неземною. Уж были чьей-то убраны рукой Её часы, термометр и лекарства, И в комнату уже вошёл покой Небесного обещанного царства. А между тем, когда была жива, Она, я знал, завистлива и лжива, Перед людьми и Богом не права, Равно душой и телом некрасива. И думал я: умели ж исказить Её черты скопившиеся годы, И только смерть могла осуществить Первоначальный замысел природы.31 ИЮЛЯ
Этого поэта мало кто знает. Литературоведы, скорее всего, по Ю.Н. Тынянову, упомянувшего его в известнейшей своей статье «Промежуток»: «Есть досадные традиции – стёртые. (Так стёрт для нас сейчас – как традиция – и Блок.) Есть общие места, которые никак не могут стать на место стихов, есть стихи, которые стали «стихами вообще» и перестали быть стихами в частности. Досаден (был и есть) Розенгейм (а ведь его когда-то путали с Лермонтовым); досадна и традиция Розенгейма – стиховая плоскость».
Припечатал вполне уверенно и в основном – по делу:
Пахнуло тёплым ветерком, Как будто вёдро обещая, - Но тучи чёрные кругом Висят, всё небо застилая. Чуть виден просвет. А пока Жмёт душу грустное сомненье: Не хватит сил у ветерка Рассеять вечное затменье… Так истомили холода, И теснота, и темень эта! Когда ж дождёмся мы, когда - Поры тепла, простора, света?…Вообще-то Михаил Павлович Розенгейм, родившийся 31 июля 1820 года, писал стихи огромные, некоторые из них смотрятся, как поэмы. Но я выбрал самое маленькое, потому что и оно даёт возможность согласиться с Тыняновым: ничего своеобразного в нём нет «Стиховая плоскость», – сказано справедливо.
Правда, не так уж и много написал Розенгейм. Он служил в армии. Потом кончил Военно-юридическую академию. В 1869-м был назначен военным судьёй Киевского военно-окружного суда. На следующий год переведён на ту же должность в Петербург. Её он занимал до конца жизни, дослужившись до генерал-майора. И в этой должности скончался 7 марта 1887 года.
Ну, а стихи Розенгейма? Некогда их критиковал Добролюбов за голый утилитаризм. Розенгейм писал в стихах, что не надо брать взяток, надо говорить всегда правду, служить только честно и т.п. Добролюбов, смеясь, указывал, что для подобных истин не обязательно писать стихи.
С другой стороны доставалось Розенгейму и от такого эстетического критика, как Дружинин, который в свою очередь не находил поэзии в розенгеймовских стихах.
Ещё Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона находил, что «чисто художественных достоинств – образности, меткости, колоритности – у Розенгейма совсем нет».
* * *
В 1822 году Пушкин пишет письмо своему младшему брату Лёвушке (подлинник по-французски). Льву Сергеевичу – 17 лет.
«Ты в том возрасте, когда следует подумать о выборе карьеры; я уже изложил тебе причины, по которым военная служба кажется мне предпочтительнее всякой другой. Во всяком случае твоё поведение надолго определит твою репутацию и, быть может, твоё благополучие.
Тебе придётся иметь дело с людьми, которых ты ещё не знаешь. С самого начала думай о них всё самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибёшься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, ещё молодо; презирай их самым вежливым образом: это средство оградит тебя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоём в свет.
Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит; особенно же остерегайся допускать её в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего это ожидаем.
Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать; люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе.
Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще всего – предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает.
Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны XVIII столетия. Что касается той женщины, которую ты полюбишь, от всего сердца желаю тебе обладать ею.
Никогда не забывай умышленной обиды – будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление.
Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения.
Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым.
Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к такому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь; она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идёт о счастии твоей жизни».
Слышал ли Лёвушка исповедь брата? Вряд ли. Но об огромных пушкинских долгах в конце жизни поэта наверняка был наслышан. И – что скрывать! – кое-какие свои долги повесил на брата, который взял себе в принцип оплачивать карточные и бильярдные расходы неистового игрока.
Пушкин, как известно, и сам был картёжником, но Лёвушка выбрал стезю офицерства, на которой карточный долг непременно подлежал оплате. С 1827 года Лев Сергеевич как юнкер Нижегородского Драгунского полка участвовал в персидско-турецкой кампании 1827-1829, затем штабс-капитаном Финляндского драгунского полка участвовал в польской кампании. В 1832-м вышел в отставку в чине капитана и поселился в Варшаве. Но в 1836 году уехал на Кавказ вместе с Отдельным Кавказским корпусом, куда поступил штабс-капитаном и где дослужился до майора, но уже после гибели брата.
Это ему, Льву Сергеевичу, мы обязаны знанием эпизода из братней жизни, от которого отдаёт мистикой. Вот что пишет Лев:
«Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление. В это время находилась в Петербурге старая немка, по имени Киргоф. В число различных её занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с некоторыми товарищами. Г-жа Киргоф обратилась прямо к нему, говоря, что он человек замечательный. Рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. Она сказала ему между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе Пушкин никогда не говорил и не думал; письма с деньгами получать ему было неоткуда. Деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их, конечно, без письма. Пушкин не обратил большого внимания на предсказания гадальщицы. Вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, он встретился на разъезде с генералом [А. Ф.] Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты. Разговор продолжался довольно долго, по крайней мере, это был самый продолжительный из всех, которые он имел о сём предмете. Возвратясь домой, он нашел у себя письмо с деньгами. Оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу; он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то картёжный долг ещё школьной их шалости. Г-жа Киргоф предсказала Пушкину его изгнание на юг и на север, рассказала разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и наконец преждевременную смерть, предупредивши, что должен ожидать ее от руки высокого белокурого человека. Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постепенным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал».
Младшего Пушкина часто сравнивали с братом. Говорили, что память у Лёвушки была даже получше: он со слуха запомнил много произведений брата. Считается, что какие-то неопубликованные стихи Пушкина Лёвушка унёс с собой в могилу, скончавшись 31 июля 1852 года. А родился Лев Сергеевич 29 апреля 1805 года.
1 АВГУСТА
Дьякон Андрей Кураев назвал его «последним свободным священником Московской Патриархии». Речь об убитом не так давно (5 августа 2013 года) отце Павле, которого зарезали в собственном доме в Пскове.
Павел Анатольевич Адельгейм родился 1 августа 1938 года в семье российских немцев. Отца его расстреляли, после ареста матери был взят в детский дом, а потом после её возвращения их выслали в Казахстан. Сумел переехать в Киев к родственникам, где стал послушником Киево-Печорской Лавры. В 18 лет поступил в Киевскую духовную семинарию, но уже через год был исключён из неё по политическим мотивам.
Но тогда же был рукоположен архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона к Ташкентскому кафедральному собору. В 1964-м окончил Московскую Духовную Академию и получил назначение священником в город Каган Узбекской ССР.
В 1969 году построил новый храм, освящённый во имя святителя Николая.
А дальше начинается судьба диссидента.
«У меня нашли довольно много стихов поэтов Серебряного века: Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Волошина, – рассказывал отец Павел о первом своём аресте в 1969-м. – Суд решил, что все эти произведения писал я сам, а приписывал их известным поэтам».
Представляете, какие умственные способности были у судьи, если он так решил! И оформил своё решение: в 1970 году Павел Адельгейм получил три года лагерей за клевету на советский строй.
В 1971 году из-за волнений в гулаговском посёлке Кызыл-Топа потерял правую ногу. Через год освобождён по инвалидности. Служил в Фергане и Красноводске.
С 1976 года клирик Псковской епархии.
И с этого времени вступает в конфликт с Псковским иерархом – Митрополитом Евсевием, который гасит все начинания отца Павла. В приходе Богданова отец Павел построил новый храм при областной психоневрологической больнице – Евсевий отнимает у Павла этот приход. В другом приходе Писковичи отец Павел прослужил двадцать лет, открыл приют для сирот и свечную мастерскую, создал школу регентов. Всё это было уничтожено Евсевием.
Говорят, что убил отца Павла ненормальный человек. Может, и так. Хотя к его убийству подталкивали других тоже не вполне нормальные люди.
* * *
Её многие вспоминают с благодарностью. Войнович рассказывал, как набрался нахальства и понёс прямо к ней свою первую повесть. Объяснил, что не хочет оставлять её на внутреннюю рецензию. «Прочитайте несколько страниц, – попросил он. – И если Вам понравится, я готов буду работать по всем замечаниям сотрудников «Нового мира». Анне Самойловне Берзер, рождённой 1 августа 1919 года, повесть «Мы здесь живём» понравилась. И в 1961 году Войнович стал автором «Нового мира».
Я не могу считаться близким знакомым Анны Семёновны, но хорошим её знакомым я себя считаю. Когда слух о том, что в журнале «Семья и школа» есть спрос на хорошую литературу, достиг редакции «Нового мира», Анна Семёновна позвонила мне и предложила несколько рассказов. У них они ни за что не проскочат мимо цензора, – сказала Анна Самойловна, – а у вас – кто знает! Так что не только в «Новый мир» пробивала Берзер своих авторов, но и отдавала их на сторону: лишь бы напечатали!
И ведь бывало: печатали!
Скончалась Анна Самойловна 24 октября 1994-го.
* * *
Младший брат Николая Алексеевича Полевого Ксенофонт, родившийся 1 августа 1801 года, помогал брату в издании научного и художественного журнала «Московский телеграф», где и сам печатал статьи, рецензии, переводы. Последние пять лет до закрытия (1834) фактически был главным редактором журнала.
Был менее разносторонним литератором, чем его старший брат. В основном занимался книготорговлей и редактированием изданий. Так в 1835-1844-м был главным редактором ежегодника «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей». В 1856-1864 издавал «Живописную русскую библиотеку».
Переводил с французского. В его переводе вышли многотомные мемуары герцогини Абрантес о Наполеоне. Умер 21 апреля 1967 года.
* * *
Маргарита Иосифовна Алигер выступает со стихами с 18 лет. В 1934 году поступила в созданный по инициативе Горького вечерний рабочий литературный институт, получивший его имя. Окончила институт в 1937-м. И в 1938-м была принята в Союз писателей СССР.
В так называемом первом массовом награждении писателей в 1939 году получила орден «Знак почёта». За поэму «Зоя», за которую взялась во время войны сразу же после того, как прочла о подвиге партизанки Зои Космодемьянской, получила сталинскую премию.
Но самое её крупное поэтическое достижение – поэма «Твоя победа», напечатанная в «Знамени» в 1946 году была не только ничем не награждена, но резко раскритикована партийной печатью. После войны поднимал голову государственный антисемитизм. На Алигер набросились за попытку снять нацистскую клевету с евреев, объявленных гитлеровцами недочеловеками. В дальнейшем кусок об этом из поэмы был изъят. И ходил в списках:
И, в чужом жилище руки грея, Старца я осмелилась спросить: – Кто же мы такие? – Мы – евреи! Как ты смела это позабыть?! Лорелея – девушка на Рейне, Светлых струй зелёный полусон. В чём мы виноваты, Генрих Гейне? Чем не угодил им Мендельсон? Я спрошу и Маркса, и Эйнштайна, Что великой мудростью сильны, – Может, им открылась эта тайна Нашей перед вечностью вины? Светлые полотна Левитана - Нежное свечение берёз, Чарли Чаплин с белого экрана - Вы ответьте мне на мой вопрос! Разве всё, чем были мы богаты, Мы не роздали без лишних слов? Чем же мы пред миром виноваты, Эренбург, Багрицкий и Светлов? Жили щедро, не щадя талантов, Не жалея лучших сил души. Я спрошу врачей и музыкантов, Тружеников малых и больших. И потомков храбрых Маккавеев, Кровных сыновей своих отцов, - Тысячи воюющих евреев - Русских командиров и бойцов: Отвечайте мне во имя чести Племени, гонимого в веках: Сколько нас, евреев, средь безвестных Воинов, погибнувших в боях? И как вечный запах униженья, Причитанья матерей и жён: В смертных лагерях уничтоженья Наш народ расстрелян и сожжён! Танками раздавленные дети, этикетка «Jud» и кличка «жид». Нас уже почти что нет на свете, Нас уже ничто не оживит… Мы – евреи. – Сколько в этом слове Горечи и беспокойных лет. Я не знаю, есть ли голос крови, Знаю только: есть у крови цвет… Этим цветом землю обагрила Сволочь, заклеймённая в веках, И людская кровь заговорила В смертный час на разных языках…Больше Сталин ничем Маргариту Иосифовну не награждал. А после его смерти Алигер стала членом редколлегии возникшего в хрущёвскую оттепель московского альманаха «Литературная Москва». Уже сам подбор авторов не понравился скрытым сталинистам, которые сумели убедить Хрущёва в злонамеренной идейной порочности составителей. Набор третьего выпуска альманаха рассыпали. «Мне как секретарю ЦК коммунистической партии, – сказал Хрущёв на приснопамятной встрече с интеллигенцией 1962 года, – куда ближе позиция беспартийного Соболева, чем члена партии Алигер». Соболев немедленно оказался в любимцах. Под него создали Союз писателей РСФСР, с которого начался разгром талантливой литературы. А партийную Алигер принудили покаяться: «Мне подчас свойственна подмена политических категорий категориями морально-этическими. Мне не хватало разностороннего политического чутья, умения охватить широкий круг явлений, имеющих непосредственное и прямое отношение к нашей работе». Вот, оказывается, в чём страшная ошибка, которую может совершить коммунист: он ставит человеческую совесть над партийной догмой!
Алигер была несколько раз замужем, имела детей. Но судьба распорядилось так, что она пережила и мужей, и детей. 1 августа 1992 года совсем неподалёку от своей переделкинской дачи она упала в канаву и захлебнулась (родилась 7 октября 1915 года).
* * *
Поначалу Михаил Никифорович Катков был либералом, автором журнала «Отечественные записки». Но недолго. Сперва он ссорится с Белинским, потом с Бакуниным. Уезжает слушать лекции в Берлинский университет. Там увлекается философией Шеллинга, знакомится с самим философом. И возвращается в Россию убеждённым сторонником славянофильских концепций.
Особенно усиливаются его патриотические консервативные воззрения в годы польского восстания (1963-1964). В это время был он редактором журнала «Русский Вестник» и выступал с горячими публицистическими статьями в специальном разделе журнала «Современная летопись», в короткое время став одним из влиятельных публицистов России.
Нет, против реформ Александра II он поначалу не выступал. Поддерживал реформы. Даже инициировал реформы в сфере просвещения, введя в российское образование столь нелюбимое прежним императором Николаем изучение классических древностей.
Но и впереди реформ, так сказать, не бежал. Его консервативное издание потихонечку начало критиковать и реформы Александра – в тот момент, когда в них разочаровался и император. А уж в следующее царствование Катков и руководимая им газета «Московские ведомости» стала почти официальным правительственным рупором: Катков сосредотачивается на борьбе с министрами иноязычного происхождения. Нельзя сказать, что Третий Александр всегда оказывался на стороне Каткова, но в большинстве случаев император публициста поддерживал. Их охлаждение было вызвано клеветой: Каткову приписали авторство письма президенту Палаты депутатов Франции Шарлю Флоке, который приятельствовал с всесильным при Александре III Победоносцевым. Автор письма, критикуя Флоке, метил в Победоносцева.
Этот скандал разразился перед смертью Каткова, случившейся 1 августа 1887 года. Уже к этому времени Катков (родился 13 ноября 1818 года) сумел оправдаться, вернул себе симпатии Победоносцева, а император признал наличие клеветы, возведённой на Каткова сразу же после его смерти, распорядившись похоронить его по самому высокому сановному разряду.
Впрочем, с 1882 года Катков носил гражданский чин III класса тайного советника, который соответствовал генерал-лейтенанту в военном ведомстве.
Интересно ли читать сейчас Каткова? Кому как. Меня, к примеру, его публицистика раздражает. Зато его работа «Пушкин», опубликованная ещё в 1856 году, для меня, пушкиниста, не утратила своего значения и поныне.
* * *
Евгений Адамович Суворов так и не обрёл всесоюзной известности, хотя предисловие (очень хвалебное) к его повести «Совка» написал Валентин Распутин.
Считается, что Суворов – из их поколения – Распутина, Вампилова, Машкина. То есть, формально он, конечно, их ровесник. И приобрёл известность в Сибири, в Иркутске, где он работал в газетах, на областном радио. Да и родился он в Иркутской области.
Но, увы.
За пределы своего региона не вышел. Написал немало. Его книги издавались и в Москве. А рассказы и повести печатались не только в журналах «Сибирь» или «Байкал», но и в «Новом мире», и в «Молодой гвардии».
Говорят, что его творчество хвалил Виктор Астафьев. Может быть. Но не Астафьев произнёс это похвальное слово: «В художественном осмыслении крестьянской действительности Евгений Суворов пошёл дальше многих, пишущих о деревне, то есть открыл такие её глубинные пласты, которых недостаточно смело, а то и вовсе не касалось писательское перо». Это из рецензии небезызвестного сервильного критика Николая Федя, который, кстати, не стал утруждать себя доказательством своей высокой оценки. Вот и некий апологетик творчества писателя подтверждает: «Авторами рецензий на книги Суворова становились ведущие критики страны: Н. Федь, В. Дробышев, Н. Антипьев, А. Панков, Н. Котенко и ряд других». Мне известны эти фамилии. Ведущими критиками они не были. Но ведущими в журналах «Молодая гвардия» или «Наш современник», наверное, их признать можно. А вот довериться их оценке затруднительно!
Умер Евгений Адамович 1 августа 2009 года (родился 30 октября 1934-го).
2 АВГУСТА
Вот писатель, по существу повторивший судьбу многих.
Блистательное начало. Книга рассказов о Первой Мировой «Шестой стрелковый», вышедшая в 1922 году в Петербурге. Ею заявил о себе один из «серапионовых братьев» – Михаил Леонидович Слонимский, родившийся 2 августа 1897 года и ставший в ряд с братьями по одной из самых талантливых литературных групп – М.Зощенко, Л. Лунцем, К. Фединым, В. Кавериным, Н. Тихоновым, Е. Полонской.
Критика набросилась на книгу рассказов участника Первой Мировой, обвиняя их в фатализме. Да, герои Слонимского часто гибнут, сходят с ума. Писатель, кажется, не видит выхода из этого кровавого ужаса будней. Но психологичность героев Слонимского несомненна. Ритм прозы стремится передать ощущение надвигающегося хаоса.
Однако уже его роман «Лавровы» (первая редакция, 1926 год) начинает обретать черты, которые как бы расходятся с прежней импульсивной прозой: появляется осторожная взвешенность оценок.
Впрочем, это пока только касается «Лавровых». Потому что повесть «Средний проспект» (1927), «Заповедники» (1929), наконец, роман «Фома Клешнёв» написаны в прежней манере «серапионова брата», умеющего воссоздать жизнь во всех своих красках и проявлениях.
Не случайно Слонимский принял участие в 1927 году в коллективной игре – написании «огоньковцами» коллективного романа «Большие пожары».
Но и не случайно, что сразу же после войны Слонимский испытал потребность уже к 1949 году существенно переработать свой роман «Лавровы», который сближался по эстетике с обычными вялыми книгами социалистического реализма.
В дальнейшем он напишет трилогию – романы «Инженеры» (1950», «Друзьям» (1954) и «Ровесники века» (1959). Но первые два романа уж очень отчётливо обрисовали установку писателя – на получение сталинской премии. А третий, появившийся уже после смерти тирана, на премию его имени претендовать, разумеется, не мог. Слонимский попытался в нём подытожить свою трилогию и художественно это сделать не смог: соцреализм никаких, кроме надуманных, итогов, не признавал.
К чести Слонимского, умершего 8 октября 1972 года, он сумел написать и опубликовать «Книгу воспоминаний», где блеснул мастерским искусством портрета. Поэтому тем, кто хотел бы узнать побольше о Леониде Лунце или о Михаиле Зощенко, я эту книгу очень рекомендую.
* * *
Хотя Илья Александрович Груздев, родившийся 2 августа 1892 года, был активным участником группы «серапионовых братьев», он оставил не слишком большую память об этом – написал статью «Лицо и маска», занялся было творчеством Михаила Зощенко.
Но уже в 1926 году выпустил книгу «Жизнь и приключения Максима Горького» и в дальнейшем полностью переключился на творчество этого писателя. Состоял с ним в переписке (с 1925 по 1936 год Груздев обменялся с Горьким более двумястами писем), издал после войны – в 1946-м книгу «Горький».
И увенчал эти свои занятия жэзеэловской книгой «Горький», вышедшей в 1958 году за два года до смерти автора – 11 декабря 1960 года.
* * *
Виктор Максимович Жирмунский, родившийся 2 августа 1891 года, крупнейший филолог, академик АН СССР, не раз подвергался обструкции властей.
Основоположник советской германистики, он был приговорён в 1933-м к высылке за диалектологические обследования немецких колоний в Украине. Вновь арестован в 1935-м. Отпущен. Но в 1941-м он, германист, был арестован за то, что посвятил себя изучению искусства врага. Беспорядочное бегство населения привело к тому, что в тюрьме его держать не стали. В годы борьбы с космополитизмом Жирмунский (1949) был обвинён в формализме и узбекском буржуазном национализме. За что был изгнан из Ленинградского университета и лишён возможности заниматься научной работой в ИРЛИ (Пушкинском доме). И это притом, что был он в это время не каким-нибудь начинающим, а всемирно известным учёным, членом-корреспондентом АН СССР (1939).
Его научные открытия не ограничиваются германистикой. Его лингвистические работы предвосхитили своими выводами основные положения теории «грамматикализации», получившей распространение в конце XX века. Его литературоведческие работы обогатили науку изучением германско-русских связей. И не только. Он занимался изучением Байрона и его влиянием на поэтов пушкинской школы. Он изучал эпический цикл тюрских народов «Сорок богатырей», чьи герои были реальными лицами знати Ногайской орды. Таким образом он внёс не только вклад в литературоведение малого народа, но и в изучение истории Ногайской орды.
Учеников Жирмунского, скончавшегося 31 января 1971 года, много. Его школа обширна. У меня лично его книги «Сравнительное литературоведение. Восток и Запад» и «Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы» являются настольными.
* * *
Ну что сказать о Дмитрии Сергеевичем Мережковском, рождённом 2 августа 1865 года, одном из основателей русского символизма, теоретике литературы, её критике, писателе, который 8 раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе?
Что ему её не дали, мне кажется справедливым. Наиболее близок был Мережковский к её получению в 1933-м. Но лауреатом оказался Бунин, литератор намного выше Мережковского по так называемому «гамбургскому счёту».
Любопытно, что Мережковский был знаком даже с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, хорошей знакомой Пушкина, из-за которой у Пушкина не заладилась служба с Воронцовым. Старая княгиня (а мы помним, что Николай в 1852 году возвёл главнокомандующего Кавказской армией Воронцова из графов в князья) хорошо отозвалась о поэтических опытах юноши, что, конечно, мало что значило: Воронцова в законодательницах литературных мод не ходила.
Достоевский же, к которому тоже привёл сына отец Мережковского, его стихов категорически не одобрил.
Что ещё? Мережковский увлёкся философией позитивизма, разделял одно время идеи народничества. В 1888 году он предпринял путешествие по югу России, в Боржоми познакомился с девятнадцатилетней Зинаидой Гиппиус, с которой в январе 1899-го обвенчался.
С П.В. Философовым, сотрудником журнала «Мир искусств» семья познакомилась в Италии. Втроём они принимали участие в русско-философских собраниях Петербурга. Мережковский стал инициатором создания журнала «Русский путь», поставив в 1904 году во главе его Философова. С 1906 по 1908 год семья Мережковских и Философов жили в Париже. Вернулись в разгар революционных событий в Россию, где поддержали Керенского и отвергли Советскую власть.
Из голодного Петербурга в декабре 1919 выбрались под видом чтения лекций и в конце концов оказались в Польше. Гиппиус и Мережковский, разочарованные заключением Польши с Россией мирного договора, уехали в Париж, а Философов навсегда остался в Польше.
Надо сказать, что самому Мережковскому был присущ весьма трезвый взгляд на жизнь. Его статья «Грядущий Хам», появившаяся после революции 1905 года не устарела поныне. Хамство в России по Мережковскому имеет три лица: в прошлом это лицо церкви, воздающей кесарю Божье. Настоящее – это лицо бюрократической машины самодержавного государства. А будущее – самое страшное: «лицо хамства, идущего снизу, – хулиганства, босячества, чёрной сотни».
Ну, а что до его творчества, то он писал много, выступал в разных жанрах и уже в 1913 году выпустил 13-томное собрание сочинений. Через год – новое собрание в 24 томах, которое и выдвигается впервые на соискание Нобелевской премии.
Много можно ещё говорить о заграничной жизни Мережковских, до конца не смирившихся с большевизмом, об увлечении Мережковского итальянским диктатором Муссолини, и о разочаровании в нём. Наконец, о патологической ненависти Мережковского и Гиппиус к нацизму. О том, что скончался Мережковский 25 февраля 1945 года, не дожив несколько месяцев до победы.
У меня нет любимых произведений Мережковского. Его стихи, проза, драмы представляются мне головными, не идущими от сердца. Хотя, понимаю, что для кого-то они обозначали новое направление, новый путь, о чём неоднократно извещалось в прессе.
* * *
Юра Коваль – один из чистых, честных и прелестных людей, которых я знал. У него были золотые руки, поэтому он мог прожить, где угодно: у какой-нибудь бабки в безлюдной деревне, а то и вовсе без кого-либо, набредя на брошенные людьми дома. Ружьё, удочка, очень ладный рюкзак, где каждая вещь знала своё место. Прекрасная ориентировка на местности, удивительное умение сразу выйти на засыпанные ягодами поляны или на не слишком скрывающуюся от человеческого взгляда грибную россыпь.
К тому же – подчеркну – это не подмосковные места, а север, где заблудиться может и опытный человек. Юра, по-моему, никогда не блуждал. Всегда выходил на дорогу.
Немудрено, что его любили. Он очень много знал. И умел делиться этими знаниями с детьми. Им было с ним интересно. Поэтому он стал популярным детским писателем.
Он кончил педагогический институт имени Ленина в счастливое время: вместе с ним учились Юрий Визбор, Юлий Ким, Ада Якушева, Юрий Ряшенцев. В институтской газете он напечатал первые свои рассказы и свои первые рисунки, потому что параллельно с филологическим Коваль ходил на факультет живописи и графики, став ещё и очень интересным профессиональным художником.
После института он был послан в сельскую школу в Татарии. Ученики его любили. И он любил учеников. Придумывал для них необходимые и полезные вещи. Например – такая стихотворная иллюстрация на правописание шипящих:
На полу сидела мышь. Вдруг вбегает грозный муж, И, схватив огромный нож, К мыши он ползёт, как уж.Это – случайно оставшееся свидетельство его игры с детьми. А сколько таких, увы, не сохранилось. Как не сохранились многие рисунки Юры. Он мог рисовать, а потом оставлять их на столе.
В Москве он познакомился с чудесным человеком Юрием Осиповичем Домбровским. Домбровскому так понравился рассказ Коваля «Октябрьские скоро», что он вызвался пробить в журнал «Новый мир» Твардовского этот, как он назвал рассказ, «жёсткий рентген». Публикации не случилось. А Коваль по этому поводу писал, что ему кажется: он выпадает из какой-то общей струи. Наверное, это было так. Редакции никак не понимали, на какую аудиторию рассчитана проза Юрия Иосифовича.
И всё-таки его повести о Васе Куролесове были, наконец, изданы и даже премированы. Их переводили на другие языки.
А с «Недопёска» началась экранизация. Трилогия о Васе Куролесове вобрали в себя рассказы отца Юрия Иосифовича, милиционера. А «Полынные сказки» основаны на деревенских рассказах матери Коваля. Они в 1978 году получили первую премию, выдвигались на государственную.
Мне думается, что лучшим его произведением является «Суер-Выер», который Юрий Иосифович заканчивает незадолго до смерти, случившейся 2 августа 1995 года.
Он умер от инфаркта так быстро и неправдоподобно, что многие шли на похороны, не совсем даже веря в эту смерть. Его преданная подруга, Танечка Бек написала:
«Прощевайте!», …Тем не менее, Кланяюсь тебе, Земля, Тихо уходя под пение (С неба) Юры Коваля.Да, так и неясно, кто от кого ушёл: Юра Коваль от нас или мы от Юры? В любом случае – горько!
3 АВГУСТА
В одной из книг моего недавно скончавшегося товарища Бенедикта Сарнова воспроизведён один из секретарей Союза писателей РСФСР. Он не зол, не чванлив не свиреп. Держится на людях вежливо. Даже, быть может, говоря с вами, слегка заискивает. Но это вам может только показаться. Во всяком случае, голос на вас никогда не повысит. И вашу просьбу, если это в его компетенции, исполнит охотно.
Сарнов встретил его незадолго до обрушения союзов. «Я хочу умереть при них, – сказал Бену секретарь, показывая на президиум. – Понимаешь? Я хочу умереть при них.
– А чего вы, Бен, его не назвали? – удивился я.
– Ну, – сказал Бен, – не хотелось его подводить. Ведь он тогда ещё не уехал.
– Хотел бы я посмотреть, с кем бы он остался! – усмехнулся я. – Вон даже Суровцев и Верченко не пошли в этот поганый союз.
– Ну, этим легче, – сказал Бен. – Они не евреи.
Да, Анатолий Георгиевич Алексин, всю свою жизнь поставивший на Михалкова, бывший при нём, как шестёрка при пахане, – и денщиком, и заботливой нянькой, и весьма толковым делопроизводителем, недаром держался за Сергея Владимировича обеими руками. Вся его сытая номенклатурная секретарская жизнь держалась на этой связи. Надорви он её, и Алексин полетит в пропасть, как сказочный герой, согласившийся прилечь на диван коварной бабы-яги.
Как же выпутался Алексин? Он придумал беспроигрышную ситуацию.
У него якобы обнаружили рак. В России, как известно, такие операции бесполезны. Зато можно попробовать сделать в Израиле.
То есть он не собрался перебраться на историческую родину. Нет, он едет ровно настолько, насколько это потребуется врачам. И, разумеется, сразу же вернётся. Читатели-то его остаются здесь. Он это хорошо понимает.
Он уехал в Израиль в 1993 году. Больше двадцати лет назад. В 2013-м они с женой переехали в Люксембург. Воссоединились с дочерью.
Что ж, молодец. Нашёл выход из патовой ситуации. А ведь работал в михалковском секретариате РСФСР 19 лет (1970-1988). Да до этого у того же Михалкова 5 лет в московском секретариате Союза (1965-1970). И там и там возглавлял секцию детской и юношеской литературы. А ещё задолго до этого – в 1955-м был приглашён Валентином Катаевым в редколлегию журнала «Юность». Конечно, совсем не обязательно, что и тут сыграла свою роль связь с Михалковым. Но она, несомненно, была установлена. А иначе, почему бы Алексин стал самым активным автором «Юности», печатался в ней каждый год? Он же не Гладилин и не Аксёнов – не автор так называемой «молодёжной повести», на которую клюнули подписчики. Нет, его рассказы и повести правильны, как проверенный диктант. Такие же произведения печатает в «Юности» и Агния Кузнецова «Жизнь зовёт» (1957), «Честное комсомольское» (1958), «Много на земле дорог» (1961), «Мы из Коршуна» (1966), «Ночевала тучка золотая» (1970).
Мог бы, наверное, хитрый прожжённый лис Валентин Катаев оставить в авторах одну только Агнию Кузнецову, которую не печатать было уж никак нельзя: ведь этим псевдонимом прикрылась Агния Александровна Маркова, жена всемогущего первого секретаря Союза писателей СССР. Но для чего ему было бы отказываться от авторства Алексина? С первой же повести «Записки Эльвиры», которую опубликовал в 6 номере журнала 1956 года, Катаев получает дивиденды не в виде увеличения подписки, а в виде того, что для него куда важнее, – поддержки печати: «Литературная газета» отзывается статьёй «Обличение мещанства», Лев Абрамович Кассиль выступает с большой статьей в «Советской культуре «Мамина дочка встаёт на ноги…». Да и через три года на экраны страны выйдет фильм «Я к вам пишу» по мотивам всё той же повести Алексина.
К тому же Валентин Петрович наверняка понимал, что член редколлегии журнала «Юность» Анатолий Алексин наверняка укрепляет связи с Агнией Кузнецовой. Понимал и даже помогал плести кокон, который упелёнывал детскую и юношескую литературу. Что ж, групповщина, групповая порука всегда была свойственна советской литературе. Попав в группу Михалкова, Алексин сделал всё, чтобы отхватить полагающиеся ему презенты. Так стал он членом-корреспондентом Академии педагогических наук. Получил Госпремию СССР и России. И, кстати, международные премии в тех фондах, которые были связаны с советскими писателями. Награждён орденом Ленина и двумя Трудового Красного Знамени. Внесён в Почётный список Г.Х. Андерсена. И даже туда в Израиль передали ему медаль Пушкина, которой наградил его президент Путин.
Так что же, может возвращаться? Не так всё просто. В Израиле он на свои прежние номенклатурные должности не нажимает. И о комсомольских повестях не сообщает. Наоборот. Вышла «Сага о Певзнерах» – роман-хроника о судьбах еврейской семьи в России, книга воспоминаний «Перелистывая годы», наконец, – в соавторстве с женой сборник документальных рассказов «Террор на пороге».
90 лет. Почему-то в связи с этим привязались две строчки стихотворения, некогда напечатанные Катаевым в «Юности»:
Хорошо, старик, сохранился! Хорошо, старик, схоронился!* * *
Ах, Володя Бондаренко, некогда мой знакомец! Не покраснел, когда написал в 2013 году по случаю юбилея Владимира Николаевича Ганичева, родившегося 3 августа 1933 года:
«Я помню, когда Ганичева с шумом снимали за его русский патриотизм с поста главного редактора «Комсомольской правды», по важности третьей газеты огромного Советского Союза, на планерке в журнале «Октябрь», где я тогда работал в отделе критики, явный русофоб и бездарный писака Анатолий Ананьев радостно потирал руки: «Наконец-то скинули этого националиста, а не утихнет, мы и с «Роман-газеты» его турнём».
В писательской среде разнёсся слух: скинули за то, что с лёгкой руки первого космонавта, доброго знакомого Ганичева, Юрия Гагарина о нём заговорили как о ведущем идеологе страны, о возможном преемнике генсека. Вот и убрали от греха подальше. Не думаю, что слух был достоверный, враги и распускали.
Дело было не в каких-то личных амбициях Валерия Николаевича. Дело было прежде всего в последовательном державном духе проводимой им в главной молодёжной газете страны политики. В его непривычной для коридоров Старой площади русскости».
Ну, можно ли так перевирать факты? Ганичева скинули с поста главного редактора «Комсомолки» в 1980 году, а Юрий Гагарин погиб в 1968-м. Какие, однако, глупые враги распускали слухи! Да и с чего бы Гагарин определил функционеру ЦК ВЛКСМ, как раз в 1968-м назначенному директором издательства «Молодая гвардия», должность генсека? Кто вообще так далеко загадывает?
Другое дело, что в том же 1968 году Первым секретарём ЦК ВЛКСМ избирается бывший секретарь Челябинского обкома партии Евгений Михайлович Тяжельников, ставший видным представителем так называемой «Русской партии».
На этом посту он развернулся. Назначил не только Ганичева директором «Молодой гвардии», но и знаменитого русопята Сергея Семанова заведующим в этом издательстве редакцией ЖЗЛ. Отныне редакция перестала выпускать объективные биографии писателей, а стала – сугубо субъективные, непременно подчёркивая (если оно, конечно, было) юдофобство и великорусское чванство. После скандала с одной из книг серии ЖЗЛ Тяжельников перевёл Семанова главным редактором журнала «Человек и закон», который тот сделал таким антижидовским журналом, что по записке Андропова в политбюро Семанова пришлось в 1981 году гнать оттуда. Но это уже было, когда Тяжельников занимал очень крупный пост – заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС (1977-1982).
Став заведующим, Тяжельников переводит в 1978 году Ганичева главным редактором «Комсомольской правды». Здесь Ганичев разворачивается. Выгоняет из редакции мало-мальски приличных журналистов, лучшие из которых пришли работать к нам в «Литературную газету». Набирает лимитчиков, благо у Ганичева на руках пачка ордеров на московские квартиры. Членами редколлегии, а то и просто рядовыми сотрудниками назначаются лично преданные Ганичеву, духовно близкие ему бывшие провинциалы.
Но здесь нам придётся ввести в повествование ещё одну фигуру – Юрия Серафимовича Мелентьева. Он недолго предшествовал Ганичеву на посту директора «Молодой гвардии» и был взят в Отдел культуры ЦК КПСС. В 1968 году добился публикации в нашей «Литературной газете» письма, осудившего стихотворение Олега Чухонцева «Послание о Курбском», напечатанное в «Юности». Мелентьев (под псевдонимом некоего историка), доказывал, что Чухонцев не о Курбском пишет, а о генерале Власове, которому сочувствует. Поначалу наверху это понравилось, и Мелентьева назначили замом заведующего отделом ЦК. Он много помог Тяжельникову и другим своим союзникам в расстановке кадров в печати и в идеологических ведомостях.
Но аппетит приходит во время еды. Мелентьев настолько привык к тому, что на любой его чих спешили наздравствоваться, что потерял осторожность. Написал в 1974 году лично Брежневу служебную записку о засилии сионистов в партийных и государственных кадрах. Рассказывали, что Брежнев, поставив на ней знак вопроса, переслал её Суслову. А тот, посоветовавшись с Андроповым, выгнал Мелентьева из партийного аппарата. Друзья смогли добиться для него весьма второстепенной должности министра культуры РСФСР.
Но Суслов с Андроповым не только прогнали Мелентьева. Оба послеживали и за Тяжельниковым, которого Суслов в конце концов обвинил в нарушении принципов интернационализма, обязательного для коммуниста.
Вот когда на улице «Русской партии» настали чёрные дни. Выгнали из главредов «Комсомолки» Ганичева и устроили главным в тихо прозябающую «Роман-газету». Погнали из ЦК и Тяжельникова, назначив послом в Румынию, где царствовал непокорный Чаушеску и где возможности Тяжельникова влиять на политику государства равнялись нулю. Сразу же после падения режима Чаушеску Тяжельников был отправлен в отставку.
А Ганичеву сказочно повезло с перестройкой и с распадом Союза писателей. Как сказал о распаде известный ещё в хрущёвские времена своим зоологическим антисемитизмом романист Иван Шевцов: «Он раскололся на две группы: русскую, патриотическую, и русскоязычную, космополитическую».
Ну, против того, чтобы называть тот союз, где я состою, русскоязычным, возразить нечего: действительно все его члены пишут на русском языке. А вот чохом объявлять его космополитическим я бы не стал: разные входят туда люди, в том числе и те, кто грезит, как писал Пушкин, «о временах грядущих»: «Когда народы, распри позабыв, / В единую семью соединятся».
Что же до «русского, патриотического», то Валерий Николаевич Ганичев возглавляет его уже больше двух десятилетий. Но он не только его председатель, он заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, заместитель Председателя Всероссийского общества охраны памятников и бывший член Общественной палаты РФ. Прежде писательством не занимался, хотя к мастерам слова, работая в комсомоле, тянулся. И в Николаевском обкоме, и в ЦК, и в журнале «Молодая гвардия», и в одноимённом издательстве, и на посту главного редактора «Комсомольской правды», о чём я уже писал. В то время, вспоминает Валерий Николаевич в интервью газете коренных малочисленных народов Севера «Илкэн» (2003, № 8 (43), август), он «стал задумываться о том, что это такое за явление – молодёжная пресса, в том числе и зарубежная. И постепенно, набирая материал, в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978-м – докторскую на ту же тему». «С этих исследований было положено начало школы изучения молодёжной прессы, – добавляет Ганичев. – Потом по этой теме было защищено более 20 диссертаций». То есть, не скромничает – рубит правду-матку о себе: проторил своими диссертациями дорогу целому направлению по изучению комсомольской прессы! Основал школу! Воспитал учеников и последователей! А для чего ему скромничать, если партия удостоверила его огромные заслуги – наградила орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями. Да, было время, когда комсомольский функционер, не щадя, так сказать, живота, боролся за коммунистические идеалы. А в поднесённом ему писателями адресе по случаю его семидесятилетия о коммунистической партии и о ленинском комсомоле ни слова: «Мы прекрасно понимаем, как трудно быть подвижником Православия и Патриотизма, сколь нелегок подвиг служения русской литературе, и, сознавая это, благодарны Вам за Вашу верность и неизменную преданность общим идеалам возрождения русского общества во всех исторических составляющих».
Лесть начальнику простительна. Особенно учитывая, что он является сопредседателем жюри многих литературных премий и наград. Но в данном случае лестные для Ганичева слова подкреплены церковными наградами – орденами преподобного Сергия Радонежского II степени и св. благоверного князя Владимира II степени. Удивляться этому тоже не будем, если подсчитаем, сколько дипломов, грамот и премий получили из рук Ганичева высшие церковные иерархи. Ганичев не скупится и епископат не скупится. Охотно преклонял ухо к Ганичеву как к своему заместителю Глава Всемирного Русского Народного Собора патриарх Алексий II, который поддержал его ходатайство канонизировать русского флотоводца Фёдора Ушакова как святого.
Ушаков – одна из центральных фигур творчества Валерия Николаевича. Поэтому можно понять его удовольствие, которое он засвидетельствовал на сайте Союза писателей России в дневниковой записи от 7 марта 2003 года, слушая выступающих на конференции Арзамаского педагогического института:
«Следующий день был Ушаковский. Большая аудитория заполнена студентами, и первый доклад то ли по романам В. Ганичева «Росс непобедимый», «Флотовождь», «Святой и праведный адмирал Ушаков», то ли по жизни, подвигам, святому служению Ушакова делала размашистыми мазками, касаясь исторического фона, особенностей стиля автора романов, возвышенных качеств характера адмирала, Светлана Ивановна, преподаватель филфака. А за ней представили XVIII век её студентки».
Удовольствие, стало быть, двойное. И от того, что говорят об Ушакове, и от того, что говорят об Ушакове в освящении писателя Ганичева.
Разумеется, любому автору любопытно услышать, как понимают «особенности его стиля» другие. «Размашистые мазки» не лучший, правда, способ постичь стилевые особенности, но, как замечал когда-то Евгений Винокуров, «не важно, как говорят, важно, что хвалят».
А хвалили, судя по записи, не скупясь:
«Доклады были обстоятельны, анализ тщательный, факты выверены. Всё перемежалось биографическими подробностями. Некоторые из них я уже успел позабыть, но студенты нашли их в различных моих интервью, беседах.
Поблагодарил за хорошее знание истории, за то, что прочитали романы, поняли смысл, вывели ушаковскую составляющую».
Что такое «ушаковская составляющая» в художественном тексте, мне не совсем ясно, но трудно, конечно, удержаться, чтоб у тебя от таких похвал не вскружилась голова! Тем более, если ты сопредседатель жюри по присуждению Большой литературной премии России. Кому же её давать, как не тем, у кого отслеживают даже биографические подробности? Понятно поэтому, что именно первой степенью этой премии наградил Ганичев собственные романы «Росс непобедимый», «Адмирал Ушаков» и повесть «Дорожник».
А «Росс непобедимый» получил ещё и премию С. Аксакова. А ещё удостоили Ганичева премией «Прохоровское поле». Деньги, конечно, не Бог весть какие большие – премия региональная, белгородская. Но считается почётной: на её вручении кого только не увидишь – и бывших политиков, например, Николая Ивановича Рыжкова, и нынешних, к примеру, Сергея Михайловича Миронова. Словом, столько пришлось мне читать похвальных слов писателю Ганичеву, что в конце концов они меня заинтриговали. Как говорится, все хвалят, а я не читал. Открыл роман «Адмирал Ушаков», прочитал первый абзац и застыл ошарашенный:
«На берегу реки Мокши сидел старый человек в морском мундире. Последние предосенние прозрачнокрылые стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потёртые эполеты, передыхали и вспархивали, когда человек шевелился. Ему было душно, он расслаблял рукой расстёгнутый воротник и, глубоко вздохнув, замирал, вглядывался слезящимися глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. Что виделось ему в этом мелководье? Что прозревал он сквозь наплывавшую влагу? О чём думал? Может быть, и ни о чём. Казалось, его мысли не нужны были никому. Ни этим густобородым монахам из Санаксарского монастыря, ни улыбчивым робким крестьянам, ни плотным соседским помещикам, с почтением раскланивающимся с неразговорчивым стариком. Им были далеки его думы. А он и не выстраивал их в ряд, не готовил к передаче потомкам, не хранил откровения в потаённых уголках, постепенно растворяя во времени драгоценные и неповторимые открытия, стирая в памяти известные только ему пути и ходы в сложной шахматной игре воинской морской жизни».
Можно ли что-нибудь понять из этого вязко-рассудительного повествования? Думал ли о чём-нибудь этот «старый человек в морском мундире» или всё-таки не думал? А если ни о чём не думал, то о каких мыслях идёт речь? Кому в таком случае они могут понадобиться или не понадобиться? А с другой стороны, мыслей (или дум) у него, оказывается, было много. Но он не хотел их выстраивать (почему?), не готовился их передать потомкам (почему?) И сколько времени ему пришлось провести на берегу реки, чтобы растворить в нём («во времени») все свои драгоценные и неповторимые открытия? И может ли человек, аки компьютер, стереть в памяти некие «ходы в сложной шахматной игре воинской морской жизни»? Как тут не вспомнить Зощенко: «Чего хотел сказать автор этой художественной прозой?»
Возразят, можно ли судить о манере художника по одному абзацу? «Да возьмите вы любых пять страниц из его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем», – горячился герой Булгакова. А в данном случае и пяти страниц не надо. Уже первый абзац выдаёт, что мы имеем дело не с писателем, а с писателем по удостоверению. Как шутили раньше, он же не писатель, он член Союза писателей. А в данном случае – его председатель.
Так что прав оказался И.М. Шевцов, отказавшийся считать свой союз русскоязычным. Уж коль скоро сам его председатель в таких напряжённых отношениях с русским языком…
А вот насчёт того, что ганичевский союз «патриотический», то Шевцов и не скрывает, что вкладывает в это понятие. В том бывшем Союзе писателей, который долго отказывал Шевцову в приёме, доминировала, как он пишет ненавистная ему «просионистская» группировка. Она, дескать, вечно ставила ему палки в колёса, встречала его «патриотические» романы злобной критикой.
Ах, до чего ненадёжна стариковская память! Помнит Шевцов, к примеру, о фельетоне Зиновия Паперного, но забыл, чем он заканчивался. А заканчивался он искренним удивлением фельетониста, что роман «Тля», который выдаёт весьма поверхностное представление Шевцова о природе и смысле живописи, предваряет восторженное слово художника Александра Ивановича Лактионова. «Если б обнаружилось, что не читал Лактионов этого романа, – примерно такой была конечная фраза фельетона, – мы бы этому не удивились». И ведь обнаружилось! В следующем же номере «Литературной газеты» было напечатано письмо Лактионова, где Александр Иванович засвидетельствовал: конечно, он романа не читал! Предисловие написал сам Шевцов, а он, Лактионов, подписал его по дружбе!
Не одни, стало быть, «сионисты» (читай: евреи!) травили русского писателя. Порой от его книг и друзья открещивались, как чёрт от ладана.
А Ганичева осыпали звёздами. Его даже за интервью, которое он дал руководителю пресс-центра своего союза, наградили лауреатством. А то, что его наградила «одна из самых популярных американских русскоязычных газет «Русская Америка» (впервые о такой слышу!), по мнению ганичевского пресс-центра, «ещё двадцать лет назад вызвало бы реакцию однозначную – осуждение общим собранием коммунистов с последующим исключением имярек из рядов…» Исключили бы, конечно. Да только вряд ли двадцать лет назад коммунист-функционер Ганичев захотел бы связываться, пусть и с русскоязычной, но всё же американской газетой! Разве только с такой, с какой позволено было иметь дело. Похоже, что «Русская Америка» – как раз из тех. Не осведомлена даже, что обычно гонорар за интервью платят тому, кто его берёт, а не тому, кто его даёт. (Бывают, конечно, исключения, но для мегазвёзд, к которым многократный академик и бывший член Общественной палаты всё-таки не относится.) И, стало быть, перепутала газета адресатов, вручая свой диплом лауреата!
Ах, какие они сейчас все храбрые – антибольшевистские, антисоветские! Забыли, кому писал Солженицын в день исключения его из Союза писателей? «Посмотрите циферблаты! – ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси! – вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это – не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией».
Ничего, конечно, они не забыли. Просто понапрасну понадеялся Александр Исаевич на их страх перед историей. Попугались, конечно, не без этого. Но не истории, а сиюминутного настоящего. А когда выяснилось, что ничто им не угрожает, занялись тем же, чем и прежде занимались. Занимаются, надо отдать им должное, весьма успешно.
* * *
Наверное, ни в ком в жизни я не испытал такого разочарования, как в Александре Исаевиче Солженицыне.
Разочарование началось с его «Телёнка», которого я прочитал в самиздате и поразился, как преувеличенно серьёзно, без тени иронии он к себе относится, как любой свой поступок считает освящённым Богом. К тому же, когда после перестройки были напечатаны полные стенограммы заседаний, в которых участвовал Солженицын и которые в своей записи к «Телёнку» приложил, выяснилось, что он писал не вполне добросовестно, изображая себя богатырём-одиночкой, крушащим недругов. Порой, оказывается, с ним соглашались, его даже иногда защищали, но он никому не дал о себе доброго слова сказать.
Совсем не понравилось мне его многолетнее поведение в эмиграции, её подчёркнутое от себя отделение, её записывание чохом в корыстную и антинародную, в некую Третью, то есть наследующую традиции борьбы с режимом первых двух волн эмиграции. Тем более что сам Солженицын эмигрантом себя не считал. Изгнанником, как Данте. А это совсем другое дело!
Не понравилось и возвращение в Россию – длительный переезд от Владивостока в Москву, где на каждой станции его встречали бывшие партийные власти, избранные теперь губернаторами и главами республик.
Не понравилась его дружба с Путиным, который после его смерти, случившейся 3 августа 2008 года (родился 11 декабря 1918-го), немедленно передал архив писателя, хранившийся в КГБ, его вдове. Может, ради этого и дружил Солженицын с Путиным. Мой друг, старый лагерник Марлен Кораллов находил много нестыковок в том, что сообщал о себе сам Солженицын, и мечтал поработать в его архиве. Мечтал узнать новые подробности о его фронтовой жизни. И главное – о его болезни в Экибастузе, аккурат в самое восстание заключенных, которое Солженицын провёл на больничной койке.
Мне скажут: но Наталья Дмитриевна может разрешить это сделать кому угодно у себя, в Доме русского Зарубежья. Однако я не убеждён, что она сохранила все документы, которые шли под грифом «хранить вечно». Отданные частному лицу, они предоставляют этому лицу право распоряжаться ими по своему усмотрению.
* * *
Владимира Фёдоровича Тендрякова я узнал, когда он работал членом редколлегии журнала «Наука и религия», а там в свою очередь заведовал литературой мой друг Камил Икрамов. Камил в соавторстве с Тендряковым написал пьесу «Белый флаг».
Был Камил сыном крупного партийного работника – первого секретаря ЦК Узбекистана Акмаля Икрамова, который проходил по делу правотроцкистского блока вместе с Бухариным, Рыковым и расстрелян вместе с ними. Мать Камила, бывший зам наркома земледелия, умерла в лагере. А сам Камил был в первый раз арестован в 43-м, потом после освобождения в 1951-м арестован повторно и вышел в 1956-м.
Учился он поздно в московском областном институте имени Крупской. Вместе с моими товарищами Войновичем, Полонским, Чухонцевым.
Так что, сдружившись с Камилом, Тендряков попал в круг очень интересных ему людей.
Тендряков не был похож на борца. Тем не менее подписал знаменитое письмо 1966 года 25 деятелей культуры и искусства Брежневу против реабилитации Сталина.
Правда, мой старший товарищ Бенедикт Сарнов, учившийся с Тендряковым в Литинституте, осмысливая известный факт непрощания Тендрякова с Н. Коржавиным, которого увели из общежития института солдаты МВД, не согласился с обидевшимся на это Коржавиным: «Тендряк просто не мог поступить иначе. Он был человек очень чистый, не просто наивно, а прямо-таки истово верующий в советскую власть. Когда Эмку уводили, он отвернулся от него, потому что свято верил: «У них там ошибок не бывает».
Похоже, что поначалу Тендряков так и относился к советской власти. Но недолго.
Он сперва писал очерки. Потом один из них развернул в повесть «Не ко двору», которая понравилась Валентину Овечкину и которую напечатал Твардовский в «Новом мире».
Читательскую известность принесли ему повести «Чудотворная» (1958) и «Тройка, семёрка и туз» (1962). А то, что газета «Правда» раскритиковала эти вещи, только добавило Тендрякову популярность.
После них любая появляющаяся вещь Владимира Фёдоровича неизменно оказывалась в центре общественного внимания.
Умер Тендриков внезапно от инсульта 3 августа 1984 года (родился 5 декабря 1923-го). Зацитирован отклик на эту смерть Юрия Марковича Нагибина. Поэтому приведу только конец цитаты: «Тем не менее он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не конъюнктурщик. Это серьёзная утрата для нашей скудной литературы».
Но главным подтверждением этих нагибинских слов оказались вещи, которые Тендряков писал в стол, не рассчитывая на публикацию. «Хлеб для собаки», «Пара гнедых», «Параня», «Донна Анна», «На блаженном острове коммунизма», «Охота», «Люди или нелюди» явили нам совершенно незнакомого Тендрякова, блистательного аналитика, точного диагноста, великолепного мастера слова.
4 АВГУСТА
Первый том «нивского» пятитомника Кнута Гамсуна, куда входили «Голод», «Пан» и «Мистерии», мне дал почитать отец моего школьного товарища. Не могу передать наслаждение, которое я испытал от этой прозы. Недели за две каждую из этих повестей я прочитал трижды.
А когда пошёл работать на завод, то с первой же получки обошёл букинистические. Купил всего «нивского» Гамсуна за какие-то очень смешные деньги – уж и не помню теперь: то ли полтора рубля, то ли два с полтиной за том. Было это сразу же после хрущёвской реформы, когда бутылка «московской» водки стоила 2.87, «столичной» – 3.07, а «старка» – 3.12. В среднем я, радиомонтажник, зарабатывал около 200 (иногда больше) рублей в месяц. Сказка!
Гамсуном, родившимся 4 августа 1859 года, я заболел надолго. Исключительно из-за него (норвежец) купил четырёхтомник Генрика Ибсена и «марксовские» пьесы Бьёрнсона Бьёрнстьерне.
Нет, с Гамсуном рядом я не ставил ни того, ни другого. Но представление о великих норвежцах получил.
А потом, в очередной раз перечитывая записки Гамсуна о путешествии по России, – «В сказочной стране», моё внимание привлекла фраза рассказчика о русском офицере: «Лицо у него неприятное. Еврейское» (цитирую по памяти). Я насторожился. Стал внимательней читать всё, что у меня было. Но ничего подобного больше не встретил. «Нивское» – это ведь дореволюционное издание. Однако как-то сидел в Ленинке, в читальном зале (тогда туда записывали даже старшеклассников). И в каком-то послевоенном сборнике прочитал биографию Гамсуна. От ужаса у меня зашевелились волосы на голове. Мой кумир обожал Гитлера и даже подарил Геббельсу свою Нобелевскую медаль.
Я прочитал, что во время коллаборационистской власти Квислинга читатели Гамсуна прокрадывались под забор его дачи и перекидывали гамсуновские книги, которые порой приходилось вывозить с территории грузовиками. Тем не менее Гамсун твёрдо стоял на своём: поддерживал назначенного Гитлером рейхскомиссара Норвегии Йозефа Тербовена и опирающегося на него министра-президента Норвегии Видкуна Квислинга.
Эта двойка запретила въезд в страну евреев. А норвежские евреи уже без всякого вмешательства немцев были в значительной своей части депортированы в лагеря уничтожения.
В октябре 1942 года в городе Тронхейме было совершено несколько диверсионных актов против немцев. В ответ Квислинг арестовал всех тронхеймских евреев. И переправил их в Освенцим.
Квислинг был арестован 9 мая 1945 года. Судим и расстрелян. Судили и его сторонников. В том числе, Гамсуна.
За Гамсуна просил Молотов. В конце концов Гамсун вёл себя непоследовательно. То, встретившись в 1943 году с Гитлером, требовал убрать из страны Тербовена и Квислинга, чем привёл немецкого фюрера в ярость. То в некрологе воздал Гитлеру почести как «борцу за права народов». Просьбу Молотова правительство Норвегии не удовлетворило. Но тюрьмы Гамсун избежал. Выплатил штраф. Одно время жил в доме для престарелых. Скончался в своей усадьбе 19 февраля 1952 года – обесчещенный, презираемый многими соотечественниками.
Но время вернуло этого писателя в литературу. Правда, лично я его разлюбил.
* * *
Борис Савельевич Ласкин, родившийся 4 августа 1914 года и умерший 22 августа 1983-го, конечно, завоевал своё место под солнцем благодаря прежде всего таким стихам, ставшим всенародными песнями, как «Спят курганы тёмные», «Три танкиста», «Марш танкистов». Но не только им.
Ласкин – автор сценариев кинофильмов «Карнавальная ночь» (совместно с В. Поляковым), «Девушка с гитарой» (соавтор тот же), «Не имей сто рублей» (опять совместно с В. Поляковым), «Дайте жалобную книгу» (совместно с А. Галичем).
Что ж, есть, что предъявить Тому, Кто наделил тебя даром!
* * *
Михаил Кузьмич Луконин, умерший 4 августа 1976 года (родился 29 октября 1918 года), принадлежит к плеяде фронтовых поэтов. Он воевал и на «незнаменитой» финской: был лыжником-стрелком, и на фронтах Великой Отечественной, где получил ранение.
Судьба его относительно благополучна. Работал на Сталинградском транспортном, где играл в футбол за команду мастеров. Окончил Сталинградский учительский институт в 1937-м, но учителем не стал. Уже в институте он стал писать стихи, которые прошли творческий конкурс в Литературном институте. В нём Луконин учился с 1937 по 1941 (с перерывом на финскую).
Лучшим его другом был поэт Сергей Наровчатов, который входил в редколлегию «Литературной газеты», когда я там работал. Всякий раз, когда речь заходила о «круглом столе» редакции или о каком-нибудь обсуждении проблем поэзии Наровчатов выставлял условие: обязательно нужно пригласить Луконина. Его, конечно, приглашали. А на моё удивление таким однообразным условием, Наровчатов говорил, что «Литературка» обязана сделать Луконину имя.
– Ну, какое же у него имя, – отвечал он мне. – Кто по-настоящему знает стихи Мишки? А замелькает в «Литературке» – вот и имя на слуху!
Я знал, что Луконин с Наровчатовым вместе блуждали дорогами отступлениями по Орловщине и Брянщине в Великую Отечественную, вместе вышли к своим, дружат ещё с тех лет.
Прекрасный поэт Давид Самойлов, друживший с Наровчатовым ещё до войны, писал о своём поколении: «Они шумели буйным лесом, / В них были вера и доверье. / Но их повыбило железом, / И леса нет – одни деревья. / И вроде день у нас погожий, / И вроде ветер тянет к лету… / Аукаемся мы с Серёжей, / Но леса нет, и эха нету».
Наровчатов очень любил это стихотворение и говорил: «А я ещё аукаюсь с Мишей. Мы с ним были как братья». И, помолчав: «Дезик прав: леса нет, и эха нету».
С Дезиком Наровчатова сближала ещё и библиомания. У обоих были выдающиеся библиотеки.
А Луконин книгочеем не был. Наровчатов любил его, как сам говорил, за надёжность. «Если б не ходил с ним в разведку, – говорил, – пошёл бы, не раздумывая. Миша никогда не предаст и не продаст».
И Наровчатов был Луконину надёжным другом. Заметив в нём общественную жилку, продвигал во все бюро и секретариаты.
Так оказался Луконин в 1976 году на посту первого секретаря Московской организации СП СССР. Правда, пробыл он на нём меньше года. Умер.
Самое известное стихотворение Луконина цитируется чаще всего из-за афористической концовки: «Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Мне же кажется, что стихи, подготавливающие такую концовку, сильнее её:
Ты думаешь: Принесу с собой Усталое тело своё. Сумею ли быть тогда с тобой Целый день вдвоём? Захочу рассказать о смертном дожде, Как горела трава, А ты – и ты жила в беде, Тебе не нужны слова. Про то, как чудом выжил, начну, Как смерть меня обожгла. А ты – ты в ночь роковую одну Волгу переплыла. Спеть попрошу, а ты сама Забыла, как поют… Потом меня сведёт с ума Непривычный уют. Будешь к завтраку накрывать, И я усядусь в углу, Начнёшь, как прежде, стелить кровать, А я усну на полу. Потом покоя тебя лишу, Вырою щель у ворот, Ночью, вздрогнув, тебя спрошу: – Стой! Кто идёт?! Нет, не думай, что так приду. В этой большой войне Мы научились ломать беду, Работать и жить вдвойне. Не так вернёмся мы! Если так, То лучше не приходить. Придём работать, курить табак, В комнате начадить. Не за благодарностью я бегу – Благодарить лечу. Всё, что хотел, я сказал врагу, Теперь работать хочу. Не за утешением – утешать Переступлю порог. То, что я сделал, к тебе спеша, Не одолженье, а долг. Друзей увидеть, в гостях побывать И трудно и жадно жить. Работать – в кузницу, спать – в кровать, Слова про любовь сложить. В этом зареве ветровом Выбор был небольшой, – Но лучше прийти с пустым рукавом, Чем с пустой душой.* * *
Великий сказочник Андерсен сочинял с раннего детства и с раннего детства играл в кукольный театр.
Однако жизнь заставила работать. Он начал подмастерьем у портного. Потом перешёл на сигаретную фабрику. Накопив денег, уехал в столицу Дании Копенгаген, где сумел устроиться в театр на роли второго плана.
Написал пятиактную пьесу и послал её королю, прося денег на её выпуск. Король заинтересовался судьбою талантливого юноши.
На королевские деньги Андерсен учится. Ведь пока что он даже не окончил школы. Наконец, в 22 года Андерсен окончил учёбу.
И снова бросился к письменному столу. Уже в 1835 году он достиг всемирной известности как автор «Сказок». Она только укрепилась, когда в 1839 и 1845 гг. выходят второй и третий тома «Сказок».
В 1840 году Ганс-Христиан выпускает «Книгу с картинками без картинок». Его сказки «Гадкий утёнок», «Принцесса на горошинке», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Русалочка», «Снежная королева» переведены на многие языки мира. С 1847 года он приехал в Англию. Невероятно горячий приём поразил писателя. Единственно, что его огорчало: его славили за сказки, а не за пьесы или прозу, которую Андерсен ценил больше сказок.
Поэтому, когда в честь его пятидесятилетия ему поставили памятник на родине, Андерсен обиделся: он изображён был окружённым детьми, а Андерсен считал себя писателем для взрослых.
Он страдал неврастенией, проявляющейся в усталости и недомоганиях. Почти каждая страница его дневника фиксирует, какое именно недомогание он сейчас чувствует. Ему постоянно нужно было отвлекаться от этих мыслей, ходить в гости, чтобы думать о чём-нибудь другом, путешествовать, чтобы набираться впечатлений, уходить от самого себя. Поэтому у него никогда не было собственного дома.
Всю жизнь он прожил в гостиницах, спал на казённой мебели. Когда он приобрёл свою, это привело его в ужас. Оставаться на одном месте он категорически не хотел. Особенно ужасала его кровать, которая символизировала для него смертный одр. Он требовал от друзей, чтобы они всё сделали для того, чтоб не захоронить его живым – в летаргическом сне. Ложась спать, он оставлял на столике и в кровати записку: «Это только кажется, что я умер!»
Умер он от серьёзных травм, которые получил, упав с кровати в 1872 году. Три года боролся с травмами Андерсен. В конце концов они его доконали. Он умер 4 августа 1875 года в 70 лет (родился 2 апреля 1805).
5 АВГУСТА
Когда-то в школьной юности это было одно из самых моих любимых стихотворений Саши Чёрного, которое мне продиктовал старший брат моего одноклассника:
Хорошо, объедаясь ледяной простоквашею, Смотреть с веранды глазами порочными, Как дворник Пэтэр с кухаркой Агашею Угощают друг друга поцелуями сочными. Хорошо быть Агашей и дворником Пэтэром, Без драм, без принципов, без точек зрения, Начав с конца роман перед вечером, Окончить утром – дуэтом храпения. Бросаю тарелку, томлюсь и завидую, Одеваю шляпу и галстук сиреневый И иду в курзал на свидание с Лидою, Худосочной курсисткой с кожей шагреневой.Мне, десятикласснику, всё это было так близко и понятно: Агаша с её доступностью и лёгким отношением к жизни, и эта треклятая Лида, которая может и не прочь стать Агашей, но не того поля ягода, не так воспитана. Я ещё руку под кофточку не просунул, а она уже нервно передёргивает плечами, она уже начинает своё занудливое: «не на-адо!» А чего тогда надо? Мне-то лично от неё больше ничего и не надо. Злой, измотанный приходишь домой спать, и ведь не Лида с её шагреневой кожей тебе снится, а румяная Агаша, смеющаяся, всем довольная…
Ну, хорошо, не выдержала в конце концов Лида, пропустила твою руку под кофточку, а через некоторое время и под юбку. Но возни-то сколько! И снова снится доступная Агаша…
Ну, а уж после Лида стала дамой. Ходит, посматривает на других как бы свысока! А чего задаётся? Ведь толком ничего не умеет, кроме как охлаждать: «Не надо в меня! Уходи скорее! С ума сошёл!» То ли дело Агаша! Да разве она допустит до такого святотатства: обхватит тебя, прижмёт к себе ещё сильней…
Словом, относился я к автору этого стихотворения, как гоголевский герой из «Игроков», восклицающий: «Свой своего разве не узнал?»
До тех пор, пока однажды не заказал в Ленинке Сашу Чёрного. Дореволюционные издания тогда выдавали, зарубежные, разумеется, нет. Получил я книги и решил проверить, в какой из них находится любимое моё стихотворение. Внимательно просмотрел оглавления и ничего подобного не нашёл. Начал читать подряд – ничего нет! Спрашиваю у библиографа. Та даёт мне карточки, по которым расписаны стихотворения Саши Чёрного. Нет такого стихотворения!
На следующий день меняю заказ. Прошу принести «Сатирикон», который существовал в России с 1908 по 1914 годы. Знаю, что Саша – один из активных его сотрудников.
Листаю журнал. Вот 1908, № 9, страница 2: «Послание первое». Саша валяется на балтийском модном пляже и оттуда пишет друзьям, нет ли каких политических новостей. Хотя он так умиротворён отдыхом, что политикой интересуется, так сказать, по профессиональной необходимости. Ведь он считает себя не просто сатириком, но сатириком политическим.
Вот 1908, № 11. На той же 2 странице: «Послание второе»: «Хорошо сидеть под чёрной смородиной, / Дышать, как буйвол, полными лёгкими, / Наслаждаться старой, истрёпанной «Родиной» / И следить за тучками легкомысленно-лёгкими. / Хорошо, объедаясь ледяной простоквашею, / Смотреть с веранды…» Стоп-стоп-стоп! Да это же начало моего любимого. Что же оно – вдвинуто в корпус какого-то другого стихотворения? Большого, судя по всему. Снова читаю. «Послание второе»:
Хорошо сидеть под чёрной смородиной, Дышать, как буйвол, полными лёгкими, Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной» И следить за тучками легкомысленно-лёгкими. Хорошо, объедаясь ледяной простоквашею, Смотреть с веранды глазами порочными, Как дворник Пэтэр с кухаркой Агашею Угощают друг друга поцелуями сочными. Хорошо быть Агашей и дворником Пэтэром, Без драм, без принципов, без точек зрения, Начав с конца роман перед вечером, Окончить утром – дуэтом храпения. Бросаю тарелку, томлюсь и завидую, Одеваю шляпу и галстук сиреневый И иду в курзал на свидание с Лидою, Худосочной курсисткой с кожей шагреневой. Навстречу старухи мордатые, злобные, Волочат в песке одеянья суконные, Отвратительно-старые и отвисло-утробные, Ползут и ползут, словно оводы сонные. Где благородство и мудрость их старости? Отжившее мясо в богатой материи Заводит сатиру в ущелие ярости И ведьм вызывает из тьмы суеверия… А рядом юные, в прическах на валиках, В поддельных локонах, с собачьими лицами, Невинно шепчутся о местных скандаликах И друг на друга косятся тигрицами. Курзальные барышни, и жены, и матери! Как вас не трудно смешать с проститутками, Как мелко и тинисто в вашем фарватере, Набитом глупостью и предрассудками… Фальшивит музыка. С кровавой обидою Катится солнце за море вечернее. Встречаюсь сумрачно с курсисткою Лидою - И власть уныния больней и безмернее… Опять о Думе, о жизни и родине, Опять о принципах и точках зрения… А я вздыхаю по чёрной смородине И полон жёлчи, и полон презрения…Вот когда я был разочарован в политической сатире! Вот когда обозлился на Сашу Чёрного! Ну причём тут какие-то злобные, мордатые отвисло-утробные старухи? Почему так яростно корёжит сатиру при виде отжившего мяса, наряжённого в богатые материи? Что плохого сделали старухи лично Саше Чёрному?
А чего ради он облаял курзальное дамское общество? Плохо ему в нём? Так уйди. Никто же не неволит тебя сидеть с теми, кого почти обзываешь проститутками!
Ну что сказать! Прочитал я все шесть Сашиных посланий из Гугенбурга. И понял, для чего он взялся за перо. Чтобы лишний раз продемонстрировать свой характер – жёлчный, раздражительный, который бурно отзывается на любые явления жизни – даже на перемену погоды:
Вчера играло солнце И море голубело, И дух тянулся к солнцу, И радовалось тело. И люди были лучше, И мысли были сладки - Вчера шальное солнце Пекло во все лопатки. Сегодня дождь и сырость… Дрожат кусты от ветра, И дух мой вниз катится Быстрее барометра. Сегодня люди-гады, Надежда спит сегодня - Усталая надежда, Накрашенная сводня. Из веры, книг, и жизни, Из мрака и сомненья Мы строим год за годом Своё мировоззренье. Зачем вчера при солнце Я выгнал вон усталость, Заигрывал с надеждой И верил в небывалость? Горит закат сквозь тучи Чахоточным румянцем. Стою у злого моря Циничным оборванцем. Всё тучи, тучи, тучи… Ругаться или плакать? О, если б чаще солнце! О, если б реже слякоть!Это – одно из последних посланий.
Так что старший брат моего одноклассника оказался тонким художником, вычленившим из занудного, недоброго стихотворения прекрасные психологические строчки.
Но что до занудства и недоброты, то таков уж характер у Александра Михайловича Гликберга, умершего в эмиграции 5 августа 1932 года (родился 13 октября 1980), взявшего себе псевдоним Саша Чёрный.
Однажды мы говорили о нём с Юрием Трифоновым. Оказалось, что Юра, как и я, много знает из него наизусть. Он прочёл любимое – «Ошибку»:
Это было в провинции, в страшной глуши. Я имел для души Дантистку с телом белее известки и мела, А для тела - Модистку с удивительно нежной душой. Десять лет пролетело. Теперь я большой: Так мне горько и стыдно И жестоко обидно: Ах, зачем прозевал я в дантистке Прекрасное тело, А в модистке Удивительно нежную душу! Так всегда: Десять лет надо скучно прожить, Чтоб понять иногда, Что водой можно жажду свою утолить, А прекрасные розы – для носа. О, я продал бы книги свои и жилет (Весною они не нужны) И под свежим дыханьем весны Купил бы билет И поехал в провинцию, в страшную глушь: Но, увы! Ехидный рассудок уверенно каркает: Чушь! Не спеши - У дантистки твоей, У модистки твоей Нет ни тела уже, ни души.– Таков, Саша, – сказал Трифонов. – Его можно принимать или не принимать. Но уж если принимать, то таким, как есть – порой злобным парадоксалистом!
– Нет, не злобным, – тут же поправился Юра, – беспощадным. К нему ведь тянет как к правде. А он её никогда не подсахаривал.
Да, прав Трифонов. Просто советская сатира отучила нас от этого жанра. Саша Чёрный был сатириком. И, стало быть, любую ситуацию освещал сатирическим светом:
Она была поэтесса, Поэтесса бальзаковских лет. А он был просто повеса, Курчавый и пылкий брюнет. Повеса пришёл к поэтессе. В полумраке дышали духи, На софе, как в торжественной мессе, Поэтесса гнусила стихи: «О, сумей огнедышащей лаской Всколыхнуть мою сонную страсть. К пене бёдер, за алой подвязкой Ты не бойся устами припасть! Я свежа, как дыханье левкоя, О, сплетём же истомности тел!…» Продолжение было такое, Что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро И подумал: была не была! Здесь не думские речи министра, Не слова здесь нужны, а дела… С несдержанной силой кентавра Поэтессу повеса привлёк, Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!» Охладило кипучий поток. «Простите… – вскочил он, – вы сами…» Но в глазах её холод и честь: «Вы смели к порядочной даме, Как дворник, с объятьями лезть?!» Вот чинная Мавра. И задом Уходит испуганный гость. В передней растерянным взглядом Он долго искал свою трость… С лицом белее магнезии Шёл с лестницы пылкий брюнет: Не понял он новой поэзии Поэтессы бальзаковских лет.* * *
О Фёдоре Аркадьевиче Чапчахове рассказывали, что, когда он работал в ростовском журнале «Дон», ему предложили поучаствовать в кампании травли Пастернака, только что получившего Нобелевскую премию. Отказываться Фёдор Аркадьевич не стал. А друзьям объяснил, что Пастернака и так все клюют, кому не лень, его, чапчаховская, заметка тут погоды не сделает. А на гонорар он купит себе любимое у того же Пастернака. Скажем, его книжку «Сестра моя жизнь».
Гонорар, усмешливо закончил рассказчик, оказался повесомей: Москва, член редколлегии журнала «Октябрь», потом – «Литературной газеты».
Да, можно считать, что та статеечка в «Доне» оказалась колёсиком в продвижении Чапчахова на службе. Кому надо – заметили. Конечно, если в Москве Фёдор Аркадьевич оказался, женившись на приехавшей в командировку в Ростов сотруднице издательства «Советский писатель», то в кочетовском «Октябре» автора статьи, проклинающей Пастернака, безусловно могли оценить по достоинству.
Он пришёл к нам в «Литературную газету» после «Октября». Говорил, что поссорился с Кочетовым. Но детали не уточнял. Быстро сделался как бы адъютантом устроившего его в газету Михаила Ханаановича Синельникова, писал небольшие реплики и благодарил Синельникова за редактуру: «Блестяще, Миша! Мне прямо неудобно. Это же твоя, а не моя вещь!» Синельников довольно усмехался.
Меня и Юрия Буртина привёл в газету Владимир Карпович Железников, только что назначенный членом редколлегии, редактором отдела русской литературы. Но уже через месяц Железников подал заявление об уходе. На него наорал за что-то Чаковский, и чувствительный Владимир Карпович начальственного ора не потерпел. Ушёл, несмотря на наши настойчивые уговаривания, несмотря на уговаривание первого заместителя Чаковского Сырокомского, предложившего Железникову свои извинения за начальника.
Через некоторое время Синельникова назначили и.о. члена редколлегии, а Чапчахова и Смоляницкого его замами. Я работал у Соломона Смоляницкого, человека добродушного, когда-то служившего в «Литературке» собкором по Сибири и установившего хорошие отношения с одним из местных сибирских начальников Георгием Мокеевичем Марковым. Теперь Марков был первым секретарём всего писательского Союза, нашим непосредственным начальником, и за Смоляницким укрепилась репутация «человека Маркова». Вот почему его, еврея, никто не трогал. Ну, а Синельникова не трогали из-за его охранительной позиции. Он противостоял «Новому миру» Твардовского и всей литературе либерального направления.
В параллельном отделе литератур народов СССР место и.о. члена редколлегии занимал Ахияр Хасанович Хакимов. И вот появляется приказ Чаковского: Ахияр Хасанович утверждён полноправным членом редколлегии.
Никто не ожидал, что у Синельникова это вызовет приступ истерики. Потом выяснилось, что он решился пойти к Чаковскому по требованию оскорбившейся за него жены. Так или иначе, но он поставил ультиматум: или его вводят в редколлегию, или он уходит.
Да, в газете работало много евреев. Да, на Старой площади (в ЦК) «Литературку» называли «синагогой». И всё же понятно, что еврей-главный редактор никогда бы не решился сделать полноценным членом редколлегии по разделу русской литературы еврея. Чаковский не раздумывал ни минуты. Подписал приказ об увольнении Синельникова.
Можно вспоминать многие подробности. Но у нас сейчас другой герой – Фёдор Аркадьевич Чапчахов, родившийся 5 августа 1926 года. Поэтому сообщу только о Смоляницком и немедленно вернусь к нему.
Соломон Смоляницкий выпустил книгу о Маркове и в награду был переведён членом редколлегии журнала «Знамя». С его уходом перед начальством открылась возможность объединить оба отдела (Смоляницкого и Чапчахова) в один во главе с полноправным редактором – членом редколлегии. Сделаться таким редактором мог кто угодно (не из евреев, конечно), но самые большие шансы были у Чапчахова, ставшего новым «репликистом» после Синельникова. Его реплики неизменно вызывали одобрение Чаковского. Хотя писал их Чапчахов железобетонным стилем, в них даже отдалённо не посверкивало хоть что-нибудь похожее на юмор.
Особенно это обнаружилось, когда по требованию начальства Чапчахов ввязался в полемику с «Юностью». От «Юности» выступала знаменитая Галка Галкина, насмешливая, искромётная, умеющая утонченно издеваться над оппонентом, что и не удивительно: Галка Галкина была коллективным псевдонимом известнейших сатириков и юмористов. Не способный отвечать Галке в её стиле, Чапчахов отругивался, бранился: «поганая Галка», злобно и неуклюже поучал её азам партийности литературы. И эта его злобность, эта неуклюжесть делались новой мишенью для иронических стрел веселящейся Галки Галкиной.
Вряд ли в газете были люди, не понимающие, что дуэль эту Чапчахов безнадёжно проиграл, да и не мог не проиграть: не было у него дара «репликиста»! Между тем, Чаковский публично хвалил и эти его реплики.
Почему одобрял их Чаковский? Он хорошо чувствовал вкусы сильных мира сего и знал, что к юмору они не склонны. Зато всегда благожелательны к ругани в адрес тех, кто им не по нутру.
Правда, именно у Чапчахова был из всех претендентов самый большой недостаток – он в сорок лет с хвостиком не был членом партии.
В «Иванькиаде» Войновича я прочёл, как тот удивился, узнав, что подлец и мерзавец, председатель его жилищного кооператива, оказался беспартийным. «Чтобы такой, как он, да не присосался к правящей партии?» – воздымал руки Войнович. Я думаю, что присосался бы, если б предложили. А не предлагали по той же причине, по какой оставили беспартийными Соболева или Федина: не всё же партийным должно было демонстрировать преданность режиму, беспартийные тоже обязаны показать, что о другой жизни, чем та, которая у них есть, они и не мечтают.
Чапчахову до поры до времени не предлагали. И он возводил свою беспартийность в твёрдый принцип. «Пусть, пусть посовещаются, – насмешливо говорил он, уходя вместе с нами домой и оставляя партийных сотрудников на их закрытое собрание. – У меня лично есть дома дела и поважней!»
Но вот – предложили. В редколлегии уже был когда-то беспартийный Смирнов-Черкезов, но время на дворе тогда стояло другое. Теперь оно не предполагало членов редколлегии вне членов партии. И Фёдор Аркадьевич Чапчахов охотно согласился.
Мне приходилось потом встречать в своей жизни феномен любителя литературы, подобный Чапчахову, не понимающему, для чего собственно литература существует. Я их встречал не так много. Но после Чапчахова никому из них уже не удивлялся.
В писательском доме на Астраханском Чапчахов жил с большой семьёй в четырёхкомнатной квартире. Её прелесть заключалась даже не в том, что огромная стена самой большой комнаты сплошь состояла из встроенных шкафов. Главное достоинство такой квартиры заключалось в квадратной двадцатиметровой комнате, которая не входила в оплату, и куда жильцы обычно проводили свет, ставили стремянки и пускали от потолка до низу по всем стенам книжные стеллажи. Было всё это и у Чапчахова. Но в отличие от других не было ни в одной из его комнат или даже в коридоре, хотя бы стенки, где не висели бы плотно утрамбованные книжные полки. Фёдор Аркадьевич был не просто книгочеем, но библиоманом, собиравшим разные издания одного и того же произведения. Тем более легко ему было это делать, что членов редколлегии газеты обслуживала специальная книжная экспедиция на Беговой, предлагавшая своей клиентуре такие издания, о которых даже мы, члены союза писателей, которым перепадало кое-что из дефицита в писательской лавке на Кузнецком мосту, могли только мечтать.
Были, конечно, и такие любители, которые собирали книги ради престижа. Но Чапчахов не просто собирал. Он их читал. И очень нередко цитировал наизусть, поражая и сотрудников, и членов редколлегии своей эрудицией.
– Том такой-то, страница, кажется, такая-та, – завершал он своё цитирование, повергая почти в состояние шока редколлегию. «Скажите, Фёдор Аркадьевич, – спрашивал его Чаковский, когда был в хорошем расположении духа, - есть ли в литературе что-нибудь такое, чего вы не знаете?»
Чапчахов победно смотрел на окружающих и отвечал обычно: «Конечно, есть. Я не специалист по китайской литературе или по литературе Древнего Востока».
– От вас этого никто и не требует, – улыбался ему Чаковский. – Но вижу, что вы недаром занимаете место члена редколлегии по русской литературе.
– Знаете, старик, – сказал он мне однажды. – Когда меня пригласили в «Литературку», я думал, что окажусь в ней последним парнем в городе. А на самом деле стал первым парнем на деревне! Вот уж не думал, не гадал!
Увы, при этом был Чапчахов невероятно пуглив, до судорожных колик боялся любого начальства, так что однажды его жена Галя пришла заступаться за него перед Сырокомским, который за что-то на Чапчахова не на шутку разгневался.
За гневом Сырокомского последовал настоящий сердечный приступ Фёдора Аркадьевича, и Галя агрессивно наступала на Сырокомского:
– Если вы умрёте, то ваша жена получит персональную пенсию, а если умрёт мой муж, то мы останемся с детьми нищими.
Сырокомский успокоил её, но к Чапчахову лучше относиться не стал.
До нервных колик боялся Фёдор Аркадьевич потерять должность члена редколлегии «Литературной газеты» и потому заранее был согласен с любым решением его руководства! «И правильно сделал!» – одобрил он свои действия, когда при мне несогласный со своим замом Кривицким Александр Борисович Чаковский спросил его, обговаривал ли тот свою позицию с Чапчаховым, и, услышав, что Чапчахов будет солидарен с тем, кто в данный момент выше чином, попросил вызвать его и захохотал, убедившись, что так оно и есть! «А что же он думал, – сказал Чапчахов, которому разъяснили, почему веселился Чаковский, – что я с Кривицким буду соглашаться, когда он с ним спорит? Я не враг себе!»
Что ж, Чапчахов отсидел на посту члена редколлегии до самой перестройки, пересидев Сырокомского, которого хамски сняли в 1980-м. Слухи по поводу снятия ходили разные, но верным оказался тот, что в день рождения Громыко «Литературная газета» напечатала статью о махинациях председателя жилищного кооператива МИДа. Случайно, конечно, что в день рождения, но Громыко от подобного подарка рассвирепел. На место Сырокомского назначили Юрия Петровича Изюмова, бывшего помощника первого секретаря Московского горкома Гришина.
Через некоторое время Чапчахов заволновался. Изюмов явно выделял в отделе его заместительницу Селиванову, которая была ещё и замом парторга «ЛГ». Фактически Селиванова перестала подчиняться Чапчахову, выходя напрямую к Изюмову. А ещё через незначительное время отдел русской литературы неожиданно разъединили. Отделом русской критики оставили заведовать Чапчахова. А отдел литературоведения и истории литературы возглавила новый член редколлегии Светлана Селиванова.
– Вот увидите, – говорил нам о ней Чапчахов. – Она меня съест, отдел снова объединят, но уже под её руководством.
Я успокаивал его, указывал на явно нервничающего Кривицкого, говорил, что, скорее всего, Изюмов имеет в виду поставить её на место нашего куратора.
– Так это ещё хуже, – резонно говорил Чапчахов. – Вы бы смогли ей подчиняться?
– Не смог бы, – честно отвечал я.
– Вот и я не смогу, – говорил Фёдор Аркадьевич, вызывая во мне сильные сомнения. Я-то знал, что Чапчахов подчинится любому начальнику.
Но все грядущие кадровые перестановки оборвала перестройка.
– Старик! – доверительно сказал мне однажды Чапчахов, осатаневший от всех неожиданных событий в газете и в стране. – Я вот всё думаю и прихожу к выводу, что Горбачёв совершает антисоветский и антипартийный переворот. Как его не разглядел Андропов! Ведь это враг.
Совершенно потерялся в эти дни Фёдор Аркадьевич. Сидел мрачный, перестал вникать в дела отдела, читал приносимые ему на подпись материалы, криво усмехаясь: «При Чаковском, – спрашивал он, – это могло бы быть напечатано?» Но всё послушно подписывал.
Чаковского он пересидел недолго. Через некоторое время после того, как новый главный редактор Бурлацкий прогнал Изюмова и Селиванову, Фёдора Аркадьевича вызвал Кривицкий и объявил, что Бурлацкий и его, Фёдора Аркадьевича, просит подать заявление об уходе. Он, конечно, подал. Прожил ещё долго. Умер в 2007-м
* * *
Однажды уже при Горбачёве в «Литературную газету», где я работал, пришло письмо. Мне его показал Андрей Мальгин, только что пришедший к нам в отдел литературоведения.
Письмо писала дочь некоего А.А. Боде, обрусевшего немца, сочинившего ещё во время Первой Мировой войны стихи «Вставай, страна огромная! / Иди на смертный бой / С германской силой тёмною / С тевтонскою ордой». Стихи были длинными, я их не запомнил. Дочь писала, что отец безуспешно пытался их напечатать, а в 41-м, перед войной отправил их на отзыв Лебедеву-Кумачу, чтобы тот помог с публикацией. Кажется, в письме была ещё и нотная страничка: тот же Боде (или кто-то другой?) положили стихи на музыку.
Каково же было состояние дочери, когда по радио исполнили слегка подправленную песню отца, объявив, что слова её принадлежат Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу, а музыка – композитору Григорию Александрову.
Ясно, что ни во время войны, ни после при Сталине дочь об авторстве отца не заикалась. Я вообще не помню, откуда она писала: не была ли как немка депортирована во время войны?
Мы с Мальгиным взялись проталкивать это письмо. Но его «патриотическая» заведующая Селиванова нашла, что оно опорочивает священное советское понятие и наш общий куратор – зам главного Кривицкий с ней согласился.
Однако время было непредсказуемое. Мальгин ушёл из «Литгазеты» в «Неделю», а оттуда избрался Народным депутатом Москвы и возглавил только что созданный литературно-художественный журнал Моссовета «Столица».
Теперь уже никто не мог бы запретить Мальгину напечатать это письмо. И он его напечатал.
И тут выяснилось, что обвинения в плагиате Лебедева-Кумача раздавались и прежде.
В частности, доктор искусствоведения, профессор истории музыки Московской консерватории Е.М. Левашов приводил примеры плагиата Лебедева-Кумача в своей работе «Судьба песни. Заключение эксперта». Приведя примеры неоднократного плагиата Кумача у разных песенников, Левашов сообщает, что после официальной жалобы одного из тех, у кого украл строфу Лебедев-Кумач, Фадеев даже созвал пленум, на котором обсуждалось 12 случаев плагиата Кумача, но по звонку «сверху» дело спустили на тормозах. Есть о кумачёвском плагиате и в «Книге прощаний» Юрия Олеши, изданной в 1999 году «Вагриусом». Вот – из записи, датированной 1939 годом: «Позавчера в Клубе писателей Фадеев разгромил Лебедева-Кумача. Сенсационное настроение в зале. Фадеев приводил строчки, говорящие о плагиате, причем плагиат сделан у третьесортного поэта и украдены ужасные строчки о каких-то ножках-невидимках. В публике крики: позор!… (обратите внимание на сноску, она перешла из той же книги при цитировании)». А Левашов тоже утверждал, что Лебедев-Кумач приписал себе песню Боде. Да и авторство Александрова ставил под сомнение: музыка была прислана тем же Боде.
В конце концов, точку под этим делом поставил в 1988 году Мещанский муниципальный суд, который рассмотрел иск внучки Лебедева-Кумача. «Текст песни принадлежит Лебедеву-Кумачу», – заявил суд, отказавшийся учесть мнения экспертов.
Ну, если уже тогда мнения авторитетных экспертов ничего не значили для судьи, то сейчас это будет подтверждено и подавно. Дело о плагиате легло на полку до лучших времён!
А главное, совершенно непонятно, для чего Лебедеву-Кумачу, родившемуся 5 августа 1898 года, было воровать строчки? Избранный депутатом Верховного Совета СССР он каждую свою речь произносил в стихах. Писать их для него труда не составляло. В мае 1941 года критик журнала «Октябрь» писал о нём, что тот, «как никто из советских поэтов, передаёт песенной строкой чувство молодости, присущее людям сталинской эпохи. Его бесспорной заслугой является создание жанра весёлой, жизнерадостной песни. Бодростью, молодостью веет от каждой её строки». И это было правдой.
Песни из кинофильмов «Весёлые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Дети капитана Гранта». А «Широка страна моя родная»? А «Легко на сердце от песни весёлой»? А «Утро красит нежным цветом Стены древние Кремля»? А «Ну-ка солнце, ярче брызни»? А «А ну-ка девушки, а ну, красавицы!»? А «С той поры, как мы увиделись с тобой»? А «Как много девушек хороших»? А «Удивительный вопрос: Почему я водовоз?»?
Рука устаёт перечислять все добротные песни. Недаром Кумач получил за них сталинскую премию ещё в 1941 году и три ордена – в 1937-м, 38-м и 40-м.
В последнее время стали цитировать дневник заболевшего и умирающего Кумача. К примеру, его запись от 1946 года: «Болею от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть главную задачу – всё мелко, всё потускнело. Ну, ещё 12 костюмов, три автомобиля, 10 сервизов… и глупо, и пошло, и недостойно, и не интересно…» Ну, а прежде, в чём видел Кумач свою главную задачу? Фадеев ведь рассказывал, что «в период битвы за Москву Лебедев-Кумач сразу попытался бежать из города, привёз на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался».
Запись больного Кумача: «Рабство, подхалимаж, подсиживание, нечистые методы работы, неправда – всё рано или поздно вскроется…» Золотые слова! Будем же их помнить, оценивая стихотворные речи Василия Ивановича на сессии Верховного Совета СССР, бесконечные упоминания имени вождя в песнях и песни, иллюстрирующие высказывания вождя, запечатлевшие сказочную жизнь при нём. Думаю, что Лебедев-Кумач готовил и подарок к семидесятилетию вождя. Но если и готовил, то передать ему уже не смог: умер 20 февраля 1949 года.
* * *
«Блажен, кто смолоду был молод», – написал автор «Евгения Онегина». Эти слова хорошо приложить к произведениям француза Ги де Мопассана, родившегося 5 августа 1850 года и умершего 6 июля 1893 года. Его книги надо читать вовремя – в молодости. На себе испытал. Открыл недавно роман «Милый друг» и заскучал. Начал читать его новеллы и бросил, не дочитав вторую.
А в молодости я его очень любил. Оценивал не только его психологическое мастерство, но и умение роскошно выписывать детали. Удовлетворялся глубиной его художественной мысли.
Что же сейчас? Нет, я не стану утверждать, что Мопассан не талантлив. Не возражу Л. Толстому, который ценил роман Мопассана «Жизнь». Я его в своё время тоже ценил. Но вот закавыка: снимаю с полки повесть «Хаджи-Мурат», которую 76-летний Толстой закончил в 1904 году и не разрешил публиковать при жизни. И с любой открытой страницы погружаюсь в художественную глубину повести. Снимаю с полки роман Мопассана «Жизнь». И не получается в него войти с той же безоглядностью. Не чувствуешь себя внутри него. Так некий зритель, знающий, что будет дальше, постоянно отвлекается от сцены: любой шорох извне привлечёт его внимание.
«Блажен, кто смолоду был молод. Блажен, кто вовремя созрел»! Для меня Мопассан, писатель, которого, повторяю, надо читать в молодости. Взрослого читателя, мне кажется, он заинтересует намного меньше. Впрочем, на своём мнении я не настаиваю.
6 АВГУСТА
Вот удивительный учёный, о котором говорят намного меньше, чем о каких-нибудь прикладных лингвистах. Хотя это несправедливо. Борис Михайлович Ляпунов, родившийся 6 августа 1862 года, выдвинул и защищал концепцию праславянского языка как континуума диалектов. То есть их совокупности, образующих на определенной территории непрерывную пространственную последовательность с минимальными отличиями между отдельными диалектами. В связи с таким подходом Ляпунов отвергал существование трёх языков каждой ветви славянства (празападнославянского и т.п.). К праславянскому пространству Ляпунов применял принципы лингвистической географии.
Сложно объяснить, что такое общеславянское фонетическое объединение, которое называют второй палатизацией. Она проходила в период, когда праславянский язык не представлял собой целого, а был раздроблен на диалекты.
К примеру, заднеязычные k, g, h в южных и восточнославянских языках перешли совсем не в те звуки, в которые они оформились в западнославянских.
Так вот Ляпунов выдвинул гипотезу о том, что в новгородско-псковском диалекте, который, видимо, оторвался от общего массива раньше других, второй палатизации не было.
Долго не соглашались учёные признавать эту гипотезу. До тех пор, пока в 1966 году С.М. Глускина указала на данные живых северо-западных говоров, сохранивших лексемы без каких-либо следов второй палатизации.
Но подлинным подтверждением правоты Ляпунова явились вновь открытые новгородские берестяные грамоты, изученные академиком Зализняком. Он показал, что грамоты эти зафиксировали отсутствие эффекта второй палатизации…
Рад буду, если смог объяснить, в чём суть открытия великого русского лингвиста. Сам Ляпунов, скончавшийся 22 февраля 1943 года, был академиком АН СССР и Польской АН, членом-корреспондентом болгарской и чешской Академии наук.
Фамилия эта известная. Борис Михайлович был сыном знаменитого астронома Михаила Васильевича Ляпунова, братом математика Александра Михайловича и композитора Сергея Михайловича. Каждый оставил достойный след в своей отрасли.
* * *
Януш Корчак, погибший вместе с еврейскими детьми в Треблинке 6 августа 1942 года, весьма остроумно отозвался однажды о коммунистической идее: «Я уважаю эту идею, но это как чистая дождевая вода. Когда она проливается на землю, то загрязняется».
Вообще Корчак, родившийся 22 июля 1878 года, был весьма независимым в своих политических взглядах: не увлёкся ни сионизмом, ни идеей ассимиляции евреев.
Собственно, евреем он себя долго не ощущал. Он родился в ассимилированной еврейской семье и учился в Варшаве в русской гимназии. Поступил на медицинский факультет Варшавского университета и в 1898 году ездил в Швейцарию, чтобы ближе познакомиться с педагогической деятельностью Песталлоци.
В 1905 году получает диплом врача. И в качестве врача принимает участие в русско-японской войне.
С 1907 по 1910 годы ездит по Западной Европе, знакомится с различными воспитательными учреждениями, стажируется, посещает детские приюты.
В 1911 году оставляет профессию врача и основывает знаменитый Дом сирот для еврейских детей на улице Крахмальной. Этим домом Корчак руководил (с перерывом на Первую Мировую) до конца жизни.
В Первую Мировую служил в дивизионном полевом госпитале русской армии. Работал врачом в приютах для украинских детей. Написал в Киеве книгу «Как любить ребёнка».
Во время советско-польской войны 1919-1920 годов Корчак в звании майора медицинской службы работал в военном госпитале в Лодзи.
Принимал участие в работе интерната «Наш дом» – детского дома для польских детей, где, как и везде, применял новейшие методы воспитания.
С приходом Гитлера к власти и ростом антисемитизма в Польше в Корчаке пробуждается еврейское национальное сознание. Он стал несионистским польским представителем в Еврейском агентстве в Палестине. Собирался туда переехать, чтобы изучить иврит. Но не смог из-за невозможности покинуть своих сирот.
После оккупации немцами Варшавы стал ходить по городу в форме польского офицера, которая ему принадлежала по праву. Однако в 1940 вместе с воспитанниками «Дома сирот» был перемещён в еврейское гетто. Там он, отдав все свои силы воспитанникам, добывал для них одежду и пищу.
Он отклонял любые попытки вызволить его из гетто, не считая возможным покинуть детей.
Так и оказался он вместе со своими сиротами в Треблинке, где пошёл со всеми в газовую камеру.
Каждый год 23 марта в Польше и в Белоруссии выпускается по воздушному шару в память об убитых в гетто Яноше Корчаке и его детях.
Его педагогические идеи оказали воздействие на советского педагога В.А. Сухомлинского.
Его художественная книга «Король Матиуш Первый» была любимой книгой в нашей семье.
Он был талантливым писателем и исключительно одарённым педагогом. По его книгам взрослые учатся говорить с детьми.
* * *
В ранние советские годы среди прочих, упразднённых потом литературных групп пользовалась известностью «Кузница». Я хорошо знал, быть может, последнего из живущих её членов – милого старичка, поэта Василия Васильевича Казина, родившегося 6 августа 1898 года. В «Кузницу» входила часть литераторов, отколовшихся от «Пролеткульта». Впрочем, стояла «Кузница» на твёрдой платформе советской власти, её участники полагали, что выражают взгляды и чаяния победившего пролетариата. Что не спасло от ареста и гибели таких её руководителей, как В. Кириллов и М. Герасимов. Сам Казин считал, что ему сказочно повезло. Совершенно случайно он оказался на одном фотоснимке с Лениным, где вождь подставляет плечо на субботнике под знаменитое бревно, много и по-разному обыгранное в анекдотах. Василий Васильевич был убеждён, что фотография спасла его от неминуемого ареста. Не помню, стихотворение, цикл, или даже поэму посвятил находчивый поэт чудодейственному фотоснимку. Но когда мы с ним сблизились, он рассказывал мне, что несколько раз был под дамокловым мечом из-за другой фотографии, где он снят с Есениным. Его вызывали, как он говорил, в ГПУ, он писал объяснения о своих связях с Есениным, а насчёт Ленина обещали проверить, не фотомонтаж ли этот снимок.
Это был радушный, деликатный и даже стеснительный старичок. О его стеснительности скажет такой факт. Мы ждали Василия Васильевича в гости, а он, чего никогда не делал, опаздывал. Причём ожидание затягивалось. Мы заволновались: подождём ещё немного, и обратимся в милицию. Начнём его искать. Но вот внизу хлопнула дверь лифта. Неужели Василь Васильевич? Он! «Господи, – говорим, – что случилось дорогой?» А случилась, оказывается как назвал это Казин, «неприятность». Он последним вошёл в метро, когда двери уже начали захлопываться. Захлопнувшись, они прижали подол его пальто. Ужас состоял в том, что двери линии, по которой ехал Василь Васильевич, теперь до самого конца открывались с противоположной стороны. Казин оказался в ловушке: если он не освободится, ему придётся описать круг. Василь Васильевич предпочёл никого не беспокоить, отказываясь занять свободное место, которое ему предлагали. Всё делал, чтобы на него не обращали внимание. Так и проехал.
Он познакомил меня с ныне покойным Борисом Александровичем Неверовым, сыном Александра Сергеевича, автора «Ташкент – город хлебный», одной из любимых книг моего детства. Александр Сергеевич умер в 1923 году, поэтому наследство его мало кого интересовало: советскую новь он написать ещё не мог. А пореволюционный быт ничего героического в себе не нёс. Много нам пришлось с Борисом Александровичем повозиться, чтобы напечатать постоянно отвергаемые рукописи.
И ещё одно знакомство, которым я обязан Василию Васильевичу. Чудесный человек, превосходный физик Данила Санников, сын Григория Александровича Санникова, тоже в прошлом поэта «Кузницы», пережившего многих и оставившего воспоминания о своей жизни. А Данила жизнь посвятил изданию наследия отца. Издавал не только книги, но и книги друзей Григория Санникова, например, Андрея Белого. Публикует письма к отцу Бориса Пастернака. И главное – всё это делает за свой счёт.
Мне он объяснял, что как физик поездил по миру. Больше всего был в Японии. Скопились деньги, которые он с удовольствием тратил на поддержание памяти об отце.
А Василий Васильевич Казин прошёл через значительный период непечатания. Его не печатали, начиная с 1938 года и до самой смерти тирана. Напечатали в 1956 году поэму «Великий почин» – о коммунистических субботниках. Прочно, как видите, засела в нём эта тема. Ну, а за ней и книгу стихотворений.
Объяснил мне Казин, отчего была уничтожена «Кузница» – пролетарская, вроде, ячейка поэтов. Уничтожили, потому что все её члены привыкли ориентироваться на действующих вождей революции. И если у рапповцев был Авербах, племянник сестры Свердлова, одно время близкий Троцкому, но в другое – враг Троцкого и ориентирующий свою литературную группу на Сталина, то у «Кузницы» ничего подобного не было. Герасимов, например, после введения НЭПа в знак протеста вышел из компартии. Кириллов в том же 1921 году и по той же причине выходит из ВАППа и из «Кузницы». Позже оба спохватываются. Но поезд ушёл. Советами правит Сталин, которого они знают намного хуже, чем активных деятелей революции. Им такое знание стоило жизни. Остальным – годов забвения. А главное, как сказал мне Василий Васильевич Казин, скончавшийся 1 октября 1981 года, полюбить Сталина так же бескорыстно, как остальных, они не сумели.
7 АВГУСТА
Знаете, что больше всего меня изумляет в Блоке? Ему, как никому, удалось проникнуть в тайну творчества Пушкина.
Он проник в неё глубже всех, зафиксировав это в работе, которая обозначила в нём пушкиниста, на много голов выше любых других – от Белинского до Лотмана и от Набокова до Сергея Бочарова.
При этом я не беру под сомнение крупность названных фигур и ценность их штудий. Я просто хочу сказать, что даже они, великие, способны блуждать в иных вопросах, поднятых Пушкиным, или попросту заблуждаться. А Блок – нет, не способен.
Порукой тому – его речь «О назначении поэта», которую Блок прочитал совсем незадолго до собственной смерти в феврале 1921 года в 84-ю годовщину смерти Пушкина. Это там возникло счастливо найденное Блоком определение «весёлое имя Пушкин».
«Что такое поэт? – спрашивает Блок. – Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии, поэт».
А что такое сын гармонии, каковы его отличия? «Три дела возложены на него, – считает Блок: – во-первых – освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесённые в мир, сами начинают творить своё дело. «Слова поэта суть уже его дела».
Последняя цитата, которую приводит Блок – пушкинская. Так Пушкин по рассказу Гоголя ответил на стихи Державина: «За слова меня пусть гложет, За дела сатирик чтит». «Державин не совсем прав, – передаёт Гоголь Пушкина: – слова поэта уже суть дела его». «Пушкин прав», – заключил свой рассказ Гоголь.
Жаль, если кому-то этот спор покажется схоластическим. По Пушкину, Гоголю и Блоку слово поэта таит в себе похищенные у стихии и приведённые в гармонию звуки. Потому оно и дело поэта. Слова поэта образуют гармонию, живут в ней, ею руководствуются.
Помните у Мандельштама: «Останься пеной Афродита, И слово в музыку вернись…». Но так будет только в том случае, если «обретут мои уста Первоначальную немоту», о чём мечтает поэт. Не хочет приводить в гармонию -«музыку» звуки, которые пребывают в родной безначальной стихии. Не хочет творить. Хочет молчать. О чём и говорит название его стихотворения «Silentium», то есть «Молчание».
А Блок разворачивает перед нами творческую методу Пушкина во всём её многоцветье. Мы помним, что на поэта (Пушкина) возложено три дела.
«Первое дело, которого требует от поэта его служение, – бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира».
Бежит он, дикий и суровый, И звуков и смятенья полн, На берега пустынных вола, В широкошумные дубровы.Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому хаосу», к безначальной стихии, катящей звуковые волны».
«Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу, – констатирует Блок. – Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это – область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу».
И вот «наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью».
Ну, напоминать о том, что Пушкин и Блок имели в виду под «чернью» не безграмотное простонародье вряд ли стоит. Чернь – это вечно мешающая поэту посредница между ним и читателем. Она вводит цензуру, она пытается перетолковывать слова поэта в нужном ей духе.
Итак, в чём же секреты пушкинского мастерства? Прежде всего, в том, чтобы, уметь отрешиться от суетных дел, ради того чтобы расслышать стихийные ритмы, готовые к преобразованию в гармонию. Реформируя их в гармонию, оттачивая их гармоническое совершенство, поэт вносит гармонию в мир, где чаще всего встречает сопротивление черни – чиновничества, как совершенно очевидно именует её Блок: «Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем её объёме уже произведено без них».
Ну, и почему я считаю такую трактовку пушкинского дела лучшей в русской пушкинистике? А потому что вдумывание в три возложенных на Пушкина дела универсально для разбора любого его произведения. Именно следование в данном случае за Блоком приведёт нас к простым и очевидным истинам, о которых он говорит: «Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать».
Причём обратите внимание: Блок даже не упомянул «Пророка» – пушкинского стихотворения, чей герой, с лёгкой руки Владимира Соловьёва, был объявлен «идеальным образом истинного поэта и его сущности и высшем призвании». Блок не упомянул «Пророка», потому что операция, описанная Пушкиным, не оставляет сомнения в том, что «шестикрылый Серафим» заменяет герою стихотворения человеческие органы на внечеловеческие.
Ну, а, лишившись «трепетного» человеческого сердца, получив «жало мудрыя змеи» взамен «грешного» («и празднословного и лукавого») человеческого языка, пушкинский герой утрачивает те самые связи с человечеством, без которых не может не обойтись ни один поэт! Да и миссия его – говорить не от себя, а от того, чьей волей он исполнился! Тогда как Пушкин многажды подчёркивал, что всегда говорит от себя, пишет о себе и для себя!
Пушкин не признавал учительство, нравоучение миссией искусства, потому и проигрывают с его анализом те, кто извлекает из его творчества так называемые «уроки». Помню, как на одной из защит диссертаций вызвал возмущение в зале своим вопросом, обращённым к соискателю: с чего он взял, что Пушкин наделил персонажа собственной чертой? Побывал на спиритическом сеансе?
Боже, что тут началось! Председательствующий уже хотел объявить моё поведение хулиганскими. И тогда я зачитал самого Пушкина, о том, что, по его мнению, нужно драматическому писателю. «Философию, – начинает перечислять Пушкин, – бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода». Что же такое «бесстрастие» как нежелание драматурга вмешиваться в повествование на чьей угодно стороне? И что значит: никакого предрассудка любимой мысли? А то и значит, что не должен драматург сам себе подыгрывать. С чем непременно должен сообразовываться драматический писатель в своём произведении? Разумеется, с той философией, которая отличала реконструированную им эпоху, и с той историей, преподнесённой им не в легендарной, а в государственной упаковке, которая, кстати, и изгоняет предрассудок твоей любимой мысли. Ну, а что до догадливости, живости воображения, то они и помогут внести драматургу гармонию в мир. Вот какие законы признавал над собой драматический писатель Пушкин, патетически называя их: «Свобода» и даже особо подчёркивая это название!
Увы, по моему мнению, большинство прошлых и нынешних прочтений Пушкина восходит именно к «Пророку». Пушкина делают кем угодно: философом, социологом, историком, даже (особенно в последнее время) религиозным проповедником. Но только не поэтом, чьи художественные тексты призваны пробуждать в человеческих душах чувства добрые. К сожалению, верное прочтение Пушкина Блоком оказалось неуслышанным. Или скажем осторожней: прослушанным вполуха!
А между тем, выступая перед смертью с речью о Пушкине, Блок говорил и о том, к чему долго шёл своём творчестве, что преодолевал порой мучительно. Вот какие вещи ему приходилось преодолевать:
Ты оденешь меня в серебро, И когда я умру, Выйдет месяц – небесный Пьеро, Встанет красный паяц на юру. Мёртвый месяц беспомощно нем, Никому ничего не открыл. Только спросит подругу – зачем Я когда-то её полюбил? В этот яростный сон наяву Опрокинусь я мёртвым лицом. И паяц испугает сову, Загремев под горой бубенцом… Знаю – сморщенный лик его стар И бесстыден в земной наготе. Но зловещий восходит угар – К небесам, к высоте, к чистоте.Сколько нужно было приложить усилий, чтобы высвободиться от символистской чепухи, чтобы бросить играть в поэзию, чтобы, скончавшись 7 августа 1921 года (родился 28 ноября 1880-го), предъявить миру внушительный патент на бессмертие, которое вечно несёт в себе живая человеческая поэзия:
Есть минуты, когда не тревожит Роковая нас жизни гроза. Кто-то на плечи руки положит, Кто-то ясно заглянет в глаза… И мгновенно житейское канет, Словно в тёмную пропасть без дна… И над пропастью медленно встанет Семицветной дугой тишина… И напев заглушённый и юный В затаённой затронет тиши Усыплённые жизнию струны Напряжённой, как арфа, души.* * *
Константин Константинович Случевский, родившийся 7 августа 1837 года, поначалу заинтересовал своими стихами Тургенева и особенно Аполлона Григорьева, который написал восторженную статью, предрекая новому поэту большое будущее. Однако критики так называемого демократического лагеря Добролюбов. Курочкин, Минаев отнеслись к стихам Случевского куда прохладней. Достаточно сказать, что, прочитав критиков, Случевский бросил службу в Академии Генерального штаба, подал в отставку и уехал за границу.
Он слушал лекции в Сорбонне, изучал естественные науки и философию в университетах Германии, получил степень доктора философии.
Через 10 лет вернувшись в Россию, он и не подумал печатать свои стихи. Много разъезжая по северу и северо-западу России в свите великого князя Владимира Александровича (Случевский имел чин камергера), он описал эти поездки в очерковых книгах «По северу России. Путешествие Их Имп. высоч. вел. кн. Владимира Александровича и вел. княгини Марии Павловны» и «По северу-западу России».
И только с начала 70-х годов поэт снова начал печатать свои стихи (сперва под псевдонимом).
Одиннадцать лет (1891-1902) Случевский был главным редактором официальной газеты «Правительственный вестник». В последние годы жизни был членом Учёного комитета Министерства народного просвещения, был гофмейстером двора (эта придворная должность и чин 3 класса).
За 10 лет (1890-1900) он выпустил четыре поэтических сборника, пять книг прозы, книги северных очерков, поэмы, драматические сцены в стихах.
Он поселяется в свой усадьбе под Нарвой, – в «Уголке», где по воспоминаниям разводит чудесный сад и пишет книгу стихов, которую назвал «Песни из «Уголка».
Последним своим стихам он вполне осознано даёт названия «Загробные песни».
Вот одна из песен:
И я предстал сюда, весь полн непониманья… Дитя беспомощное… чуть глаза открыв, Я долго трепетал в неясности сознанья Того, что я живу, что я иначе жив. Меня от детских лет так лживо вразумляли О смерти, о душе, что будет с ней потом; При мне так искренно на кладбищах рыдали, В могилы унося почивших вечным сном; Все пенья всех церквей полны такой печали, Так ярко занесён в сердца людей скелет, - Что с самых ранних дней сомненья возникали: Что, если плачут так, – загробной жизни нет?! Нет! надо иначе учить от колыбели… Долой весь тёмный груз туманов с головы… Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели И шествовали в смерть, как за звездой волхвы! Тогда бы верили мы все и безгранично, Что смерть – желанная! что алые уста Нас зацеловывают каждого, всех, лично, - И тайна вечности спокойна и проста!Так на исходе собственной жизни (он умер 8 октября 1904 года) Случевский оказался на пороге нового модернистского течения, которое воспевало блаженство смерти. Течение это образовали старшие символисты, оказавшиеся прямыми наследниками Случевского.
А с другой стороны, современник К. Льдова, Н. Минского, К. Фофанова, А. Апухтина, М. Лохвицкой, Константин Константинович и примыкал к ним, дописывая вместе с ними картину уходящей русской поэзии, запечатлённой такими её представителями, как Фет или Тютчев. Но в отличие от всех своих современников Случевский не то что не скрывал, но даже отчасти демонстративно подчёркивал такую черту характера своего творчества как цинизм. А, демонстрируя её, оказывался в межумочном пространстве:
Я лежу себе на гробовой плите, Я смотрю, как ходят тучи в высоте, Как под ними быстро ласточки летят И на солнце ярко крыльями блестят. Я смотрю, как в ясном небе надо мной Обнимается зелёный клен с сосной, Как рисуется по дымке облаков Подвижной узор причудливых листов. Я смотрю, как тени длинные растут, Как по небу тихо сумерки плывут, Как летают, лбами стукаясь, жуки, Расставляют в листьях сети пауки… Слышу я, как под могильною плитой, Кто-то ёжится, ворочает землей, Слышу я, как камень точат и скребут И меня чуть слышным голосом зовут: «Слушай, милый, я давно устал лежать! Дай мне воздухом весенним подышать, Дай мне, милый мой, на белый свет взглянуть, Дай расправить мне придавленную грудь. В царстве мёртвых только тишь да темнота, Корни крепкие, да гниль, да мокрота, Очи впавшие засыпаны песком, Череп голый мой источен червяком, Надоела мне безмолвная родня. Ты не ляжешь ли, голубчик, за меня?» Я молчал и только слушал: под плитой Долго стукал костяною головой, Долго корни грыз и землю скрёб мертвец, Копошился и притихнул наконец. Я лежал себе на гробовой плите, Я смотрел, как мчались тучи в высоте, Как румяный день на небе догорал, Как на небо бледный месяц выплывал, Как летели, лбами стукаясь, жуки, Как на травы выползали светляки…И здесь он, неплохой мастер стиха, много знающий и умеющий в поэзии, оказался предтечей всё того же модернизма.
8 АВГУСТА
Не могу сравнить с чем-либо подобным. Подумал о «Голосе Америке». Но вспомнил, что его я слышал ещё в 1949 году в смоленской деревне. У дяди был большой ламповый приёмник, и каждое утро часов в 6-7 утра он его включал. Слышимость была прекрасной. Даже по сельсоветовскому телефону связь была хуже. Мы с дядей Гришей слушали последние известия, потом какие-нибудь комментарии на политические темы. Иногда даже музыку или какие-нибудь стихи. Словом, к 8-и, когда дяде Грише было пора вставать и собираться на работу, приёмник был уже выключен с непременным дядиным напутствием: «Умеют врать, собаки!»
О том, что я никому не должен был говорить об этой утренней нашей с дядей зарядке, я был, разумеется, предупреждён. Но у дяди Гриши было столько всего, о чём нельзя было говорить незнакомым, что ни я, ни мои двоюродные братья – дядигришины сыновья, вообще предпочитали не выносить из дому никакой соринки.
Так с чем же это сравнить? Получается, не с чем. В Москве я сидел за круглым нашим столом, который был и обеденным и моим письменным, делал уроки и одновременно прислушивался к чёрной тарелке репродуктора. Сейчас сам удивляюсь: как одно не мешало другому? Сейчас мне любой посторонний шорох мешает, нервирует. А тогда удавалось удерживать внимание и на том, и на этом. Видно, детские нервы эластичнее взрослых.
Какой именно урок я готовил, не помню. Помню только, что ничего трудного в нём не было. Кажется, я решал какую-то задачу по физике. Решал легко, не слишком над ней задумываясь, и всё больше втягиваясь сознанием туда, в мир репродуктора, который рассказывал историю о том, как складывались отношения между мальчиком и девочкой. Их, как магнитом, тянуло друг к другу. Сперва робко, потом смелее они обращались друг к другу, пока не поняли, что каждый уже не может без другого. Особенно прояснила это их недолгая разлука. Особенно сплотила поездка зимой на ночной электричке на дачу к родственнице девочки, у которой были ключи от московской её квартиры, которые она, девочка, забыла, захлопнув дверь. Жутковато стало за ребят, особенно, когда им нужно было пройти вдоль компании парней. Здесь я уже сам ощущал себя этим мальчиком: «Как я буду драться, если обидят любимую!» Обошлось. Парни оказались с добрым юмором. А дальше? А дальше каникулы. Девочка уехала из города. Потом приехала, но мальчик ощущает, что она уже не с ним, что у неё кто-то есть. Она и не собирается ему врать. Она его знакомит с другим парнем постарше, который ей сейчас нравится. А он как же? А он – воспитанный человек. Но хватает его ненадолго. Он ведь любит её, любит! И не хочет огорчать? Но, кажется, не огорчает тем, что потихоньку начинает исчезать из её жизни. Исчез. Она уехала с мужем на Север. Написала ему, чтобы пришёл проводить. Он пришёл – проводил. И уходит из её жизни навсегда, уговаривая себя, что ничего не случилось, что это обычное дело, когда девушка выходит замуж.
О сколько боли! И кто её перенёс – я или он? Я ведь не заметил, что прожил его жизнью. По радио сказали, что рассказ называется «Голубое и зелёное» и что читал его артист Александр Михайлов. Но чей это рассказ? Я не разобрал.
Я потом многим его пересказывал. Никто его не читал. Пересказал своей невесте. Она очень заинтересовалась. Но узнали мы имя автора, когда уже поженились. В букинистическом рядом с домом я вдруг увидел небольшую книжечку. «Называлась «Голубое и зелёное». Автор Юрий Казаков. Я её тут же схватил. И дома мы с женой только что вслух её не читали. Очень нам понравились рассказы этого писателя. Жене ещё полюбился рассказ о собаке «Арктур – гончий пёс».
А потом я познакомился с ним лично. Он, родившийся 8 августа 1927 года, приходил иногда в «Литературную газету». И, надо сказать, знакомство меня разочаровало. Тончайший лирик оказался грубым матерщинником. Впрочем, об этом хорошо написал Евтушенко:
Комаров по лысине размазав, Попадая в топи там и сям, Автор нежных, дымчатых рассказов Шпарил из двустволки по гусям. И грузинским тостам не обучен, Речь свою за водкой и чайком Уснащал великим и могучим Русским нецензурным языком. В темноте залузганной хибары Он ворчал, мрачнее сатаны, По ночам – какие суки бабы, По утрам – какие суки мы. А когда храпел, ужасно громок, Думал я тихонько про себя: За него, наверно, тайный гномик Пишет, нежно пёрышком скрипя. Но однажды ночью тёмной-тёмной При собачьем лае и дожде (Не скажу, что с радостью огромной) На зады мы вышли по нужде. Совершая тот обряд законный, Мой товарищ, спрятанный в тени, Вдруг сказал мне с дрожью незнакомой: «Погляди, как светятся они!» Били прямо в нос навоз и силос. Было гнусно, сыро и темно. Ничего как будто не светилось И светиться не было должно. Но внезапно я увидел, словно На минуту раньше был я слеп, Как свежеотёсанные брёвна Испускали ровный-ровный свет. И была в них лунная дремота, Запах далей северных лесных И ещё особенное что-то, Выше нас, и выше их самих. А напарник тихо и блаженно Выдохнул из мрака: «Благодать… Светятся-то, светятся как, Женька!» - И добавил грустно: «Так их мать!…»Нет, я так благостно живого Казакова не воспринял. Я поражался его беспрерывному мату. Его малому интересу к людям. Он не был похож на застенчивого человека. Но на людей, с которыми его знакомили, почти не реагировал. Оживлялся только, если новый знакомый был из пьющих и доставал бутылку из портфеля. Мы её выпивали быстро, и оказывалось, что знаменитое русское «а поговорить?» не для Казакова. Допив водку, он уходил, не тратя времени на разговоры.
Собственно, почти все свои рассказы он написал до нашего знакомства. Он любил Север, ежегодно туда ездил, писал «Северный дневник», но мне дневник не нравился.
Я знал, что однажды его выпустили во Францию. Он собирал там материал для книги о Бунине – любимом своём писателе. Но книгу не написал, и об этой поездке никогда при мне не рассказывал.
Жил он в подмосковном Абрамцеве, где купил дом на гонорар от перевода на русский казахского романа А.К. Нурпеисова «Кровь и пот». Сперва приезжал в Москву, потом стал жить там безвылазно, выходя утром к магазину и выпивая водку вместе с местными мужиками.
Как хорошо сказал о нём Нагибин, «его будто нарочно выдерживали в абрамцевской запойной тьме».
Его любил Паустовский. Благодаря ему Казакова перевели на Западе. Дали в Италии Дантовскую премию.
Но всё это было давно. Премия, например, в 1970-м. А Казаков прожил после этого ещё 12 лет. (Умер 29 ноября 1982.) Почти не печатаясь.
Много лет прошло после его смерти, когда я решил перечитать его рассказы, благо книг Казакова у меня накопилось много.
И вот произошло то, чему не перестаю удивляться до сих пор, – они мне не понравились. И «Голубое и зелёное», и «Тедди», и «Арктур – гончий пёс», и «Плачу и рыдаю», и «Во сне ты тихо плакал», – словом ничего не понравилось!
Бросилось в глаза то, что прежде не бросалось: его подражательность: то его заносит в ритм Льва Толстого, то почти откровенное слизывание пейзажа у Ивана Алексеевича Бунина.
А главное: как же я не замечал раньше затянутости этой небольшой в общем-то прозы. Ёмкости, ёмкости ей не хватает – вот чего!
* * *
Юрий Николаевич Говоруха-Отрок был очень интересным человеком.
Ещё в гимназии он находится под влиянием революционных демократов – Чернышевского, Писарева, Добролюбова. Позже он со стыдом вспоминал свои юношеские увлечения, называл бывших своих кумиров «не отпетыми мертвецами».
В семидесятых было модно так называемое «хождение в народ». Юрий Николаевич посетил несколько сходок этих «народников». И хотя ими всё и ограничилось, по прибытии в Петербург Говоруха-Отрок был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Состоялся так называемый процесс 193, на котором Говоруху-Отрока оговорили, якобы он хотел ударить ножом какого-то жандармского полковника. Его приговорили к ссылке, но зачли срок пребывания в крепости и выпустили на свободу.
В Петербурге Говоруха-Отрок сблизился с Михайловским и с его «Отечественными записками», где напечатал несколько статей.
В начале 80-х годов он дебютирует как прозаик в петербургских журналах «Слово» и «Вестник Европы». В своих прозаических вещах он довольно резко отзывается о народовольческом движении.
Он живёт в Харькове, где надолго (1881-1889) становится сотрудником газеты «Южный край».
Здесь он провозглашает себя сторонником литераторов, с которыми познакомился ещё в тюрьме: Данилевского, Страхова, Аполлона Григорьева.
На харьковского литератора обратили внимание. Позвали в Москву. С ноября 1889 года он становится ведущим литературным и театральным обозревателем газеты «Московские ведомости».
«Говоруха, – писал близко знавший его литератор, - был прежде всего – до мозга костей православный. Не в какие-нибудь социальные строи верил он, не в программы, а в Бога. Как православный – он был монархист, убеждённый, искренний. Как православный же, он имел ряд требований к личности, конечно, не представляющих ничего общего с тою беспорядочною распущенностью, которую нынче выдают за её свободу. Как православный, Говоруха любил народ за его веру, за его христианскую выработку».
Да, отныне Говоруха-Отрок исходил из постулата, что «лишь в лоне Церкви возможно правильное развитие общества».
Любопытно, что знаменитая фраза Короленко о том, что «человек создан для счастья, как птица для полёта», является полемическим ответом Говорухе, утверждавшему, что «человек существует не для счастья» и «жизнь его есть подвиг страдания и искупления».
«Чтобы касаться отрицательных явлений жизни, – утверждал Ю.Н. Говоруха-Отрок, – художник сам должен сознавать свои человеческие несовершенства, должен сам иметь христианское настроение, которое есть только одно: настроение кающегося мытаря… Гордому, высоко ценящему себя человеку трудно и невозможно поставить себя на одну доску с злодеем, безумцем, отщепенцем или с жалким бродягой, отверженцем общества, с уличным вором, с проституткой, трудно пережить их жизнь, переболеть их язвами, перестрадать их страданиями; трудно признать их равными себе людьми и своими братьями».
Как видим, христианское понимание жизни было главным для Говорухи, который судил произведения своих современников (Льва Толстого, например), исходя из такого понимания.
Говоруха-Отрок оставил очень интересные воспоминания «Тюрьма и крепость», которые давно пора переиздать.
Неплохо было бы переиздать и очень интересный труд Говорухи-Отрока – его книгу «Тургенев», которая не похожа ни на один из бесчисленных анализов писателя. Умер Говоруха-Отрок в 46 лет – 8 августа 1896 года. (Родился 29 января 1850-го).
9 АВГУСТА
Выдающийся пушкинист Лев Борисович Модзалевский родился 9 августа 1902 года. Он был замечательным архивистом, открыл и описал некоторые бумаги известных учёных, которые считались безвозвратно утраченными.
Он научно описал рукописи Пушкина и Ломоносова. Его книги «Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде» (1929), «Разговоры Пушкина» (совместно с С.Я. Гессеном – 1929), «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание» (совместно с Б.В. Томашевским – 1937) являются крупнейшим вкладом в отечественную пушкинистику.
Должно быть, он вырос бы в учёного не меньшего ранга, чем его отец, Б.Л. Модзалевский, член-корреспондент АН СССР, автор комментариев к собраниям сочинений Пушкина.
Но, увы. В 1947 году Л.Б. Модзалевский защитил докторскую диссертацию, готовился работать в Пушкинском Доме. Но 26 июня 1948 года был сброшен из поезда Ленинград-Москва и обнаружен мёртвым в районе станции Вышний Волочок.
* * *
Тяжело читать такое стихотворение:
Что чувствовала я в минуту роковую, И сколько я в тот час перестрадала – То знает Бог, то знает это сердце! Казалось, всё во мне убито было; Способность лишь страдать одна мне оставалась – Способность жалкая! Я все пережила… Я думаю, что самый смерти час Не может быть труднее и ужасней. Смерть – что она? Покой, забвенье, сон, Блаженство, может быть… а в ту минуту Ни умереть и ни уснуть я не могла!О чём оно? О страдании, конечно. Но о таком, что похуже смерти. Что не сравнится со смертью, которая куда желанней, чем вот это навалившееся страдание.
Что ж. Отнесёмся к таким стихам более чем серьёзно. Их автор – Юлия Валериановна Жадовская родилась инвалидом без кисти левой руки и с тремя пальцами на правой.
Блистательно образованная, она обратила на себя внимание П.М. Перевлесского, бывшего семинариста, преподававшего ей русскую словесность. Впоследствии Перевлесский станет профессором Александровского лицея, но сейчас он полностью материально зависит от отца Юлии Жадовской. Отец понимает, что молодой учитель и ученица влюбились друг в друга, и всё делает, чтобы помешать браку дочери с семинаристом. Дочь покорилась воле отца, добавив к физическому недугу сердечный, – до самой своей смерти 9 августа 1883 года она не переставала любить Перевлесского. Родилась 11 июля 1824 года.
* * *
Исай Калистратович Калашников, родившийся 9 августа 1931 года в бурятском селе, был самородком. После пятого класса школы ушёл работать пастухом, вальщиком и сплавщиком леса, плотником, токарем.
Но после того, как опубликовал первый рассказ, был взят сотрудником газеты «Бурят-Монгольский комсомолец». Среднее образование получил в вечерней школе.
В 1959 опубликовал первый роман «Последнее отступление» о гражданской войне в Бурятии. Почти сразу же пишет и публикует повести «Подлесок» и «Через топи». Калашникова принимают в Союз писателей.
И посылают на Высшие литературные курсы при Литинституте. Закончив их, он был избран ответственным секретарём правления Союза писателей Бурятской АССР.
В 1978 году издал роман «Жестокий век».
Увы, он умер рано, не достигнув 50-и: 30 мая 1980 года. В Бурятии чтят его память. В его родном селе Шаралдае открыт дом-музей, перед которым установлен бюст писателя.
10 АВГУСТА
Когда я пришёл работать в 1963 году в Госкино, то узнал, что отдел, куда поступил на службу, киношный фольклор прозвал «жёнским редакторатом». Почему – было понятно. Редакторами сценарной коллегии работали Эля – жена зама главного редактора «Литературной газеты» Ю.Я. Барабаша, Ира – жена зава отделом литературы «Комсомольской правды» Кости Щербакова, жена зама главного редактора «Известий» Григория Ошерова (нашёл, что её инициалы Э.С., но как они расшифровываются, забыл!), была ещё Юренева (имя забыл) – жена очень крупного кинодеятеля.
Первые три редактора казались мне весьма симпатичными. Эля Барабаш, например, перешла на должность главного редактора кинообъединения «Экран» и вместе со всеми боролась с Гостелерадио за выпускаемые фильмы.
Иное дело – её муж.
Он был удивительно, даже невероятно молод для своего поста зама главного редактора «Литературки». Кажется, ему в это время было лет 30. А ведь до газеты он пробыл ещё заместителем главного редактора харьковского журнала «Прапор». Собственно, только этим он и отличался от официозных критиков, которые выступали на страницах газеты, где он был начальником. Как критик он ничем от них не отличался. Помню раскритиковал в «Литературке» рассказ Солженицына «Для пользы дела». Рассказ этот и мне не нравился. И, как выяснилось позже, не нравился и самому автору. Но Барабаш критиковал его с упёрто-партийных позиций.
Позже мне приходилось встречать статьи Барабаша и в «Коммунисте», и в других органах печати. Постепенно я привык к этому догматику.
Я знал, что, став директором ИМЛИ, он вывал Кожинова и Бочарова и предложил им немедленно защитить докторские. Оба отказались. Барабаш не знал, что оба в память о своём старшем друге – Михаиле Михайловиче Бахтине, умершим кандидатом наук, поклялись, что умрут тоже кандидатами.
Потом была какая-то интрига с неизбранием Барабаша членом-корреспондентом Академии. Неизбрание повлекло за собой отставку с поста директора ИМЛИ. Барабаша сделали замом министра культуры СССР. А с 1983 по 1985 годы он возглавлял газету «Советская культура».
Казалась бы, обычная карьера партийного функционера. Тем более что я забыл сказать об обязательной для такого уровня номенклатуры премии. Барабаш получил Госпремию РСФСР 1976 года за скучнейшую книгу с невзрачным названием «Вопросы литературы и эстетики».
Но уже следующую премию получил в 1999-м. За работы о Шевченко и Г. Сковороде. Это была не государственная, а американская международная премия фонда О. и Т. Антоновичей. И получил её Барабаш за дело, а не за место.
Я потом интересовался у своего старшего товарища Лазаря Ильича Лазарева: как получилось, что, начиная с конца 90-х, Барабаш стал активным автором «Вопросов литературы», которые возглавлял Лазарь. Лазарь чуть не расцеловал меня за этот вопрос. «А Бен (Сарнов), – сказал он мне, – до сих пор кривится, говорит, зачем тебе Барабаш?» «А я ответил ему, – ты почитай, что пишет сейчас Барабаш, – тогда поймёшь, что он печатается на обычных условиях». «Скажи Бену своё мнение о Барабаше», – попросил меня Лазарь. Я сказал. Бен недоверчиво хмыкнул.
Но как-то позвонил мне. Сказал, что удивлён: сколько же лет скрывал Барабаш свою истинную сущность, зачем стреножил свой исследовательский талант?
На этот вопрос я ответить не смогу. Порадуюсь за Барабаша, родившегося 10 августа 1931 года, – он в последнее время написал немало интересных статей об украинской литературе.
* * *
Ну как назвать его я уж даже не знаю? Самым любимым писателем? Но это, пожалуй, будет уж слишком! Одним из самых любимых? Да, пожалуй, что так. Во всяком случае, я считаю его гением литературы. И нисколько не удивлюсь, если со мною кто-то не согласится. Я считаю Михаила Михайловича Зощенко, родившегося 10 августа 1894 года, литературным гением, а кто-то его таковым, может, и не считает.
Конечно, нам не хватает определений. Чем, допустим, отличается гений от великого? Ясно, что гений изобрёл нечто такое новое, которого до него не существовало. Ну и что такого изобрёл Михаил Михайлович? А вспомните совет Пушкина «прислушиваться к московским просвирням, они говорят удивительно чистым и правильным языком». Удивительно чистый и правильный язык, которым научил говорить русскую литературу гений Пушкин, был подслушан им у московских просвирен. Вот и Зощенко – о себе: «Я говорю языком, которым говорит улица».
До Зощенко этого языка в литературе не было. А Зощенко его ввёл, утвердил. Больше того на этот язык советской улицы он переложил всю мировую историю. Например:
«Вот было удивительно, когда церковь стала продавать ордера на отпущение грехов. Это у них уклончиво называлось индульгенциями.
Мы, собственно, не знаем, как возникло это дело. Вероятно, было заседание обедневших церковников, на котором, давясь от здорового смеха, кто-нибудь предложил эту смелую идею.
Какой-нибудь там святой докладчик, наверное, в печальных красках обрисовал денежное положение церкви.
Кто-нибудь там несмело предложил брать за вход с посещающих церковь.
Какой-нибудь этакий курносый поп сказал своим гнусавым голосом:
– За вход брать – это они, факт, ходить не будут. А вот, может быть, им при входе чего-нибудь этакое лёгонькое продавать, дешёвенькое, вроде Володи… что-нибудь вкручивать им…
Кто-нибудь крикнул:
– Дешёвенькое тоже денег стоит. А вот, может, нам с каждого благословения брать? Или: водой морду покропил – платите деньги.
Но тут вдруг наш курносый поп, фыркая в руку и качаясь от приступов смеха, сказал:
– А может, нам, братцы, грехи отпущать за деньги? У кого какой грех гони монету… И квиток получай на руки… Ай, ей-богу…
Тут, без сомнения, шум поднялся, смешки, возгласы.
Пожалуй, какая-нибудь высохшая ханжа, воздев к небу руки, сказала:
– А как же бог-то, иже еси на небеси?
Курносый говорит:
– А может, мы для него и стараемся… Я только, братцы, другого боюсь – вдруг не понесут деньги… Народ форменный прохвост пошёл […]»
И вот – тем же самым языком о сегодняшней, то есть современной Зощенко, жизни:
«В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах вопрос довольно острый. Проблема кадров ещё не разрешена окончательно, а тут, я извиняюсь, – женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче не много. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие: или уж женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни.
И вот при такой ситуации живёт в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза.
Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. «А-а, – думает, – ерунда!…» А потом видит – нет, далеко не ерунда!… Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала.
И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своём горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила. Поскольку муж у ней помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе, усиленно питалась. Она пила молоко по два литра в день. И от этого питания она прямо распухла и имела здоровье очень выдающееся. И, наверно, оттого к ней стали заходить в голову разные лёгкие, воздушные мысли о супружестве.
И вот, значит, она пьёт молоко около года, всё больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей.
Неизвестно, с чего у них началось. Наверно, она пришла на кухню и разговорилась. Вот, мол, продукты дорожают. Молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит:
– Да, мол, безусловно, чего-чего, а этого мало!
Зубной врач говорит:
– Зарабатываю подходяще. Всё у меня есть – квартира, обстановка, деньжата! И сама, говорит, я не такое уж мурло. А вот подите же, вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай!
Молочница говорит:
– Ну, говорит, газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать.
Зубной врач отвечает:
– В крайнем случае я бы, говорит, и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака.
Молочница спрашивает:
– А много ли вы дадите?
– Да, – говорит врачиха, – смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца три я бы дала, не моргнув глазом.
Молочница говорит:
– Три, говорит, это мало. Давайте пять червонцев, тогда я вам подыму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек.
– Да, может, он не интеллигент, – говорит врачиха, – может, он крючник? За что я буду давать пять червонцев?
– Нет, – говорит, – зачем крючник. Он очень интеллигентный. Он – монтёр.
Врачиха говорит:
– Тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды.
И вот на этом они расстаются.
А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного её супруга.
Но крупная сумма её взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи.
И вот приходит она домой и говорит своему супругу:
– Вот мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей пятьдесят схватить так себе, здорово живёшь, без особых хлопот и волнений.
И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та сдуру возьмет да и отсыплет ей пять червонцев.
– И, – говорит, – в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составит труда. Сегодня ты распишешься, а завтра или там послезавтра – обратный ход!
А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина, с усиками, так ей говорит:
– Очень отлично. Пожалуйста! Я, говорит, всегда определённо рад пятьдесят рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки – записаться!
И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом.
Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги.
Теперь складывается такая ситуация.
Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно на её апартаменты и пока что живёт там.
Так он живёт пять дней, потом неделю, потом десять дней.
Тогда приходит молочница.
– Так что, – говорит, – в чём же дело?
Монтёр говорит:
– Да нет, я раздумал вернуться! Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается.
Тут, правда, он схлопотал по морде за такое своё безобразное поведение, но мнения своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про всё, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан.
Правда, молочница ещё пару раз заходила на квартиру и дико скандалила, требуя возврата своего супруга, однако ни черта хорошего не вышло. Больше того – ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм.
Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга».
Герой Зощенко не зря свидетельствует в одном из рассказов: «Я, говорит, уже много лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, чего боюсь…» Зощенко и показал, чего мог бояться его герой. Он, присматривающийся к нашей стране много лет, мог бояться, что другие её увидят именно такой, какой видел её он.
До сих пор писатели измышляли какие-либо страны. Ну, например, Лилипутию или Великанию. Но вымышленные страны, как бы реально они не были написаны, всё-таки оставались вымышленными.
Зощенко начал с изучения языка, как если б это был иностранный. То есть, он и был совсем не тот, на каком говорил сам Зощенко и его старшие друзья. Этот язык новой улицы Зощенко назвал «обезьяньим», то есть подражательным. Кому? Новым властям. Точнее, новой власти, о которой было сказано, что граждане отныне и есть эта власть. То есть, это был новый, данный гражданам язык, на котором они заговорили.
Итак, Зощенко приступил к его изучению:
«Началось дело с пустяков.
Мой сосед, не старый ещё мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:
– А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
– Пленарное,– небрежно ответил сосед.
– Ишь ты,– удивился первый,– то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.
– Да уж будьте покойны, – строго ответил второй.– Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался – только держись.
– Да ну? – спросил сосед.– Неужели и кворум подобрался?
– Ей-богу,– сказал второй.
– И что же он, кворум-то этот?
– Да ничего,– ответил сосед, несколько растерявшись.– Подобрался, и всё тут.
– Скажи на милость,– с огорчением покачал головой первый сосед.– С чего бы это он, а?
Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:
– Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания… А мне как-то они ближе. Всё как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня… Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.
– Не всегда это, – возразил первый. – Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да – индустрия конкретно.
– Конкретно фактически,– строго поправил второй.
– Пожалуй, – согласился собеседник.– Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда…
– Всегда, – коротко отрезал второй.– Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься….»
Изучив язык советской улицы, Зощенко изучил страну как никто. И представил её миру.
Эта была уже не вымышленная, а всамделишная страна со специфическим умением советского человека ориентироваться в окружающем его мире.
Мой старший товарищ Бенедикт Сарнов рассказывал, что когда Паустовский оказался впервые в 1956 году в Париже, он встретил там русскую эмигрантку первого поколения и «испытывал прямо-таки физическое наслаждение, слушая её русскую речь». «Мы отвыкли от такого языка, – говорил Паустовский. – Мы говорить на нём уже не умеем».
А вот что рассказали Сарнову про такую же русскую даму, которая попала на концерт Александра Галича.
«На концерте Галича, напряжённо вслушиваясь в его песни, в эти привычные, такие естественные для нас галичевские словечки и выражения («Я возил его, падлу, на «Чаечке», «Ты, бля, думаешь, напал на дикаря, а я сделаю культурно, втихоря…», «Схлопотал строгача – ну и ладушки…», «Тут его цап-царап – и на партком!», «Индпошив – фасончик на-ка выкуси!»), она обернулась к человеку, сидящему в соседнем кресле, и с искренним недоумением спросила:
– На каком языке он поёт?»
Тот, которого она спросила, мог исчерпывающе точно ответить, что Галич поёт на языке страны, изображённой Зощенко.
Гениальность Зощенко, на мой взгляд, состоит в том, что он абсолютно точно передал язык улицы, на котором выразил самую свою суть новый человек, абсолютно не известный миру до Зощенко, скончавшегося 22 июля 1959 года.
Это надо хорошенько понять. В моём смоленском деревенском детстве акали, говорили «исть» вместо «есть», в моей волжской юности «окали». У так называемых писателей-деревенщиков мы встретим немало диалектизмов. Но они не выражают характер героев, не передают их натуру. Как и прежде в литературе, все эти диалектные словечки призваны укрепить прописку героя в такой-то местности.
А у Зощенко все говорят одним и тем же обеднённым, хамским, не уважающим друг друга языком. Таким языком литература до Зощенко не говорила. И такую страну не показывала.
* * *
Как хотите! А меня убеждает даже только начало этого исследования:
«С самого появления своего в 1928 году «Тихий Дон» протянул цепь загадок, не объяснённых и по сей день. Перед читающей публикой проступил случай небывалый в мировой литературе. 23-х-летний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности (4-х-классный). Юный продкомиссар, затем московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне, опубликовал труд, который мог быть подготовлен только долгим общением со многими слоями дореволюционного донского общества, более всего поражал именно вжитостью в быт и психологию тех слоев. Сам происхождением и биографией «иногородний», молодой автор направил пафос романа против чуждой «иногородности», губящей донские устои, родную Донщину, – чего, однако, никогда не повторил в жизни, в живом высказывании, до сегодня оставшись верен психологии продотрядов и ЧОНа. Автор с живостью и знанием описал мировую войну, на которой не бывал по своему десятилетнему возрасту, и гражданскую войну, оконченную, когда ему исполнилось 14 лет. Критика сразу отметила что начинающий писатель весьма искушён в литературе, «владеет богатым запасом наблюдений, не скупится на расточение этих богатств» («Жизнь искусства», 1928, № 51; и др.). Книга удалась такой художественной силы, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера, – но лучший 1-й том, начатый в 1926 г., подан готовым в редакцию в 1927-м; через год же за 1-м был готов и великолепный 2-й; и даже менее года за 2-м подан и 3-й, и только пролетарской цензурой задержан этот ошеломительный ход. Тогда – несравненный гений? Но последующей 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп».
Книга И.Н. Медведевой-Томашевской «Стремя Тихого Дона» вышла после смерти исследовательницы. Но известность ей принёс Солженицын, который, надо отдать ему должное, подталкивал Ирину Николаевну закончить книгу.
До этого она была известна как автор очень толковой книги «Горе от ума» А.С. Грибоедова».
Вообще-то обвинение Шолохова в плагиате прозвучало не впервые. Ещё в 20-х, после выхода 2 томов, была создана специальная комиссия для проверки, как на самом деле обстояло дело. Но комиссии хода не дали. Полагаю, что свою роль здесь сыграл Сталин, который удивительно мягко относился к Шолохову. Даже снизошёл до ответа ему, пожаловавшемуся на раскулачивание.
Правда, и Шолохов вроде удовлетворился ответом. Больше он Сталину ни на что не жаловался.
Ирина Николаевна Медведева, ставшая женой крупнейшего нашего литературоведа Б.В. Томашевского, родилась 10 августа 1903 года. Окончила Ленинградский институт истории искусств. Кроме мужа, её учителями были Ю.Н. Тынянов, В.М. Жирмунский, Г.А. Гуковский, Л.В. Щерба, Б.М. Эйхенбаум. Школа солидная. Дружила Ирина Николаевна с Анной Ахматовой, и когда после известного постановления ЦК Ахматову лишили средств к существованию, Ирина Николаевна организовала оказание ей постоянной помощи.
Я не буду вдаваться в дурацкий, на мой взгляд, спор с ней по поводу «Тихого Дона». Тем более что при жизни КГБ её не вычислил: с ней не спорили. Спорили с Солженицыным, опубликовавшим книгу под псевдонимом. Но КАК спорили? Вдруг оказались найденными несколько черновых шолоховских страниц, которые прежде считались утерянными. Их опубликовал «Огонёк». Но не нужно быть графологом, чтобы определить задачу: странички были аккуратно переписаны с печатного текста, что-то там было зачёркнуто, потом восстановлено. Словом, огоньковская публикация свидетельствовала: Шолохов над «Тихим Доном» работал.
А вот когда после перестройки и смерти Ирины Николаевны (26 октября 1973 года) её книга появилась в России, чудесным образом появилась и большая рукопись, спрятанная якобы Шолоховым у знакомого и забытая там.
Я знаю, что Шолохов страдал алкоголизмом. Но не настолько же он пропил мозги, чтобы забыть о рукописи в момент, когда мировое общественное мнение открыто обвиняло его, что он не писал «Тихого Дона»! Найденная рукопись переходила от автора к автору. Обнаружил её якобы журналист Лев Колодный, находилась рукопись у некой Н.В. Кудашевой, а купила рукопись на деньги, выделенные для этого Путиным Российская академия, передавшая её в архив Института мировой литературы. Тогда его директором был Феликс Кузнецов, который и описал рукопись в своей книге.
Всё! Больше нам ничего не известно. А ведь рукопись, как и те огоньковские странички, представляет собой списывание с готового текста, а для подлинности, где-нибудь являет что-нибудь зачёркнутое и восстановленное. Зачёркнутого много. Восстановленного тоже. Но ведь здесь старались на 4 тома.
Главное: так и не опровергнут основной тезис Ирины Николаевны: почему в течение 45 лет у Шолохова не появилось не подобное даже, а хотя бы приблизительно подобное?
* * *
Ну то, что из всех шахматистов я особенно выделял Василия Смыслова, был его болельщиком, – это объяснимо. Смыслов когда-то учился в нашей 545-й мужской школе, его помнил, например, немолодой наш учитель математики Исаак Львович Агранович. «Блестящим учеником Вася не был, – говорил он. Потом после некоторого раздумья: – Отличником он тоже не был, но в шахматы, – вздыхал, – играл, как бог». Поговаривали, что Исаак Львович и сам увлекался шахматами, но не слишком сильный в математике ученик его обыгрывал. Было от чего вздыхать, вспоминая…
А вот почему задолго то того, как удалось мне побывать на стадионе, слушавший только репортажи о футбольных матчах по репродуктору, я болел за ЦДКА, объяснить не возьмусь. Притягивало само название футбольного клуба, приятно было слышать, как произносит его комментатор Вадим Синявский, неизменно расшифровывая слово, когда объявлял составы команд: «Центральный Дом Красной Армии». Футбольные позывные по радио напоминали переливчатый звон колокольчиков, услышав их, я радостно настораживался и сердцем отзывался на знакомые модуляции волшебного голоса: «Внимание! Говорит Москва! Наш микрофон установлен на московском стадионе «Динамо». Мы ведём репортаж о футбольном матче на первенство Советского Союза между командами…»
Я так привык к этому началу, что однажды ухо сразу же зафиксировало разницу: слово «матч» Синявский не произнёс. Он сказал, что ведёт репортаж о футбольном «состязании». Да и дальше в том же репортаже исчезли «голкипер», «бек», «хавбек», «форвард». Вадим Святославович Синявский, родившийся 10 августа 1906 года, и раньше мог сказать: «вратарь», «защитник», «полузащитник», «нападающий», но говорил и так и так – то называл вратаря «вратарём», то «голкипером». А уж «аут» или «корнер» произносил постоянно. Тем более – «пенальти», «пендаль», как мы называли его во дворе. А сейчас: «Ай-яй-яй! Судья показывает на одиннадцатиметровую отметку. Одиннадцатиметровый штрафной удар!»
Не стану утверждать, что сразу понял, в чём тут дело, но недоумение возникло тотчас: для чего Синявский отказывается от коротких энергичных слов, которые так уместны в темпе его стремительного репортажа? Кому не ясно, что означает «аут»? Ведь пока произнесёт Синявский: «Мяч вышел за боковую линию», игрок уже успеет вбросить этот мяч! А кто не знает, что «корнер» – это угловой удар?
Но уяснил я себе, в чём дело, довольно быстро и никого ни о чём не расспрашивая. Отец выписывал то «Правду», то «Известия», я газету прочитывал, начиная с передовой. Сейчас сам этому удивляюсь: что меня тогда привлекало в безликих материалах? Однако в одной из заметок (то ли в передовой, то ли в подписанной автором, не помню) прочитал, что ещё Ломоносов особо хвалил русский язык, который вобрал в себя всё лучшее из языков мира (мне особенно запомнилось «великолепие гишпанского» из-за смешного созвучия с шампанским). Поэтому, писала газета, не следует засорять язык великого народа иностранными словами.
Значительно позже, читая «В круге первом», я удивлялся Солженицыну, который заставил своего Сологдина действовать в унисон с официозом тех лет, которые описаны в романе. Ещё через какое-то время, прочитав другие солженицынские вещи, я этому удивляться перестал.
А тогда, после газетной статьи, понял я, почему вместо «матч» Синявский стал говорить «состязание». Когда я поделился своим открытием со старшим братом отца, он усмехнулся:
– «Футбол» – тоже не русское слово. Синявский должен говорить о состязании по игре ногой в мяч!
Старший брат отца относился ко мне с доверием. От него, а не от моего отца узнал я, что их отец, а мой дед, колхозный бухгалтер на Смоленщине, был арестован в 1937 году и получил от судившей его «тройки» 10 лет без права переписки. О том, что такой приговор означал смерть и что деда расстреляли через два месяца после ареста за шпионаж (кто мог завербовать его в глухой деревне, и какие ценные сведения он мог бы передавать оттуда?), нам сообщили уже после смерти Сталина. Но о том, что деду предъявили политическую 58-ю статью, дядя Миша сказал мне, мальчишке. И просил не обсуждать этого с отцом. «Он верит, что наш отец был вредителем», – горько сказал о нём брат.
А здесь, слушая мои размышления о репортажах Синявского, дядя Миша спросил, ходил ли я в булочную и обратил ли внимание…
– Обратил, – радостно сказал я. – Французскую булку переименовали в городскую.
– А канадский хоккей в хоккей с шайбой, – сказал дядя Миша. И добавил: – Делай выводы!
Выводы я начал делать рано. К ним подтолкнул меня мой любимый Синявский, заменявший мне целый стадион. Впрочем, он, скончавшийся 3 июля 1972 года, не виноват, конечно, в этих языковых подменах. Не по его инициативе пошла гулять по стране ядовитая фраза: «Россия – родина слонов»!
11 АВГУСТА
Поразительная судьба! Или, с другой стороны, что же здесь удивительного? Холопы развлекались и посмешней.
Актриса Московского театра Моссовета познакомилась с наркомом морского флота Петром Ширшовым. Было это в 1941 году. Ширшов только что отправил свою семью в эвакуацию. Ему приходилось много разъезжать по служебным делам, и всюду его сопровождала любимая – актриса Евгения Александровна Гаркуша.
Семья Ширшова вернулась в Москву. Но Евгения уже родила министру дочь. И он остался с ними.
Но поскольку официально оформлены их отношения не были, постольку Берия в 1946 году на одном из приёмов подошёл к Гаркуше и сделал ей непристойное предложение. Та ответила прилюдной пощёчиной.
Через несколько дней на дачу к Ширшовым заехал их хороший знакомый, заместитель Берии Виктор Абакумов. «Что у вас с телефоном? – поинтересовался он. – Не работает? В театре волнуются: вас вызывают, а никто не отвечает».
Гаркуша села в машину к Абакумову, бравшемуся доставить её в театр. Но машина в театр не заехала…
Почти через год по обвинению в шпионаже Гаркушу осудили на 8 лет лагерей и отправили отбывать наказание в лагерь посёлка Омчак Магаданской области.
11 августа 1948 года Гаркуша приняла в лагере смертельную дозу снотворного (родилась 8 марта 1915-го). От самоубийства наркома Ширшова удержала двухлетняя дочь. Но он быстро истаял и умер в 47 лет.
* * *
Анна Фёдоровна Тютчева, дочь поэта и жена литератора Ивана Аксакова, до замужества была фрейлиной цесаревны Марии Александровны. Та оценила умную, начитанную, самостоятельно мыслящую девушку. Назначила её воспитательницей своих младших детей.
Выйдя замуж, Анна Фёдоровна была верным союзником и помощником мужа-славянофила.
Еще до замужества, а потом и почти до конца жизни Анна Тютчева вела дневник. Аксаков посоветовал ей взяться за воспоминания. Они вышли и имели успех у читателей.
Супруги жить не могли друг без друга. И это была не красивая фраза. В 1886 году скончался Иван Сергеевич. Отныне жизнь Анны Фёдоровны была посвящена покойному мужу: она привела в порядок его архив, подготовила к публикации его переписку. И начала её публикацию, которая продолжалась недолго: 11 августа 1889 года Анна Фёдоровна Тютчева умерла (родилась 21 апреля 1829-го).
А в книге её мемуаров «При дворе двух императоров» она создала на редкость колоритные портреты российских вельмож в момент смены двух исторических эпох.
* * *
Я помню, как поздравлял Валерия Васильевича Дементьева, родившегося 11 августа 1925 года, с избранием секретарём Союза писателей РСФСР. У нас с ним сложились хорошие отношения. Он никогда не отказывался посетить «круглый стол» «Литературной газеты» по поэзии, не отказывался и от публикаций, которые ему предлагали.
Нет, он не стал бонзой на посту секретаря. Был так же приветлив и радушен. Звал в командировки от Союза.
Однажды мы с ним и с покойным Александром Панковым приехали в Ленинград. Он оказался ещё и хорошим рассказчиком. Рассказывал немало баек из своей военной юности. По правде, некоторые показались мне неправдоподобными. Но потом я узнал: всё так и было.
Добрым словом вспоминал он отца нынешнего критика Олега Шайтанова, который (отец) был деканом филологического факультета Вологодского пединститута. Дементьев этот институт и окончил. Одновременно начал печататься как поэт. И даже издал в Вологде книжку стихов.
Однако в аспирантуру Литературного института поступил как критик поэзии. Им и остался. Первую свою критическую книжку издал о Степане Щипачёве. А дальше – о А. Прокофьеве, о Мартынове, о Смелякова, о С. Орлове.
Хороши ли были эти книги? Не очень. Валерий Васильевич анализом поэтического текста не владел. Подменял его публицистическими пересказами. Как многие советские критики.
Умер 22 ноября 2000 года. Увы, литературного следа он о себе не оставил. Но человеческий в душах тех, кто его знали, – несомненно. Потому и вспоминаю о нём.
* * *
Об Анне Алексеевне Олениной, рождённой 11 июля 1808 года, чего только не придумывали. Будто бы собираясь к ней свататься, Пушкин сказал: «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я слажу сам». Сплетня, конечно. Во-первых, уж выражено это как-то совсем не по-пушкински. А, во-вторых, Пушкин не очень любил распространяться о себе.
На самом деле Пушкин сватался, но получил отказ. Причём решительный. Отец Анны Алексей Николаевич, статс-секретарь Департамента гражданских и духовных дел, участвует в заседании Государственного Совета, который выносит решение учредить за Пушкиным тайный надзор. Такого зятя Оленин иметь не хочет. Пушкину отказано. (Тайный надзор был связан со стихотворением Пушкина «Андрей Шенье».)
Новое оживление пушкинских матримониальных намерений по отношению к Олениной последовало очень скоро после того, как Пушкину удалось умять скандал, связанный с «Гаврииллиадой». И снова Пушкин терпит неудачу.
На дворе стоит 1828 год. В 1829-м внимание Пушкина переключится на будущую свою жену Наталью Николаевну.
Что же всё-таки происходило в душе Олениной. Ведь родители родителями, но люби Оленина Пушкина, им бы не так просто было бы расстроить их брак.
Через много лет занавес над отношениями молодых приподнимает внучатый племянник Олениной композитор Александр Алексеевич Оленин:
«Я знал мою тётушку в 80-х годах прошлого столетия, когда она из Варшавы приезжала гостить в Москву к моему отцу – её родному племяннику, бывшему в эти года директором Строгановского училища технического рисования. – Это была древняя, но тем не менее бойкая старушка, сохранившая и память, и ясность ума. По вечерам она любила нам рассказывать о своих молодых годах. Ведь она знала решительно всех выдающихся своим умом и талантами лиц, бывавших в доме её отца. С особенной теплотой она вспоминала о Пушкине, о его блестящих дарованиях, о том, что где бы он ни показывался, он сейчас же делался центром собрания. Меня очень интересовало – почему она не вышла за него замуж. Она всегда отмалчивалась, но в конце концов можно было вывести такое заключение: она не была настолько влюблена в Пушкина, чтобы идти наперекор семье. Семья же её была против этого брака, ввиду главным образом бурной, неудержной натуры Пушкина, которая по её понятиям не могла обеспечить тетушке мирное благоденственное житьё. Тем не менее тетушка была весьма увлечена Пушкиным. – Это видно из того, что она имела с ним тайные свидания».
Не подумайте плохого. «Тайные свидания» были весьма чинными прогулками девушки с влюблённым поэтом под присмотром её англичанки.
Скончалась Анна Алексеевна 18 декабря 1888 года.
* * *
Софья Яковлевна Парнок, родившаяся 11 августа 1885 года, известна даже не своими стихами, а как адресат цветаевских стихотворений. Потом, влюбившись ещё раз в актрису Художественного театра Софью Голлидей, Цветаева напишет повесть «Сонечка». Но Софью Парнок она Сонечкой не называет, только Софьей.
Не потому, что любит меньше. А потому, что Парнок старше Марины на семь лет, а Голлидей на четыре года младше. И всё же, судя по тому, что запечатлело творчество Марины Цветаевой, Парнок была её страстью, её ревностью, её некогда единственным человеком, который был ей нужен.
Хороши ли были стихи Парнок? Мне кажется, нет. Хотя писала она много. Переводила. Старалась заработать. Умерла почти голодной смертью.
А стихи?
Ну вот – её стихотворение:
Дай руку, и пойдём в наш грешный рай!… Наперекор небесным промфинпланам, Для нас среди зимы вернулся май И зацвела зелёная поляна, Где яблоня над нами вся в цвету Душистые клонила опахала, И где земля, как ты, благоухала, И бабочки любились налету… Мы на год старше, но не всё ль равно,- Старее на год старое вино, Еще вкусней познаний зрелых яства… Любовь моя! Седая Ева! Здравствуй!Нравится? Мне, повторяю, нет. Умерла Софья Парнок 26 августа 1933 года.
12 АВГУСТА
Что оставил после себя русский писатель Пётр Дмитриевич Боборыкин, умерший 12 августа 1921 года?
Не романы, повести, которых написал больше 30-и и которые были встречены без особого читательского энтузиазма.
Нет, вообще-то его почитывали и порой похваливали. За границей, где он жил довольно длительное время, он познакомился с Золя, Гонкуром, Доде. Нравились ли им его книги, не известно. Во всяком случае, в 1900 году в России избрали его почётным академиком, что добавило ему уважения заграничных знакомых.
Про Боборыкина известно также, что именно он впервые дал своему роману название «Василий Тёркин». И хотя не секрет, что герой Твардовского возник из газетного фольклора боевого листка, издававшегося на финской войне, мы не можем утверждать наверняка, что первый литератор или журналист, употребивший тогда это имя, не слямзил его у Боборыкина.
Правда, «Василий Тёркин» – далеко не самая известная книга Петра Дмитриевича. Уж если на то пошло, то его «Китай-город» куда известней. В этом романе Боборыкин с такой тщательностью выписывает, как приготовить закусочный салат «Ерундопель», что салат немедленно был взят на вооружение московскими ресторанными поварами.
И правда, чего тут сложного? «Картофель отвариваем, очищаем и охлаждаем. Нарезаем картошку и свежие огурцы мелкими кубиками. Филе селедки режем на мелкие кусочки. Размер кусочков примерно соответствует размеру кубиков картошки. Измельчаем зеленый лук. Заливаем майонезом и перемешиваем. Солим по вкусу».
Ерунда? Не ерунда, а «Ерундопель». Попробуйте под водку.
Но главное, что оставил после себя Боборыкин, родившийся 27 августа 1836 года, – это даже не «Ерундопель». Боборыкин обогатил русский язык словом «интеллигенция». Он объяснил, что заимствовал его из немецкого, где оно обозначало тот слой общества, который занимается интеллектуальной деятельностью. Но смысл, который вкладывал в это слово Боборыкин, не позволял именовать так работников умственного труда. Интеллигенция по Боборыкину – это представители «высокой умственной и этической культуры», не обязательно получившие образование, но обязательно сумевшие духовно образовать собственные души.
Так что когда Британский словарь толкует понятие «Intelligency»: «от русского «интеллигенция», он подтверждает право Боборыкина на этот термин.
* * *
Фёдор Иванович Буслаев – не просто великий русский филолог, он ещё и крупнейший специалист по иконографии, стенной живописи, книжного орнамента и других видов древнего искусства, по которым написал фундаментальные исследования.
Умерший 12 августа 1897 года (родился 25 апреля 1818-го), он оставил знаменитую «Историческую грамматику русского языка», где обозначил себя сторонником сравнительно-исторического метода в изучении русского языка.
В двухтомных «Исторических очерках русской народной словесности и искусства» он выступил представителем мифологической школы в российской науке. Разделял взгляды сторонников миграционной теории, объяснявшей сходство фольклорных сюжетов и эпизодов у разных народов заимствованием. Занимался изданием древних рукописей и изучением икон.
Оставил богатейшую библиотеку, которую его вдова передала в дар Московскому университету. По описи университет получил около 1430 томов книг по истории искусства (византийского, древнерусского, итальянского); западноевропейскую литературу, старопечатные книги XVI-XVII вв., древние рукописи.
* * *
О Томасе Манне, скончавшемся 12 августа 1955 года (родился 6 июня 1875-го), особо распространяться не буду. Известнейший писатель, лауреат Нобелевской премии, называвший себя учеником Достоевского и Л. Толстого, увлекавшийся психоанализом.
Его романы, начиная с «Будденброков» и кончая «Доктором Фаустусом» – сложнейшие, многоглагольные вещи. Любители закрученной интриги, неторопливого её разворачивания, философских эссе, которые даются то вставками, то непосредственно в речах персонажей, почерпнут для себя много удовольствия, читая рассказы и романы Томаса Манна.
Я же являюсь поклонником его романа «Признание авантюриста Феликса Круля». Ни одно произведение Томаса Манна мне не нравится, как это. Очень жаль, что Манн не успел его закончить.
* * *
2 августа 1822 года Пушкин пишет оставшиеся в рукописи заметки, которые его публикаторы назвали «Заметками по русской истории XVIII века». В принципе правильнее, наверное, было бы их называть заметками о царствовании Екатерины II, потому что в основном они посвящены ей. В частности, молодой Пушкин много пишет о её непоследовательности и даже фарисействе. К примеру, «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешёл из рук Шишковского в темницу, где и находился до самой её смерти». Шишковский (сейчас мы пишем фамилию несколько иначе: Шешковский), объясняет в сноске Пушкин, – «домашний палач кроткой Екатерины». Что же до русского просветителя Николая Ивановича Новикова, то он попал Екатерине под горячую руку после расправы над Радищевым, чьё «Путешествие из Петербурга в Москву» сильно напугало императрицу.
Казалось, самой большой заботой князя генерала Александра Александровича Прозоровского, назначенного в 1790 году главнокомандующим Москвы, стало засыпать императрицу доносами на просветителя. Встревоженная, Екатерина посылает в Москву своего секретаря графа Безбородко для производства негласного дознания. Ничего компрометирующего Новикова тот не находит. Прозоровский не унимается. Екатерина предписывает ему расследовать, не печатает ли Новиков, вопреки закону, церковные книги. Нет, оказывается, не печатает. Отчаявшись найти хоть какие-то доказательства противоправных действий Новикова, Прозоровский просит императрицу прислать в Москву Шешковского, великого мастера такие доказательства выколачивать. Но не слишком ли много будет чести для жертвы везти к ней палача? «Кто более матери-истории ценен»? Жертв много, а палач – товар штучный! Так Новиков оказался в Петербурге, в Шлиссельбургской крепости, где после свиданий с Шешковским был приговорён к смертной казни за «обнаруженные и собственно им признанные преступления», «хотя он и не открыл ещё сокровенных своих замыслов». Очень возможно, что Прозоровский остался недоволен решением человеколюбивой императрицы заменить смертную казнь Новикову 15 годами крепости. Но что тот упечён, наконец, в темницу, Прозоровский, конечно, был рад.
Надо сказать, что Новиков давно досаждал Екатерине своим независимым характером, проявившимся и в издаваемых им журналах «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», и тем, как поставил Новиков в России само книжное дело, чрезвычайно удешевив книги, способствуя этим возникновению общественного мнения.
Люто ненавидевший мать, император Павел I в первый же день своего восшествия на престол освободил Новикова. Но вошедший в крепость, как вспоминают современники, полон здоровья и сил, Новиков вышел из неё «дряхл, стар, согбен». По здоровью он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности, и провёл последние дни в своём родовом имении Тихвинское-Авдотьино близ села (ныне города) Бронницы Московской губернии, заботясь о нуждах своих крестьян, об их просвещении. Умер 12 августа 1818 года. Родился 8 мая 1744 года.
* * *
Об этой поэтессе очень хорошо написал поэт Александр Зорин. То есть начал-то он с описания, как слушал Нонну Слепакову отец Александр Мень: «Помню, как просиял он, услышав её стихотворение «Простодушный плач». Это было в научно-исследовательском институте под Москвой. Священника уже допустили в открытые аудитории, и однажды он попросил меня пригласить поэтесс на выступление в Черноголовке, научном центре. Это был 88-й или 89-й год, начало марта. Нонна приехала из Питера и гостила у нас дома. Тамара Жирмунская, Таня Бек и Нонна Слепакова во главе с батюшкой предстали публике, собравшейся по случаю Международного женского дня. Кажется, отец говорил о роли женщины в христианском браке. Поэтессы читали стихи. Стихотворение «Простодушный плач» о коте, который недавно помер, но живёт, наверное, в иных мирах. Стихи грустноватые и чуточку озорные. «Там, усвоив эту байку, / Кот воссядет, как мудрец, / Терпеливо ждать хозяйку / – И дождётся наконец. / Если ж я не встречу тамо / Рыжей ласки и ума – / Так тот свет, замечу прямо, / Никакой не свет, а тьма».
Однажды дочка писательницы Марины Веховой, шестилетняя девочка, спросила отца Александра о своей собаке – есть ли у неё душа и встретит ли она Чапу после смерти? Священник ответил и ей, и её родителям (цитирую М. Вехову): «На этот счет существует две точки зрения. Первая: у животных есть душа, но нет духа, и эта душа возвращается после смерти собаки в общую «собачность» – как бы в некую собачью идею, из которой она и происходила. Вторая: мы одухотворяем всё, что любим. И животные приобретают индивидуальность благодаря нашей любви. Тогда, после нашей смерти, все те, в кого мы вкладывали часть себя, устремляются к нам… Мне лично эта версия ближе. Я хотел бы, чтобы после моей смерти мои любимые собаки встретили меня, весело размахивая хвостами…»
Эта обнадёживающая шутка перекликается со слепаковской, озорно заглянувшей в жизнь будущего века».
Нона Менделевна Слепакова написала немало ярких стихов, хотя жизнь к ней была несправедливой: её известность подчас не выходила за пределы её родного Ленинграда.
Правда, лично я узнал её по книге «Петроградская сторона» (1985), оценил её стихи. Они запомнились, как запомнилось само имя автора.
А дальше я прочитал такие её книги, как «Очередь» и «Полоса отчуждения» (обе вышли в 90-х) и увидел, что имею дело с замечательным поэтом.
Вот – из любимых:
В моей смерти прошу никого не винить, Никого не судить, не карать, И особо прошу я меня извинить Тех, кто будет мой труп убирать. Ничего! Бормотухой противность зальют, А закуска придёт с ветерком: Отдавая мне свой чёрно-жёлтый салют, Крематорий дохнёт шашлыком. И тогда замешаюсь я в снег или дождь, В заводские втемяшусь дымки. На кудрях меня будет носить молодёжь И на шапках носить старики. Я влечу в твои сумки с картошкой, родня, Я прилипну к подошве ноги. И тогда ты простишь наконец-то меня И зачислишь в друзья, не враги. И тогда-то узнает меня вся страна, Только мёртвых умея ценить. Прожила я одна, и уйду я одна И прошу никого не винить.Ушла Нонна Менделевна 12 августа 1998 года (родилась 31 октября 1956-го). Прав оказался отец Александр Мень, признав эту прекрасную поэтессу.
* * *
Пушкин очень любил няню, посвящал ей стихи. Лично мне особенно нравятся такие его строчки:
Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей.Читая свидетельства пушкинских приятелей, я нашёл их восхищение той брагой, которую умела варить себе и своему воспитаннику Арина Родионовна. Так что привычное с детства «выпьем с горя» обросло конкретным смыслом. Как и эти строчки:
Наша ветхая лачужка И печальна и темна. Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна? Или бури завываньем Ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под жужжаньем Своего веретена?Так и видишь эту идиллическую картину, где на столе стоят две пенящиеся кружки, где, отхлёбывая каждый от своей, каждый сосредоточен на деле, которым занят, – пишет ли, прядёт ли, и где каждый готов подставить плечо другому: развлечь, если тому взгрустнулось, развеселить, если того что-то испугало.
Арина Родионовна Яковлева прежде чем стать няней Пушкина, вышла замуж за крестьянина, крепостного деда Пушкина Осипа Абрамовича Ганнибала. Она была няней сперва матери Пушкина – Надежды Осиповны, а потом и её детей. В 1795 году бабка Пушкина, Мария Алексеевна Ганнибал, подарила Арине Родионовне собственную избу.
А в 1807 году семейство Ганнибалов продало, вместе с крестьянами, земли в Петербургской губернии и переселилось в Опочецкий уезд Псковской губернии.
На счастье Арина Родионовна была прикреплена к хозяевам, а не к земле, поэтому вместе с ними переехала в Псковскую губернию.
В 1824-1826 году она фактически разделила ссылку Пушкина в Михайловском. Вот где они особенно сдружились – няня и воспитанник. Няня рассказывала сказки, которые записывал поэт. Записывал Пушкин и песни няни. Сам Пушкин признавал, что Арина Родионовна была прототипом няни Татьяны из «Евгения Онегина», няни Дубровского.
Последний раз Пушкин видел няню в Михайловском 14 сентября 1827 года. Скончалась Арина Родионовна 12 августа 1828 года. Родилась 21 апреля 1758-го.
13 АВГУСТА
Чего не хватает Владимиру Фёдоровичу Одоевскому, чтобы мы признали его великим художником?
Проза? Так его «Русские ночи», кажется, предшествуют западным философским повестям и романам. Тут вам художественное обсуждение всех насущных вопросов тогдашнего времени – и теории Мальтуса, согласно которой неконтролируемый рост населения приведёт к голоду на земле, и теории Бентама, по которой действия людей должны морально оцениваться по приносимой ими пользы. А такие вещи, входящие в «Русские ночи», как «Насмешка мертвеца» или «Бал», где замкнутая в свою лицемерную условность, лишённая внутреннего содержания, светская жизнь испытывает панический ужас перед лицом грядущей смерти!
Сказки Одоевского? Так один «Городок в табакерке» очень многого стоит! Разве это не великая сказка?
Не говорю уже о произведениях из цикла «Сказки дедушки Иринея», где собраны и сказки для взрослых (тоже, кстати, философские) и сказки для детей: «Мороз Иванович», например, «Серебряный рубль».
Мало того! Одоевский был тончайшим ценителем музыки. Написал массу музыковедческих работ, активно интересовался вопросами органологии и музыкальной акустики. Более того – написал «Сентиментальный вальс» для фортепиано, несколько опусов для органа, заказал по собственной конструкции так называемый клавицин, для которого тоже писал опусы.
И что же? Поставим мы Одоевского рядом с Пушкиным или с Гоголем? Нет, не поставим. Почему? Потому что Пушкин или Гоголь пришли со своим взглядом на мир, которому подчинили написанную ими литературу. А Одоевский слишком разбросан, слишком со многими спорит, слишком многим подражает. Даже лучшая его вещь, чудесная сказка «Городок в табакерке» напоминает по своей манере Андерсена, сказки которого как раз в это время становятся популярными в России.
Тем не менее мы согласны считать Владимира Фёдоровича Одоевского, родившегося 13 августа 1804 года и умершего 11 марта 1869-го, крупным русским художником.
* * *
Однажды мы ехали с Борисом Андреевичем Можаевым на его «хозяине тайги» – так он звал свою «победу», купленную на гонорар за сценарий к фильму, который назывался «Хозяин тайги». Боря поинтересовался, из каких мест мои предки. Я сказал, что из смоленских. «Но кто-то, – заметил Можаев – наверное, был из рязанских. Красухиных была половина Рязанской губернии». «Так вот почему я встречаю у тебя среди персонажей Красухиных, – воскликнул я. – А я-то думал, что это ты меня вспоминаешь!»
Можаев, как и я, любил городскую архитектуру. Кажется, и у него Василий Иванович Баженов был любимцем. Мы с ним ездили в Царицынский комплекс. Несколько раз проезжали знаменитый дом Пашкова. «Поэт», – отзывался Можаев о Баженове, умершем 13 августа 1799 года (родился 12 марта 1738-го).
А с чего я о них обоих вспомнил?
Вспомнил потому, что женой Баженова была дочь обедневшего каширского помещика по имени Аграфена Лукинична.
Её девичья фамилия – Красухина.
Так что же, мы – родственники?
Как в том анекдоте, – «даже не однофамильцы»!
* * *
В своё время Владимир Михайлович Померанцев мне очень советовал прочитать книгу русского философа Владимира Сергеевича Соловьёва «Оправдание добра». Нет, Померанцев не был религиозен. Но ведь добро может взять под защиту и атеист, не правда ли?
Я прочитал эту книгу с большой для себя пользой. Оценил доступность стиля и ясность мысли.
Корень человеческой нравственности Соловьёв видит в чувстве стыда. Стыд отличает человека от животного. Поэтому, стыдясь естественных потребностей, человек обнаруживает свою особость. Стыд открывает различие добра и зла. Исторически нравственность подаётся в рамках религии, и её первым инструментом становится аскетизм. Вместе с тем мы должны различать и безнравственный аскетизм, если он служит не добру, а гордости и тщеславию.
На основах нравственной жизни произрастают добродетели. Первичные (вера, надежда, любовь) и вторичные (великодушие, терпимость, правдивость и т.п.)
Добро по Соловьёву – от Бога. Богочеловечество начинается с Иисуса Христа. Царство Божье есть действительный нравственный порядок.
Наконец, показывая становление добра в человеческой истории, Соловьёв предвидит мировую войну между белой и жёлтой расами.
Всё это так. Но Соловьёв, умерший 13 августа 1900 года (родился 28 января 1853-го), был не только крупным философом. Был он очень неплохим поэтом. В подтверждение чего привожу его стихотворение:
Милый друг, иль ты не видишь, Что всё видимое нами - Только отблеск, только тени От незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий - Только отклик искажённый Торжествующих созвучий? Милый друг, иль ты не чуешь, Что одно на целом свете - Только то, что сердце к сердцу Говорит в немом привете?14 АВГУСТА
О Григории Абрамовиче Бровмане, родившемся 14 августа 1907 года, мне мои старшие товарищи, пришедшие с войны в Литературный институт, рассказывали как об удивительном лекторе, читавшем современную литературу и не боявшемся критиковать даже сталинских любимцев.
Увы, такого Бровмана я уже не застал.
В так называемую кампанию космополитизма он был уволен с поста заведующего кафедрой советской литературы и творчества, вообще выгнан из Литинститута и исключён из Союза писателей СССР.
В Союзе его впоследствии восстановили, а в институте – нет.
В моё время это был полностью обслуживающий режим литературный критик без любого намёка на оппозиционность.
Книги он выпускал толстые. Выходили они в «Советском писателе» и в «Художественной литературе». Писал он о рабочем классе в советской литературе и об образе коммуниста.
Ещё к 60-летию начал кампанию по получению ордена Трудового Красного Знамени. Обивал пороги всех секретариатов. Все вроде были согласны. Но вместо ордена дали ему благодарность Союза Писателей СССР.
Впрочем, он был настойчив. И за верное служение партии и правительству орден Трудового Красного Знамени получил. К своему 70-летию.
Умер за день до празднования своего рождения 13 августа 1984 года.
* * *
Николай Иванович Греч, родившийся 14 августа 1787 года, как все в молодости, был либералом, со многими будущими декабристами поддерживал дружеские связи, даже состоял с 1815 года секретарём, а в 1817-1818 гг. наместным мастером близкой декабристам масонской ложи «Избранного Михаила». После 1825 года свои либеральные позиции сменил на благонамеренные, но деловые и литературные связи с иными декабристами не прервал.
Самым близким его деловым партнёром был Булгарин. После восстания декабристов он стал соредактором Греча по журналу «Сын отечества». А прежде с 1815 года это был еженедельник, который издавал Греч, впервые введший в журналистику жанр годового обзора литературы. Издавали Греч и Булгарин газету «Северная пчела», которая нередко нападала на Пушкина, неизменно получая от него чувствительные удары в ответ.
Но к Гречу Пушкин относился лучше, чем к Булгарину. Возможно, потому, что Греч не был агрессивен, а кроме того, в отличие от Булгарина, был учёным-филологом, автором «Практической грамматики русского языка».
Греч написал несколько романов. Успехом у читателей пользовался роман «Чёрная лестница». Кроме того, читатели любили очерки о зарубежных путешествиях Греча.
Умер Греч 24 января 1867 года.
Его книга мемуаров «Записки о моей жизни» не так давно переиздана в России.
* * *
Известному пародисту Александру Архангельскому принадлежит ходившая в двадцатых-тридцатых годах фраза: «Одним Авербахом, семерых побивахам».
Это было шуточной правдой. Леопольд Леонидович Авербах был фигурой очень грозной для писателей.
Он начал свою то ли литературную, то ли революционную деятельность с работы за границей по линии юношеского Коммунистического Интернационала молодёжи (в моём детстве было много мальчиков, названных Кимами в честь этого интернационала).
А по приезде в Россию по рекомендации Троцкого был назначен главным редактором журнала «Молодая гвардия».
Троцкий знал Авербаха как сына сестры Якова Свердлова, председателя ВЦИК. Дочь этой сестры и, стало быть, сестра Авербаха Иза станет женой руководителя ГПУ Генриха Ягоды.
Так что у Авербаха, который быстро занял руководящие посты в писательской организации, была мощная поддержка.
Другое дело, что Троцкий был врагом Сталина, который уже хотя бы поэтому не должен был любить Авербаха.
Сталин его до поры до времени терпел. Пропустил в редакторы журнала «На литературном посту». Согласился, чтобы в ВАППе (1926-1932) Авербах стал генеральным секретарём.
Вообще-то, не будь у Авербаха подмочена родословная, он мог бы пригодиться Сталину: служил он отлично. Ещё возглавляя РАПП, вытеснял из литературы хороших писателей, называя их попутчиками.
Сталин решил создать Союз писателей. И поручил Авербаху выманить Горького из Италии.
Авербах с этой задачей справился. Однако секретарём Союза писателей СССР его не назначили. Даже несмотря на то, что об этом просил Горький.
Вместе с Горьким Авербах участвовал в организованной органами поездке писателей по Беломорско-Балтийскому каналу. А потом Авербаху доверили редактирование коллективной книги о труде, якобы перековывающем преступников (их ГПУ объявила уголовниками), которые строили этот канал.
Ну, а в заключение Авербаха избрали первым секретарём Орджоникидзевского райкома Свердловской области.
На этом посту арестовали. И расстреляли 14 августа 1937 года. Ему было 34 года. Он родился в 1903 году.
* * *
Григория Георгиевича Белыха я в юности знал как соавтора (вместе с Л. Пантелеевым) одной из моих любимых книг «Республика ШКИД». Там Белых действует под фамилией Черных, а Лёнька Пантелеев – тоже ведь не Ленька, а Алексей Иванович, и не Пантелеев, а Еремеев. Но Л. (Лёнька) Пантелеев – это навсегда взятый себе псевдоним писателя. А Черных – просто весёлая модификация.
Оба писателя, как я впоследствии убедился, были невероятно талантливы. Их «Республикой ШКИД» восхищался ещё Горький. Пробить эту книгу в печать бывшим детдомовцам помог С. Маршак.
Но Григорий Белых был арестован уже в конце 1935 года. Точно неизвестно, за что. Есть сведения, что он написал стихотворение «Два великих» (о Петре и Сталине) с такими строками:
Сдаюсь, сдаюсь, Иосиф Первый. Мою идею о канале Вы, не жалея сил чужих, Весьма блестяще доконали. Я ж был идеями богат, Но не был так богат рабами.А по другим сведениям Белых написал целую поэму о Сталине в духе процитированных здесь строк.
Так или иначе, он был осуждён на три года и умер в пересыльной тюрьме от туберкулёза 14 августа 1938 года. Родился 20 августа 1906 года. 32 года не прожил на свете!
15 АВГУСТА
Павла Моисеевича Грушко, родившегося 15 августа 1931 года, я к моему удивлению, встретил в январе 2014 года в американском городе Бостоне в Русском доме.
Я попал как раз на его вечер. Он был посвящён его спектаклю по мотивам «Звезды и смерти Хокианы Мурьеты» Пабло Неруды.
Народу было много. Павел держался с той же непринуждённостью и юмором, как много лет назад, когда приходил к нам в литературное объединение «Магистраль».
Любопытно, что несмотря на то, что он пишет на русском, в фильме «Всадник без головы», снятом в 1973 году Владимиром Вайнштоком, звучат песни, написанные по-испански Павлом Грушко. Музыку к ним сочинил Никита Богословский.
Вот стихотворение Грушко, посвящённое очень достойному человеку:
Памяти Анатолия Якобсона Как-то так получается, что, умерев вещественно, иной человек не кончается. В общем, это естественно: не покидает то место, где был, – и вы уступаете. Вот так становится тесно от обитающих в памяти. Жилось ему неуживчиво с теми, кто жил расчётливо, кто проживал расплывчато, а умер весьма отчётливо. Он – пошёл по столетьям, после смерти – да в гору! Не знал, что кончит бессмертьем. Кто это знал в ту пору?* * *
Мой друг. В конце жизни уехал в США, где жила его сестра, к которой ещё прежде уехал его сын Лёня.
Лёва Левицкий, написавший книгу о Паустовском, который его любил. Лев Абелевич Левицкий, рождённый 15 августа 1929 года в Каунасе, в семье, где говорили только на идиш и на литовском.
Родители успели посадить детей в уходящий на восток военный эшелон. Сами сесть в поезд они не смогли. На третьи сутки голодный мальчик спрыгнул с поезда и побежал в магазин в надежде раздобыть для себя и сестры хлеба. Но, прибежав назад, увидел хвост ушедшего поезда.
Не говорящего по-русски мальчика накормили женщины и отвели его в милицию. Там его направили в детский дом Заречья. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, не встреть он в детдоме работающую там Тамару Казимировну Трифонову, известного критика и литературоведа. У неё были и свои дети, но она не делала разницы между ними и приёмышем, которого полюбила, став его второй матерью.
Родителей его, скорее всего, уничтожили немцы, от которых им не удалось скрыться.
А сестра доехала до конечной станции, которая оказалась недалеко от границы. Уму непостижимо, как она сумела не просто перейти границу, но в конечном счёте оказаться в США, где вышла замуж и все годы неустанно разыскивала брата.
Лёва вместе с Тамарой Казимировной и своими названными братьями и сёстрами сперва жил в Ленинграде, окончил с отличием университет. Переехал в Москву. Поступил в аспирантуру Литературного института, где и защитил диссертацию по Паустовскому, у которого одно время работал литературным секретарём.
Долгие годы Лёва работал внештатным сотрудником «Нового мира», знал всех выдающихся сотрудников Александра Трифоновича Твардовского, как и всех выдающихся его авторов.
Вёл себя смело. Подписывал коллективные письма в защиту диссидентов. Даже был автором некоторых из них.
А потом пришла, наконец, долгожданная весточка от сестры. Она, обеспеченный человек, звала всех Левицких к себе. Лёня, сын, как я уже сказал, с радостью воспользовался приглашением. А Лёва тянул. Побывал в Америке, увиделся с сестрой, но вернулся. Он был хорошим другом многих, и не хотел терять друзей.
Но заболел. Врачи нашли, что такую онкологическую операцию можно сделать только за границей. И Лёва уехал в Лос-Анджелес к сестре. Увы, там и скончался 13 мая 2005 года.
* * *
Я его застал. Для меня увидеть живого Ивана Михайловича Гронского, который работал ещё в двадцатых в «Известиях», а потом главным редактором «Красной нивы» и «Нового мира», было чудом. Ведь Иван Михайлович являлся председателем оргкомитета по подготовке Первого съезда Советских писателей.
То, что он потом исчез, было понятно и привычно. Не так уж много выжило журналистов первого большевистского призыва. Ивана Михайловича арестовали в 1938 году и выпустили через 16 лет.
К прежней журналистской должности не вернули. Он работал младшим научным сотрудником Института мировой литературы.
Вот в это время он и пришёл как-то в «Литгазету». По приглашению бывшего зека, заведующего отделом писем Залмана Румера. Гронский выступал недолго. С большей охотой рассказывал о своей юности, о том, как воевал в Первую мировую, получил Георгиевский крест за храбрость, о том, как стал большевиком, а потом – руководящим большевиком, – с большей охотой он вспоминал об этом, чем о лагере.
Затронув лагерную тему, он насторожил многих, сказав, что многие политические сидели за дело – за оппозиции, а теперь прикидываются невинными.
Ещё больше он разочаровал всех, когда сидел с нами в кабинете Румера, слегка выпивал и говорил, что лагерь его не переубедил и что Сталин не такой уж злодей, как его изображают.
Поэтому я не удивился, прочитав в 2008 году в «Звезде» в подготовленных родственниками его воспоминаниях письмо жене из ссылки:
«[…] Ты спрашиваешь, откуда берёт начало моя надежда на скорое свидание. Она базируется на моей глубокой вере в разум партии. То, что я не виновен, – это, мне кажется, известно и ЦК и органам безопасности. Разбираться в наших делах партия не могла. Для этого не было условий. Сейчас эти условия налицо. Во-первых, победа в войне; во-вторых, могущество государства, являющегося гарантией нашей безопасности; в-третьих, сплочённость народа как результат правильной политики партии; в-четвёртых, колоссальный послевоенный подъём народного хозяйства, обеспечивающий нарастание благосостояния народа и укрепление, и умножение могущества страны. Поэтому сейчас партия может разобраться во всех делах людей, в своё время изолированных от общества, особенно в делах тех, чья виновность или совсем не была доказана, или является сомнительной. Вот эта вера в партию, не пропадавшая у меня ни на минуту, и даёт мне право говорить о том, что скоро мы с тобой увидимся».
Они увиделись скоро, это правда.
Но писать жене письмо, состоящее из клише советской пропаганды, надо было уметь.
Если б я с ним не встречался, я б не поверил в искренность этих строк. Но я верю.
Иван Михайлович умер 15 августа 1985 года. Родился 30 ноября 1894-го.
Говорят, что, несмотря на свою упёртость, он хлопотал за репрессированных писателей, вернул некоторым доброе имя. В частности, поэту Павлу Васильеву. Дай Бог, если это правда.
* * *
Владимира Борисовича Ломейко, работавшего в «Литературной газете», пожалуй, уважали больше, чем других его коллег. Это был международник высокого ранга. Никак не меньшего, чем работавшие у нас вместе с ним Игорь Беляев и Фёдор Бурлацкий, ставшие позже политическими обозревателями. Да и кто знает, останься в ту пору работать в газете Ломейко, быть может, его, а не Бурлацкого сделали бы главным редактором после смерти Воронова. Всё-таки был Владимир Ломейко зятем Громыко, другом и соавтором его сына, то есть имел мощных в то время покровителей. Особенно в Министерстве иностранных дел. В МИД Ломейко и ушёл, став через некоторое время послом СССР в ЮНЕСКО и оставшись потом там же послом России.
В 2001 году был он специальным посланником ООН по правам человека, советником Генерального секретаря ЮНЕСКО. И выступил на международной конференции в Германии, посвящённой проблемам его отечества. «Основная проблема России, – сказал Ломейко, – заключается в том, что там с давних времён традиционно попирается достоинство человека, которое для россиян является чисто абстрактным понятием. Поэтому многие люди сами себя не уважают».
Известно, конечно, как народная мудрость относится ко всяким там «если бы да кабы». А всё-таки получи «Литературная газета» в своё время главным редактором не самовлюблённого Бурлацкого, не корыстного Удальцова, а Ломейко с его понятиями о чести и достоинстве, глядишь, и не сидел бы сейчас в кресле главного редактора человек, который осуществил давнюю мечту Всеволода Кочетова или Владимира Ермилова – сделать газету трибуной не интеллигенции, а толпы. Им это не удалось, а Полякову без труда. Он вытравил ту атмосферу интеллигентности, которая проникала на её страницы несмотря на цензурные советские плотины. «Литгазета» стала крикливой и бесстыдной. А как иначе охарактеризовать подобострастие, с каким газета восхваляет своего главного редактора? Даже Кочетов, не отличавшийся скромностью и уж тем более совестливостью, не пропустил бы в своём издании заметку о себе, предпочёл бы прочитать её в других печатных органах. Поляков не так церемонен. В его газете приветствуется любая его публикация, одобряется любая его пьеса, поставленная в театре, умиляются любому фильму, снятому по его сценарию.
История, конечно, сослагательного наклонения не знает. Владимир Борисович не стал нашим редактором. Он умер 15 июня 2009 года (родился 27 ноября 1935-го). «А всё-таки жаль!» – как пел Булат Окуджава.
* * *
Вот это стихотворение Николай Васильевич Панченко напечатал одним из последних, хотя написал его давно:
По чистой иду на гражданку – Меня собирает народ: Кто банку тушёнки, кто банку Английского джема суёт, Бредовый табак «филичёвый», Что мог заменить анашу. – Пиши! Отвечаю: – Ещё бы! – Хоть знаю, что не напишу. Я – это уж точно – не годен Счастливые слёзы скрывать: Я, может, впервые свободен На всё и на всех наплевать. Прощай астраханское ханство! – Моя золотая орда. Сержантско-майорского хамства Не видеть бы мне никогда…Да, вот таким он и был – прямым, открытым, честным, не боявшимся начальства, не страшащимся схватиться с ним.
Это, в частности, его стараниями в Калуге, где он был в это время редактором книжного издательства, вышел знаменитый сборник «Тарусские страницы», который после страшной партийной проработки был изъят из продажи и переведён в спецхраны библиотек.
Это его, Николая Васильевича, стараниями в калужскую газету «Молодой ленинец», где Панченко был главным редактором, принят на работу недавно осевший в Калуге после сельского своего учительства в калужской глубинке поэт Булат Окуджава.
Они потом крепко дружили – Окуджава и Панченко.
Николай Васильевич был невероятно любопытным и доброжелательным человеком. «Читали?» – подсовывал мне подборку какого-нибудь поэта. И радовался, если наши вкусы совпадали. «Надо бы помочь человеку!» – говорил он.
Он умер 15 августа 2005 года лауреатом нескольких престижных премий. В том числе посмертно награждён премией имени Андрея Сахарова «За гражданское мужество писателя». Родился Николай Васильевич 9 апреля 1924 года.
16 АВГУСТА
Николая Павловича Дашкевича, родившегося 16 августа 1852 года, сейчас мало кто знает. А между тем был он крупным филологом, членом-корреспондентом, а потом и ординарным академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук.
Читал он в Киевском университете, где был профессором всеобщей истории литературы. И на киевских высших женских курсах.
Трудов его много. В основном они посвящены фольклору, древней и средневековой литературе. «Былины об Алёше-поповиче и о том, как не осталось на Руси богатырей», «Происхождение и развитие эпоса о животных», «Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям», «Переговоры пап с Даниилом Галицким об унии Юго-Западной Руси с католичеством», «Из истории средневекового романтизма. Сказание о св. Граале». Оставил Дашкевич и очень недурную работу «Пушкин в ряду великих поэтов».
Другой цикл работ Николая Павловича посвящён украинской литературе. Любопытно, что он взялся за рецензию на книгу Н.И. Петрова «Очерк истории украинской литературы», увлёкся, и рецензия выросла до размера книги.
Умер 2 февраля 1908 года.
Будут ли читать работы Дашкевича? Время покажет.
* * *
Маргарет Митчелл сперва работала газетным репортёром. Писала на исторические темы. Но из-за травмы ноги бросила журналистское ремесло, которым занималась три года.
В детстве на неё произвели незабываемые впечатления рассказы родственников, участвовавших в Гражданской войне в США. Бросив журналистику, она в 1926 году садится за роман, для которого уже придумала название «Завтра – другой день».
Однако через десять лет, когда закончила роман, она вынесла в его заглавие строчку из стихотворения Эрнеста Даусона «Унесённые ветром».
В 1936 году роман выходит в свет, а через год он отмечен престижной Пулитцеровской премией. Роман становится невероятно известным. Особенно после того, как по нему в 1938 году выходит на экраны фильм «Унесённые ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. За роль Скарлетт О’Хара Вивьен Ли получает «Оскара» и всемирную известность.
От Митчелл ждут новых книг. Увы, их больше не было. Писательница погибла в автокатастрофе 16 августа 1949 года (родилась 8 ноября 1900-го).
* * *
Включённый в состав членов Французской академии, Жан Лабрюйер отнесён к числу «великих классиков».
Он, рождённый 16 августа 1645 года, в состоятельной семье, получил прекрасное образование и был вхож в высшие аристократические круги Франции как воспитатель юного герцога Бурбонского.
Наблюдая придворную жизнь, Лабрюйер в ней не участвовал. Он любил уединение, которое способствовало его творчеству: он записывал то, что видел и слышал, в модном тогда виде эпиграмм, портретов, афоризмов – сатирических и морализаторских.
Шутки ради он предложил свои записи издателю, и в 1688 году вышла его единственная книга «Характеры, или Нравы нынешнего века».
Потребовались новые издания, и они выходили дополненными Лабрюйером.
Он в самом начале книги поместил трактат древнегреческого моралиста Теофраста «Характеры», отсылая читателей к истокам своей традиции. Но Теофраст послужил для Лабрюйера ширмой для сатирического изложения нравов современного ему общества. Он показал развращающее богатство и униженное положение просвещённого человека третьего сословия, обрисовал картины ужасающей крестьянской нищеты.
Мне кажется, что стоит запомнить такой его афоризм: «В любом самом мелком, самом незначительном, самом неприметном нашем поступке уже сказывается весь наш характер: дурак и входит, и выходит, и садится, и встаёт с места, и молчит, и двигается иначе, нежели умный человек».
Умер 10 мая 1696 года.
17 АВГУСТА
Антон Дельвиг! Любимый друг Пушкина, приветствующий его стихи ещё в Лицее:
Пушкин! Он и в лесах не укроется: Лира выдаст его громким пением…Закадычный друг, родившийся 17 августа 1898 года, навестивший Пушкина в Михайловской ссылке, на что тогда были способны немногие. Другой лицейские приятель, Горчаков, находившийся во время ссылки Пушкина неподалёку от Михайловского, заехать к опальному поэту не захотел. Или не решился. Они с Пушкиным увиделись в доме родственников Горчакова. А Дельвиг не скрывал своих чувств: представилась такая возможность, и он бросился Пушкину на шею!
И благодарный Пушкин оценил поступок друга, написал ему в посвящённом лицейской годовщине стихотворении 1825 года:
Когда постиг меня судьбины гнев, Для всех чужой, как сирота бездомный, Под бурею главой поник я томной И ждал тебя, вещун пермесских дев, И ты пришёл, сын лени вдохновенный, О Дельвиг мой: твой голос пробудил Сердечный жар, так долго усыпленный, И бодро я судьбу благословил.Пушкин взялся помочь другу, когда Дельвиг затеял издание «Литературной газеты». Мало того, что он, Пушкин, писал в газету сам. Он привлёк к ней лучших на ту пору авторов, сделав вместе с другом газету повсеместно известной, которая оценивала произведение не по чину автора (чем занимались многие тогдашние периодические издания), а по его таланту. Понятно, что строгая бескомпромиссная газета нажила себе немало недоброжелателей. Им оказался и шеф жандармов Бенкендорф, который разглядел в переводном стихотворении, напечатанном Дельвигом в своей газете революционную прокламацию. Вызвав Дельвига, Бенкендорф орал на него, посулил сослать в Сибирь. Впечатлительный Дельвиг не перенёс такого удара. Умер 26 января 1831 года. На 33-м году жизни.
Пушкин оплакал друга. «Он был лучшим из нас», – писал он Е.М. Хитрово.
Дельвиг был и очень незаурядным поэтом. Лучшие его стихи остаются лучшими и в русской поэзии. Такова его «Элегия»:
Когда, душа, просилась ты Погибнуть иль любить, Когда желанья и мечты К тебе теснились жить, Когда ещё я не пил слёз Из чаши бытия, - Зачем тогда, в венке из роз, К теням не отбыл я! Зачем вы начертались так На памяти моей, Единый молодости знак, Вы, песни прошлых дней! Я горько долы и леса И милый взгляд забыл, - Зачем же ваши голоса Мне слух мой сохранил! Не возвратите счастья мне, Хоть дышит в вас оно! С ним в промелькнувшей старине Простился я давно. Не нарушайте ж, я молю, Вы сна души моей И слова страшного «люблю» Не повторяйте ей!Очень любопытно, что его образ, его биография и его поэзия дали толчок для написания стихотворения, которое остаётся одним из лучших стихотворных портретов второй половины XX века. Автор стихотворения наш современник – Олег Чухонцев:
…из трубки я вынул сгоревший табак, вздохнул и на брови надвинул колпак. А. Дельвиг В табачном дыму, в полуночной тоске сидит он с потухшею трубкой в руке. Отпетый пропойца, набитый байбак, сидит, выдувая сгоревший табак. Прекрасное время – ни дел, ни забот, петух, слава богу, ещё не клюёт. Друзья? Им пока не настал ещё срок трястись по ухабам казённых дорог. Любовь? Ей пока не гремел бубенец - с поминок супруга – опять под венец. Век минет, и даром его не труди, ведь страшно подумать, что ждёт впереди. И честь вымирает, как парусный флот, и рыба на брюхе по грязи плывёт. Прекрасное время! Питух и байбак, я тоже надвину дурацкий колпак, присяду с набитою трубкой к окну и, сам не замечу, как тихо вздохну. Творец, ты бессмертный огонь сотворил: он выкурил трубку, а я закурил. За что же над нами два века подряд в ночи близорукие звёзды горят? Зачем же над нами до самой зари в ночи близоруко горят фонари? Сидит мой двойник в полуночной тоске. Холодная трубка в холодной руке. И рад бы стараться, да нечем помочь, - Уж больно долга петербургская ночь.* * *
Какие только псевдонимы ни брал себе Николай Макарович Олейников, родившийся 17 августа 1898 года, – Макар Свирепый, Николай Макаров, Сергей Кравцов, Н. Техноруков, Мавзолеев-Каменский, Пётр Близорукий.
Был он участником Гражданской войны, на которую ушёл добровольцем, записавшись в Красную армию, членом партии, в которую вступил в 1920 году. В 1925 году его, опытного редактора, ЦК ВКП(б) назначает в Ленинград в газету «Ленинградская правда».
Но вот – в 1928 году Олейников становится главным редактором нового Ежемесячного Журнала для детей (ЁЖ), где привлёк к сотрудничеству К. Чуковского, Б. Житкова, В. Бианки, М. Пришвина, Е. Шварца. Печатал он и поэтов из группы ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства), в которую входил сам, в которую входили Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, К. Вагинов и др.
Кстати, переместиться в детскую литературу обэриутам пришлось под шквальным огнём литературной официозной критики, которая не оставила их в покое и как детских писателей.
В 1937 году Олейников – главный редактор детского журнала «Сверчок». Ну, а там, как и его товарищи по ОБЭРИУ, попадает под каток государства. В июне 1937 года он арестован и 24 ноября 1937 года расстрелян.
Это был поэт с большим чувством юмора. Вот очень известное начало стихотворения: «Маленькая рыбка, / Жареный карась, / Где ж ваша улыбка, / Что была вчерась?» – кстати, это из либретто оперы «Карась», которое Олейников написал для Д. Шостаковича. Или такое его стихотворение:
Однажды красавица Вера, Одежды откинувши прочь, Вдвоём со своим кавалером До слёз хохотала всю ночь. Действительно весело было! Действительно было смешно! А вьюга за форточкой выла, И ветер стучался в окно.Вот такого весёлого, жизнерадостного человека загубило сталинское государство!
* * *
Трудно, конечно, говорить о смерти «повезло», но не утони Александр Валентинович Вампилов 17 августа 1972 года на Байкале, кто знает, какая бы у него сейчас была репутация. Ведь он был дружен с В. Распутиным, В. Шугаевым и другими писателями, оказавшимися впоследствии в патриотическом (антисемитском) стане.
Но в любом случае за 35 лет жизни (родился 19 августа 1937 года) репутация Александра Валентиновича сложилась однозначной: талантливый драматург, которому власти ставили палки в колёса.
Ведь подумать только, Вампилов прорвался на сцену лишь в Клайпеде. В 1966 году местный театр поставил спектакль по его пьесе «Прощание в июне». После Клайпеды спектакль по этой пьесе был поставлен ещё в 8 провинциальных театрах.
Больше при жизни Вампилова спектакли по его пьесам не ставились. Хотя такие его пьесы, как «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске» стали классикой русской драматургии.
* * *
Об этом поэте несколько раз писал Зощенко. Композитор Шостакович откликнулся в своих воспоминаниях: «История, рассказанная мне Зощенко, произвела сильное впечатление и на него и на меня. Он знавал в Петербурге поэта Тинякова. Неплохой, даже талантливый. Писал изысканные стишки. Про измены, розы и слёзы. Был красивый человек, денди. После революции Тиняков встретил Зощенко. И подарил ему новую книгу своих стихов. Там уже не было речи о любви и прочем. Это были, по мнению Зощенко, гениальные стихи. А ведь Зощенко был очень строгий критик. Ему Ахматова давала на оценку свою прозу. И волновалась. В новых стихах Тинякова говорилось о том, что поэт хочет жрать. Поэт заявлял, что «любой поступок гнусный совершу за пищу я». Это было прямое, честное заявление. И оно не стало исключением. Все знают, что слова поэтов часто расходятся с их делами. Тиняков стал редкостным исключением. Этот поэт, ещё не старый и красивый, начал просить милостыню. Он стоял на одном из людных перекрестков Ленинграда. На груди картонка – «Поэт». Он не просил, а требовал. Испуганные прохожие давали. Зарабатывал он очень много. Больше, чем прежде. После трудового дня шел в ресторан. И там ел и пил. Тиняков стал счастливым человеком. Ему не нужно было притворяться».
Но мне кажется, что в зощенковской книге «Перед восходом солнца» Тиняков выписан более выпукло:
«Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его ещё до революции в 1912 году. И потом я увидел его через десять лет.
Какую страшную перемену я наблюдал. Какой ужасный пример я увидел.
Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны.
Передо мной было животное, более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта.
Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, – чуть ироническую, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал.
Порывшись в своём рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил её мне.
Боже мой, что было в этой книжечке!
Ведь когда-то поэт писал:
Как девы в горький час измены, Цветы хранили грустный вид. И, словно слёзы, капли пены Текли с их матовых ланит…Теперь, через десять лет, та же рука написала:
Пышны юбки, алы губки, Лихо тренькает рояль. Проституточки-голубки, Ничего для вас не жаль… Все на месте, все за делом, И торгуют всяк собой: Проститутка статным телом, Я – талантом и душой.В этой книжечке, напечатанной в издании автора (1924 г.), все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы. Но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их.
В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище».
Вот что было сказано в этом стихотворении:
Пищи сладкой, пищи вкусной Даруй мне, судьба моя, И любой поступок гнусный Совершу за пищу я. В сердце чистое нагажу, Крылья мыслям остригу, Совершу грабёж и кражу, Пятки вылижу врагу!Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем история нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения.
Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни. Но он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться. Перестал лепетать слова – ланиты, девы, перси. Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил с себя всю мишуру, в которую он рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле, – голым, нищим, омерзительным».
Я не согласен с Зощенко только в одном, – что Александр Иванович Тиняков, умерший 17 августа 1934 года (родился 25 ноября 1886-го), сбросил с себя мишуру, в какую рядился до революции.
Он и до революции представлял собой весьма гнусный тип. Недаром пошёл против большей части русской интеллигенции, выступившей против сфабрикованного «Союзом русского народа» дела Бейлиса. Нет, Тиняков ответственно утверждал, что Менахем Бейлис виновен в ритуальном убийстве двенадцатилетнего ученика Киевско-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Надо сказать, что утверждать такое решились немногие. Даже известный антисемит В.В. Шульгин не поддержал обвинения, которое, кстати, во время судебного процесса полностью рассыпалось.
Тиняков здесь блокировался со всей мерзостью и гнусью. Пропитанный ими он позже и раскрылся Зощенко.
18 АВГУСТА
Оноре де Бальзак стал подписывать собственные произведения своим именем не сразу. Под разными псевдонимами он выпускал так называемые романтические романы, которые не были столь самостоятельны, как его будущие книги.
Своё имя он выставляет в 1829 году, выпустив роман «Шуаны». Его примечает читательская публика. А потом и жадно следит за ним, выпускающим «Сцены частной жизни», «Элексир долголетия», «Гобсек». В 1831 году внимание публики привлекает его роман «Шагреневая кожа». А с 1834 года он начинает свою многотомную «Человеческую комедию», которая окончательно закрепляет реалистический метод автора.
В 1832 году он знакомится с Эвелиной Ганской, замужней женщиной, с которой вступает в любовную переписку. Любопытно отметить, что родной сестрой Ганской была Каролина Собаньская, в которую некогда был влюблён Пушкин. Роман в письмах Бальзака и Ганской продолжался 10 лет.
В 1842-м Эвелина Ганская овдовела. Но долго ещё не могла выйти замуж за Бальзака. Эвелина была российской подданной. А по российским законам брак с иностранцем, как и вывоз за границу родового состояния, могли иметь место только с разрешения императора. Вывезти во Францию своё состояние Николай Ганской не разрешил. Она передала его своей дочери. После этого император дал разрешение на брак.
Однако когда Бальзак в 1847 году приехал в имение Ганской – Верховню, та отказалась от замужества. Через год настойчивый романист снова приезжает в Верховню. Уставшая от одиночества Ганская соглашается выйти за больного писателя.
Их брак был совершён 14 марта 1850 года. Бальзак сделал Ганскую единственной своей наследницей. Спустя пять месяцев – 18 августа Бальзак скончался. В 51 год: родился 20 мая 1799-го.
* * *
Я помню, как встретил в коридоре «Литературной газеты» Бориса Николаевича Полевого. Он был невероятно бледен. Обычно он со всеми радушно здоровался. А здесь шёл отрешённо в кабинет Чаковского. Уже в этот день я увидел в набранной полосе его, Полевого, письмо, обращённое к некоему Анатолю.
Всё разъяснилось мгновенно. За месяц до этого Полевой ввёл в редколлегию Анатолия Васильевича Кузнецова, родившегося 18 августа 1929 года, автора известнейшей повести «Продолжение легенды» о строительстве Иркутской ГЭС.
В той же «Юности» в 1966 году Кузнецов напечатал роман «Бабий Яр», названный так по месту под Киевом, где фашисты осуществили массовые расстрелы еврейского населения.
Теперь Кузнецов захотел написать новый роман к столетию Ленина – о жизни вождя в Лондоне и о заседании там II съезда РСДРП. «Юность» в лице Полевого творческую заявку Кузнецова поддержала, и тот выехал в творческую командировку от Союза писателей. Но через неделю после приезда в Лондон сказал сопровождающему его от Союза писателей (обычно работник органов) Георгию Анджапаридзе, чтобы тот подождал его в номере, пока он спустится вниз и купит сигареты. И больше в гостиницу не вернулся.
Бессмысленно прождавший его Анджапаридзе поднял шум, но уже было поздно: Кузнецов обратился к правительству Великобритании с просьбой о политическом убежище.
Разумеется, это поначалу сказалось на карьере Анджапаридзе, но потом он был прощён и даже назначен директором издательства «Художественная литература».
А Кузнецов объявил, что отказывается не только от советского гражданства. Но и от своей фамилии. Отныне он подписывает свои материалы: Анатоль. Поэтому Полевой и обратился со страниц «Литгазеты» к Анатолю, закончив своё письмо: «Ах, как Вы просчитались, господин Анатоль!»
Отдельной строкой Анатоль обставил свой выход из партии, обратившись к парторгу и предложив взять его партийный билет, оставленный им на письменном столе. Но настоящей сенсацией оказалось саморазоблачение Кузнецова: он заявил, что для того, чтобы получить командировку в Англию, согласился стать агентом-провокатором КГБ, донёс на некоторых писателей, в частности, на Евгения Евтушенко. За это его осудил известный диссидент Андрей Амальрик в своём «Открытом письме А. Кузнецову».
Но дальше – больше. Анатоль в издательстве «Посев» в 1970 году опубликовал полный текст «Бабьего Яра», снабдив его авторским предисловием и послесловием. Автор рассказывал о публикации в СССР этого романа, пострадавшего от вмешательства советской цензуры. Теперь тексты, изъятые советской цензурой в «посевском» издании были выделены курсивом, а позднейшие добавления и ремарки были заключены в квадратные скобки. Такое издание оказалось хорошим учебным пособием для западных славистов, интересующихся методами советской цензуры.
С 1972 году Анатоль работал в лондонском корреспондентском пункте «Радио Свобода», вёл еженедельные беседы в рамках программы «Писатель у микрофона».
5 сентября 1978 года он перенёс тяжёлый инфаркт. Наступила клиническая смерть, из которой его вывели английские специалисты. Он вышел на работу, но чувствовал себя нездоровым. И 13 июня 1979 года скончался от остановки сердца.
* * *
О Сергее Константиновиче Шамбинаго, родившемся 18 августа 1871 года, выдающемся фольклористе, очень смешно вспоминал Бенедикт Сарнов, который учился у него в Литературном институте:
«Удивил он нас сразу, на первой же своей лекции. Она была посвящена краткому обзору всех школ и направлений русской фольклористике. Заканчивался этот перечень изложением основных принципов исторической школы. А последняя реплика профессора была такая:
– Поскольку ученики мои, братья Соколовы, теперь марксисты, то выходит, что глава исторической школы сейчас я.
Чтобы вот так вот прямо, во всеуслышание объявить себя отказавшимся примкнуть к великому учению, в то время надо было быть либо человеком редкостного мужества, либо – окончательно выжившим из ума. Мы склонялись к последнему объяснению».
Склонялись, как становится понятно, неверно. Потому что выжившего из ума старика-профессора в институте держать бы не стали. Ну, а редкостное его мужество и честность можно было вполне объявить чудачеством великого человека.
Конечно, подобное чудачество могло стоить старому профессору много больше, чем простое увольнение. Но, как говорит о бесшабашной смелости народ: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. То обстоятельство, что Сергей Константинович умер своей смертью 20 ноября 1948 года, составив сборники текстов «Песни-памфлеты XVI в.» (1913), «Былины старины» (1938), осуществив научную редакцию и комментарий книг «Народные русские легенды» А.Н. Афанасьева (1914), «Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (1938), подготовив научные издания «Слова о полку Игореве» (1912, 1913, 1917, 1934; последнее – совместно с В.Ф. Ржигой), – то есть унёс в могилу грудь в крестах, говорит о чудодейственном героизме русского интеллигента, не пожелавшего отступать от правды такой, какой он её понимал.
* * *
В своё время князя Петра Владимировича Долгорукова подозревали в том, что он изготовил знаменитый диплом рогоносца, направленный Пушкину и в конечном счёте послуживший причиной гибели поэта.
Несколько раз проводили графологические экспертизы. В 1927 году некий судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, нашёл, что авторство Долгорукова несомненно.
Однако у дипломата Г.В. Чичерина экспертиза вызвала сомнение. Вместе с П.В. Щёголевым он не согласился с Сальковым. Повторную экспертизу провёл в 1966 году эксперт В.В. Томилин. Тот уверенно отвёл авторство Долгорукова, но высказал предположение, что диплом писал И.С. Гагарин, который одно время сожительствовал с Долгоруковым.
Надо сказать, что и Гагарин, и Долгоруков стали эмигрантами. Поэтому кое-каким советским кругам очень хотелось, чтобы пасквилянт, ненавидящий Пушкина, был бы найден в кругу эмиграции.
Но из этого ничего не вышло. Экспертиза, организованная историком-археографом Г. Хаитом и проводившаяся сотрудниками Всесоюзного НИИ Судебных экспертиз, нашла, что диплом написан не Дологоруковым и не Гагариным, а «третьим лицом».
Что же до Долгорукова, то не так давно – в 80-х годах прошлого века в экземпляре «Воспоминаний» Ф. Булгарина, принадлежащего Долгорукову, обнаружили примечания, сделанные рукою князя. В них Долгоруков опровергает Булгарина, стремящегося после смерти Пушкина, «уколоть его побольнее. Так сказать, в памяти потомства».
В 1840 году под псевдонимом «граф Альмагро» Долгоруков издал в Париже на французском языке «Заметку о главных фамилиях России», где раскрыл немало исторических фактов, порочащих русское самодержавие и аристократию.
Вольнодумство Долгорукова раздражило Николая. Князь был вызван из-за границы и сослан в Вятку в 1843 году, но через год освобождён с запрещением проживать в столицах.
В 1854 году Долгоруков завершил ревизию и пополнение ранее опубликованного родословного сборника и приступил к публикации «Российской родословной книги» – наиболее полного в XIX веке изложения генеалогии русского дворянства. Вышло 4 тома, после чего Долгоруков уехал в эмиграцию и публикация «родословной книги» прекратилась.
За границей Долгоруков издал книгу «Правда о России», содержащую резкую критику правительства. В ответ он был лишён гражданства, княжеского титула, состояния. И вот тут-то волшебным образом и появилось обвинение Долгорукова в том, что он написал пасквильный диплом Пушкина.
В 1867 году он опубликовал на французском языке свои «Записки», которые были переведены и напечатаны на родине только через 140 лет.
Свой богатый архив Долгоруков завещал другу Герцена, польскому эмигранту С. Тхоржецкому. Тот, не имея средств для публикации, продал архив в 1869 году при условии обязательного их обнародования подполковнику Постникову, который, как выяснилось, был агентом Третьего отделения. Рукописи Долгорукова были привезены в Россию и поступили в архив Зимнего дворца, где их в советское время обнаружил Н.Я. Эйдельман.
Умер князь Пётр Долгоруков 18 августа 1868 года (родился 8 января 1817-го).
19 АВГУСТА
Владимир Михайлович Киршон, родившийся 19 августа 1902 года, был протеже Генриха Ягоды. Будучи одним из активных секретарей РАППа, начал борьбу против попутчиков. Вместе с В. Билль-Белоцерковским травил М. Булгакова.
Его пьесы прославляли Сталина и тот выбор пути для России, который сделал Сталин.
Тем не менее 26 мая 1937 года исключён из состава правления Союза советских писателей, а через короткое время арестован вместе Л. Авербахом и Б. Ясенским, обвинён в принадлежности к троцкистской группе и расстрелян 28 июля 1938 года.
* * *
Вторая часть «Повести о Ходже Насреддине» – повесть «Очарованный принц» написана Леонидом Васильевичем Соловьёвым, родившимся 19 августа 1906 года, в лагере, куда его упекли в 1946 году по обвинению в подготовке террористического акта, и откуда он вышел в 1954-м.
А до этого в молодости Л. Соловьёв собирал и изучал фольклор. Правда, по свидетельству Е.С. Колмановского, песни и сказания о Ленине, вошедшие в изданный Соловьёвым сборник «Ленин и творчество народов Востока» (1930), написаны самим Соловьёвым.
В 1935 году по его сценарию был снят фильм «Конец полустанка».
В 1939-м он опубликовал роман «Возмутитель спокойствия» – первую книгу своего самого значительного произведения «Повести о Ходже Насреддине». В соавторстве с В.С. Витковичем он написал сценарии фильмов «Насреддин в Бухаре» (1943) и «Похождения Насреддина» (1946).
В войну Соловьёв был корреспондентом газеты «Красный флот». По его повести «Иван Никулин – русский матрос» им был создан сценарий художественного фильма (1943).
Ну, а дальше, как уже сказано, – лагерь.
После освобождения в 1956 году впервые появилась его замечательная «Повесть о Ходже Насреддине» в двух книгах.
Написал Соловьёв ещё и киносценарий по повести Гоголя «Шинель».
И последнее, что осталось от этого писателя, – это «Книга юности» (1963).
Умер 9 апреля 1962 года.
* * *
С Николаем Семёновичем Евдокимовым, скончавшимся 19 августа 2010 года, меня знакомили дважды. Сперва писатель Лев Кривенко, мой друг и сокурсник Евдокимова по Литературному институту. А потом в самом Литинституте, где я преподавал на Высших литературных курсах, а Евдокимов вёл мастерскую прозаиков.
Каждый раз мы мило беседовали, вроде нравились друг другу, а потом почему-то друг о друге забывали.
Правда, когда в перестройку я стал заведовать отделом русской литературы в «Литературной газете», Коля ко мне зачастил. Приносил свои рассказы, приносил рассказы своих студентов.
Собственно, из его произведений мне нравились «Была похоронка» – об инвалиде войны, который убеждён, что семья считает, что он погиб, и не даёт о себе знать, «Лиза-Елизавета, последняя жительница деревни Полянка» – об удивительно чистом существе, вынашивающем ребёнка, и ещё очень странный рассказ, названный строкой из песни Вертинского «Доченьки, доченьки, доченьки мои».
Вообще Евдокимов, родившийся 26 февраля 1922 года, написал очень много. Много его повестей и рассказов переведено на разные языки. Но большинство его вещей меня не трогало: слишком всё у него предсказуемо.
Недавно перечитал его и остался при своём мнении.
* * *
Есть у Пушкина стихотворение, содержащее ненормативную лексику. Оно направлено против французского сатирика поэта Беранже. Заканчивается оно так:
Ты помнишь ли, как были мы в Париже, Где наш казак иль полковой наш поп Морочил вас, к винцу подсев поближе, И ваших жён похваливал да [– -]? Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Но встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи, [– – – – – – – – -]?Надо сказать, что Беранже попал Пушкину под горячую руку. В стихотворении Пушкин пародирует бонапартистскую песню «Ты помнишь ли, говорил капитан». Но её автор не Беранже, а Поль Эмиль Дебро.
Если не считать этого откровенно неприязненного памфлета, отношение Пушкина к Беранже в принципе миролюбиво. В знаменитой пушкинской «Моей родословной» её припев «Я мещанин, я мещанин» восходит к песне Беранже «Простолюдин». Не так давно пушкинистка Наталья Мазур, обратив внимание на то, что граф Нулин едет из Франции со множеством модных новинок, в том числе «с последней песней Беранжера», высказала убеждённость, что речь идёт о стихотворении Беранже «Двойная охота», которая имеет общие мотивы с самим повествованием «Графа Нулина».
Впрочем, в пушкинские времена Беранже в России был известен тем, кто читает по-французски. Потому что по-русски Беранже, родившийся 19 августа 1780 года, стал известен в XIX веке благодаря переводам В. Курочкина и М. Михайлова.
Пьер-Жан де Беранже на родине дважды подвергался тюремному заключению: в 1821-м и в 1828. И оба раза за то, что печатал свои песни в виде сборников-томов. Но подобные вещи только добавляли популярности и без того знаменитому поэту.
В России наиболее популярна песня Бержанже в переводе Курочкина «Старый капрал». На музыку её положил А. Даргомыжский, причём оформил её в виде песни, имеющей припев в форме марша. Лучшим исполнителем «Старого капрала» был и остаётся Ф.И. Шаляпин.
В советское время Беранже, скончавшегося 16 июля 1857 года, переводили и П. Антокольский, и В. Рождественский, и М. Тарловский, и А. Эфрон, и В. Левик. Но мне думается, что у переведённого Курочкиным и Михайловым Беранже больше шансов завоевать симпатии читателей.
* * *
Александру Федотовну Ржевскую, родившуюся 19 августа 1740 года, сейчас мало кто знает. В своё время её заприметил известный просветитель Новиков, в журналах которого она печатала стихи без подписи (что в то время было обычным делом). Так что идентифицировать теперь её стихи в новиковских журналах трудно.
По словам Новикова, она оставила рукопись романа «Письма Кабардинские», написанного в подражание роману француза Графиньи. Новиков же считал, что роман Ржевской превосходил по художественной силе французский образец.
Умерла Александра Федотовна в 29 лет от послеродовой горячки 17 апреля 1769 года.
* * *
Вряд ли кто-нибудь не помнит знаменитые пушкинские строчки про мать Татьяны Лариной:
Она любила Ричардсона Не потому чтобы прочла, Не потому, чтоб Грандисона Она Ловласу предпочла; Но в старину княжна Алина, Её московская кузина, Твердила часто ей об них. В то время был ещё жених Её супруг, но по неволе; Она вздыхала о другом, Который сердцем и умом Ей нравился гораздо боле: Сей Грандисон был славный франт, Игрок и гвардии сержант.«Грандисон и Ловлас, – объясняет автор в сноске, – герои двух славных романов».
«Московская кузина» – так в пушкинское время ещё называли и модниц. Княжна Алина читает модные романы «Кларисса, или История юной леди», «Чарльз Грандисон». И пересказывает их своей кузине, чтобы и та была в курсе модных новинок. Недаром Прасковья Ларина зовёт своего возлюбленного Грандисоном. У Ричардсона этот герой умён, красив, добродетелен, чужд мещанской морали.
Да, Самуэл Ричардсон, родившийся 19 августа 1689 года, писал романы, основной чертой которых, сделавшей их невероятно популярными, а их автора даже родоначальником подобной литературы, была «чувствительность». Надо сказать, что успех романов Ричардсона держался долго. Подражателями Ричардсона были Фильдинг и Гольдони. Влияние романов Ричардсона, умершего 4 июля 1761 года, заметно и в «Новой Эллоизе» Руссо, и в «Монахине» Дидро.
Вместе с тем, по замечанию современника, если читать романы Ричардсона, интересуясь фабулой, то можно повеситься от нетерпения. Поэтому ввиду растянутости романов Ричардсона изданы их сокращённые издания. И ничего. От сокращения они не проиграли.
* * *
Порой диву даёшься, ну за что в СССР писатель не просто попадал в немилость, но объявлялся врагом. Что вражеского написал или сделал Иван Иванович Катаев, один из руководителей близкого властям «Перевала»? Был одним из создателей «Литературной газеты», точнее, конечно, воссоздателей, если иметь в виду газету Дельвига, от которой, как уверяет поляковское руководство, ведёт свою родословную нынешняя «Литературка». Но, поместив в «шапку» профиль Горького, Поляков с соратниками совсем запутали дело. Не Горький воссоздавал «Литературную газету» Дельвига, а тот же Катаев. Впрочем, чего ждать от нынешней агрессивной неграмотности!
Иван Иванович написал несколько повестей, которые были неплохо приняты, пока не началась кампания в печати против «Перевала». За рассказ «Молоко» Катаева в «Правде» обвинили в проповеди христианства. Так и назвал автор «Правды» свою статью: «О «сладеньких попиках» и «всеобщем молочке».
Нападки на Катаева закончились тем, что он был арестован и 19 августа 1937 года расстрелян. За что?
Родился он 27 мая 1902 года.
20 АВГУСТА
Судьба Евгения Пантелеевича Дубровина, родившегося 20 августа 1936 года, обычна для партийного печатающегося провинциального функционера. В своём родном Воронеже он публиковался в журнале «Подъём», десять лет с 1961 по 1971 возглавлял газету «Молодой коммунар». Потом был переведён в Москву, в «Крокодил», где с 1975 года работал главным редактором.
Был ли он талантливым писателем? А сатириком? А юмористом? Многие утверждали, что был. Но мне кажется, что его стиль был среднеарифметическим среди писателей, считавшихся сатириками, юмористами, типа И. Шатуновского и А. Суконцева, фельетонистов «Правды», задававшим тон в так называемой сатирико-юмористической литературе.
Вот этот стиль:
«Лиля была очень высокого мнения о себе и не терпела ничьих возражений. Лишь в вопросах космоса она снисходительно позволяла мне быть некоторым авторитетом.
Однажды мы поссорились серьёзно. Как-то, спасаясь от зимней стужи, мы зашли с Лилей в здание лектория. Мы горели желанием послушать любую лекцию, на какую бы тему она ни оказалась.
Каково же было моё изумление, когда на трибуне я увидел Маленького Ломоносова!
В чёрном длиннополом пиджаке, в рубашке-косоворотке, Наум Захарович Глыбка яростно громил с трибуны вредителей сельского хозяйства. Волосы кандидата сельскохозяйственных наук растрепались, рукава были в мелу до плеч, лицо вспотело от возбуждения. Голос бывшего декана заполнял все уголки большого зала.
– За год суслик уничтожает десятки килограммов зерна, соломы, топчет посевы, его норки разрушают структуру почвы! Жилища же более крупных вредителей, например кротов, даже мешают продвижению тракторов, а иногда выводят их из строя! Грызуны – огромное, не поддающееся учёту бедствие! За границей на борьбу с вредителями этого типа расходуются колоссальные средства! Сотни людей заняты тем, что круглый год производят отлов этих хищников… У нас пока не придают значения этому вопросу. Мы всё чего-то ждём. Мы всё благодушествуем. А грызуны между тем катастрофически размножаются. Скоро огромные полчища этих, с позволения сказать, тунеядцев, будут съедать урожай прямо на корню. Товарищи! По моим, далеко не полным подсчётам, в Советском Союзе живёт около пятнадцати миллионов грызунов!
При этих словах зал пришел в волнение. По рядам пробежал возмущённый говорок.
– Какая тема лекции? – спросил я шёпотом у соседа.
Тот недовольно оторвался от блокнота, в который что-то строчил, и буркнул:
– «Забытая опасность». Сзади на нас зашикали.
– Что же надо делать? – крикнул кто-то с места лектору.
Глыбка мотнул головой, откидывая назад свой чубчик.
– Те, кто читал мои труды, сразу найдут ответ на этот вопрос. Только многолетние растения избавят нас от всех бед. Только хлебные деревья способны противостоять натиску грызунов! Не нужно бояться нового, товарищи! Будущее за многолетними растениями!
Грянули аплодисменты.
Председательствующий зазвонил в колокольчик.
– Прошу вопросы, товарищи!
– Твой коллега, – сказал я Лиле, – сверхгений. Но Лиля не была склонна иронизировать. Она, кажется, увлеклась лекцией. Уверенный, небрежный Маленький Ломоносов расхаживал по сцене и собирал записки.
На доске мелом размашисто были изображены какие-то схемы и диаграммы.
– Это же революция в сельском хозяйстве, – восхищённо прошептала Лиля, вглядываясь в угол доски, где довольно похоже было нарисовано дерево, унизанное подобиями арбузов. Внизу на задних лапах стоял суслик.
Я достал блокнот и написал на листке бумаги огрызком карандаша: «Уважаемый Наум Захарович! А как же тогда летающая борона?»
По-моему, этот текст Дубровина не из тех, о каком однажды написал критик: «Читая это, я расхохотался так, что у меня выпали все зубные пломбы»! Но и здесь о пломбах надо позаботиться. Могут вылететь. От невероятной затяжной зевоты.
Умер Дубровин 15 июля 1986 года.
* * *
С Георгием Степановичем Кнабе, родившимся 20 августа 1920 года, мы вместе состояли в редколлегии журнала «Вопросы литературы» в период его ослепительного расцвета, когда главным редактором был Лазарь Ильич Лазарев.
Мы вместе с Кнабе приняли участие в Международной научной конференции в Переделкине, посвящённой творчеству Булата Окуджавы. Доклад, с каким выступил Кнабе, вызвал у всех огромный интерес. Он потом его напечатал в журнале «НЛО».
Всем запомнилось, как, процитировав Окуджаву, «Мы начали прогулку с арбатского двора, // к нему-то всё, как видно, и вернётся» и «Арбатство, растворённое в крови, неистребимо, как сама природа…», Георгий Степанович жёстко отозвался об этих стихах:
«Истребимо. Не вернулось и не вернётся. Переживание времени и города, мира и истории на основе отрадного и, несмотря ни на что, не покидающего тебя чувства содружества. Способность видеть в другом такого же человека, как ты сам, и уважать его права, а на этой основе переживать и потенциальную солидарность с ним – выявленная и выраженная Окуджавой суть «арбатского текста» русской культуры, всей демократической русской интеллигенции. Но такого рода переживание предполагает, помимо лирического наполнения и мифологизации, определённый тип исторической реальности и общественных отношений. Уничтожаемые советским режимом, истончаясь и уходя из жизни, объективная возможность интеллигентского мировосприятия, его этика и его ценности, продолжали в ней жить вплоть до середины восьмидесятых годов, когда оказались полностью исчерпанными в реальности нового типа. Предпосылки её складывались исподволь, но окончательную санкцию она получила в преобразованиях и потрясениях конца века. Какое уж тут содружество, какой интеллигентский кодекс, какое «возьмёмся за руки»…»
Этот свой доклад Кнабе назвал «Конец мифа». Он был антиковедом. Даже вице-президентом их российской ассоциации. Его работы по Тациту, по истории древнего Рима, по быту и истории в античности снискали ему признание специалистов. Но он не ограничивал себя только античной темой. Он писал о Бахтине и об Аверинцеве, о диалектике повседневности и о феномене рока и контркультуры. Последняя его книга «Европа с римским наследием и без него» вышла в 2011-м – в год его смерти, случившейся 30 ноября. Она и в самом деле подытожила многое, о чём говорил и писал этот замечательный филолог и философ.
* * *
Про русскую поэтессу Надежду Григорьевну Львову, родившуюся 20 августа 1891 года, больше всего известно, что она покончила жизнь самоубийством в 24 года на почве своего трагического романа с поэтом Валерием Брюсовым.
Владислав Ходасевич вспоминал о ней:
«Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой… Сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила «'ак» вместо «как», «'оторый», «'инжал»…»
Её любили друзья. «Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами, – свидетельствовал Илья Эренбург… – Я часто думал: вот у кого сильный характер!…»
Анна Ахматова констатировала после смерти Львовой: «Её стихи, такие неумелые и трогательные, не достигают той степени просветлённости, когда они могли бы быть близки каждому, но им просто веришь, как человеку, который плачет…»
Вот что написала сама Надежда Львова совсем незадолго до гибели:
Мне хочется плакать под плач оркестра. Печален и строг мой профиль. Я нынче чья-то траурная невеста… Возьмите, я не буду пить кофе. Мы празднуем мою близкую смерть. Факелом вспыхнула на шляпке эгретка. Вы улыбнётесь… О, случайный! Поверьте, Я – только поэтка. Слышите, как шагает по столикам Ночь?… Её или Ваши на губах поцелуи? Запахом дышат сладко-порочным Над нами склонённые туи. Радужные брызги хрусталя - Осколки моего недавнего бреда. Скрипка застыла на жалобном la… Нет и не будет рассвета!Она ушла из жизни 7 декабря 1913 года.
* * *
Вы даже представить себе не можете, как помогла мне книга Вильяма Васильевича Похлёбкина «Из истории русской кулинарной кухни» обогатить мои спецсеминары, посвящённые какому-нибудь писателю или какому-нибудь известному произведению, как с её помощью загорались глаза у студентов.
Вот разбираем мы фонвизинский «Недоросль». Доходим до сцены, где г-жа Простакова приказывает служанке Еремеевне дать «позавтракать ребёнку». Еремеевна отвечает, что Митрофанушка уже «пять булочек скушать изволил». «Так тебе жаль шестой, бестия?» – возмущена Простакова. Не жаль, но, по сообщению Еремеевны, Митрофан всю ночь маялся животом. Что же он съел, интересуются мать и дядя? «Да что! – вспоминает Митрофан, – солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню, шесть». «Ночью, – добавляет Еремеевна, – то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил».
Для современного читателя, говорю я студентам, точнее, повторяю то, что пишет Похлёбкин, эта сцена не звучит так гротескно-комично, как для зрителя XVIII века. А, между тем, по воспоминаниям современников Фонвизина, зрители в голос рыдали, слушая Митрофанушку и Еремеевну.
«Ломтик» Митрофанушки – это не что иное, как официальная мера – «ломоть», который означал кусок толщиной в палец или в дюйм (2,5 см), отрезанный во всё сечение солонины. Весит он примерно 200-250 грамм. Три ломтика, съеденные Митрофаном, – это 600-750 грамм солёно-вяленого, тяжёлого, трудно усвояемого мяса.
«Подовый» – пирог. В конце XVIII века их пекли небольшими, но высокими; начинялись, как пишет В.В. Похлёбкин, мясом с луком или капустой с яйцами. Тесто замешивалось крутое. Запекали на сковороде на говяжьем сале и кипятке. Вес одно такого пирога достигал фунта (409 грамм). Легко сосчитать, что, съев шесть подовых, Митрофан утяжелил желудок 2,5 килограммами мучных продуктов.
Ну, а «кувшин» в то время был двух объёмов – на 3 или на 5 литров. Ясно, что, прикидывая раблезианский аппетит Митрофана, зрители, конечно, склонялись к пятилитровому «кувшинцу».
Помимо прочего, Похлёбкин помогал студентам уяснить суть жанра «Недоросля», понять, что это действительно сатирическая комедия.
А как помог мне Похлёбкин написать «Путеводитель по «Евгению Онегину», понять, почему, отведав брусничной воды у Лариных, Онегин поторапливает кучера и злится на весь мир!
Вильям Васильевич, родившийся 20 августа 1923 года и погибший 30 марта 2000-го, был человеком уникальным. Он знал все кухни мира, реконструировал древние кушанья. Зная несколько языков, он интересовался историей многих стран мира. В частности, разыскал неизвестные документы по русско-норвежским отношениям, написал биографию президента Финляндии «Урхо Калев Кекконен», которая была отмечена премией в 50 тысяч долларов (по другим источникам – 200 тысяч). Но в Финляндию советские власти Похлёбкина не выпустили. И премия отошла правительству СССР.
Его кулинарные колонки в «Неделе» (приложение к газете «Известия»), способствовали тому, что купить «Неделю» в киосках стало проблематично, а выписать – и того труднее.
А монография Похлёбкина «История водки» стала классической и обязательной к изучению тех, кто готовит себя в профессионалы кулинарии.
Замечу, что не только кухней интересовался Похлёбкин. Ему принадлежит «Словарь международной символики и эмблематики».
Этот великий человек стал жертвой убийства. На его теле насчитали одиннадцать ран, нанесённых отвёрткой. Расследование преступления результатов не дало.
* * *
С Пушкиным отношения у Владимира Александровича Соллогуба, родившегося 20 августа 1813 года, заладились не сразу. То есть, они познакомились, когда только что женившийся Пушкин жил в Царском Селе. Но в начале 1836 года происходит столкновение Пушкина с Соллогубом, которое едва не окончилось дуэлью. Поэту показалось, что Соллогуб был неучтив с его женой. Недоразумение разъяснилось, и Соллогуб оценил, каким издёрганным и нервным был в это время Пушкин. Осенью 1836 года Пушкин просил Соллогуба быть секундантом в первой несостоявшейся дуэли с Дантесом.
Владимир Соллогуб оставил свои воспоминания о Пушкине и о Гоголе.
Главным его сочинением считается повесть «Тарантас» (1845). Кроме этого, он написал ещё 7 повестей, 6 пьес, водевиль, сборник рассказов.
Но «Тарантас», начиная с Белинского, считают значительным произведением русской литературы.
Умер Соллогуб 17 июня 1872 года.
* * *
Ефим Яковлевич Дорош, скончавшийся 20 августа 1972 года (родился 25 декабря 1908-го), одно время (очень недолгое) был членом редколлегии журнала «Москва», который поначалу возглавил Николай Атаров. Журнал возник на гребне хрущёвской оттепели в 1957 году, однако уже в следующем году агрессивное руководство нового Союза писателей РСФСР добилось снятия Атарова и ухода всей его редколлегии. С тех пор «Москва» оставалась верноподданным власти журналом.
А Дороша пригласил в редколлегию своего журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский, который знал Ефима Яковлевича как талантливого публициста, печатавшего знаменитый свой «Деревенский дневник».
Многие способные писатели обязаны своим авторством в «Новом мире» Дорошу.
Он подписал коллективное письмо в защиту диссидентов Синявского и Даниэля.
После разгрома «Нового мира» Твардовского остался работать в журнале, за что, как и все оставшиеся работники, был поименован ушедшими «предателем».
Но проработал в журнале недолго. Умер, как я и написал, в 1972 году.
* * *
Григорий Фёдорович Квитка, став писателем, присоединил к своей фамилии псевдоним Основьяненко.
О юношеских его годах рассказывают легенды. До шести лет мальчик был слеп. Мать повезла его в Озёрную пустынь, где после долгой молитвы, ему смазали глаза водой из монашеского колодца. Квитка прозрел.
Хотел даже под влиянием этого события постричься в монахи, но его отец этого не допустил: определил на военную службу. Тем не менее в 1796 году Квитка вышел в отставку и в 1804 году поступил послушником в Куряжский монастырь. Однако в апреле 1805 года из монастыря ушёл. По-разному объясняют это его биографы. Одни – болезнью отца, другие – природной весёлостью Квитки.
Квитка-Основьяненко любил повторять: «Я непроизвольно, нечаянно, неумышленно попал в писаки».
Он пишет комедии. Среди которых «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе». Конечно, её читал Гоголь, написавший на весьма похожий сюжет своего «Ревизора». Но обвинять Гоголя в плагиате мы не станем. Во-первых, такие вещи широко распространены в мировой литературе. Во-вторых, чем талантливей писатель, тем глубже содержательность его произведения. А по содержательности Квитку и Гоголя сравнивать трудно.
Много пишет Квитка по-украински. Особенно комические оперы. Некоторые из них перевёл на русский В.И. Даль. Но Квитка-Основьяненко предпочитал сам переводить свои произведения.
Дружба с Жуковским подтолкнула украинского писателя написать по-русски нравоучительный роман «Жизнь и похождения Петра Пустолобова» (1833). Однако роман не смог преодолеть цензурных плотин. В 1838-м Квитка-Основьяненко переработал роман, который под заглавием «Жизнь и похождения Петра Степанова, сына Столбикова» увидел свет в 1841 году. Роман лёг в основу водевиля «Похождения Столбикова», подготовленного для Александрийского театра Квитка вместе с Н. Некрасовым, П. Григорьевым, П. Фёдоровым.
Разноречивые оценки вызвал роман Квитка-Основьяненко «Пан Халявский» (1840). «Провинциальным остроумием» назвал роман один из критиков. А по мнению Белинского, «это превосходная сатира, написанная рукою отличного мастера».
Пожалуй, здесь названы наиболее значительные произведения Квитка-Основьяненко, который скончался 20 августа 1843 года. Родился 29 ноября 1778 года.
* * *
Андрей Александрович Краевский, редактор-издатель журнала «Отечественные записки», а потом и редактор газеты «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», особенно известен как поклонник таланта и публикатор Михаила Лермонтова.
Известен ещё и тем, что обратил внимание Лермонтова на неграмотность строчки: «Из пламя и света рождённое слово». «А как надо?» – спросил Лермонтов. «Надо – из пламени», – ответил Краевский.
Лермонтов сел, задумался, а потом сказал: «Нет, ничего не идёт в голову. Печатай как есть. Поэт имеет право на поэтические вольности».
Слава богу, что с этим Краевский согласился.
Он скончался 20 августа 1889 года. Родился 17 февраля 1810 года.
21 АВГУСТА
Судьба Александра Остаповича Авдеенко, родившегося 21 августа 1908 года, сама по себе напоминает детективную историю.
Шахтёр по профессии, он издал в 1933 году роман «Я люблю», который был хорошо принят критикой.
Вместе с другими писателями ездил по Беломорско-Балтийскому каналу по направлению органов писать книгу о том, как перековываются характеры заключённых – строителей канала, как они становятся на путь исправления.
В 1934 году принял участие в Первом съезде советских писателей, где Горький особо похвалил роман «Я люблю» и где Авдеенко был принят в ряды членов Союза советских писателей.
В 1935 году писателю Авдеенко доверили выступить на VII Всесоюзном съезде Советов с речью, которая называлась «За что я аплодировал товарищу Сталину». В этой речи шахтёр-писатель сказал: «Я пишу книги. Я – писатель, я мечтаю создать незабываемое произведение, – всё благодаря тебе, великий воспитатель Сталин… Когда моя любимая девушка родит мне ребёнка, первое слово, которому я его научу, будет – Сталин».
Новая должность обозначила карьерный рост Авдеенко: его взяли работать в редакцию «Правды».
А дальше на экраны вышел фильм А. Столпера и Б. Иванова «Закон жизни» по сценарию Авдеенко. Поначалу критика была благожелательной. Но 9 сентября 1940 года в ЦК ВКП(б) состоялось совещание по этому фильму. На нём выступил Сталин, который сказал: «Весь грех Авдеенко состоит в том, что нашего брата – большевика – он оставляет в тени, и для него у Авдеенко не хватает красок… Я хотел бы знать, кому из своих героев он сочувствует. Во всяком случае не большевикам».
В ответ на недоумение Авдеенко самим тоном разговора Жданов заявил: «Вы разве считаете, что творчество не под контролем партии?… Наверное, Вы так считаете, что каждый сам себе хозяин, как хочу так и делаю, не Ваше дело, не лезьте в эту область?»
Сталин дал свою характеристику Авдеенко: «Ловко прячущийся, не наш человек. Как попал в партию, по чьей рекомендации?… На чём он держится? На том, что у него рабочее происхождение? Подумаешь, нас этим не удивишь… Девять десятых рабочего класса – золото, одна десятая или одна двадцатая или даже одна тысячная – сволочи, предавшие интересы своего класса. Они есть везде… Он не член партии и никогда не был членом партии. Это наша доверчивость и простота, вот на чём он выехал…»
Надо ли говорить, что Авдеенко моментально был исключён из партии и из Союза писателей. Но по причудливой сталинской логике репрессирован не был.
Во время войны Авдеенко окончил миномётное училище. Воевал лейтенантом. Писал для фронтовых газет. Но в «Красную звезду» посылал статьи и очерки безуспешно. Пока главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг на свой страх и риск послал фельдсвязью Сталину очерк Авдеенко «Искупление кровью» о бывшем офицере, совершившем подвиг в штрафбате. Ночью Сталин позвонил Ортенбергу: «Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину».
В 1943 году он был принят заново в Союз писателей по рекомендации Тихонова и Симонова.
Но при Сталине выпустил только один роман – «Труд» в 1951 году в Профиздате.
А после смерти Сталина в 1955-м Авдеенко был восстановлен в партии.
Он написал ещё много книг, по одной из них, детективу «Над Тиссой» создал сценарий фильма, который вышел в 1958 году.
Продолжал ли он верить в Сталина? Сын писателя на этот вопрос отвечает уклончиво: скорее всего, он обижен был на вождя за личное отношение к себе, Авдеенко. Но в деле Сталина не разуверился.
Умер в 1996 году.
* * *
Отец русского экспрессионизма Леонид Николаевич Андреев, родившийся 21 августа 1871 года, настоящую славу испытал после публикации в 1901 году в журнале «Жизнь» его рассказа «Жили-были».
Молодого писателя приветил Горький. Он ввёл Андреева в книгоиздательное товарищество «Знание».
В 1905 году Андреев горячо одобрил Первую русскую революцию, укрывал у себя дома скрывшихся членов РСДРП. Полиция арестовала его за то, что в его доме прошло совещание ЦК РСДРП. Через 18 дней его выпустили из тюрьмы под залог, который внёс за него Савва Морозов. Откликаясь на убийство эсером И. Каляевым московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, Андреев пишет рассказ «Губернатор».
В 1906 году писатель вынужден уехать в Германию. Оттуда уезжает на Капри, где живёт у Горького. Но с началом реакции (1907) разочаровывается в революционных идеалах и отходит от революционного окружения Горького.
С 1909 года он активно сотрудничает с модернистскими альманахами издательства «Шиповник».
Начало Первой мировой войны принял так же восторженно, как некогда Первую русскую революцию.
После Февральской революции входил в редакционный совет газеты «Русская воля».
Октябрьскую же не принял категорически. Жил он в то время в Финляндии. И после отделения Финляндии от России оказался в эмиграции.
К тому времени это был очень известный писатель Автор повести «Иуда Искариот» – о презираемом всеми человеке, который, однако, неосознанно тянулся к людям чистым и светлым. Автор «Рассказа о семи повешенных», запечатлевшего разочарование Андреева в революционных идеалах. Автор рассказа «Красный Смех», которым Андреев отозвался на русско-японскую войну. Автор повести «Жизнь Василия Фивейского», где писатель и его герой решают кардинальные вопросы веры и неверия.
Надо сказать, что поклонников у Андреева было намного больше, чем критиков. Его манера письма привлекла к себе Чехова, Горького, Блока, Рериха, Репина.
Умер писатель в Финляндии 12 сентября 1919 года.
* * *
Один из основателей «молодёжной прозы» Анатолий Тихонович Гладилин, родившийся 21 августа 1935 года, прославился на всю страну в 21 год, когда напечатал в «Юности» «Хронику времён Виктора Подгурского».
Повесть привлекла своей тогдашней свежестью. Перечитывать её сейчас не стоит: слишком много советских штампов. Но мы были благодарны писателю и за то, что некоторые штампы он порушил, производственную, по сути, вещь сумел насытить психологическими характеристиками молодых рабочих.
Вслед за Гладилиным появился в «Юности» Василий Аксёнов, развивший принципы «молодёжной прозы». Сказать по правде, произведений Аксёнова ждали с большим нетерпением, чем Гладилина. Но и последнему радовались – его вещам «Бригантина подымает паруса», «История одного неудачника». «Вечная командировка», «История одной компании».
Возникшие на волне хрущёвской оттепели, эти писатели печатались значительно меньше после падения Хрущёва.
К тому же новые власти начали борьбу с диссидентами, и Гладилин оказался в числе авторов, подписавших письмо в защиту Синявского и Даниэля, открыто выступил против суда над ними.
Разумеется, ему это было зачтено. Поэтому неудивительно, что в 1976 году Гладилин был вынужден эмигрировать. Уехал во Францию.
В Париже он работал на «Радио Свобода» и в парижской редакции радио «Немецкая волна».
Он очень любопытно описал эту свою деятельность в романе «Меня убил скотина Пелл», где одни эмигранты, такие, как Владимир Максимов, действуют под весьма прозрачными псевдонимами, а другие – под собственными именами – например, Виктор Платонович Некрасов.
Повествование это объективно и, на мой вкус, является лучшим из всего написанного Анатолием Тихоновичем.
* * *
С великим учёным-филологом академиком РАН Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, родившимся 21 августа 1929 года, судьба столкнула меня в «Литературной газете». Он не так давно въехал с мамой в большой дом на Трифоновской улице, где Союзу писателей передали для вселения несколько десятков квартир.
В этот же дом вселился поэт Юрий Кузнецов.
Дальше воспроизвожу рассказ Вячеслава Всеволодовича:
«Вы знаете такого поэта Юрия Кузнецова? Хороший? Почему спрашиваю? Иду вчера по двору. Навстречу несколько подвыпивших субъектов. Останавливают меня: «Где тут живёт Юрий Кузнецов?» «Кто это?» – спрашиваю. «Эх ты, деревня, – говорят мне. – Не знаешь великого русского поэта!»
«Деревня»-Иванов не обиделся. И действительно, что взять с убогих?
* * *
Драматурга Виктора Сергеевича Розова, родившегося 21 августа 1913 года, озлобила перестройка.
Это был весьма преуспевающий модный драматург. Его пьесой «Вечно живые» открылся театр «Современник», который и в дальнейшем ставил много спектаклей по розовским пьесам. Режиссёр Анатолий Эфрос в Центральном детском театре поставил розовские «В добрый час». «В поисках радости», «В день свадьбы», «Перед ужином». На основе пьесы «Вечно живые» был поставлен фильм «Летят журавли» – один из самых культовых времени хрущёвской оттепели.
15 пьес, широко поставленных в советских театрах разных городов и республик. 14 фильмов, чаще всего удачных, кассовых. Госпремия СССР, полученная вместе с театром «Современник» за инсценировку романа «Обыкновенная история» И.А. Гончарова.
К сожалению, мне довелось не раз наблюдать Виктора Сергеевича в разных домах творчества, неизменно расписывающего вечернюю пульку с знакомыми коллегами (помню постоянного – драматурга Владимира Александровича Соловьева, очень плодовитого, лауреата сталинских премий). Игра у них обычно была крупной. Расплачивались часто суммой, превышающей тысячу рублей (большие деньги тогда!). Невозможно было смотреть на Виктора Сергеевича, когда он проигрывал. Злой, готовый оскорбить всех и вся. Расплачивался очень неохотно.
Зачем же, спросите, тогда играл? Любил игру. Втянулся.
Все, кто наблюдал в игре Розова, говорили, что он скуп. Похоже было на то.
И вот грянула перестройка. Александр Николаевич Яковлев обнародовал сумму вклада, какую держал на книжке Георгий Мокеевич Марков – 14 миллионов (тогдашних)! Уму непостижимо, для чего Марков скапливал такую сумму. Ведь потратить её за человеческую жизнь было почти невозможно.
Наверное, у Розова таких денег на книжке не было. Но были очень большие. И вот представьте себе положение, когда деньги обесцениваются не только каждый день, но и раза два в день. Жалко денег? Жадному человеку – жалко безумно. Хотя, в отличие от обычных обывателей, модные драматурги не разорялись: было на что жить!
Но такое положение дел Розова, понятно, не устраивало. И он проклял разоряющую его перестройку и соединился с теми, кому прежде руки бы не подал. Коммунисты или ещё, как тогда называли определённую группу людей, «красно-коричневые» такому союзнику несказанно обрадовались. Он приобрёл совершенно определённую репутацию. С ней и умер 28 сентября 2004 года.
* * *
Третий муж Анны Ахматовой Николай Николаевич Пунин впервые был арестован по делу «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева», – по делу, по которому был арестован первый муж Анны Ахматовой поэт Николай Гумилёв. Правда, в отличие от Гумилёва, Пунина не расстреляли. Но, судя по всему, надзор за ним ЧК установила пожизненный.
Притом что был Пунин сугубо штатским человеком, музейным работником. Не рядовым. Он возглавил отделение и создал экспозицию новейших течений в искусстве Русского музея, где работал больше двадцати лет.
Позже он стал замом директора Ленинградского Государственного Института Художественной культуры, профессорствовал в Ленинградском государственном университете и Институте Живописи, Скульптуры и Архитектуры.
Его книги «Японская гравюра» (1915), «Андрей Рублёв» (1916), «Татлин» (1921) высоко оценивались специалистами. В 1920 году он издал цикл лекций «Современное искусство», в 1927-1928 – «Новейшие течения в искусстве», в 1940-м – учебник по истории западноевропейского искусства.
Между тем органы не дремали. И снова арестовали Пунина и одновременно сына Ахматовой Льва 22 октября 1935 года. На счастье, Пастернак вспомнил о звонке ему Сталина по поводу ареста Мандельштама. «Я, – сказал тогда вождь, – всё бы сделал, чтобы освободить товарища, если убеждён, что он невиновен».
Ахматова тут же выехала в Москву и с помощью Пастернака передала письмо в Кремль. Через неделю сына и Пунина освободили.
Но оказалось, что он (они оба) стал жертвой коварной игры Сталина, – мышью, которую ненадолго и недалеко от себя отпускает кот.
Уже в 1938 году арестован и приговорён к 5 годам лагеря Лев Николаевич Гумилёв, сын Ахматовой.
26 августа 1949 года вновь арестовали Пунина. А 6 ноября пришли за Львом Гумилёвым, сыном Ахматовой, арестовывать в третий раз.
Пунин умер в Абезьском лагере 21 августа 1953 года. Родился 28 ноября 1888 года.
* * *
Сын многолетнего директора московского Большого театра – Михаил Михайлович Чулаки родился в Ленинграде, остался с матерью, когда отец уехал в Москву, закончил медицинский институт в Ленинграде и шесть лет работал врачом-психиатром. (Впрочем, и с отцом он до конца жизни сохранял хорошие отношения.)
Печататься начал в «Неве», в 1973 году. И уже через два года перешёл на профессиональную писательскую работу. Пишет он быстро. Издают его много. Читателей привлекает необычность темы. То в романе «Борисоглеб» (1996) он напишет о половом созревании сиамских близнецов, то в романе «Кремлёвский Амур» (1995) расскажет историю любви российского президента к украинской президентше. В «Четырёх портретах» (1981) он проследит вместе с читателями, как люди становятся похожими на свои портреты. А в повести «Книга радости – книга печали» (1984) задумается над трагической судьбой одиночки, у которого имелись крылья, и он мог летать.
29 повестей и романов написал за свою жизнь Михаил Чулаки. Мог бы написать больше, потому что жизнь его оборвалась нелепо. Обладающий очень плохим зрением, он вышел погулять с собакой и неожиданно для шофёра сбившей его «тойоты» показался на проезжей части из-за стоящего на обочине грузовика.
Ночью 21 августа 2002 года он скончался (родился 25 февраля 1941-го).
Михаил Чулаки пользовался большим уважением у коллег. С 1992 года являлся Председателем правления Союза писателей Санкт-Петербурга. В 1993-м после подавления красно-коричневого бунта подписал знаменитое «письмо 42-х» – обращение к Ельцину с требованием распустить профашистские силы, провести, наконец, люстрацию. Увы, Ельцин не отреагировал. В результате мы сейчас имеем то, что имеем.
22 АВГУСТА
Володя Амлинский умер относительно рано – в 53 года. Может, поэтому так быстро забыла читающая публика этого писателя.
А в своё время он был известен. Тёзка Ленина, Владимир Ильич Амлинский родился 22 августа 1935 года. Поначалу много ездил по стране как журналист. В 1958 году опубликовал свой первый рассказ «Станция первой любви» в «Юности». И до конца жизни связал судьбу с этим журналом, печатая в нём повести и рассказы, став членом её редколлегии.
В перестройку в той же «Юности» опубликовал очерк об отце-генетике «Оправдан будет каждый час» и о Н.И. Бухарине «На заброшенных гробницах…»
Вообще в так называемой «молодёжной прозе» ничем особенно себя не проявил. И Аксёнов, и Гладилин писали заметнее.
Но перестройка словно высвободила из недр Амлинского талант яркого публициста. Его документальные повести читались с таким же интересом, как и те романы у писателей (Рыбаков, Гроссман), которые сняли с закрытых книжных полок, вернули читателям из секретных спецхранов.
Мне он говорил, что работает над материалами дела своего деда по матери Василия Анисимовича Анисимова. Материалы рассекретил КГБ.
Анисимов был сперва меньшевиком, но потом перешёл к большевикам и как большевик отбывал срок сперва в Санкт-Петербургской пересылочной тюрьме. Потом в Александровской центральной каторжной тюрьме в Иркутской губернии. Оттуда через Крупскую переписывался с Лениным.
Весь период гражданской войны провёл в Сибири. Был даже министром промышленности буферной Дальневосточной республики.
А вот почему он в 1925 году вышел из РСДРП, неясно. Во всяком случае, в Москву приехал беспартийным и был назначен заместителем начальника экономического управления Высшего Совета Народного Хозяйства.
На этом посту он был арестован и расстрелян.
Успел ли Володя Амлинский, умерший 30 ноября 1989 года, написать книгу о своём деде? Жалко, если не успел…
* * *
Анатолий Вениаминович Калинин, родившийся 22 августа 1916 года, наиболее известен читателям своим романом «Цыган». По мотивам этого романа режиссёр Евгений Матвеев снял фильм в 1967 году, а режиссёр Александр Бланк в 1979-м – сперва четырёхсерийный фильм, а в 1985-м – его продолжение пятисерийный фильм «Возвращение Будулая». Редкий, согласитесь, случай. Тем более что сам Калинин и в 67-м, и в 79-м, и в 85-м считал опубликованные редакции романа незаконченными. И завершил роман только в 1992 году. Правда, и по мотивам завершённой редакции в 1993 году Александр Фенько снял фильм (четыре серии) «Цыганский остров», который через год в несколько переработанном виде стал фильмом «Будулай, которого не ждут».
Хороший ли роман «Цыган»? Сентиментальный, с вкраплением жестоких сцен. Порой в нём слышится интонация «Поднятой целины» Шолохова.
Это неслучайно: Шолохов был кумиром Калинина. Первый же его роман «Курганы» (1941) написан под откровенным влиянием Шолохова.
Подражая Шолохову, жившему не в городе, а в станице Вёшенская, Калинин переселился с семьёй на Хухляковский хутор на берегу Дона, где и жил до смерти, то есть до 12 июня 2008 года.
Сейчас хутор объявлен «жемчужиной донского края». Туристов зовут соприкоснуться с историей, обычаями и традициями донского казачества.
И последнее, что можно сказать о Калинине: тот был горячим убеждённым сторонником авторства Шолохова романа «Тихий Дон». Писал об этом статьи в «Огоньке» и местной прессе.
* * *
О том, кто выступал во второй половине XIX века со стихами, пьесами и переводами под псевдонимом «К.Р.», не знали только люди, очень далёкие от литературы.
К.Р. был адресатом писем И. Гончарова, Я. Полонского, А. Фета. Фет даже доверял ему редактуру своих стихов.
Для чего великий князь Константин Константинович, внук Николая I, взял себе псевдоним, легко расшифровывающийся как Константин Романов, объяснить нелегко. Наверное, наиболее правильно будет предположить, что он не хотел выступать под царской фамилией. Но и далеко уходить от неё тоже не хотел.
Во всяком случае, Константин Константинович, родившийся 22 августа 1858 года, много хорошего сделал на ниве российской словесности. Назначенный Президентом императорской академии наук, он учредил при Отделении русского языка и словесности разряд изящной словесности, по которому в почётные академики стали избираться писатели: П. Боборыкин, И. Бунин, В. Короленко, А. Сухово-Кобылин, А. Чехов.
Возглавлял юбилейный комитет по празднованию столетия со дня рождения А.С. Пушкина.
Обязанностей у великого князя было невероятно много. Археологическое общество, общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, общество спасания на водах, Императорское Православное Палестинское общество, музыкальное общество, астрономическое общество, историческое общество, общество Красного Креста, общество содействия торговому судоходству, – в каждом он был председателем.
К тому же великий князь был пожалован в генералы от инфантерии и в генерал-инспекторы Военных учебных заведений не за свою родословную, а за исключительную храбрость, проявленную им на полях сражений.
Любопытно, что после того, как знаменитая Надежда Плевицкая спела романс Якова Пригожего на слова К.Р. «Умер бедняга в больнице военной», после того, как романс стал необычайно популярным свидетельством неравенства, с каким хоронили нижних чинов по сравнению с верхними, в 1909 году были приняты «Правила погребения нижних чинов», закрепившие уважительное отношение государства к своим защитникам.
Константин Константинович помогал многим. Особенно литераторам. Особенно тем из них, к кому чувствовал духовное родство. И духовные его родственники с благодарностью отзывались. Так А.А. Фет прислал великому князю-поэту третий выпуск своих «Вечерних огней» с такой дарственной надписью:
Трепетный факел, – с вечерним мерцаньем Сна непробудного чуя истому, - Немощен силой, но горд упованьем Вестнику света сдаю молодому…«Вестник света» – вот счастливо найденная Фетом черта творчества К.Р., – его светоносность.
Гениям свойственна точность определений. Фет видел, куда идёт русская поэзия, – к модернизму, к погружению в тёмные воды жизни. Оценил Фет и стихи К.Р., который, как мог, неустанно выводил читателей к свету:
Смеркалось; мы в саду сидели, Свеча горела на столе. Уж в небе звёзды заблестели, Уж смолкли песни на селе… Кусты смородины кивали Кистями спелых ягод нам, И грустно астры доцветали, В траве пестрея здесь и там. Между акаций и малины Цвёл мак махровый над прудом, И горделиво георгины Качались в сумраке ночном. Тут и берёзы с тополями Росли, и дуб, и клён, и вяз, И ветви с зрелыми плодами Клонила яблоня на нас; Трещал кузнечик голосистый В кусте осыпавшихся роз… Под этой яблоней тенистой В уме столпилось столько грёз И столько радужных мечтаний, Живых надежд, волшебных снов И дорогих воспоминаний Былых, счастливейших годов! …. Сад задремал; уже стемнело, И воцарилась тишина… Свеча давно уж догорела, Всходила полная луна,- А мы… мы всё в саду сидели, Нам не хотелось уходить! Лишь поздней ночью еле-еле Могли домой нас заманить.Умер К.Р. 15 июля 1915 года.
* * *
Вот это стихотворение Борис Абрамович Слуцкий так и назвал «Михаил Кульчицкий»:
Одни верны России Потому-то, Другие же верны ей Оттого-то, А он – не думал, как и почему. Она – его подённая работа. Она – его хорошая минута. Она была отечеством ему. Его кормили. Но кормили – плохо. Его хвалили. Но хвалили – тихо. Ему давали славу. Но – едва. Но с первого мальчишеского вздоха До смертного Обдуманного Крика Поэт искал не славу, а слова. Слова, слова. Он знал одну награду: В том, чтоб словами своего народа Великое и новое назвать. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы. Поэтому я думаю: не надо Об этой смерти слишком горевать. Я не жалею, что его убили. Жалею, что его убили рано. Не в третьей мировой, а во второй. Рождённый пасть на скалы океана, Он занесён континентальной пылью И хмуро спит в своей глуши степной.Да, таким он и был – товарищ Слуцкого, поэт Михаил Валентинович Кульчицкий, родившийся 22 августа 1919 года. Конечно, прав немецкий славист Вольфганг Казак, заметивший, что у Кульчицкого юношеская жертвенность сочетается с верой в собственное поэтическое слово. Разумеется, любая гибель – случайность. Но, читая стихи Кульчицкого, вспоминаешь реплику декабриста Никиты Муравьёва, сказанную при аресте: «Ах, как прекрасно мы умрём!»
Кульчицкий не боялся смерти. Часто писал о ней. Воображал свою смерть прекрасной – то есть жертвенной. А за что ему не жалко будет пожертвовать жизни, он никогда не сомневался:
Самое страшное в мире – Это быть успокоенным. Славлю Котовского разум, Который за час перед казнью Тело свое гранёное Японской гимнастикой мучил. Самое страшное в мире – Это быть успокоенным. Славлю мальчишек смелых, Которые в чужом городе Пишут поэмы под утро, Запивая водой ломозубой, Закусывая синим дымом. Самое страшное в мире – Это быть успокоенным. Славлю солдат революции, Мечтающих над строфою, Распиливающих деревья, Падающих на пулемёт!Да, он погиб в бою 19 января 1943 года за те прекрасные идеалы революции, какими он их ощущал. Прямой человек, он отказался бы от этих идеалов, если б они раскрылись ему по-другому.
* * *
Виктор Андроникович Мануйлов родился 22 августа 1903 года. Познакомился с Анной Ахматовой, которая рекомендовала его П.Е. Щёголеву секретарём редакции, готовившей полное собрание сочинений А.С. Пушкина в 6 томах.
В 1934 году среди тех молодых литературоведов, которых привлёк Б.М. Эйхенбаум для работы над подготовкой для издательства «Academia» пятитомного издания сочинений Лермонтова, был и В.А. Мануйлов, ставший активнейшим работником, много сделавшим для этого издания.
В 1936 году в СССР началась подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. Мануйлов работал в Пушкинском обществе сперва учёным секретарём, а после заместителем Председателя правления при председателе – академике Н.С. Державине, с 1936 года – при А.Н. Толстом.
Во время Великой Отечественной войны уполномоченный Президиума Академии наук СССР при Институте русской литературы (Пушкинском доме) В.А. Мануйлов остаётся в осаждённом Ленинграде. Он участвовал в научной деятельности института, писал книги и брошюры в специальной «Оборонной серии», распространявшейся среди горожан и раненных в госпиталях.
После войны он, кандидат филологических наук с 1945 года, пишет работы о Чехове (книга «Чехов», 1945), о кавказских произведениях Толстого, о Гоголе в Петербурге.
В 1967 году он защищает в Ленинградском университете докторскую диссертацию о Лермонтове.
Отныне все свои силы В.А. Мануйлов сосредоточил на выпуске «Лермонтовской энциклопедии», которая достойно увенчала его научный труд.
Скончался 1 марта 1987 года.
* * *
Прекрасный писатель Л. Пантелеев на самом деле носил имя Алексея Ивановича Еремеева. Он родился 22 августа 1908 года. В годы гражданской войны был беспризорником, вынужден был воровать, чтобы прокормиться. Добрался до Петрограда, где устроился на работу, за которую почти ничего не платили. Чтобы получить хоть какие-то свои деньги, он выкручивал лампочки для продажи, на чём и попался.
Его определили в Школу социально-индивидуального воспитания им. Достоевского (ШКИД), созданную русским педагогом Виктором Николаевичем Сорока-Росинским (в повести, которую Пантелеев напишет вместе с другим воспитанником школы Г. Белыхом, директор будет выведен под именем Викниксор).
Их книга «Республика ШКИД» выходит в 1927 году, становится популярной и попадается на глаза Максиму Горькому, который много способствует её продвижению на отечественном и зарубежном книжном рынке.
В 1933 году Л. Пантелеев пишет не менее знаменитую книгу «Пакет».
В 1936-м репрессируют Григория Белыха, и он погибает в тюрьме. Над Пантелеевым сгущаются тучи. Но благодаря К.И. Чуковскому и Маршаку он уцелел.
С началом Отечественной войне он остаётся в осаждённом городе. В марте 1942-го заболевает тяжёлой формой дистрофии: четыре месяца он оказывается без продуктовых карточек. Спасает Пантелеева Фадеев, который вывез тяжелобольного писателя в Москву.
По воспоминанию всех, кто его знал, Алексей Иванович был человеком исключительной честности.
Написал в стол автобиографическую книгу «Верую», обосновывая свои религиозные взгляды, которые в то время принято было скрывать.
Он написал много разных по жанру вещей. Был не только чудесным взрослым писателем, не только драматургом или портретистом, то есть автором литературных портретов. Он был великолепным детским писателем. Вот начало его небольшого рассказа, который называется «Буква «ты»:
«Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка, было ей четыре года пять месяцев, и была она большая умница. За каких-нибудь десять дней мы одолели с ней всю русскую азбуку, могли уже свободно читать и «папа», и «мама», и «Саша», и «Маша», и оставалась у нас невыученной одна только, самая последняя буква – «я».
И тут вот, на этой последней буковке, мы вдруг с Иринушкой и споткнулись.
Я, как всегда, показал ей букву, дал ей как следует её рассмотреть и сказал:
– А это вот, Иринушка, буква «я».
Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит:
– Ты?
– Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебе: это буква «я»!
– Буква ты?
– Да не «ты», а «я»!
Она ещё больше удивилась и говорит:
– Я и говорю: ты.
– Да не я, а буква «я»!
– Не ты, а буква ты?
– Ох, Иринушка, Иринушка! Наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется: «я»?
– Нет, – говорит, – почему не понимаю? Я понимаю.
– Что ты понимаешь?
– Это не ты, а это буква так называется: «ты».
Фу! Ну в самом деле, ну что ты с ней поделаешь? Как же, скажите на милость, ей объяснить, что я – это не я, ты – не ты, она – не она и что вообще «я» – это только буква».
А вот его конец:
«И на другой день, когда Иринушка, весёлая и раскрасневшаяся после игры, пришла на урок, я не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил ее за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал:
– А ну, сударыня, давайте-ка, почитайте мне что-нибудь.
Она, как всегда перед чтением, поёрзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло и не переводя дыхания, прочла:
– Тыкову дали тыблоко.
От удивления я даже на стуле подскочил:
– Что такое? Какому Тыкову? Какое тыблоко? Что ещё за тыблоко?
Посмотрел в букварь, а там чёрным по белому написано:
«Якову дали яблоко».
Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю:
– Яблоко, Иринушка! Яблоко, а не тыблоко!
Она удивилась и говорит:
– Яблоко? Так значит, это буква «я»?
Я уже хотел сказать: «Ну конечно, «я»! А потом спохватился и думаю: «Нет, голубушка! Знаем мы вас. Если я скажу «я» – значит – опять пошло-поехало? Нет, уж сейчас мы на эту удочку не попадёмся».
И я сказал:
– Да, правильно. Это буква «ты».
Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что же поделаешь! Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы всё это кончилось. И, может быть, бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы – вместо «яблоко» – тыблоко, вместо «ярмарка» – тырмарка, вместо «якорь» – тыкорь и вместо «язык» – тызык. А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки».
Прелестно, правда?
Умер Алексей Иванович 9 июля 1987 года.
* * *
О Зиновии Самойловиче (Зяме) Паперном, скончавшемся 22 августа 1996 года (родился 5 апреля 1919 года), известно многое.
Во-первых, что именно он автор крылатой фразы «Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что».
Во-вторых, что он руководил в пятидесятых годах сатирическим ансамблем «Вёрстки и правки», и я застал в «Литературной газете» некоторых солисток этого ансамбля, которые очень серьёзно (и потому – смешно) пародировали знаменитую песню, заменяя фамилию вождя фамилией известного сервильного критика:
Когда нас в бой пошлёт товарищ Ста… (пауза, потом тихо) риков, И первый критик в бой нас поведёт!В-третьих, что Зяма написал очень смешную пародию на кочетовский роман, за что его исключили из партии, а в Институте мировой литературы, где он тогда работал, нашли невозможным его пребывание в секторе современной литературы, который считался идеологическим, и перевели в сектор классической литературы, благодаря чему Зяма не писал больше книг о Маяковском и о Светлове, а писал о Чехове.
Но то, о чём я расскажу, известно меньше. Одно время Паперный дружил ещё со времен общей работы в «Литературной газете» с критиком Владимиром Огневым. И вот у Огнева выходит книга. Кажется, в «Советском писателе», где перед этим вышла книга Паперного.
Огнев едет за авторскими экземплярами и приезжает смущённый и возмущённый.
– Посмотри, что мне дали, – протягивает книгу Паперному.
– Мою книгу? – удивляется Паперный, глядя на обложку. – Зачем?
– А ты посмотри.
Паперный открывает обложку, и на титульном листе читает: «Владимир Огнев». Дальше – название, издательство, год издания.
Паперный листает книгу: текст Огнева.
– И много тебе таких досталось? – спрашивает.
– Да целая пачка: двадцать штук, – отвечает расстроенный Огнев.
Зяма думает минуту, достаёт ручку и размашисто пишет на титуле: «Не горюй, Володя! Ты оказался в моей шкуре, как Тариэл в тигровой!».
Огнев повеселел: книга с таким автографом оказывалась раритетной.
* * *
Владимир Яковлевич Пропп, умерший 22 августа 1970 года (родился 28 апреля 1895-го), является крупнейшим филологом, основоположником сравнительно-исторического метода в фольклористики. Некоторые нынешние структуралисты считают его своим предшественником.
Самые известные его работы: «Морфология сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический эпос» (1955) и «Русские аграрные праздники» (1963).
Что можно о них сказать? Работы прекрасны. Никакого структурализма я в них не нахожу, но они хороши и без него. Кстати, и сам Пропп утверждал, отвечая на статью Леви-Стросса, что в своих структурных построениях вовсе не стремился к общему осмыслению содержания структурного инварианта. Проппа отличала удивительная самостоятельность. Казалось бы, сравнительно-исторический метод давно и прочно связан в литературоведении с академиком А.Н. Веселовским. Но Пропп, признавая ценность методологии Веселовского, даёт в своих работах другую методу.
Пропп был доктором, профессором. Преподавал в Ленинградском университете. Но ни членом-корреспондентом, ни, тем более, – академиком он не стал. Скорее всего, потому что был он из семьи немцев Поволжья. Семью раскулачили в год великого перелома – 1929-й. А раскулаченных советская власть продвигала с очень большой неохотой.
23 АВГУСТА
Писатель и отец актёра Михаила Козакова – Михаил Эммануилович Козаков родился 23 августа 1897 года.
В его ранних вещах находили много влияний.
Первый рассказ «Санька», напечатанный в 1923 году в журнале «Юный пролетарий», написан в традиции популярной тогда Лидии Сейфуллиной.
Первая книжка «Попугаево счастье» (1924) напоминала Зощенко по своей тематике.
Находили, что на язык Козакова повлияли стиль Л. Андреева и А. Ремизова.
Постепенно стал вырисовываться собственный стиль писателя, его любовь к занимательной интриге, развивая которую, он вдруг задерживает повествование не для того, чтобы испытывать терпение читателя, а для того, чтобы вместе с ним поразмышлять о характере того или иного героя, прояснить роль того или иного персонажа в намеченной интриге.
В конце 1920 года Козаков начал роман «Девять точек», над которым работал всю жизнь. Время действия в нём от последних дней существования Российской империи до приезда Ленина в апреле 1917-го в Петроград.
Первая книга была опубликована в 1931 году и выдержала несколько переизданий. В 1934 году вышла книга, содержащая в себе первую и вторую часть романа. В 1937-м появилась третья часть. В 1939-м – четвёртая. Но, издав четыре части романа, Козаков не посчитал его законченным. По существу, он закончил роман перед смертью, настолько его переработав, что пришлось сменить заглавие. Окончательное – «Крушение империи».
Заметной оказалась работа драматурга Козакова. По его сценарию в 1932 году был снят фильм «Блестящая карьера». В 1939-м московский театр Ленсовета и ленинградский театр им. Пушкина поставили его пьесу «Чекисты». Несколько пьес он написал в соавторстве с А. Мариенгофом.
Был избран делегатом Первого съезда советских писателей. А до этого поучаствовал в коллективной книге писателей, отправившихся по инициативе чекистов по Беломорско-Балтийскому каналу и воспевших труд заключённых, который их якобы делает честными людьми.
Наиболее известными стали его пьесы «Преступление на улице Марата» (1945) – о криминальной атмосфере послевоенного Ленинграда и «Неистовый Виссарион» (1948) о Белинском.
Пьесу Козакова «Когда я один» о сомневающемся интеллигенте прочёл Сталин. И поставил на ней резолюцию: «Пьеса вредная, пацифистская». С тех пор для Козакова наступили чёрные дни. Так, постановка «Преступления на улице Марата» в театре Комиссаржевской была остановлена специальным постановлением в 1946 году.
Он умер 16 декабря 1954 года в дни проходящего Второго съезда советских писателей, на который его не только не избрали, но даже не дали гостевого билета.
Не удивительно поэтому, что его роман «Жители этого города» о жизни интеллигенции после Отечественной войны был напечатан уже после смерти писателя в 1955 году, а повесть о событиях, происходящих в лето 1917-го, – «Петроградские дни» была опубликована ещё позже – в 1957-м.
* * *
Про Якова Ароновича Костюковского, родившегося 23 августа 1921 года, можно сказать, что за какой бы литературный жанр он ни брался, ему он удавался.
С 1948 году писал вместе с Владленом Бахновым, сатирические стихи, фельетоны, пьесы, сценарии, которые неизменно восторженно встречались зрителями и читателями.
Вместе с Морисом Слободским написал сценарий оперетты «Два дня весны» по произведениям И. Дунаевского (музыкальная редакция Е. Рохлина).
Вместе с М. Слободским и Л. Гайдаем написал сценарии наиболее популярных фильмов «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».
Вместе с тем следует отметить неутомимую общественную деятельность Якова Ароновича, особенно развернувшуюся в годы перестройки и позже.
Костюковский стоял у истоков независимой писательской организации «Апрель». Он был избран секретарем Союза писателей Москвы.
В 1993 году подписал знаменитое обращение к Ельцину – «Письмо 42».
Наконец, в 2010-м, когда Москву стали украшать портретами Сталина, резко выступил против этого.
Талант Костюковского оказался сродни его мужеству!
Скончался 11 апреля 2011 года.
* * *
Первый рассказ Эдуарда Юрьевича Шима, родившегося 23 августа 1930 года, был напечатан в 1949 году. Детдомовец, мастер на все руки, Шим сумел весьма занимательно писать для детей о природе, о тех или иных ремёслах.
Про его детские книги один критик хорошо написал, что они учат «одной из главных человеческих радостей – неиссякаемой радости узнавания».
Написал Шим тексты некоторых песен. В частности, «Ускакали деревянные лошадки» – популярной песни 1974 года, исполнявшейся Валентиной Толкуновой.
Взрослая проза Шима уступает детской, хотя начинал он, как многие молодые, с жанра «молодёжной повести».
Уже в 1962 году он стал членом редколлегии журнала «Знамя».
И здесь придётся говорить о его соавторстве.
Когда в соавторстве с В. Конецким он написал сценарии фильмов «Своими руками» (1957), «Опора» (1958), вопросов к обоим не было: способные люди соединились, чтобы создать неплохую художественную вещь.
Но две пьесы, написанные Шимом в соавторстве с первым секретарём Союза писателей СССР Георгием Мокеевичем Марковым, заставили задуматься: для чего это Шиму? Ну да, их пьесу «Вызов» сразу же поставил Малый театр. Наверняка и театральная цензура вряд ли находила что-либо крамольное, сталкиваясь с таким вельможным соавтором.
Но вот – фильмы. «Соль земли». По роману Г.М. Маркова. Сценаристы: Г. Марков, Э. Шим. «Тростинка на ветру». По повести Г.М. Маркова. Сценаристы: Г. Марков, Э. Шим. «Строговы». По роману Г.М. Маркова. Сценаристы: Г. Марков, Э. Шим, В. Венгеров (Владимир Венгеров – режиссёр фильма). «Грядущему веку». По роману Г.М. Маркова. Сценаристы: Г. Марков, Э. Шим.
Что толкало Шима к такому соавторству? Похоже, что только карьерные устремления. Член ЦК КПСС Георгий Мокеевич Марков писал плохо, не понимать этого Шим не мог. Укреплял свои позиции в писательском мире? Возможно.
Хотя, быть может, и без вмешательства всесильного соавтора, смог бы Шим получить Госпремию РСФСР им. Братьев Васильевых за сценарий фильма «Приказ: перейти границу». Да и орденами он был отмечен такими, что можно было обойтись без соавтора Маркова, – два маленьких ордена Дружбы народов и «Знак Почёта».
Стоила ли овчинка выделки?
Умер 13 марта 2006 года.
* * *
Настоящая фамилия писателя Александра Грина, родившегося 23 августа 1880 года, – Гриневский. Он из семьи ссыльных поляков.
Его первый же рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» был арестован прямо в типографии и сожжён: полиции донесли, что автор отбывает в тюрьме наказание за революционную пропаганду и за дезертирство. Грин примыкал к партии эсеров и был довольно активным революционером.
Псевдоним писатель поставил в 1907 году под рассказом «Случай». Когда под этим же псевдонимом – Грин в 1908 году появилась книжка «Шапка-невидимка», читатели думали, что имеют дело с иностранным автором.
До 1910 года Грин был трижды арестован за революционную деятельность. Осенью 1911 года сослан в Пинегу Архангельской области. Здесь ему хорошо пишется. Он создаёт несколько произведений романтического направления. В них формируются черты той вымышленной страны, которую позже критик Корнелий Зелинский назовёт «Гринландией».
Из-за конфликтов с властями Грин до февральской революции жил в Финляндии. Вернувшись в Россию, был призван в Красную армию, где служил связистом. Но заболевает сыпным тифом, освобождается от службы и приезжает в Петроград. При содействии Горького Грину удалось получить академический паёк и жильё – комнату в знаменитом «Доме искусств» на Невском проспекте, 15. Здесь он написал свою феерию «Алые паруса» (1923).
С началом НЭПа в частном издательстве Грин опубликовал книгу «Белый огонь», куда писатель включил любимый свой рассказ «Корабли в Лиссе». В 1924 году он издал роман «Блистающий мир».
На гонорары Грин с женой съездили в Крым, купили квартиру в Ленинграде. Потом продали её и окончательно переселились в Крым, купив квартиру в Феодосии.
Здесь он пишет роман «Золотая цепь», заканчивает «Бегущую по волнам» и издаёт в 1929-м романы «Джесси и Моргиана» и «Дорога в никуда».
В 1927 году частный издатель Л.В. Вольфсон начинает издавать 15-томное собрание сочинений Грина. Но после выхода 8 тома Вольфсон арестован ГПУ. НЭП свёрнут. Пришёл конец и публикациям Грина.
Страдавший и прежде запоями, писатель снова впадает в болезнь. Жена продаёт квартиру в Феодосии и покупает более дешёвую в Старом Крыму. Оба нищенствуют.
Грин просит у Союза писателей исхлопотать ему пенсию. Но на заседании выступает Лидия Сейфуллина. «Грин, – говорит она, – наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям! Ни одной копейки принципиально!»
«Тогда он стал умирать», – откомментировала жена Грина.
Грин умер 8 июля 1932 года от рака желудка.
А его вдова, Нина Николаевна, оставалась с тяжело больной матерью на оккупированной гитлеровцами территории. Была угнана фашистами на работу в Германию. Поверила сталинским обещаниям и вернулась в Россию из американской зоны оккупации.
Естественно, что по возвращению в России получила 10 лет лагеря. Отбывала наказание на Печоре. После реабилитации долго билась с председателем исполкома Старого Крыма, к которому перешёл дом Грина, используемый как сарай и курятник.
После её смерти в 1970 году общественность добилась открытия музеев Грина в Старом Крыму и в Феодосии.
24 АВГУСТА
В детстве я смотрел пьесу «Хижина Дяди Тома». Я читал роман, а в пьесу его превратила, как выяснилось, Александра Яковлевна Бруштейн, родившаяся 24 августа 1884 года.
Она написала ещё инсценировки по «Дон Кихоту», по Диккенсову «Жестокому миру». А главное – она написала множество своих собственных пьес для детей и юношества.
Хотя в её творчестве, наверное, и это не главное. Для меня, например, наиболее её существенный вклад в литературу – автобиографическая трилогия «Дорога уходит в даль…» (1956). Она названа по первой книге. Вторая – «В рассветный час», третья – «Весна».
У неё есть ещё одна книга воспоминаний – театральных – «Страницы прошлого» (написана в 1952, издана в 1956-м).
А вспомнить Александре Яковлевне было что.
Бестужевка, то есть окончившая Бестужевские высшие женские курсы, она с головой окунулась в революционное движение: с 1907 по 1917 год работала в «Политическом красном кресте помощи политическим ссыльным и революционерам».
После Октября участвовала в ликвидации неграмотности населения, открывала в Петрограде школы грамоты, занималась репертуаром детских театров.
Но вспоминала она не только об этом. Со слов старших она вспоминала и события, которые случились, когда она была ещё трёхлетним ребёнком, например, Монастырёвский бунт в Якутии. Бунт 29 евреев и 5 русских, которые собрались в доме якута Монастырёва.
Теперь именно по её книге воссоздают это событие. Один из ссыльных – персонаж книги Александры Яковлевны рассказывает о том, что по прибытии в Якутск им не было предоставлено время на покупку необходимой провизии и тёплой одежды для продолжения пути далее в Среднеколымск, а путь туда пролегал по ненаселённой территории, необходимо было везти с собой полушубки, пимы, бельё, хлеб, мясо и прочий провиант. Когда ссыльные написали заявление губернатору с просьбой отсрочить отправку, им было велено собраться на следующий день у кого-нибудь одного и ждать ответа. На следующий день, когда все собрались, им было приказано выйти во двор и ждать. Тут налетел вооружённый отряд под командованием двух офицеров и начал стрельбу. У некоторых из ссыльных оказалось оружие, и они оказали сопротивление, но не успешно. По окончанию боя выживших отправили в тюрьму (до этого ссыльные в Якутске жили на вольных квартирах), а раненных в тюремную больницу. Из Петербурга пришел приказ судить за «бунт» со всей строгостью – военным судом.
Со всей строгостью и осудили: троих повесили, четверых приговорили к бессрочной каторге, остальным – тоже каторга, но ограниченная тем или иным сроком.
Много о чём ещё написала Александра Яковлевна. Ценность её воспоминаний в том, что, читая их, нисколько не сомневаешься в их правдивости.
«Остановил чтение, чтоб написать эти строки и поздравить Вас с великой удачей, – пишет ей Корней Иванович Чуковский о книге «Дорога уходит в даль…». – В умелой, уверенной и темпераментной лепке характеров чувствуется сильная рука драматурга».
«Настоящие вещи в литературе – это колдовство, – пишет ей Константин Георгиевич Паустовский. – В книге «Дорога уходит в даль…» проза превращается в живую поэзию, – иными словами, достигает совершенства. Есть редкие книги, существующие не как литературное явление, а как явление самой жизни, как факт биографии читателя. Вот так и с этой Вашей книгой. Она вошла в жизнь (в данном случае в мою) как одно из безусловных событий моей жизни».
Могу, как говорится, присоединиться к предыдущему оратору. И в моей жизни трилогия Александры Яковлевны Бруштейн стала очень важным и значимым событием.
Умерла Александра Яковлевна 20 сентября 1968 года.
* * *
Сын «бабушки русской революции», эсерки Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской – Николай Николаевич Брешко-Брешковский быстро стал известным беллетристом. Писал рассказы и повести, авантюрные исторические романы «Гайдамаки» (1901), «Мазепа и запорожцы» (1901), романы о жизни борцов «Чемпион мира» и «Гладиаторы наших дней (1908), об изнанке светской жизни «Записки проходимца» (1901), «Записки натурщицы» (1908), о распутинщине «Позор династии» (1917) и многие другие.
Считается одним из родоначальников русского шпионского детектива: «Гадины тыла» (1915) «Ремесло сатаны» (1916), «В сетях предательств» (1916).
Кроме того, выпустил немало книг по искусству.
Написал массу киносценариев. Один из них воплотил как режиссёр в фильм «Вера Чеберяк» (1917). Фильм вызвал скандал. Он был посвящён «делу Бейлиса». Критики отмечали невнятную позицию, занятую по этому поводу Брешко-Брешковским. И вообще, писал критик, «нужно ли бередить старые раны? Нужно ли делать из добытых слёз «драму в 2000 метров»? Воплотить трагедию бейлисиады может монументальное произведение художественного пера. Но не сеансы экрана».
Последняя фраза, быть может, излишне категорична. Но не забудем, что критики имели дело ещё с немым кино.
После 1920 года Брешко-Брешковский эмигрировал в Польшу. В 1920-1930 годы вышло больше 30 книг польских переводов его романов и очерков.
В 1927 году по требованию правительства Пилсудского покинул Польшу, так как в его романе «Кровавый май» была усмотрена аллюзия на майский переворот, устроенный Пилсудским. Поселился в Париже. Много сотрудничал в эмигрантской печати.
Но с приходом в Германии к власти Гитлера стал служить в геббельсовском министерстве пропаганды. Печатался в фашистской газете «Новое слово». Погиб при бомбёжке английской авиацией Берлина 24 августа 1943 года. Родился 20 февраля 1874.
* * *
С Саней Васинским мы работали вместе в журнале «РТ-программы» в 1966 году. Он до этого напечатал несколько ярких статей в «Юности» и в «Известиях», откуда, кстати, его переманили к нам. Был он человеком мягким, дружелюбным, в командировки ездил охотно, привозил оттуда очерки, которые почти неизменно отмечались как лучшие.
Но Сане не очень хотелось быть журналистом. Он писал прозу, которую давал читать друзьям. И она им не нравилась. Особенно переживал Васинский, что его рассказы не нравились Мише Рощину, который тоже работал в этом журнале, не был тогда драматургом, а печатал прозу. «Ну чем, – горестно вопрошал Саня, – моя проза хуже Мишиной?» Ему объясняли, что не стоит сравнивать: Рощин писал реалистическую прозу, а Саня – с фантастическими вкраплениями, с далеко уводящими от повествования отступлениями. Такая проза действительно была на любителя. А любителей не находилось.
И всё же Васинский нашёл себя, когда, переделав повесть в сценарий, заинтересовал им режиссёра Сергея Микаэляна, который, став соавтором сценария, поставил в 1982 году фильм «Влюблён по собственному желанию» с О. Янковским и Е. Глушенко в главных ролях. Фильм оказался кассовым. Янковский в этом фильме был признан лучшим актёром года по версии «Советского экрана», а Глущенко – лучшей актрисой Берлинского кинофестиваля.
Сергей Микаэлян привлёк Саню к соавторству киносценария «Разборчивый жених» и поставил фильм в 1993 году. Но успеха фильм не имел.
Я встретил Саню недалеко от собственного дома. Мы прогулялись. Зайти он отказался: спешил. Мы попрощались. Оказалось, что навсегда. Через несколько месяцев 24 августа 2003 года Александр Иванович Васинский скончался от рака. Он родился 2 марта 1935 года.
* * *
Один из любимых моих писателей моего поколения. Сергей Донатович Довлатов. Я был в Нью-Йорке за несколько месяцев до того, как в честь Довлатова в городе назвали улицу.
По-моему, Довлатов удостоен этой награды справедливо. Его почти документальный стиль сбивает с толку читателей. Многие убеждены, что тот не выдумывает, а пишет, как было. Это, конечно, иллюзия. Но иллюзия, обличающая большого художника. Мало кому из писателей удаётся такое иллюзорное слияние рассказчика с собственной личностью.
«Зона», «Заповедник», «Соло на ундервуде», «Иностранка», «Чемодан». А ведь не зря многие произведения Довлатова посвящены лагерному советскому быту. Он его знал не понаслышке. Не сидел. А служил во внутренних войсках, в охране исправительных колоний в республике Коми.
В эмиграции, в Нью-Йорке он был одно время главным редактором газеты «Новый американец», в редколлегию которого входили Пётр Вайль и Александр Генис. Газета действительно демонстрировала публике американца, которого они ещё не знали.
Лично мне из изданных его «Записных книжек» больше всего нравится такая запись:
«Гимн и позывные КГБ: «Родина слышит, родина знает…»Умер Сергей Донатович Довлатов 24 августа 1990 года. Родился 3 сентября 1941 года.
* * *
Надо признать, что Алексей Сергеевич Суворин был одним из лучших журналистов и редакторов всего XIX века.
Он стал широко известен во второй половине 60-х годов, когда под псевдонимом «Незнакомец» стал писать воскресный фельетон в «Санкт-Петербургские ведомости». Он умел быть неоскорбительным и, критикуя человека за ту или иную общественную позицию, никогда не переходил на личности. А кроме того Суворин ввёл в рамки воскресного фельетона темы, которые до этого не обсуждались в подобном жанре.
Надо сказать, что по своим убеждениям Суворин в это время был умеренно-либеральным западником, не терпящим узкого национализма. Его врагами считались Катков, князь Мещерский, Скарятин – то есть ортодоксальные представители русской журналистики.
Они и добились ухода Суворина из «Санкт-Петербургских ведомостей».
В конце 1875 года Суворин стал писать воскресные фельетоны в «Биржевые ведомости», а в начале 1876-го купил вместе с Владимиром Ивановичем Лихачёвым газету «Новое время». Лихачёв не был журналистом, он работал в суде. А в «Новом времени» занял пост официального редактора, который не смог бы по цензурным соображениям получить Суворин. Болгарское восстание 1876 года против турок и его резкая защита «Новым временем» привлекают к журналу далеко не только либералов. И чуткий к потребностям подписчиков издатель «Нового времени» Суворин стал сдвигаться в своих политических воззрениях вправо.
Надо добавить, что с 1872 года Суворин издавал популярный «Русский календарь», что одновременно с приобретением «Нового времени» он основал книжный магазин и издательскую фирму, сразу же выдвинувшуюся на первые места в книготорговле России. В ряду его многочисленных изданий те, что идут в серии «Дешёвая библиотека», которыми Суворин просвещает Россию.
Был он и драматургом, у которого особенной известностью пользовалась пьеса «Татьяна Репина», написанная на фактическом материале, связанном с самоубийством молодой актрисы Евлалии Кадминой в Харькове в 1881 году. Чехов, друживший в то время с Сувориным, написал одноактное продолжение под тем же названием, которое Суворин напечатал в виде малотиражного отдельного оттиска.
Суворин, кстати, был одним из первых издателей, оценивших талант Чехова. Он сумел сделать Антона Павловича известным на всю страну.
Гонорар Суворин платил немалый. Он печатал хорошую литературу, не считаясь с затратами. «Газета, – писал он, – даёт до 600 тыс. в год, а у меня, кроме долгов ничего нет, то есть нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого развлечения, никаких наслаждений, кроме труда самого каторжного. Расчётлив я никогда не был, на деньги никогда не смотрел как на вещь, стоящую внимания».
Он умер 24 августа 1912 года (родился 23 сентября 1834-го).
* * *
Борис Викторович Томашевский пострадал во время кампании против формальной школы 1931 года. До этого он был с 1921 года научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом), читал лекции по текстологии, теории литературы и творчеству Пушкина в Государственном институте истории искусств, преподавал в Ленинградском университете. Со всех этих постов ему пришлось уйти.
Он стал преподавать прикладную математику в Институте путей сообщения. И только в 1937 году, когда отмечали столетие смерти Пушкина, Томашевский получил возможность вернуться к филологической деятельности.
Его однотомник Пушкина (кстати, первый советский) выдержал в 1924-1937 годах 9 изданий. Он принял участие в подготовке и редактировании академических изданий сочинений Достоевского, А.Н. Островского, избранных текстов А.П. Чехова, позднее – полного академического собрания сочинений Пушкина (1937 – 1949). Участвовал в издании пушкинских томов литературного наследства и в подготовке Словаря языка Пушкина. В серии «Библиотека поэта» подготовил ряд изданий текстов поэтов XVIII – начала XIX веков.
Он оставил много трудов по стилистике, стиховедению, поэтике, психологии творчества, пушкиноведению, французской поэзии.
Я люблю его «Краткий курс поэтики».
Борис Викторович умер 24 августа 1957 года. Родился 29 ноября 1890-го.
25 АВГУСТА
Вы знаете, что когда на политбюро поставили на голосование вопрос о возвращении в страну писателя Александра Ивановича Куприна, привычного единогласия не было. Воздержался Ворошилов.
И это притом, что «за» были Сталин, Молотов, Андреев, Чубарь.
А ведь на дворе стоял 1937 год. Куприн жил во Франции. Российский полпред обо всём договорился с родственниками писателя. Обратился к Сталину, чтобы тот дал «добро». Сталин дал. Потом полпред Потёмкин обратился к Ежову. Ежов направил записку Потёмкина в политбюро. И вот там – такое голосование.
Даже если Ворошилов не знал, что Сталин дал «добро» на возвращение Куприна, он, конечно, видел, что вождь голосует «за». А первый маршал воздержался.
Видимо не тот был случай, когда требовалось обязательное единогласие. Можно было и пофырчать недовольно.
Я-то думаю, что Ворошилов позволил себе вольничать, потому что не любил писателя Куприна.
Особенно военного писателя Куприна.
Да и за что ему было любить повесть «Поединок», прославившую Куприна? Прочтя «Поединок», Лев Толстой сказал: «Абсолютно все при чтении чувствуют, что всё написанное Куприным – правда, даже – дамы, вовсе не знающие военной службы». Ворошилов военную службу знал. И правда Куприна была ненавистна маршалу-коннику.
Впрочем, не слишком ли много места мы уделяем взбрыкнувшему сталинскому холую? Бог с ним.
Собственно, политбюро проголосовало за возвращение не писателя, а полутрупа. Куприна привезли родственники. Он мало чего уже соображал. И умер спустя совсем немного времени после возвращения – 25 августа 1938 года (родился 7 сентября 1870-го).
Понимал ли, что к этому времени в СССР сменилось всё руководство армией? Вряд ли.
Конечно, возвращали его не для того, чтобы сразу похоронить в России. Надеялись на какую-нибудь поддержку. У Сталина вызревали большие планы по поводу мировой войны в союзе с Гитлером. Философ Ильин выступал за границей не против такого союза. Мог одобрить сталинский план и Куприн. Да Бог не допустил этого.
Бесславно кончил жизнь один из некогда славных писателей России, друг Бунина, хороший знакомец Л. Андреева, Горького, Чехова, Вересаева.
С ним, с Куприным, связан известный анекдот. Одурев от своей мировой славы, он в пьяном виде послал письмо императору, попросив предоставить Балаклаве статус вольного города.
Долго почтальон с царским ответом не мог найти Куприна. Наконец, нашёл в каком-то ресторане. Письмо Куприн принял. Налили бокалы. И прежде, чем выпить, Куприн огласил царский ответ: «Когда пьёте, закусывайте!»
К большевикам Куприн отнёсся настороженно с самого начала. Хотя ему устроили встречу с Лениным, которому Куприн предложил себя в качестве редактора газеты для народа. (Или это легенда?) Ленин обещал, но ничего не сделал. А через некоторое время Куприна арестовали. Выпустили через три дня, но включили в список заложников. Это значит, что он стал кандидатом в покойники.
Надо ли удивляться тому, что при первой возможности Куприн уехал в эмиграцию?
Вот где развернулся талант Куприна, написавшего в эмиграции лучшую свою вещь – «Юнкеров».
«Я хотел бы, – сказал Куприн, – чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкера, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. «Юнкера» – это моё завещание русской молодёжи».
Читал ли Ворошилов «Юнкеров»? Вообще-то он не был большим любителем чтения. Но мог и прочесть роман, воспевающий честь и достоинство русского офицерства. И озлиться на писателя ещё больше.
Долго уговаривать вернуться Куприна не пришлось. Он был болен раком и уже не вполне адекватно воспринимал окружающее. А родственникам писателя рассказывали о чудесах советской медицины, научившейся излечивать такие пустяковые болезни, как рак. И они поверили.
* * *
Николай Сергеевич Атаров, родившийся 25 августа 1907 года, писателем был средним. Я читал у него «Смерть под псевдонимом» и «Повесть о первой любви». Безликая проза.
Однако именно Атарова назначили главным редактором нового журнала «Москва» в 1956 году на волне хрущёвской оттепели.
Атаров обзванивал всех приличных авторов, заставил даже Корнея Ивановича Чуковского забрать из сборника «Литературная Москва» материал о Чехове и отдать в «Москву». От «Литературной Москвы» Корней Иванович ничего не получил бы: этот московский альманах был закрыт после второго выпуска, но и в «Москве» Атаров Чуковского не напечатал.
Не успел. Набрал много материала, публикация которого бесила сервильных критиков режима.
Уже в июле 1957 года «Литгазета» печатает обзор шести номеров «Москвы», написанный И. Кремлёвым. Меньше всего статья походила на критическую. Это был откровенный донос властям на редакторскую позицию Атарова, которая стала противоречить тому, что провозглашал сам Хрущёв в своих революционных антисталинских выступлениях. Но Хрущёв менялся стремительно. И его клевреты добились снятия Атарова в конце того же 1957 года.
Но без своей должности Атаров был мало кому интересен. Печатать его не спешили.
Отчасти потому, что, как я уже сказал, был он средним писателем.
Его заместитель по журналу «Москва» Алексей Кондратович, придя в «Новый мир» Твардовского решил попробовать напечатать произведение своего бывшего начальника. Он показал рассказ Атарова Твардовскому и записал в своём дневнике о том, что из этого вышло:
«А.Т.: – Фальшивый рассказ. И ощущение, что рассказ был написан давно, а сейчас несколько подновлён. (Так это и оказалось. Дорош сказал, что ещё в начале 50-х годов Атаров собирался писать на эту тему роман, но роман не получился, и вот теперь он представил рассказ о том, как рабочий узнал о присуждении ему Сталинской премии.)
А.Т.: – Я так и думал. Всё фальшь, а позднейшие приписки сразу обнаруживаются. С первой фразы. Премия тогда называлась Сталинской. Она всегда была Сталинской, а теперь Государственная. И у него Государственная. Он – газетчик и не чувствует языка. Сюжет тоже фальшивый. Присуждение премии. Радостный переполох. Что-то от тех культовых времён, когда рабочим давали премии, и все радовались. Боюсь, ребята, что этим рассказом мы смутим читателей: не повернулись ли и они тоже назад, подумают они. А вместе с тем дешёвка: шпильки, остроты, мнимая, уколочная смелость.
Решили тоже вернуть. Но и Атарову прямо не скажешь, почему. Человек он обидчивый и болтливый: сразу разнесёт по всей Москве. Тоже надо хитрить. Это, кажется, становится приметой нынешних дней. Оказывается, мы, возвращавшие такие рассказы запросто, теперь должны что-то придумывать».
Тем не менее рассказ вернули.
Нет, кое-что у него всё-таки напечатали. В частности, книгу «Три версты берёзовой аллеи». И всё-таки впечатление такое, что после «Москвы» Атаров жил и писал по инерции. Мой приятель Анатолий Ткаченко, хорошо его знавший, точно написал об этом в своей книге «Переделкинские прогулки» (2002): «Умер Николай Сергеевич не старым, в 65-66 лет, страдая, как мне сказал один наш общий знакомый, редкой болезнью – старческим психозом. И понять я это могу: ему, всегда моложавому, подвижному, любящему жизнь и общение, возрастные немощи и ожидание старости были нетерпимы». Прожил Николай Сергеевич Атаров после того, как его сняли с главного редактора 21 год до 12 сентября 1978 года.
* * *
Борис Васильевич Бедный, родившийся 25 августа 1916 года, наиболее прославился повестью «Девчата», опубликованной в 1961 году.
Причём вот что удивительно: «Девчата» попали под мощный огонь молодого тогда критика Ирины Роднянской, выступившей в «Новом мире» Твардовского в 1962 году (№4) со статьёй «О беллетристике и «строгом» искусстве». Критик доказывал (и доказал!), что повесть Бориса Бедного по разряду собственно искусства не проходит, что повесть «Девчата» – облегчённая беллетристика на тему, которая приветствуется властями: леспромхоз – быт молодых лесорубов – любовь главных героев, способствующая ещё и активному плодотворному труду на благо родины.
Роднянская несомненно была права. Недаром эта её статья входит сейчас в число тех критических работ, с которых в хрущёвскую оттепель по-настоящему началась критика.
Но Бедный на основе повести написал киносценарий. И в 1961 году на экраны вышел фильм «Девчата», поставленный режиссёром Юрием Чулюкиным.
А у этой комедии жизнь оказалась намного счастливей повести. Во-первых, она имела кассовый успех: только за один год её посмотрели 35 миллионов советских зрителей.
Во-вторых, она была отмечена двумя зарубежными призами – Эдинбургского кинофестиваля и кинофестиваля в Маар-дель-Плата.
В-третьих, исполнительницу главной роли Надежду Румянцеву зарубежные газеты называли «Чарли Чаплин в юбке», а итальянские – «русской Джульеттой Мазиной».
Так Борис Бедный оказался одновременно автором художественно никчёмной вещи и сценария культового фильма.
Он и в дальнейшем писал вещи о рабочем классе. По его сценариям сняты фильмы «Степные зори» и «Капа». Но ни критики, подобной статье Роднянской, ни высокой оценки, похожей на ту, какая была дана фильму по его сценарию, больше не дождался.
Умер в 1977 году.
* * *
Юру Томашевского, побочного сына писателя Владимира Петровича Ставского, я знал много лет. Когда в 1967-м я пришёл в «Литературную газету», он ещё там работал. Правда, уже находился в стадии перевода в издательство «Советский писатель», в редакцию литературоведения. Поэтому все его коллеги по «Литературке» не прекращали с ним знакомства. Каждый рассчитывал на протекцию Томашевского в продвижении в издательстве своей книги. Надо сразу сказать: надеялись напрасно. Нужные ему материалы Юра пробивать не умел. Да и, по правде сказать, не такими уж нужными ему оказывались рукописи сотрудников «Литературной газеты». И не так уж и долго работал Томашевский в издательстве. Ушёл сперва в журнал «Смена», а оттуда на преподавательскую работу в Литературный институт.
Другое дело – собственное творчество Томашевского. Он обожал Зощенко, разыскал более ста рассказов и фельетонов, которые Зощенко никогда не включал в свои книги. Многие из них опубликовал в трёхтомном собрании сочинений Зощенко. Кроме этого, он составил «Хронологическую канву жизни и творчества Михаила Зощенко». Собирал коллекцию прижизненных изданий Зощенко (книг, журналов, газет), критических и литературоведческих статей о писателе. Всё это в количестве 500 единиц он передал в музей М.М. Зощенко – подотдел Санкт-Петербургского государственного литературного музея «XX век».
Ценитель и любитель Александра Николаевича Вертинского, он составил два его сборника, куда вошли и стихи, и мемуары.
Наконец, он одним из первых оценил и написал о писателе-фронтовике Константине Воробьёве, жившем тогда в Литве. Дочь Воробьёва писала о Юре, ездившем к больному Воробьёву: «Болезнь папы протекала очень тяжело. Юрий Владимирович отыскал в Москве новое лекарство и постоянно возил его в Литву… Он заменил мне отца».
Таких людей, как Юрий Владимирович Томашевский, народ называет подвижниками. Юра и был страстным подвижником литературы. Он умер 25 августа 1995 года. Родился 20 августа 1932 года.
26 АВГУСТА
Нынешняя «Литературная газета», возглавляемая Юрием Поляковым, любит подчёркивать, что она возрождает старые традиции, заложенные Чаковским, печатать всех литераторов, независимо от их направлений.
Но не получается это у Полякова. И не получится. Потому что смысл существования газеты Чаковского в условиях советского режима был совершенно определённым: мы были официозом секретариата союза писателей и международного отдела ЦК, то есть нас вынуждали печатать такие стихи, как софроновские, или статьи, одобряющие внешнюю политику брежневского руководства, восхищающиеся этой политикой. Зато остальные отделы работали, смело обращаясь к интеллигенции, бичуя советскую судебную систему, советский быт, высмеивая советских чиновников разного ранга. Да и наш отдел русской литературы не только служил секретариату, но постоянно получал от него зуботычины: не того похвалили, не о том положительно написали! Традицией газеты стало печатать рядом со стихами, допустим, Владимира Фирсова (был такой слабый стихотворец, любимец комсомольского руководства страны) стихи, скажем, Давида Самойлова; давать не просто рецензию на бездарное произведение, но два мнения – положительное и отрицательное, что вряд ли радовало работников секретариата, но ставило их в двусмысленное положение: чем возмущаться, ведь есть и положительное мнение!
А что сейчас у Полякова? Для чего он печатает, как говорится, и тех и других, – графоманов рядом с людьми, отмеченными литературным даром? Чаковский действовал в совсем другой исторический период: свирепствовала цензура, свирепствовали так называемые инстанции. Он руководил газетой, учитывая это. А Поляков, который сейчас волен делать всё, что хочет? Что у него выходит из попытки примирить, как сказал однажды Есенин, белую розу с чёрной жабой? Только искажённое представление о смысле существования литературы и о её сущности.
Мне скажут, что сам Чаковский не был писателем, и я с этим соглашусь. Действительно, ленинскую и государственные премии он получал за вещи, рассчитанные на сиюминутный политический момент, на то, что они должны понравиться руководству. Больше того! Знаю, что он не писал, а надиктовывал свои романы на диктофон, после чего распечатанные куски обрабатывались разными людьми – от квалифицированных машинисток до работавшего в газете Михаила Синельникова, официозного критика, осуществлявшего общую редактуру. Это так. Но догадываюсь, что, обслуживая советскую власть, Чаковский её не любил. С каким наслаждением на тех же заседаниях редколлегии он подхватывал любые двусмысленности в адрес если не политического руководства страны (этого бы он не посмел делать), то всякого рода советских фетишей. «Да, – говорил он, невинно покуривая сигару, – надо достойно отметить юбилей основоположника социалистического реализма или, как его там? – социалистического футуризма. В общем, начинаем дискуссии о традициях Маяковского, который, доживи до тридцать седьмого, был бы, конечно расстрелян, и мы бы с вами ни о каких его традициях сейчас бы и не заикались!» Он мог позволить себе рассказать антисоветский анекдот, обговаривая при этом, что рассказывает то, с чем не согласен.
Да что там анекдот! В самый разгар травли Солженицына он ошарашил Лесючевского, председателя правления издательства «Советский писатель», который громко возмущался тем, что секретариату приходится нянчиться с этим махровым антисоветчиком.
– А вы читали его «Раковый корпус», «В круге первом»? – спросил Лесючевского Чаковский.
– Конечно, – ответил тот.
– И как вам?
– Ну, как Александр Борисович! Обычная антисоветская стряпня.
– Не скажите, – не согласился Чаковский. – Там есть сильные страницы.
– Что вы говорите, Александр Борисович? – завизжал Люсичевский. – Может, нам ещё и печатать эти романы?
Лесючевский был фигурой известной. В своё время он посадил немало народу, в частности, способствовал аресту поэта Заболоцкого. На пике хрущёвской оттепели в издательстве была создана комиссия по проверке деятельности председателя правления, которая подтвердила все факты доносов и рекомендовала исключить Лесючевского из партии и снять с работы. Но волна разоблачений очень быстро схлынула, и Лесючевский остался на своём месте.
Разумеется, он с удовольствием донёс бы и на Чаковского, но похоже было, что Чаковский был из того же ведомства, да ещё и повыше Лесючевского в чине.
– Может, нам печатать Солженицына? – продолжал визжать Лесючевский.
– Я бы напечатал, – спокойно ответил Чаковский. – А потом ударил бы по романам крепкой партийной критикой. А так мы же сами выращиваем запретный плод, который, как известно, всегда сладок.
– Что вы говорите! – не верил своим ушам Лесючевский.
Молодой читатель, возможно, не представляет, что могло значить в начале семидесятых желание печатать Солженицына на любых условиях. Солженицын был как прокажённый, которого можно было только ругать взахлёб, перевирая им написанное, привирая и извращая. А тут печатать! Дать в руки народу подлинные его тексты. Да кто бы из руководства на это пошёл!
А Чаковский, родившийся 26 августа 1913 года, я уверен, пошёл бы. Убеждён, что будь его воля, Чаковский Солженицына напечатал, а потом, как и обещал, очень жестоко разругал.
Понимаю, что меня могут ткнуть носом в стенограмму обсуждения секретариатом союза писателей «Ракового корпуса» и выступления на нём Чаковского, или в его статьи, напечатанные за время его редакторства. В частности, такую, как огромное письмо Президенту США Картеру, где главный редактор «Литературной газеты» публично отчитывал американского президента, который взял под защиту известного диссидента, продолжавшего из тюрем и психушек сражаться с советским режимом. Почему, – восклицал Чаковский, я, редактор, должен верить Буковскому, который оторвался от народа его страны, а не её народу. (Многие, наверно, не знают того, что Картер ответил Чаковскому, но поскольку печатать полученный из посольства США перевод картеровского письма Чаковскому никто бы не разрешил, постольку он благодушно оповестил сотрудников американского посольства, что полностью удовлетворён ответом и поэтому не видит смысла в публикации.) Он был циннейшим из всех циников, которых мне доводилось встречать. А с другой стороны, я продолжаю утверждать, что Чаковский не был человеком кровожадным, как, скажем, Грибачёв, Софронов или Кожевников. Публично он, разумеется, изничтожал врага советской власти. Но, если от него этого не требовали, сам он не лез с изничтожением и, более того, не пытался затеять вокруг этого врага хоть какую-то дискуссию. А то, что он не затевал её вокруг ненапечатанных произведений Солженицына, показывает, что он был трезвым редактором и понимал, что ненапечатанные вещи никакой дискуссии и не требуют.
Да, Чаковский не был кровожаден. Я бы даже не назвал его злым человеком. Помню, как выпивали мы в кабинете у Виктора Веселовского вместе с известными авторами «12 стульев» Леонидом Лиходеевым, Гришей Гориным, Лионом Измайловым, Володей Владиным… (Во избежание недоразумения уточню, что Горин не был бойцом на этом фронте, так что рюмку свою чуть пригубливал.) Да и кроме известных авторов в кабинет набилось полно неизвестных, а ещё больше сотрудников, из-за чего многие держали свои рюмки в руках, даже опустевшими, правда, ненадолго, потому что сотрудник отдела сатиры и юмора, бывший официант ресторана «Советский» Виталий Резников бдительно следил за порядком. Говорили все подряд, каждый уже не слышал другого, как вдруг в дверь постучали. На пороге возникла секретарша Чаковского, которая сказала, что не смогла дозвониться и что Чаковский вызывает Веселовского к себе.
Дальнейшее пишу со слов Веселовского.
Он вошёл к Чаковскому и увидел, что тот сидит, прижимая к уху телефонную трубку. Главный редактор приложил палец к губам, жестом пригласил Веселовского сесть, а потом, минут через пять, поманил Веселовского и дал ему послушать то, что слушал сам. К великому удивлению тот услышал голоса своих гостей, которые не стеснялись в выражениях и по поводу Чаковского, и по поводу руководимой им газеты.
Отдадим должное Чаковскому! Никаких мер административного воздействия к Веселовскому он применять не стал. Отпустил с миром пьяноватого администратора «Клуба 12 стульев», который, оказывается, не заметил, что сбросил локтем трубку прямого телефона с главным редактором.
А как Александр Борисович был невероятно щедр на банкеты! Чтоб отпраздновать свой шестидесятилетний юбилей вместе с коллективом газеты, он снял целиком весь ресторан Центрального дома литераторов. Причём ходил по этажам «Литературки», деликатно стучал в кабинеты, чтобы самолично вручить каждому приглашение на банкет. «Жду вас», – улыбаясь, говорил он. Никто не был забыт или пропущен – от уборщиц и вахтёров до редакторов. «Так сложилось в моей жизни, – сказал на том банкете Александр Борисович, – что я не сумел обрести каких-нибудь единичных друзей. Вы все – мои друзья».
Казалось, что он верил в это и сам. Во всяком случае, после присуждения ему ленинской премии позвал всех в свой просторный кабинет, где был накрыт огромный стол. Остановил секретаря партбюро Олега Николаевича Прудкова, когда тот стал распространяться об огромных писательских заслугах Чаковского: «Олег Николаевич, не надо преувеличивать. Я не Лев Толстой и даже не Константин Симонов!». И снова предложил выпить за своих друзей – коллектив газеты, который столько лет терпит своего главного редактора, смиряется с его длительными творческими отпусками. «Но здесь мне невероятно повезло с моим первым заместителем Виталием Александровичем Сырокомским, – сказал Чаковский. – Я ему доверяю абсолютно. Да и как я мог бы ему не доверять? Ведь за ним я как за каменной стеной!»
Однако когда сняли в одночасье Сырокомского, Александр Борисович заступаться за него не стал. Может быть, понимал, что это бесполезно? Сравнивал собственные возможности с силами недругов своего бывшего первого заместителя и видел, что они могущественнее? Но многих, в том числе и меня, покоробило, что он публично не простился с Виталием Александровичем. Отрубил, как рассказывал мне позже сам Сырокомский, все связи с ним. Впрочем, то же самое сделали и все заместители главного редактора.
Снят он был совершенно неожиданно для нас. Дело в том, что в 1986 году прошёл XXVII партийный съезд, который перевёл Александра Борисовича из кандидатов в члены ЦК КПСС. Ничто поэтому не предвещало, что уже через полтора года он будет освобождён от главного своего поста – редактора «Литературной газеты». Тем не менее это произошло. В то время события развивались далеко не по привычной, накатанной колее. В ЦК ликвидировали Отдел культуры. А его заведующего – Юрия Петровича Воронова было решено направить главным редактором «Литературной газеты». И партийный человек Александр Борисович Чаковский подчинился партийному решению. Умер 17 февраля 1994 года.
* * *
День памяти Георгия Иванова Он умер в эмиграции 26 августа 1958 года (родился 11 ноября 1894-го). Иные его стихи завораживают. Собственно, поэтом он стал именно в эмиграции. И если «Над розовым морем вставала луна» прославлены благодаря поющему эти стихи А.Н. Вертинскому, то вот эти – чудесны и сами по себе:
Эмалевый крестик в петлице И серой тужурки сукно… Какие печальные лица И как это было давно. Какие прекрасные лица И как безнадежно бледны - Наследник, императрица, Четыре великих княжны…Не правда ли, прекрасные эти стихи, где Иванов через много лет как бы по-новому вглядывается в лица царственных мучеников, словно образуют единый контекст с песней Вертинского? «О как это было давно», – пел Вертинский, перекликаясь с этими строчками, заставляя перекличкой обратить внимание на «печальные лица», вырисовывающиеся в далёком прошлом: «И как это было давно», когда, быть может, и лица-то печальными не казались. «Давно» – до трагедии, которая их преобразила, сделала «прекрасными».
Путешествие по времени по существу было главной темой Георгия Владимировича Иванова. Той темой, которую он великолепно освоил с самого начала:
Настанут холода, Осыпятся листы - И будет льдом – вода. Любовь моя, а ты? И белый, белый снег Покроет гладь ручья И мир лишится нег… А ты, любовь моя? Но с милою весной Снега растают вновь. Вернутся свет и зной - А ты, моя любовь?27 АВГУСТА
Елизавета Александровна Дьяконова, родившаяся 27 августа 1874 года, думаю, сейчас известна немногим. А жаль. Её «Дневник русской женщины» В.В. Розанов назвал «одной из самых свежих русских книг конца XIX в.». Дневник не только фиксирует внутреннюю жизнь автора, но и даёт представление о жизни молодёжи, студенчества в конце позапрошлого века.
Среди записей попадаются и такие, посвящённые литературным событиям:
«Читаю теперь Надсона. Модный поэт, его любит, кажется, вся молодёжь; начитавшись критических этюдов Буренина, я смотрю на него с предубеждением. В сущности, Надсон не повинен в своей славе, раздутой десятками его поклонниц из маленького огонька в большой костёр, и, так как вся его жизнь сложилась неудачно, – он был бы без неё несчастлив: получив плохое образование, он не знал корифеев иностранной литературы, был болен, беден, не особенно развит умственно – и среди всех этих несчастий ему протянула руку фортуна, он стал знаменитостью. Его смерть оплакивали тысячи, и долго, может быть, в глухих захолустьях России будут увлекаться таким поэтом. Надсон – калиф на час; час его пока ещё не пробил, конец, может быть, ещё не близок, но время сделает своё дело. […] Мастерски написанное одно стихотворение Полонского – «На смерть Надсона» – лучше всей поэзии поэта; читая это произведение одного из Мафусаилов современной русской поэзии, чувствуешь не рифмованное нытьё, а глубокое сожаление старца о даровитом юноше».
Или:
«Я помню, когда читала «Анну Каренину», то зачитывалась ей до того, что всё забывала: мне казалось, что я не существую, а вместо меня живут все герои романа. Такое же ощущение испытывала я, читая «Крейцерову сонату», она притягивала меня к себе, как магнит. Это чисто физическое ощущение. «Крейцерова соната» не только не произвела на меня «ужасного» впечатления, а наоборот: я и прежде любила произведения Толстого, теперь же готова преклоняться пред ними. Многие писатели описывали и семейную жизнь и стремились дать образец народной драмы – и никто из тысячи писателей не создал ничего подобного «Крейцеровой сонате» и «Власти тьмы». Я жалею, что моё перо не может ясно выражать моих мыслей. Я могу сказать, но не написать; говорить легче… Пока жив Толстой, пока он пишет, – нельзя говорить, что наша литература находится в упадке: Толстой сам составляет литературу. Теперь то и дело раздаются сожаления: талантов нет, посредственностей много, ничего хорошего не пишут. Ну и пусть талантов нет и посредственностей много: гений один стоит всех талантов и посредственностей. Оттого-то они и редки. В нашей литературе в один век явилось три гения; явится ли столько же в будущем столетии? – Навряд ли. – Так имеем ли мы право жаловаться? – Нет, нет и нет… Может быть (!), я буду иметь случай прочесть «Исповедь» Толстого. Вот бы хорошо».
Дьяконова не расшировывает, какие, по её мнению, три гения явились в XIX веке. Что же до «Исповеди» Толстого, то она распространялась в списках до 1906 года, когда был снят цензурный запрет на эту вещь.
Словом, я к тому, что можно остаться в литературе и своим «Дневником», как Елизавета Дьяконова, скончавшаяся 11 августа 1902 года.
* * *
Цезарь Самойлович Солодарь, родившийся 27 августа 1909 года, был в советское время очень известным фельетонистом и публицистом.
Это был любимый автор софроновского «Огонька», где почти в каждом номере в шестидесятых-семидесятых годах печатались так называемые антисионистские (читай: антисемитские) материалы. Самое забавное было в том, что автором большинства этих материалов был еврей Цезарь Самойлович Солодарь.
Он владел многими жанрами. Писал сатирические очерки, статьи, рассказы, пьесы, спектакли, сценические постановки. И его, так сказать, сатирическое жало было направлено на неблагодарных евреев, так или иначе стремящихся улизнуть на историческую родину.
Когда при Брежневе был создан официальный Антисионистский комитет советской общественности, Цезарь Солодарь стал одним из активнейших его членов.
Помните трагедию Мюнхенской Олимпиады – убийство арабскими террористами 9 израильских спортсменов. Весь мир был в ужасе. Но только не Цезарь Солодарь. Ссылаясь на болгарскую газету, которая напечатала письмо в чрезвычайно антисемитском духе, – дескать, люди погибли из-за нежелания правительства Израиля освободить товарищей арабов, захвативших спортсменов, он писал: «Присланное в болгарскую газету «Вечерни новини» письмо потрясает доказательствами чудовищно провокационной роли, которую сыграло израильское правительство в финале разыгравшейся на мюнхенской Олимпиаде кровавой трагедии… Тель-авивские правители не очень-то, мягко говоря, дорожили жизнью израильских спортсменов… Голда Меир отказалась не только освободить двести пленных палестинцев, но вообще вести какие бы то ни было переговоры об условиях спасения девяти человеческих жизней.
…Прав автор письма в Софию, утверждая, что «правда, в конце концов, обязательно всплывёт на поверхность». Непременно всплывёт, какой бы чудовищной и бесчеловечной она, как это можно сейчас предполагать, ни оказалась!»
Вот таким он был сатириком – Цезарь Солодарь, скончавшийся 15 ноября 1990 года!
* * *
Александр Иванович Одоевский тот самый поэт-декабрист, который от имени своих товарищей ответил на стихотворное послание Пушкина: «Во глубине сибирских руд / Храните гордое терпенье». Одоевский отвечал: «Струн вещих пламенные звуки / До слуха нашего дошли, К мечам рванулись наши руки, / И – лишь оковы обрели».
Хотел оборвать на этом ответ Одоевского, заметить, что он всем известен. Но вспомнил, что не всем.
Например, помню, чуть ли не дебют поэта Егора Исаева в роли постоянного председателя Пушкинского праздника в Михайловском. Большой любитель длинных речей, он и сейчас впился в микрофон, уснащая свой разговор с публикой всяческими псевдонародными шутками да прибаутками. И вот, так сказать, квинтэссенция его речи, то, отчего его, Егора Исаева, бросает в дрожь. «И, по правде сказать, – кричит в микрофон Исаев и его голос гремит над огромной поляной, многократно усиленный мощными ретрансляторами, – дрожь берёт, когда подумаешь, что именно на этой земле родились бессмертные строки, который так любил великий Ленин: «Из искры разгорится пламя»! Чего не Пушкина? – возмущённо орёт с трибуны Егор какому-то зрителю. – Ты, мил-человек, – продолжает орать Егор, – когда придёшь сегодня домой, полистай Пушкина. Может, он и декабристам не писал?» – хитро сощурившись, похохатывает председательствующий, а за ним и другие, сидящие в президиуме.
Так что, наверное, следует всё-таки доцитировать ответ Одоевского Пушкину:
Но будь покоен, бард! – цепями, Своей судьбой гордимся мы, И за затворами тюрьмы В душе смеёмся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя, И просвещённый наш народ Сберётся под святое знамя. Мечи скуём мы из цепей И пламя вновь зажжём свободы! Она нагрянет на царей, И радостно вздохнут народы!Александр Иванович Одоевский после десятилетней каторги в Сибири, по приказу царя, был отправлен рядовым в действующую армию на Кавказе, где сблизился с Лермонтовым. Умер Александр Иванович 27 августа 1839 года (родился 8 декабря 1802 года) от малярийной лихорадки там, где ныне расположен микрорайон Лазаревское в городе Сочи. Лермонтов оплакал друга в известном своём стихотворении «Памяти А. И. О.».
28 АВГУСТА
Александр Юльевич Кривицкий, родившийся 28 августа 1910 года и умерший 13 января 1986 года, можно сказать, достиг повсеместной известности благодаря статье критика В. Кардина «Легенды и факты». Я много говорил об этой статье на том календарном листочке, который посвящён Кардину. После его статьи и сомнений не осталось, что Александр Юльевич придумал легенду о 28 героических панфиловцах, которым отступать было некуда: позади – Москва. А совсем недавно раскрыли архивы, которые окончательно подтвердили, что этот долго державшийся в сознании людей героический эпизод войны, выдуман Кривицким от начала до конца.
И ещё. Подтвердилось, что перехвалить человека нисколько не лучше, чем оклеветать его. И там и там приходится сталкиваться не с реальным, а с легендарным субъектом, которого оказывается не так-то просто вернуть в реальность.
Когда открылось, что не было в «Молодой гвардии» предателя Стаховича, списанного Фадеевым с Третьякевича, оклеветанного в то время молвой, то – что сделали власти с Третьякевичем, стоявшим во главе этой молодёжной подпольной организацией? Ему не присвоили героя, как другим изображённым Фадеевым руководителям, его наградили маленьким орденом и не допустили упоминаний о нём в школьных учебниках. Так и читают (если читают!) сейчас в школе «Молодую гвардию», нимало не озабоченные тем, что в ней оклеветан руководитель, без которого такая организация попросту не возникла бы!
Так и не лишили звёзд героев выживших панфиловцев (все они удостоены этого звания посмертно). Да и не просто выживших, но и тех, кто сдался в плен, кто действовал потом на стороне врага. А теперь выясняется, что лишать звёзд героев нужно всех: никто не совершил подвига.
В своё время подмоченную Кардиным репутацию А.Ю. Кривицкого пытались спасти Госпремией РСФСР за книги «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года» и «Ветер на перекрёстке». Получил Кривицкий международную литературную премию имени Александра Фадеева, учреждённую в 2002 году и присуждаемую за создание произведений на военно-историческую тему. Дали Александру Юльевичу и совсем непонятно за что литературную премию им. А.К. Толстого «Серебряная лира», учреждённую в 1999 году управлением культуры Брянской области. Родился Кривицкий не в Брянске, а в Курске. И творчество А.К. Толстого не пропагандировал. А больше давать эту премию было не за что. Ну, а по поводу премии имени Вацлава Воровского, которую дают журналистам-международникам, вопросов нет: Кривицкий ещё со сталинских времён подвизался в этом амплуа: громил американских, английских и любых других поджигателей войны.
Так что эту премию мы ему оставим. А остальные? Остальные – нет. Они суть неуклюжая попытка чёрного кобеля отмыть добела! Не отмоешь! Народ был мудр в своём предупреждении о бессмысленности подобных попыток.
* * *
Борьба Михаила Матвеевича Стасюлевича, рождённого 28 августа 1826 года, на ниве российского просвещения очень напоминает нынешнюю борьбу учёных, профессоров, преподавателей с чиновниками от образования.
Стасюлевич был доцентом Санкт-Петербургского университета, домашним учителем детей великой княгини Марии Николаевны. В 1858 году стал профессором.
Но уже в 1861-м вместе с К.Д. Кавелиным, А.Н. Пыпиным, В.Д. Спасовичем, Б.И. Утиным подал в отставку, протестуя против подавления студенческого движения.
С 1866 по 1908 год – редактор литературно-художественного журнала «Вестник Европы», отличавшегося либерализмом. В 1881 году издавал ежедневную газету «Порядок», которая была после смерти Александра II сперва запрещена в розничной продаже, потом приостановлена на полгода, а потом и вовсе закрыта, принеся своему редактору немалый убыток.
В 1890 году был избран председателем комиссии по народному образованию, членом которой состоял с 1884 года. Велики заслуги Стасюлевича на этом поприще. Он создал обширную сеть начальных училищ, образцово поставленных. Было принято предложение Стасюлевича учредить новое трёхклассное начальное народное училище на 150 мальчиков. А в 1899 году Стасюлевич добивается открытия городского четырёхклассного училища, где бы могли продолжать образование дети, прошедшие трёхлетний курс начальных училищ. Лучшей характеристикой плодотворной деятельности Стасюлевича в этой области послужат такие цифры: в 1890 году, когда он сделался председателем комиссии, в Петербурге было 262 училища (из них 118 женских), а в 1900 году число их достигло 344, с 21285 учащимися; число воскресных школ возросло с 8 до 22, с 1308 учащимися.
Но, увы. Пришлось Стасюлевичу в 1900 году сложить с себя звание председателя комиссии по народному образованию, вследствии несогласия с образовательной политикой городского головы.
Некогда, в 1860-1862 годах Стасюлевич преподавал среднюю и новую историю наследнику цесаревичу Николаю Александровичу.
В 1909 году бывший его ученик, ставший императором утвердил решение санкт-петербургской городской думы о присвоении Стасюлевичу звания почётного гражданина, а мужскому четырёхклассному училищу – его, Стасюлевича имени.
На фоне нынешних событий борьба Стасюлевича, скончавшегося 23 января 1911 года, с чиновничеством от образования выглядит более благостной? Что ж, значит, и у нас с вами не всё потеряно. «Мужайтесь, о други!»
* * *
Один из братьев Стругацких – Аркадий Натанович, родившийся 28 августа 1925 года, в одиночку написал несколько рассказов под псевдонимом С. Ярославцев. Но в основном Аркадий Натанович работал в соавторстве с младшим братом Борисом. Они писали научную фантастику, утопии, антиутопии.
Аркадий Натанович вместе с отцом эвакуировался по «дороге жизни» через Ладожское озеро из осаждённого Ленинграда. Отец умер в 1942 году в Вологде, а Аркадий, сумев вывезти из Ленинграда мать и брата, оказался в посёлке Ташла бывшей Чкаловской (теперь – Оренбургской) области.
В 1943 году его призвали в Красную армию. Он окончил Бердичевское пехотное училище, которое располагалось тогда в Актюбинске, и был откомандирован в Военный институт иностранных языков, который окончил в 1949 году по специальности «переводчик с английского и с японского языков».
До 1955-го служил в Советской армии: преподавал языки в офицерском училище в Канске, служил дивизионным переводчиком на Камчатке.
После увольнения в запас работал в Московском институте информации, в издательствах. Умер 12 октября 1991 года.
Литературный мир, описанный братьями Стругацкими в цикле романов, они назвали в романе «Полдень. XXII век» «миром Полудня». В нём и происходят события утопические и вполне реальные, описанные в одиннадцати романах, а также в таких произведениях, как «Хищные вещи века», «Путь на Альматею», «Стажёры».
Не наше с вами дело разбирать здесь романы и мир братьев Стругацких. Скажем только, что в основе всемирно известного фильма Андрея Тарковского «Сталкер» лежит роман братьев Стругацких «Пикник на обочине». А всего по романам Стругацких снято 8 фильмов. В том числе «Дни затмения» Александра Сокурова и «Трудно быть Богом», отснятым Алексеем Германом и завершённым его семьёй.
* * *
Начну с цитаты:
«Для определённой части интеллигенции в Советском Союзе Польша с 1955-1956 гг. служила мостом в Европу, в европейскую культуру – начиная с культуры самой отвлечённой, культуры идей и вплоть до политической культуры. То, что было запрещено или не допускалось советской цензурой, доходило до нас в Москве через Польшу, через польские книги, журналы, кино и театр. Всё это было на польском языке, с польскими акцентами и нюансами. И так получилось потому, что поляки добились сохранения относительной свободы в области культуры даже в период сталинского режима. И это не может быть забыто.
Нечто подобное происходило и в Венгрии, что-то там тоже печаталось, несомненно. Но, думаю, будет довольно трудно найти кого-нибудь в бывшем Союзе, кто бы впитывал всё это в венгерской интерпретации.
Если говорить о кино, то в польском кино 50-х гг. есть примеры подлинного искусства. «Канал» Вайды я впервые увидел в лагере – очень трагический, прекрасный фильм. Позднее в лагере нам показали фильм Ежи Пассендорфера «Покушение» – очень хороший фильм, снят в строгой, документальной манере. Уже тогда поляки умели делать отличное кино. В их фильмах остро и трагически был изображен конец целой эпохи, границей которой и стал, на мой взгляд, 1956 г.
В польских журналах я впервые прочитал многие философские труды, новейшие произведения западной литературы, стихи и романы – Фолкнера, к примеру. Этого я не забуду полякам, в хорошем смысле, я им многим обязан. Я не просто следил тогда за развитием польской общественной жизни, культуры в особенности, это являлось частью моего существования с середины 50-х гг.».
Это высказывание Вадима Марковича Козового, родившегося 28 августа 1937 года, напомнило мне и о моей юности. Польского языка, в отличие от Козового, я не знал, но кое-что в польской прессе, которую достать тогда было можно, понималось и по славянским корням или созвучиям; к тому же почти всегда был рядом кто-то, кто польский понимал неплохо.
В этом смысле можно сказать, что да, поляки формировали наши убеждения в период хрущёвской оттепели.
Сам же Козовой был арестован как раз в один из самых свободных в тогдашнем СССР праздников – в дни Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 1957 году. На историческом факультете МГУ комсорг Лев Николаевич Краснопевцев основал и возглавил подпольный марксистский кружок, действующий с 1956 года и закрытый госбезопасностью через год. Всех кружковцев, в том числе Козового, судили. Вадим Маркович получил 8 лет мордовского лагеря строгого режима. В лагере встретил свою будущую жену – дочь музы Пастернака Ольги Ивинской Ирину Емельянову, которая тоже отбывала срок.
Освободился в 1963 году. В Москве работал в Музее восточных культур. Его, знавшего языки, поддерживали такие крупные учёные, как Н. Харджиев, М. Алпатов, Л. Пинский.
Сделал Козовой много: подготовил комментированное французское издание «Романа о Тристане и Изольде» (1967), опубликовал переводы из Анри Мишо (1967) и Рене Шара (1973), подготовил, почти целиком перевёл и прокомментировал том эссеистики Поля Валери «Об искусстве» (1973, републикован 1993), переиздал со своими комментариями и статьёй сборник переводов Бенедикта Лившица «От романтиков до сюрреалистов» (1970), опубликовал первые переводы из Лонтреамона, Рембо, Маларме (1980-1981), над которыми продолжал работать и позже.
В 1974 году стал членом французского «Пен-центра.
В феврале 1981 года по приглашению Рене Шара и при настойчивой поддержке общественности выпущен за границу для лечения сына во Франции. В 1985 году к нему присоединились жена со старшим сыном.
Умер в Париже 22 марта 1999 года.
В России вышли книги его переводов (2001), сборник воспоминаний о нём «Твой нерасшатанный мир» (2001), книга русских и французских эссе разных лет «Тайная ось» (2003). Его стихи легко можно найти в Интернете.
* * *
Нам с женой Юрий Валентинович Трифонов, родившийся 28 августа 1925 года, понравился ещё романом «Утоление жажды», который он напечатал в «Знамени» в 1963 году.
Я читал в школе его удостоенный сталинской премии роман «Студенты», но на меня он большого впечатления не произвёл: книга показалась излишне говорливой.
А «Утоление жажды» было написано рукой мастера. Знаю, что для того, чтобы написать роман Трифонов ездил на строительство канала в Среднюю Азию. Читал потом и некоторые рассказы Трифонова, которые тоже понравились и утеплили наше знакомство с Юрой в доме моего приятеля писателя Лёвы Кривенко.
Юра, как и Лёва, кончил Литинститут. Но ходил не в семинар Паустовского, как Кривенко или Балтер, а в семинар Федина.
К Федину, несмотря ни на что, сохранил тёплое отношение. Хотя говорил мне, что его новая проза Федину не очень нравится.
Впрочем, Федин об этом нигде не высказывался. А вот защищать Трифонова от быстро набирающей разгон критики не стал. Впрочем, что бы мы хотели, раз романы Юры ему не нравились!
А критика бушевала. «Обмен», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», «Дом на набережной» – новые романы Трифонова появлялись один за другим. Мудрый писатель умело вскрывал человеческие драмы, прячущиеся за обыденностью и мелочами быта. Уже само по себе погружение в человеческий быт не понравилось советской критике. Не принято это было в советской литературе. Со времён Маяковского погружение в быт считалось апологией мещанства.
В 1973 году вышел роман о народовольцах «Нетерпение», в 1978 году – «Старик». Трифонов пишет о времени революции, гражданской войны и той внутрипартийной, которая быстро разразилась после победы Октября, на которой арестовали и расстреляли отца Трифонова и на которой в ожидании ареста получил обширный инфаркт и умер от него брат отца – профессиональный революционер.
Нет, Трифонов не был атакован, как, допустим, Солженицын или Войнович. Он не принимал участие в диссидентском движении. Хотя, когда выдавливали из «Нового мира» Твардовского, Юра подписывал письма и действовал весьма активно. Но делать из него диссидента государство не стало.
Он был скрытным человеком. Однажды мы зачитали друг друга стихами Саши Чёрного, которого Юра обожал. Но разговоры о знакомых почти не поддерживал. Был своеобразной вещью в себе.
Он успел закончить роман «Время и место». А роман «Исчезновение» уже вышел в 1987 году – посмертно. Потому что умер Юра относительно рано – в 56 лет от тромбоэмболии лёгочной артерии: 28 марта 1981 года.
* * *
У Леонида Наумовича Волынского, скончавшегося 28 августа 1969 года (родился 1 января 1913 года), удивительная биография. Художник из Киевского театра оперы и балета, он добровольцем ушёл на войну. Попал в плен, но сумел бежать, дошёл до Дрездена в чине лейтенанта. И здесь с пятью солдатами разыскал место захоронения картин Дрезденской галереи, организовал их спасение и эвакуацию.
Позже он описал это в документальной повести «Семь дней».
В Киеве меня с ним познакомил наш корреспондент «Литературной газеты» по Украине Гриша Кипнис. Волынский был удивительно рафинированным интеллигентным человеком. Рассказчик великолепный. Однажды мы втроём сели в ресторан над метро, заказали выпить и закусить. И весь вечер слушали Леонида Наумовича о городских застройках, о планировании площадей и улиц, наконец, о художниках и архитекторах, которых могли увидеть в городе.
Он был хорошим пропагандистом искусства для детей. Для них он написал немало книг. «Дом на солнцепёке» – о Ван Гоге, «Лицо времени» – о русских передвижниках, «Зелёное дерево жизни» – о французских импрессионистах, «Страницы каменной летописи» – о памятниках русской архитектуры.
Убеждён, что они выйдут из сегодняшнего небытия: в этих книгах очень нуждается ребёнок!
29 АВГУСТА
Любопытно, что Михаил Афанасьевич Булгаков ценил прозу Алексея Николаевича Апухтина больше, чем стихи.
Прозой Алексей Николаевич занялся в последние годы жизни. Написал повести «Дневник Павлика Дольского», «Архив графини Д.», фантастический рассказ «Между жизнью и смертью». При жизни Апухтин её не печатал. Хотя в литературных салонах читал. Александр II был в восторге от «Архива графини Д.», прочитанного Апухтиным в доме принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Император заявил, что это лучшая сатира на великосветские нравы, и выразил желание увидеть её напечатанной.
Однако Апухтин не исполнил волю императора, за что впал в немилость. Апухтин не захотел публиковать произведение, поскольку живы были его узнаваемые прототипы.
Но в истории литературы Апухтин остался прежде всего своей поэзией. Некоторые его стихи положены на музыку композиторами – А.С. Аренским («Разбитая ваза») и особенно П.И. Чайковским (6 романсов, в том числе и «Ночи безумные»).
О дружбе и – будем называть вещи своими именами – любви Апухтина и Чайковского сохранилось множество свидетельств. Чайковский жил у Апухтина в имении Павлодар Козельского уезда Калужской губернии в 1863 году, жил в 1865-м в петербургской квартире Апухтина. Вместе они совершили путешествие на Валаам (1866). В Москве Апухтин обычно останавливался у Чайковского.
Что ж. Один только романс «Ночи безумные» – достойный памятник такого любовного содружества: гениальная музыка сумела сделать стихи Апухтина классическим образцом русской романса.
Не следует думать, что Апухтин был эстетом, чуждавшимся реальной земной жизни. Нет, он воплотил её в своей поэзии. И некоторые его стихи звучат современно и сейчас. Порой – современно до невероятности:
О чём шумите вы, квасные патриоты? К чему ваш бедный труд и жалкие заботы? Ведь ваши возгласы России не смутят. И так ей дорого достался этот клад Славянских доблестей… И, варварства остаток, Над нею тяготит татарский отпечаток: Невежеством, как тьмой, кругом обложена, Рассвета пышного напрасно ждёт она, И бедные рабы в надежде доли новой По-прежнему влачат тяжёлые оковы… Вам мало этого, хотите больше вы: Чтоб снова у ворот ликующей Москвы Явился белый царь, и грозный, и правдивый, Могучий властелин, отец чадолюбивый… А безглагольные любимцы перед ним, Опричники, неслись по улицам пустым… Чтоб в Думе поп воссел писать свои решенья, Чтоб чернокнижием звалося просвещенье, И родины краса, боярин молодой Дрался, бесчинствовал, кичился пред женой, А в тереме царя, пред образом закона Валяясь и кряхтя, лизал подножье трона.Это стихотворение Алексея Николаевича называется «К славянофилам». Такое впечатление, что написано оно не полтора века назад, а сегодня!
Умер Алексей Николаевич Апухтин 29 августа 1893 года. Родился 29 ноября 1840-го.
* * *
Алексей Яковлевич Марков прославился в моей молодости своим ответом на «Бабий Яр» Евгения Евтушенко. «Бабий Яр» заканчивался такими строчками: «Еврейской крови нет в крови моей. / Но ненавистен злобой заскорузлой / я всем антисемитам, как еврей, / и потому – я настоящий русский!» «Бабий Яр» напечатала «Литературная газета» в 1961 году. Через несколько дней 24 сентября в «Литературной России» Марков ответил Евтушенко: «Какой ты настоящий русский, / Когда забыл про свой народ, / Душа, что брюки, стала узкой, / Пустой, что лестничный пролёт. / Пока топтать погосты будет / Хотя б один космополит, / Я говорю: я русский, люди! / И пепел в сердце мне стучит».
Разгорелся скандал. Маршак вспомнил об известном черносотенце думце Маркове-втором,
И вот выступает сегодня в газете Ещё один Марков, теперь уже третий. Не мог не сдержаться «поэт-нееврей», Погибших евреев жалеет пигмей. Поэта-врага он долбает ответом, Завёрнутым в стих хулиганским кастетом.Константин Симонов, отозвавшись на стихи Маркова, который «берётся за чернила, / За пышной фразой жёлчный яд разлит, / В стихах его есть пафос, страстность, сила – / Летят слова: «пигмей», «космополит», спрашивает: «Что вас взбесило? То, что Евтушенко / Так ужаснул кровавый Бабий Яр?» и заканчивает: «Интернационал» пусть прогремит, / Когда костьми поглубже ляжет / Последний на земле антисемит». Ответил Маркову и Л. Утёсов.
На мой взгляд, Симонов польстил Маркову, найдя, что вирши того отличает «пафос, страстность, сила». Этого в стихах не было.
А в дальнейшем выяснилось, что Марков вообще склонен к противоречивости. В Википедии я прочитал, что в 1949 году Марков за стихотворение о Сталине объяснялся с МГБ. Об этом ничего не знаю. Но знаю, что Марков написал поэму о том, как Сталин узнаёт о смерти матери. Государственные дела не отпускают вождя выехать на похороны. На десятый день Сталин разрешает хоронить мать без него. Панфёров, главный редактор «Октября», расчувствовался, захотел печатать поэму и добился, чтобы её прочитал лично Сталин. Сталин написал синим карандашом: «Поэму сжечь». А красным: «Автора пригреть».
Ещё в 1955 году Союз писателей обсуждал поэму Маркова «Заколоченный дом» – о раскулачивании. Осудил, конечно. Но Марков больше о раскулачивании не писал. Наоборот. Во многих своих сельских стихах был не против крепнувших колхозов.
В 1968 году Марков открыто выступил против нашей агрессии в Чехословакии, написал: «Мне впервые стыдно, что я русский, славянская кровь на наших танках». Он умел, с одной стороны, славословить в стихах партии, а, с другой, – выступать против системы.
С одной стороны, в годы перестройки он стал посещать заседания независимой писательской организации «Апрель», объявил себя его сторонником. А с другой, в это же время вёл ряд литературных вечеров, организованных обществом «Память», которое устроило погром на одном из заседаний «Апреля».
Есть у Маркова, умершего 29 августа 1992 года (родился 22 февраля 1920-го), такие строки:
Не удивляйтесь, Коль, случится, туча Отбросит на лицо Нежданно тень И станет взгляд мой Строгим и колючим: Не каждый день Сияет светлый день.Поэтому и мы не станем удивляться его противоречивости. Это заложено в его характере.
30 АВГУСТА
Саша Аронов был одним из первых поэтов, с которым я познакомился в литературном объединении «Магистраль», куда пришёл в 1957 году. Обратил моё внимание он на себя сразу: негроидное лицо с словно расплющенным носом, огромная шапка волос и удивительно добрые глаза. Смотрел он на каждого с интересом. Стихи слушал очень внимательно. Выступал неоскорбительно и в то же время исключительно по делу. Любил поэзию.
О его собственных стихах руководитель «Магистрали» Григорий Михайлович Левин однажды сказал: «Покрупней, чем Вознесенский, будет поэт».
Это когда в «Литературной газете» появилась первая подборка никому не известного ещё Вознесенского, и мы довольно долго говорили об этой подборке. А потом перешли к нашим будням: каждый должен был прочитать по новому стихотворению, если он, конечно, его написал.
Я не помню, какое именно стихотворение прочитал Саша Аронов. Но фраза Левина мне запомнилась.
И ещё в связи с Ароновым. К нам в объединение пришёл новый участник. Кажется, у него уже в Калуге вышла книжка. Через неделю-другую он принесёт Григорию Михайловичу посвящённое ему стихотворение о Яблочном Спасе. А сейчас он читает довольно профессионально сделанные стихи.
Саша сияет. Он выступает и, обращаясь к новичку, говорит: «Вы, Станислав, рискуете стать одним из самых богатых поэтов «Магистрали» по словарю. У Вас замечательный запас слов. Это красит Ваши стихи».
Новичок Станислав по фамилии Куняев его благодарит в заключительном слове особо: «Аронов показал, что такое профессиональный разбор поэзии. Спасибо за этот разбор».
А теперь перенесусь на много лет позже. Саши Аронова, кажется, уже нет на свете. Его знают мало. В основном те, кто помнят имена авторов песен, звучавших в фильме «С лёгким паром, или Ирония судьбы». Главный редактор журнала «Наш современник» даёт кому-то интервью. Не помню, почему интервьюер вспомнил про Аронова. «Да, – отзывается Куняев, – был такой поэт-графоман».
На чём основана подобная грубость и подобная жестокая неправда? Чем добрейший Саша Аронов мог раздражить забуревшего литературного чиновника?
Ох, как разозлила меня эта куняевская оценка. И как обрадовал Андрей Чернов, приславший мне выпущенную им в Сетиздате книгу Александра Аронова «Обычный текст». Многих стихов Саши я не знал прежде. В том числе и того, каким он охарактеризовал своего нынешнего недоброжелателя. Прочитав это стихотворение, где он воздаёт Куняеву по заслугам, я вздохнул спокойно: Саша отомщён:
Злобным быть и уныло, и тяжко. И никто над остывшей золой Не вздохнёт почему-то: бедняжка! Ах, какой был унылый и злой! Кто сказал тебе, в общем, спасибо, Хоть ты выбрал несладкий удел: Возлюбил и арапник, и дыбу И на них с умиленьем глядел. Так и жил, хоть и мог бы иначе. Так привык: мол, иначе нельзя. Скажем, птицу убьёшь – и поплачешь. Погрустишь – и завалишь лося. Был прикован к постылому ложу Брачной цепью кандальных колец. Тут и плюнешь кому-нибудь в рожу, Так ведь он недоволен, подлец.Александр Яковлевич Аронов, родившийся 30 августа 1934 года, практически всю жизнь проработал в «Московском комсомольце». Иногда печатал там стихи. Как правило, подвёрстывая их к своему прозаическому тексту колонки, которую вёл.
Со времён «Магистрали» мы почти не встречались. Я знал трёх друзей, которые так и остались друзьями на всю жизнь: Сашу Аронова, Вадика Черняка и Юру Смирнова.
Юру видел чаще: он заходил ко мне в «Литгазету». Я пенял ему на его дружеские встречи с Таней Глушковой, тоже некогда ходившей в «Магистраль» вместе со своим мужем сказочником Сергеем Козловым. Она писала стихи, но потом обозлилась на тех, кому подражала, – на Юнну Мориц, Беллу Ахмадулину. Стала писать злобные статьи. Быстро вырвалась в лидеры так называемых «патриотических» критиков.
– Да что ты, – говорил мне Смирнов. – Я как раз укрощаю Таню. Без меня она всех разметает!
Возможности её он, конечно, преувеличивал. Но, быть может, и от чего-то её отговаривал. Не знаю. Однажды, когда я встретил Сашу и сказал об этой странной дружбе нашего общего знакомого с совершенно уж оголтелой критикессой, Аронов усмехнулся:
– А если это любовь? – сказал он.
Я удивился. Мне это и в голову не приходило.
Так это или нет, осталось неизвестным. Спустя короткое время Юра погиб.
А Саша (сужу по стихам, которые прислал мне Андрей Чернов) набирал силу, становился замечательным поэтом. И на мой взгляд, оправдал тот давний прогноз Григория Михайловича Левина: стал по-настоящему значительным поэтом.
Он это и сам провидел. Писал много лет назад:
Александру Межирову Строчки помогают нам не часто. Так они ослабить не вольны Грубые житейские несчастья: Голод, смерть отца, уход жены. Если нам такого слишком много, Строчкам не поделать ничего. Тут уже искусство не подмога. Даже и совсем не до него. Слово не удар, не страх, не похоть. Слово – это буквы или шум. В предложенье: «Я пишу, что плохо», Главный член не «плохо», а «пишу». Если над обрывом я рисую Пропасть, подступившую, как весть, Это значит, там, где я рискую, Место для мольберта всё же есть. Время есть. Годится настроенье. Холст и краски. Тишина в семье. Потому-то каждое творенье Есть хвала порядку на Земле.У него всегда было «место для мольберта». Я не помню ни одного пессимистического стихотворения Аронова. Мне кажется, он не был пессимистичен оттого, что всякий раз воспринимал жизнь как чудо. А чудесам он радовался, как радуются дети фокуснику: неужели и это у него получится? – получилось!
Горько сознавать, что его уже нет. Он умер 19 октября 2001 года.
* * *
Виталий Георгиевич Губарев, родившийся 30 августа 1912 года, был одним из создателей легенды о Павлике Морозове. В 1933 году он написал об этих событиях книгу «Один из одиннадцати», позже переработанную в повесть «Павлик Морозов» и одноимённую пьесу, которые постоянно переиздавались у нас и за рубежом. Причём различные варианты книги отличаются по изложению событий как друг от друга, так и от пьесы.
По существу, Губарев является автором одной только повести-сказки «Королевство кривых зеркал» (1951). Через год по этой сказке им была написана пьеса, а на её основе в 1963 году был снят одноимённый кинофильм, очень популярный в то время.
Он писал ещё немало повестей-сказок. Но они, как и первая его вещь о Павлике Морозове, оказались в забвении. И умер почти в забвении, о чём свидетельствует Интернет, удержавший только год смерти Губарева – 1981.
* * *
Начну с того, что написала Татьяна Бек в 1998 году:
«Леонида Григорьяна неюным читателям поэзии представлять не надо: замечательный лирик из города Ростова в канувшие времена редко и глухо печатался (но всё же – расслышали и полюбили), а вначале больше был славен как переводчик Сартра и Камю. В «Новом мире» 69-го года была напечатана его блистательная русская версия повести «Падение», в которой голоса автора, героя и переводчика вдохновенно и трагически сливались вместе. Я тогда Григорьяна не знала (позднее мы крепко сдружились, и вот уже лет двадцать пребываем в полемически весёлой переписке), но интуитивно сразу же раскусила, что переводчик тут не просто «почтовая лошадь», а ярчайшая и чудная (ударение – на оба слога!) личность, верхом летающая на своем личном Пегасе. Позднее догадка эта подтвердилась не только при чтении оригинальных стихотворений Григорьяна, но и – его ороднённых интерпретаций армянской поэзии».
С тех пор оба они умерли – и Танечка, и Леонид Григорьевич Григорьян, на долю которого выпала очень нелёгкая судьба. Отец репрессирован в 1937-м. Когда началась война Леониду было двенадцать лет. Его родной город Ростов-на-Дону дважды оказывался под немецкой оккупацией. И дважды её пережил Леонид Григорьян.
Он закончил романо-германское отделение историко-филологического факультета Ростовского университета. Преподавал латынь в мединституте в Ростове.
Первая его книжечка в 80 страниц вышла в Ростове, когда её автору было 37 лет.
Набор одной из ранних набранных книг рассыпали по требованию ростовской писательской организации.
Григорьян прожил долго. Умер 30 августа 2010 в 81 год: 27 декабря 1929-го. Так что успел в 1991 году стать членом Союза российских писателей и издать 16 книг стихов и переводов.
А о том, почему он долго не вписывался, да и не вписался в ростовское отделение Союза писателей России, почему вынужден был подать в Союз российских писателей, в котором, в отличие от Союза писателей России, состоит горстка ростовских литераторов, можете судить по его стихотворению, которое называется «Саркастическое»:
Упорно держат оборону, Качают в наглую права Метисы наши, квартероны И беспородная плотва, Скрывают ушлую усмешку, Готовясь к пакостным делам, Аварец с русским вперемешку, Татарин с русским пополам. Разносят мерзостные бредни И даже несомненный бред, Что, мол, в Романовых последних И капли русской крови нет. Давид Петрович, Пров Евсеич Горазды «Ямщика» попеть. А Шафаревич-Пуришкевич Не в силах этого стерпеть. Абрам Кузьмич, Фрол Моисеич Облыжно даже крестят лоб. А рядом – Александр Сергеич, Завзятый русский эфиоп. И все окрест прекрасно знают Об этом факте искони… Какая карта козырная Для обнаглевшей жидовни!* * *
Марк Самойлович Лисянский был человеком тихим, уютным и добрым. Печатался без проблем. Книги стихов выходили весьма часто. Песни на его стихи становились шлягерами: «Осенние листья» (музыка Б. Мокроусова), «Зори московские» (музыка А. Островского), «Хорошо шагать пешком» (музыка О. Фельцмана), «Годы», «Это было вчера», «Песни вечной юности» (музыка всех трёх Я. Френкеля). Марк Самойлович дружил с композитором А. Долуханяном, с которым написал много песен.
Всё это замечательно. Но возникает такой вопрос. В 1995 году Мосгордума утвердила в качестве гимна Москвы песню «Моя Москва» («Я по свету немало хаживал…»). Слова этой песни написаны Марком Лисянским, но… в соавторстве с Сергеем Аграняном. Почему же на доме, где жил Марк Лисянский установлена мемориальная доска в честь автора гимна Москвы, а на доме Сергея Аграняна никакой доски нет?
Приходилось читать разные версии. По одной – мало кому известный Сергей Агранян написал стихотворение «Я по свету немало хаживал» и показал его М. Лисянскому. Тот отредактировал текст и передал композитору И. Дунаевскому.
Другая версия. Лисянский написал на фронте в 1941 стихи и отдал их в журнал «Новый мир». Дунаевский увидел стихотворение опубликованным и записал мелодию прямо на журнальной странице. Поскольку стихотворение для песни было коротко, кто-то попросил Аграняна дописать текст. Тот дописал.
Но это версии. Между тем – 29 сентября 1965 года Бюро творческого объединения поэтов московского отделения СП специально рассматривало вопрос авторства этой песни. Очевидно, никто не хотел уступать другому. Что ж, Бюро установило, что у стихотворения два автора: Марк Лисянский и Сергей Агранян. Как вы понимаете, речь тогда шла не о престиже: кто будет объявлен автором гимна, а о том, кому бюро пропаганды должно отчислять проценты за исполнение песни. Выяснилось, что отчислять должны обоим. На этом и порешили.
Но оказалось, что не навсегда. Иначе почему все почести за гимн достались одному Лисянскому, скончавшемуся 30 августа 1993 года (родился 13 января 1913-го)? Справедливо ли это?
31 АВГУСТА
Михаил Яковлевич Геллер, родившийся 31 августа 1922 года, уже в 1950-м был арестован и приговорён к 15 годам лагерей. Освободился в хрущёвскую оттепель, но надолго в России не задержался. Сумел выехать в эмиграцию во Францию.
За границей выпустил книги «Концентрационный мир и советская литература» (Лондон, 1974), «Андрей Платонов в поисках счастья» (Париж, 1981). Наконец, вместе с другим эмигрантом из России историком А. Некричем многотомную «Утопию у власти» – об истории СССР (Лондон, 1982). В соавторстве с Некричем они написали три тома. После смерти Некрича Геллер написал ещё один том.
Много лет в парижской газете «Русская мысль» вёл регулярную хронику, подборка которой была выпущена в России в виде книги «Глазами историка» (1996).
В Париже и умер 3 января 1997 года.
Геллера следует читать хотя бы потому, что он сумел поставить очень точный диагноз России и многое предсказать ей на будущее. Тем более что все его книги у нас, начиная с 1994 года, изданы.
* * *
Виктор Голявкин нашему поколению известен не только как замечательный детский писатель. Но как литератор, спровоцировавший большой скандал.
В декабре 1981 года Брежневу исполнялось 75 лет. В декабрьском номере журнала «Аврора» 1981 года на второй странице был помещён цветной портрет Брежнева работы Д. Налбалдяна с подписью: «75-летнему юбилею Л.И. Брежнева посвящается». А на 75-странице журнала был помещён вот этот рассказ В. Голявкина «Юбилейная речь»:
«Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле. Но этот – поистине не человек! Он живёт и не думает умирать, ко всеобщему удивлению. Большинство считает, он давно умер, – так велико восхищение этим талантом. Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними. Он заслужил эту честь! Он сидит передо мной, краснощёкий и толстый, и трудно поверить, что он умрёт. И он сам, наверное, в это не верит. Но он, безусловно, умрёт, как пить дать. Ему поставят огромный памятник, а его именем назовут ипподром, он так любил лошадей. Могилу его обнесут решёткой. Так что он может не волноваться. Мы увидим его барельеф на решётке.
Позавчера я услышал, что он скончался. Сообщение сделала моя дочка, любившая пошутить. Я не скрою, почувствовал радость и гордость за нашего друга-товарища.
Наконец-то, – воскликнул я, – он займёт своё место в литературе!
Радость была преждевременна. Но я думаю, долго нам не придётся ждать. Он нас не разочарует. Мы все верим в него. Мы пожелаем ему закончить труды, которые он еще не закончил, и поскорее обрадовать нас». (Аплодисменты)».
Аплодисменты раздались весьма бурные. Общественность сразу же окрестила этот голявкинский рассказ как «Второй залп «Авроры». Главный редактор «Авроры» Глеб Горышин и ответственный секретарь журнала Магда Алексеева были уволены.
Хотя всё объяснялось простой случайностью. Рассказ Голявкина давно был набран в редакции. И попал в двенадцатый номер потому, что освободилось место. Никто, в том числе и Виктор Голявкин, не думал о Брежневе. Поэтому не стоит полностью верить Википедии, что был распространён всего только слух, что рассказ не имеет отношения к Брежневу. Не имеет, правда. Об этом свидетельствовали и работники журнала, и сам писатель.
Но его герою попадать в нелепые положения не впервой. Виктор Владимирович Голявкин, родившийся 31 августа 1929 года, написал массу замечательных детских рассказов, где герой, как правило, оказывается в нелепом положении. Вот – довольно типичный рассказ Голявкина «Неохота всё время пешком ходить»:
«Прицепился сзади к грузовику и еду. Вот и школа за поворотом. Только вдруг грузовик быстрей пошёл. Будто нарочно, чтоб я не слез. Школу уже проехали. У меня уже руки держаться устали. И ноги совсем затекли. А вдруг он так целый час будет мчаться?
Пришлось в кузов забраться. А в кузове мел был какой-то насыпан. Я в этот мел и упал. Такая пыль поднялась, что я чуть не задохся. Сижу на корточках. За борт машины держусь руками. Трясёт вовсю! Боюсь, шофёр меня заметит – ведь сзади в кабине окошечко есть. Но потом понял: он не увидит меня – в такой пыли трудно меня увидеть.
Уже за город выехали, где дома новые строят. Здесь машина остановилась. Я сейчас же выпрыгнул – и бежать.
Хотелось всё же в школу успеть, несмотря на такой неожиданный поворот дела.
На улице все на меня смотрели. Даже пальцем показывали. Потому что я весь белый был. Один мальчишка сказал:
– Вот здорово! Это я понимаю!
А одна девочка маленькая спросила:
– Ты настоящий мальчик?
Потом собака чуть не укусила меня…
Не помню уж, сколько я шёл пешком. Только к школе когда подходил, все из школы уже выходили».
Это даже главная манера прозаика Виктора Владимировича Голявкина, скончавшегося 34 июля 2001 года, – описывать всякие нелепые ситуации, в какие попадает его герой!
* * *
Кто не знает знаменитого радищевского «Я взглянул окрест меня – душа моя страданьями человечества уязвленна стала»? Это кредо Александра Николаевича Радищева, родившегося 31 августа 1749 года. Оно выражено в анонимной публикации своего «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790).
Радищев писал прозу и стихи. О публикации всего «Путешествия» задумался после победы американской революции и последующей за ней французской. Общественная атмосфера показалась Радищеву вполне благоприятной для восприятия тех идей, которые вкладывал писатель в «Путешествие». И он решился. В 1789-м завёл у себя на дому типографию. А через год напечатал в ней «Путешествие из Петербурга в Москву».
Книга быстро вошла в моду: её раскупали. Екатерина, прочитав её, отозвалась, что автор – «бунтовщик, хуже Пугачёва».
Радищева арестовали. Отдали сыскных дел мастеру Шешковскому, «домашнему палачу Екатерины», как называл его Пушкин. Уголовная палата приговорила Радищева к смертной казни. Екатерина согласилась с приговором. Но «по милосердию и для всеобщей радости» заменила казнь десятилетней ссылкой в Илимский острог, в Сибирь.
Император Павел I, отменявший все указы ненавистной матери, отменил и этот. Вернул Радищева из Сибири, предписав жить в своём имении Калужской губернии – в сельце Немцове.
А Александр I вызвал Радищева в Петербург и назначил членом комиссии для составления законов. Существовала версия о самоубийстве Радищева, напуганным якобы председателем комиссии графом П.В. Задовским. Тот, дескать, покритиковав Радищева за мысли, которые он высказывает, напомнил, чем для того они обернулись при Екатерине. Но версия не подтверждается церковным документами, которые засвидетельствовали, что умер Радищев естественной смертью от чахотки 24 сентября 1802 года.
Влияние Радищева на последующие поколения было велико. Своим учителем его называли декабристами. Даже Пушкин, написав оду «Вольность», подражал одноимённой оде Радищева, о чём прямо писал в черновом варианте своего стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Там была строчка «Что вслед Радищеву восславил я Свободу». Но зачеркнул он её не из опасений цензуры. Пушкин сложно относился к Радищеву. Написал и оставил в бумагах незаконченной почти пародию на радищевское «Путешествие». Пушкинисты подчеркнули пародийность, назвав пушкинское сочинение «Путешествием из Москвы в Петербург». Кроме того, для третьего тома своего «Современника» Пушкин подготовил статью «Александр Радищев», которую запретили по распоряжению министра народного просвещения С.С. Уварова и напечатали только в 1857 году.
Мне думается, что концовка пушкинской статьи окончательно оформила мнение Пушкина о Радищеве:
«Путешествие в Москву», причина его несчастия и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного.
В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но всё в нескладном, искажённом виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на ценсуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но всё это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но ещё требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещённых и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли её, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».
Я бы обратил внимание на «представителя полупросвещения». В конце XIX века Достоевский напишет о полунауке, которая станет отличать радикальных революционеров и которая погубит цивилизованное общество. И погубила. Ни советское, ни постсоветское общество цивилизованным не назовёшь.
* * *
О Евгении Захаровиче Воробьёве остаётся память в фильме Александра Зархи «Высота», сценарий которого написал Михаил Папава по одноимённому роману Евгения Воробьёва. Там хорошо играют Николай Рыбников и Инна Макарова.
Увы, больше ничего от него, автора более 30 книг, в литературе не остаётся. Он не обладал ярким стилем, не увлекал читателя развитием сложной интриги. Он был добросовестным журналистом, автором многих документальных повестей. Те же его повести и романы, которые не были обозначены как документальные, несли в себе всё-таки признаки именно этого жанра. Воробьёву не слишком удавались портреты персонажей или их характеры. Зато, описывая течение событий, их видоизменение и значение в жизни героев, писатель чувствовал себя куда увереннее.
Но сиюминутная публицистика хороша, как ложка к обеду. И только!
Скончался Евгений Захарович Воробьёв 31 августа 1990 года. Родился 29 ноября 1910 года.
* * *
Всеволод Александрович Рождественский, выпустивший первый сборник стихов ещё в 1914 году, считался младшим акмеистом. И, надо сказать, сохранил на всю жизнь это умение дать точное описание картины действительности.
Пуста и уныла пустыня. Гудит негодующий ветер, Белёсых песков подвигая сухие, сыпучие груды. Кругом поглядишь – только небо, да жёсткий кустарник, да эти Уныло одним за другими идущие к югу верблюды. Когда-то на дне котловины бродило зелёное море И плакались жалкие чайки, дивясь вековому раздолью, Но схлынули воды и ныне на жёлтом сыпучем просторе Холмы, нанесённые ветром, чуть блещут расплавленной солью. Ты едешь и день и неделю, а всё нет конца Кара-Кумам. Ни дыма, ни юрты киргиза, – густеет вся кровь в человеке, - И месяц отрезком арбуза стоит в саксауле угрюмом, И к морю добраться не в силах, в песок зарываются реки. Но будь терпеливым и скоро, глаза прикрывая ладонью, Увидишь далёко, далёко, где туч раздвигается лента, Верблюжьи отроги Тянь-Шаня, покрытые дымчатой солью, Пристанище всем караванам, зелёный оазис Ташкента.Это стихотворение было включено Рождественским в книгу, изданную в 1929 году. Тогда так неторопливо писать было не принято. Но поэта удерживает школа, которую он окончил, и менять приобретённые в ней навыки не спешил.
Другое дело, что описательность стала его основной поэтической манерой.
Вот – стихотворение 1965 года:
Просторная веранда. Луг покатый. Гамак в саду. Шиповник. Бузина. Расчерченный на ромбы и квадраты, Мир разноцветный виден из окна. Вот посмотри – неповторимо новы Обычные явленья естества: Синеет сад, деревья все лиловы, Лазурная шевелится трава. Смени квадрат – всё станет ярко-красным: Жасмин, калитка, лужи от дождя… Как этим превращениям всевластным Не верить, гамму красок проходя? Позеленели и пруда затоны И выцветшие ставни чердака. Над клёнами всё так же неуклонно Зелёные проходят облака. Красиво? Да. Но на одно мгновенье. Здесь постоянству места не дано. Да и к чему все эти превращенья? Мир прост и честен. Распахни окно! Пусть хлынут к нам и свет и щебет птичий, Пусть мир порвёт иллюзий невода В своём непререкаемом обличьи Такой, как есть, каким он был всегда!Кажется, что между 1929-м и 1965-м нет никакого долгого временного промежутка. Если читать подряд книги стихов Всеволода Рождественского (а при жизни поэта их вышло больше пятнадцати), может действительно показаться, что время в них не движется. Овладев описательной манерой стиха, поэт не овладел умением насытить картину психологическим содержанием. Поэтому нет в его стихах той самой тайны, о которой любила говорить Ахматова.
Но помимо стихов Всеволод Александрович Рождественский, скончавшийся 31 августа 1977 года (родился 10 апреля 1895-го), оставил две книги воспоминаний «Страницы жизни» и «Шкатулка памяти». Их стоит прочесть.
* * *
Марину Ивановну Цветаеву мне бы хотелось вспомнить её стихотворением, где она предсказывала собственные похороны:
Настанет день – печальный, говорят! Отцарствуют, отплачут, отгорят, – Остужены чужими пятаками – Мои глаза, подвижные как пламя. И – двойника нащупавший двойник – Сквозь лёгкое лицо проступит лик. О, наконец тебя я удостоюсь, Благообразия прекрасный пояс! А издали – завижу ли и Вас? – Потянется, растерянно крестясь, Паломничество по дорожке чёрной К моей руке, которой не отдёрну, К моей руке, с которой снят запрет, К моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи, о, живые, Я ничего не возражу – впервые. Меня окутал с головы до пят Благообразия прекрасный плат. Ничто меня уже не вгонит в краску, Святая у меня сегодня Пасха. По улицам оставленной Москвы Поеду – я, и побредёте – вы. И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, И наконец-то будет разрешён Себялюбивый, одинокий сон. И ничего не надобно отныне Новопреставленной болярыне Марине.Марина Ивановна писала это в 1916 году, в 24 года, упиваясь своей властью – мёртвой над живыми, которым придётся подчиниться принятому у людей обряду.
Как же она ошиблась!
Никто и не подумал отнестись к ней по-человечески, когда она голодала в Елабуге, тщетно мечтая устроиться на любую работу, хоть посудомойкой.
А ведь окружали её писатели, их жёны. Страшная судьба, завершившаяся самоубийством 31 августа 1941 года. Родилась она 8 октября 1892-го.
1 СЕНТЯБРЯ
Вообще-то Иннокентий Фёдорович Анненский, родившийся 1 сентября 1855 года (скончавшийся 13 декабря 1909 года), работал учителем – преподавал древние языки и русскую словесность в гимназии Гуревича – одном из лучших частных средних учебных заведений Санкт-Петербурга, затем стал директором Коллегии Павла Галагана – закрытого среднего учебного заведения в Киеве. С 1893 по 1896 директорствовал в 8-й Санкт-Петербургской гимназии, а с 1896 по 1906 был директором знаменитой Царскосельской гимназии, которую среди прочих закончили братья Оцупы, Николай Гумилёв. Читал лекции по древнегреческой литературе на Высших женских курсах.
Как пишет бывший его ученик, «Анненский был рьяный защитник древних языков и высоко держал знамя классицизма в своей гимназии. При нём наш рекреационный зал был весь расписан древнегреческими фресками, и гимназисты разыгрывали на праздниках пьесы Софокла и Еврипида на греческом языке, притом в античных костюмах, строго выдержанных в стиле эпохи».
Добавлю к этому, что Анненский перевёл на русский полное собрание пьес древнегреческого драматурга Еврипида, написал четыре пьесы – «Меланиппа-философ» (1901), «Царь Иксион» (1902), «Лаодамия» (1906), «Фамира-кифаред» (1906; вышла посмертно в 1913 году) – в древнегреческом духе на сюжеты утраченных пьес Еврипида и в подражание его манере.
Разумеется, Анненский переводил не только древних (ещё и Горация). Он перевёл стихи Гёте, Бодлера, Гейне, Верлена, Рембо, Лонгфелло, Сюлли-Прюдома и др.
А главная творческая заслуга Анненского – под его влиянием возникли футуризм, акмеизм. Не буду из-за величины приводить здесь его стихотворение «Колокольчики». Скажу только, что оно является первым футуристическим произведением в русской литературе. Влияние Анненского мы обнаружим в стихах Пастернака, Ахматовой, Георгия Иванова. А его блистательные критические работы, собранные в «Книге отражений», любопытны не только филигранным анализом художественного текста, но и тем, что задолго до формалистов Анненский призывал к постановке в школе систематического изучения художественного текста.
Ну, а закончить мне хочется тем стихотворением Анненского, которое пел Александр Николаевич Вертинский:
Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя… Не потому, чтоб я Её любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, Я у Неё одной ищу ответа, Не потому, что от Неё светло, А потому, что с Ней не надо света.2 СЕНТЯБРЯ
Михаил Евсеевич Вишняков, родившийся 2 сентября 1945 года (скончался 5 июля 2008-го), по оценке академика Д.С. Лихачёва создал «один из лучших рифмованных переводов» «Слова о полку Игореве».
Стихи писал с раннего детства. Закончил Литературный институт. С 1979 года является членом Союза писателей СССР. Автор 14 книг стихов и двух книг прозы.
При его активном участии создана газета «Чита литературная», которую он одно время возглавлял.
Однажды я с недоумением прочёл у него такие стихи:
Русский я. Русью болел. Отболел. Вновь болею. Пью вот с бурятом и тайно бурята жалею. Он «архивариус», варит в честь друга архи, Пишет при этом трезвейшие в мире стихи: «Пассионарность народов нельзя торопить. Если вдруг русский помрёт – с кем бурят будет пить?» – Пить? С кем попало, – еврей пошутил, как всегда. «Пить! С кем попало буряты не пьют никогда!»Но недоумение быстро развеялось, когда я узнал, что Вишняков подписал в 1990 году так называемое «Письмо 74», автором которого являлась злобная, истеричная антисемитка поэтесса Татьяна Глушкова.
После этого я перестал удивляться и другим стихам Вишнякова, написанным в духе процитированных.
* * *
Я вообще не слишком люблю художественную фантастику, а уж произведения Александра Петровича Казанцева, родившегося 2 сентября 1906 года (скончался 13 сентября 2002-го), читал без интереса.
Странные были эти произведения. Изданный в 1952 году роман «Мол Северный» в 1956-м переработан в роман «Полярная мечта», а в 1970-м году в роман «Подводное солнце». Конечно, писатель волен совершенствовать своё произведение и после того, как он его напечатал. Но здесь речь о совершенстве не шла. Казанцев попросту старался совпасть с временем.
Кроме того, раздражало, что герои фантастических произведений Казанцева ведут себя как герои производственных романов, сильно расплодившихся в советское время.
Когда появилась «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, стало ясно, что фантастические романы Казанцева – типичные произведения литературы социалистического реализма.
Поэтому не удивительно было прочитать такое его заявление в 1993 году: «Я был и остаюсь коммунистом, голосую только за КПРФ – она не испугалась угроз и запретов, её руководители не кинулись делить народную собственность, не крали, не строили дворцов».
Как сказал когда-то классик, «блажен, кто верует, тепло ему на свете»!
* * *
Александр Моисеевич Некрич для многих из моего поколения прежде всего автор книги «1941. 22 июня», которая вышла в 1965 году в издательстве «Наука» и через некоторое время подверглась оглушительному разгрому на спешно созываемых идеологических собраниях.
До этого Некрич легко защитил кандидатскую, потом докторскую, его выдвигали в члены-корреспонденты АН СССР.
Но после этого в 1967 году за отказ признать свою книгу ошибочной Некрича исключает из партии Комитет Партийного Контроля под руководством А.Я. Пельше.
Ну, а исключённый из партии немедленно превращался в изгоя. Ни академики М. Нечкина и Е. Жуков, хорошо относившиеся к Некричу, ни сам президент Академии Келдыш ничем помочь ему не могли.
О публикации в СССР и речи быть не могло. Весной 1975 года Некрич завершил книгу о массовых депортациях народов СССР «Наказанные народы» и передал её для публикации за границу.
А в 1976 году за границу выдавили и его самого.
Нечего говорить, что и в Англии и в США его книги печатались охотно. Что четырёхтомная книга «Утопия у власти», написанная в соавторстве с М. Геллером, стала бестселлером, а книга Некрича «Отрешись от страха. Воспоминания историка», написанная о его девятилетней борьбе с государством за возможность печатать свои книги (после разгрома «1941. 22 июня»), была в центре дискуссий международных конференций историков.
Скончался Александр Моисеевич 2 сентября 1993 года (родился 3 марта 1920-го).
* * *
Друзья его звали Светом. Был Феликс Григорьевич сыном видного большевика Григория Фринлянда, расстрелянного органами. Мать Феликса отбывала восьмилетний срок в лагере в Потьме.
Светом, кстати, его звали и дома. Поэтому он взял псевдоним Светов.
Вёл себя смело. Печатался в «Новом мире» Твардовского. Выступал в защиту диссидентов.
Женился на Зое Крахмальниковой, религиозной диссидентке. Под её воздействием крестился. Выступал со статьями, пропагандирующими религиозных философов.
Написал роман «Отверзи ми двери», который мог быть напечатан только на Западе. Они с Крахмальниковой стали активными авторами сперва самиздата, а потом – тамиздата. За вышедший в Париже роман «Опыт биографии» Феликс получил премию имени Владимира Даля.
В 1982 году Светова исключают из Союза писателей. А в январе 1985-го арестовывают. После года пребывания в Матросской тишине Светова приговаривают к 5 годам ссылки, отправляют на Алтай, где уже отбывает ссылку Зоя Крахмальникова. В 1987 году они реабилитированы и возвращены в Москву.
Кроме романа «Отверзи ми двери», который опубликовал «Новый мир», Светов напечатал в ленинградской «Неве» роман «Тюрьма», где рассказал о своём заключении в Матросской тишине.
Но большинство своих произведений в 90-е Светов опубликовал в журнале «Знамя».
При Ельцине работал в комиссии по вопросам помилования.
Умер 2 сентября 2002 года (родился 28 ноября 1927-го).
3 СЕНТЯБРЯ
Юрий Григорьевич Буртин, родившийся 3 сентября 1932 года (умер 19 октября 2000-го), был недолгим заведующим отдела литературы «Литературной газеты», куда его, так же, как через пару месяцев меня, пригласил член редколлегии Владимир Карпович Железников.
Газета готовилась стать шестнадцатистраничной, и пришедший в неё бывший главный редактор «Вечерней Москвы» Виталий Александрович Сырокомский, ставший первым заместителем главного редактора Чаковского, получил от последнего карт-бланш на изменение кадрового состава редакции.
«Вечёрка» Сырокомского была очень популярной. И, давая ему карт-бланш, Чаковский надеялся, что такой же Сырокомский сделает и «Литературку».
Он не ошибся: Сырокомский брал в газету очень сильных журналистов. Взял членом редколлегии по литературе Железникова, будущего автора «Чучела», с наказом: подбирать талантливых!
Так оказался завом отделом современной литературы Юрий Григорьевич Буртин.
Причём уже после того, как приказ о его назначении был подписан, открылось (Железников божился, что он об этом не знал), что Юра был автором разгромной и едкой рецензии в старой «Литературной газете» на какой-то роман Александра Борисовича Чуковского.
Я помню эту рецензию, выставлявшую Чаковского человеком, который берётся за проблемы, недостаточно в них вникая.
И хотя Чаковский любил публично повторять о себе: «Ну, какой я писатель?», всё-таки присутствие Буртина в газете да ещё на должности заведующего отделом современной литературы, его раздражало, что он и не скрывал, мелочно придираясь к каждому Юриному слову, сказанному на редколлегии, обсуждавшей журналы.
Не знаю, Буртин ли явился причиной очень быстрого ухода Железникова из редакции (мы проработали вместе меньше месяца), или то обстоятельство, что Володя собрался выгнать доставшегося ему по наследству другого своего заместителя по критике бездарного и одиозного гонителя прогрессивной литературы Михаила Синельникова, но однажды Чаковский наорал на Железникова и тот, очень чувствительный к такого рода вещам, немедленно подал заявление об уходе. Его уговаривал остаться Сырокомский, уговаривал наш, буртинский, отдел. Но он был непреклонен.
– И правильно сделал! – рубил работавший тогда у нас Золотусский. – Такие вещи спускать нельзя.
Такие вещи Чаковскому спускали многие. Тот часто срывался на крик и, по-моему, любил публично унижать людей, если они ему это позволяли. Однажды (много позже) он повысил голос, разговаривая со мной. «В таком тоне я разговаривать с вами не буду», – сказал я, и он тотчас же заговорил обычным голосом. Я не помню, чтобы он кричал на Сырокомского. Но на Кривицкого – неоднократно. Евгений Алексеевич перенёс даже публичное оскорбление Чаковского перед всем коллективом, когда тот, распалился на редакционной «летучке»: «Ну, какой к чёрту вы заместитель? Вас давно нужно гнать из редакции поганой метлой!» Однако не выгнал.
Чаковский не был злым человеком. Но покричать любил. Помню, как однажды он зашёлся в истерике, обличая секретариат, который, по его мнению, состоит из бездельников и некомпетентных людей. Но, откричавшись, он словно забыл о нерадивых работниках и добродушно посасывал сигару, выслушивая членов редколлегии и наши сообщения о новинках в журналах.
Над Буртиным постоянно висел дамоклов меч редакторского гнева. Был Юра человеком редкой чистоты и честности. И удивительной биографии.
Ленинградский педагогический институт, который он закончил, распределил его на работу в школу районного городка в Костромской области. Не сомневаюсь, что работал он добросовестно и был хорошим учителем, – Юра не умел что-нибудь делать плохо. Так что кандидатом в члены партии его приняли единогласно.
– Зачем ты туда пошёл? – удивился я.
– На волне XXII съезда, – ответил Буртин. – Казалось, что партия очищается и близка к покаянию. Ты же помнишь, что они говорили тогда о Сталине, Молотове, Кагановиче, Маленкове, Ворошилове?
Это я помнил. Хрущёв заставил рассказывать о преступлениях Сталина и его соратников всех своих приближённых. Даже Брежнева. Даже Суслова.
Так вот. Кандидатский стаж Буртина подходил к концу, когда собранию общественности районного городка доверили выдвигать кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.
Первым выступил знатный механизатор. Он предложил просить согласия баллотироваться в депутаты от их округа члена политбюро ЦК КПСС.
Следующий – работник местного управления сказал, что горячо поддерживает предыдущего оратора и со своей стороны предлагает кандидатуру ещё одного достойнейшего человека – первого секретаря обкома партии.
И тут слово попросил Буртин. Выступить ему дали, но потом об этом очень жалели. Потому что, поддержав, как водится, обоих предыдущих ораторов, он предложил ещё одну кандидатуру – поэта и главного редактора журнала «Новый мир» Александра Трифоновича Твардовского.
– Но Твардовский, – вскочил сидевший за столом президиума первый секретарь райкома, – кажется, уже выдвинут кандидатом в депутаты от другого округа?
– А член политбюро, к которому мы обратимся, – резонно ответил Юра, – выдвинут кандидатом в депутаты во многих округах.
Нет, предложение Буртина не прошло. Больше того, это предложение было названо провокационным уже на другом собрании – в школе, где коммунисты признали, что их коллега достоин строгого выговора, который ему тут же и вкатили. Но через некоторое время райком партии предложил партийному школьному собрания рассмотреть вопрос о том, достоин ли вообще Юрий Буртин высокого звания члена партии. Недостоин, – единогласно решило собрание. Бюро райкома с этим было полностью согласно: билет кандидата в члены партии у Буртина отобрали.
– На что ты надеялся, нарушая правила игры? – спросил я у него.
Юра взглянул на меня смеющимися из-под рыжих бровей глазами:
– Я хотел показать, что эти правила не признаю и по ним не играю.
Учителем его в школе оставили, но отношение к нему переменилось. Начальство долго не соглашалось дать ему характеристику для поступления в аспирантуру Института мировой литературы. Но в конце концов дало – сухую и кислую.
Тем не менее в аспирантуру его зачислили. Он пришёл в неё с фактически готовой диссертацией о поэзии Твардовского.
Но защитить ему её не позволили. Точнее, о защите и речи не шло, когда отчисляли его из аспирантуры.
Он снова нарушил правила игры. Не только не осудил, как все в институте, арестованных Синявского и Даниэля, но на заседании секторов ИМЛИ счёл своим долгом поблагодарить Андрея Донатовича Синявского, как человека, на чьи, в частности, материалы он опирался в своей диссертации.
Ему дана была на размышление неделя. Либо он отказывается от этой благодарности, либо на защите диссертации в ИМЛИ он может поставить крест. Юра и минуты не думал над тем, как он ответит на этот ультиматум.
Вот какой человек работал со мной в газете, вызывая почти ежедневное раздражение Чаковского и удерживаясь на своём месте благодаря тайной симпатии к нему Сырокомского.
В конце концов Буртина Чаковский всё-таки уволил. Точнее, добился, чтобы он ушёл сам, а Виталий Александрович Сырокомский уговаривал Юру не уходить, соблазняя его местом обозревателя в отделе, чья ставка ненамного меньше ставки заведующего. Но Буртин не согласился. Он был изнурён неравной борьбой с главным редактором, который в конце концов пошёл вкатывать ему выговор за выговором, явно подготавливая почву для его законного увольнения. Три выговора в течение месяца – и тебя уже никакой профсоюз защитить не сможет. Да и не такое было тогда время, чтобы профсоюз посмел бы защитить работника от произвола администрации.
Узнав о том, что Буртин остался без работы, Твардовский позвал его в свой «Новый мир», где Юра слегка пережил Александра Трифоновича, но потом ушёл редактором в издательство «Советская энциклопедия». В перестройку был соредактором с Игорем Клямкиным газеты «Демократическая Россия». Резко выступил против сохранения Ельциным номенклатуры. В результате в ельцинской команде места для Буртина не нашлось.
Тем более что Юрий Буртин не только не одобрил чеченскую войну 1994 года, но активно боролся против неё.
Одно время (вторая половина 90-х) Буртин сблизился с Явлинским, который считал Буртина своим учителем. Но бескомпромиссный Юра критиковал Явлинского за вялость и бездействие.
Назначение Путина и.о. президента и выборы в условиях войны Буртин квалифицировал как государственный переворот.
Скончался Юрий Григорьевич 19 октября 2000 года.
* * *
З сентября 1883 года скончался замечательный русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. (Родился 9 ноября 1818 года).
В память о нём – его афоризм, который я очень люблю:
«Чрезмерная гордость – вывеска ничтожной души».
* * *
Я знал Алеся Адамовича еще, когда он в начале шестидесятых годов прошлого века преподавал в МГУ. Я уже там не учился, когда Адамовича отстранили от преподавания за отказ подписать письмо с осуждением А. Синявского и Ю. Даниэля. Помню, резанула глаза подпись С.М. Бонди под этим письмом: я его до этого уважал. И не увидел я подписи Г.Н. Поспелова. Он, как я потом узнал, отказался, так же, как и Адамович, но ему это сошло с рук.
А с Алесем мы подружились, когда я стал работать в «Литературной газете». У нас с ним оказались общие друзья. А иногда он просто заходил ко мне: посплетничать, узнать новости.
За «Хатынскую повесть» Александр Михайлович Адамович, родившийся 3 сентября 1927 года (умер 26 января 1994 го), получил премию Министерства обороны и республиканскую премию им. Я. Коласа. А за «Блокадную книгу», написанную совместно с Д. Граниным, Золотую медаль имени Фадеева. Любопытно знает ли об этом министр культуры Мединский, который не так давно назвал «враньём» сообщение соавторов о том, что во время блокады Смольный (Жданов, Кузнецов) скрывал, что в Ленинграде работают спецкомбинаты питания, выпекающие свежайшие ром-бабы? Не скрывал, стало быть!
Я-то знаю от родственницы, которая пережила блокаду, что огромная толпа буквально по волосинке разорвала кусок подтухшего мяса, выброшенного на свалку из дома секретаря обкома Кузнецова.
Да что говорить? Мединский по молодости может и не помнит, что управделами ЦК КПСС в начале перестройки отрицал очевидное – номенклатурные пайки. Управделами их именовал обычными заказами, какие доставались и рабочим на заводах.
А потом, после августа 1991-го этот управделами выбросился из окна: испугался, стало быть, что придётся отвечать за откровенную ложь.
Испугался и его предшественник, который давно уже был на пенсии, но тоже выбросился из окна.
Семь лет с 1987 по 1994 Алесь Адамович был директором Всесоюзного НИИ по кинематографии. Кстати он автор (точнее соавтор – вместе с Климовым) сценария знаменитой двухсерийной ленты «Иди и смотри», некогда признанной лучшим фильмом года.
Алесь много творчески работал. Написал несколько прозаических вещей. Выпустил немало критических книг. Да и сценариев фильмов у него несколько.
В 1981-1983 в Минске вышло его собрание сочинений в 4 томах.
И, наверное, рассказ о нём будет неполным, если не отметить огромную общественную деятельность Адамовича, народного депутата СССР, члена Межрегиональной группы, сопредседателя общественного совета «Мемориал».
* * *
Юрий Константинович Терапиано в 1916 году был призван в армию, начал службу прапорщиком в Москве, потом был переброшен на Юго-Западный фронт. Летом 1919-го, после занятия Киева белыми, вступил в Добровольческую армию.
Вместе с ней покинул Россию, два года жил в Константинополе, потом переехал в Париж, где сблизился с русскими эмигрантами.
Был первым председателем «Союза молодых писателей и поэтов», сотрудничал с газетой «Дни», где литературным отделом заведовал В.Ф. Ходасевич.
В 1927-1928 годах один из редакторов литературного журнала «Новый корабль». Участвует в собраниях общества «Зелёная лампа», организованного Гиппиус и Мережковским.
По поводу стихов первой книги Терапиано «Лучший звук» (1926) критика нашла, что они развивают акмеистические традиции и прежде всего приёмы и тематику Гумилёва.
В статьях, которые писал тогда Терапиано, просматривается попытка объявить традиции Брюсова и Гумилёва важнейшими для современной поэзии.
Ходасевичу не понравилась вторая книга Терапиано «Бессонница» (1935). Он (Ходасевич) указывал, что нет в стихах своеобразия, что Терапиано отличает «несомненное умение повторять чужое».
Ещё несколько книжек Терапиано издал до 1965 года, когда вовсе прекратил писать стихи. Он занимался критикой, писал воспоминания, которые собраны в посмертно (умер Терапиано 3 сентября 1980-го; родился 21 октября 1892) изданной книге «Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974). Эссе, воспоминания, статьи» (1987). Перед смертью Терапиано сблизился с И. Одоевцевой, которая посвятила его памяти книгу «На берегу Сены».
Небольшое стихотворение Юрия Константиновича:
Вот так случается весною - Всё станет радостным вокруг И в сердце острой теплотою Сиянье разольётся вдруг. Как паутинка – дуновенье, Две-три секунды, счастья миг - И налетает вдохновенье, Не вычитанное из книг.* * *
Об этом деятеле очень интересно вспоминал мой друг Юрий Манн, который посещал на филфаке МГУ семинар члена-корреспондента АН СССР Александра Михайловича Еголина, родившегося 3 сентября 1896 года (скончался 6 мая 1959-го), и даже писал у него курсовую работу.
Еголин запомнил своего студента и согласился, чтобы Манн писал о Надеждине в сборник ИМЛИ, который выходил под руководством Еголина.
А потом Манн некоторое время поработал у него литературным секретарём.
Впрочем, заинтересовавшиеся могут прочитать эти воспоминания в «Вопросах литературы», которые печатать выпало мне (2010, № 1).
А мы вернёмся к Еголину непосредственно. Во время войны он был заведующим отделом печати ЦК ВКП(б). В 1946 году был назначен главным редактором журнала «Звезда» для исправления ошибок прежней редакции. Журнал «Ленинград», у которого были те же ошибки, закрыли. На творчество Зощенко и Ахматовой – авторов журнала, по которым било знаменитое постановление ЦК, наложили мораторий.
С 1948 по 1952 год Еголин был директором ИМЛИ АН СССР, однако с 1952 по 1954 стал старшим научным сотрудником этого института, а с 1954 по 1955 – заведующим сектором. Одновременно преподавал в МПГИ имени Ленина.
Но в 1955-м стал фигурантом сексуального скандала. Притон организовал министр культуры СССР Георгий Александров. Что там делал почти шестидесятилетний Еголин, не совсем понятно. В таком возрасте, да и постарше были ещё некоторые фигуранты. В конце концов, молва разделила их на «софитов», которые непосредственно занимались делом, и «гладильщиков» (всего только поглаживали).
Так или иначе, но Еголина снова сместили до старшего научного работника. И выше он уже не поднялся.
4 СЕНТЯБРЯ
Очень помню в школьные годы эту беллетризованную биографию Баумана «Грач, птица весенняя». Недавно перечитал. И удивился сам себе. Ведь нравилась мне эта книжка Сергея Дмитриевича Мстиславского, родившегося 4 сентября 1876 года (умер 22 апреля 1943-го).
Вот – небольшая главка:
«Усмехнулся.
– Здорово! Скажи, как пришлось! Почитаем… Это всё нам? – радостно спросил он, увидя, что Бауман откладывает пачку на стол.– Вот это ладно! Не поверишь, какой у нас, фабричных, на правду голод. Каждую листовку из рук рвут… – Он перехватил баумановский обеспокоенный взгляд и совсем рассмеялся: – Ты на жену не коси. Она – свой человек. Неграмотная, но на слух всё понимает… Нюра, прими-ка пока что… спрячь.
Наклонился через плечо Баумана, заглянул в чемодан. Посвистал:
– Поймают – на две каторги хватит!
Бауман улыбнулся и прикрыл крышку:
– И с каторги пути есть.
Нюра подняла на стол самовар, старенький, кривобоконький, но начищенный.
– А ты что… бегал уже?
– Из ссылки бегал.
– В тюрьме, стало быть, сидел.
– В Петропавловской крепости. В Питере есть такая тюрьма, на острове.
– Долго сидел?
– Без малого два года.
– И всё веселый был?
Бауман рассмеялся:
– Нет, плакал.
Козуба покачал головой:
– Странный ты человек, таких я ещё не видал. Труднее жизни нет, как твоя. Ведь каждый час могут трах – и в кандалы. Я бы так – никак дышать не мог… Ты чего смеёшься?
Бауман продолжал смеяться:
– Пей чай, и давай спать ложиться. А то ты, я смотрю, сейчас побежишь».
Ну что, спрашивается, могло здесь нравиться? Пошлая проза!
А биография Мстиславского любопытная. Он с 1904 года – эсер. Даже был председателем Боевого рабочего союза, членом ЦК Всероссийского офицерского союза, готовящим восстании в Петербурге и в Кронштадте. Был, как и его герой, в Петропавловской крепости в 1910-1911 годах.
В Февральскую революцию как комиссар Петроградского совета был командирован для ареста Николая II и его семьи. После ареста императора отказался от должности комиссара по содержанию под стражей членов императорской фамилии. При расколе эсеров выбрал партию левых эсеров.
После убийства Мирбаха вышел из партии левых эсеров и вошёл в ЦК украинских боротьбистов, которые в будущем растворятся в компартии. Но Мстиславский оставил общественную деятельность.
С 1921 года он беспартийный. Стал заниматься литературным трудом. Полубиографический роман «Крыша мира» написал в 1925 году. Следующий роман «На крови» переработал в пьесу.
В романе «Союз тяжёлой кавалерии» (1929) написал о том, как пытались крупная буржуазия и царские приближённые отбить арестованных Романовых и восстановить монархию.
А роман «Без себя» (1930) рассказывает о событиях гражданской войны в Украине.
Метод писателя Мстиславского совершенно определённый. Он и не скрывает, что для него «художественно слабые произведения ударников зачастую бывают значительнее произведений высококвалифицированных литературных мастеров именно потому, что в них есть этот волей к творчеству жизни зажжённый пафос».
Да, в детстве этот пафос его романа зажигал и меня. Но отгорел пафос: время его погасило!
Был Мстиславский одним из создателей и с 1930 года членом редакции журнала «Локаф» (с 1933-го переименован в «Знамя»). С 1931 года работал редактором издательства «Федерация».
Но главное, что меня изумило, – это то, что в 1938 году Мстиславского назначили официальным биографом Молотова.
Вот чего не знал, того не знал. Любопытно, какие ещё члены сталинского политбюро получили официальных биографов. И кому из литераторов была доверена такая честь!
* * *
Я сперва узнал, что Александр Григорьевич Письменный – муж Натальи Павловны Бианки, заведующей редакцией «Нового Мира» Твардовского. То есть, сначала я познакомился с ней, а потом она познакомила меня с ним.
Александр Григорьевич, родившийся 4 сентября 1909 года (умер 22 августа 1971-го), прозу писал очень приличную. По теперешней терминологии её можно назвать и производственной, потому что любил Письменный человека труда, любил описывать его труд.
Человеком он был порядочным. Я не помню, чтобы он о ком-нибудь плохо отозвался. Но очень помню, как однажды за столом в ЦДЛ к нам подошёл один довольно известный писатель с сомнительной репутацией, и Александр Григорьевич никак не отозвался на его приветствие. Посмотрел как на пустое место и продолжил разговор с другими. Слегка потоптавшись, поняв, что на него не обратят внимание, писатель отошёл.
* * *
С Рудиком (Рудольфом Александровичем) Ольшевским, мы сдружились сразу же, как я оказался на молдавской земле. Я приехал на дни литературы в Молдавию и Рудик вызвался меня сопровождать. Человек он был интересный, рассказчик тоже.
Я обратил внимание не то, как любят его молдавские поэты. Спросил Боцу, не потому ли все молдавские поэты хорошо относятся к Ольшевскому, что тот их переводит. Боцу ответил, что русских переводчиков в Молдавии много, но Рудика любят за то, что он Рудик. И уточнил: Рудик – человек, который никогда тебе не сделает гадости и никогда тебя не подведёт.
Я потом ещё несколько раз приезжал в Молдавию. Радовался Рудику. Он радовался мне. Тем более обрадовался, что я однажды написал о нём.
А написал, потому что мне нравились его стихи.
Рудик был настоящим поэтом. Подлинным:
И врагов лишившись, и друзей, Времени испив хмельную брагу, Это был уже не Одиссей, Старец, возвратившийся в Итаку. Пусть ещё крепки его слова, Простыни отброшены в постели, Воздух сотрясает тетива, Если он стрелу отправил к цели. Пусть ещё и сила есть, и власть, И суровы пепельные брови. Но уже в глазах остыла страсть, Ветры погасили отблеск Трои. И, сойдя на берег с корабля, Медленный, сутулый и высокий, Понял он, что пережил себя, Сдвинув расстояния и сроки. И пока он верен был стреле, И пока он втянут был в скольженье Паруса и вёсел – на земле Все ушли, сменилось поколенье. Где они, в какой лежат воде, На каком песке, в котором веке, Сильные, привыкшие к беде, Верные и ветреные греки? Только Одиссею суждено Вырваться из пламени и пены. С кем ему хмельное пить вино, Вспоминая красоту Елены? С кем зимой стоять на берегу, Кутаясь в одежды одиноко? Кто сумеет разделить тоску Роком сотворённого пророка? Вот идёт он, как уставший конь. Кудри закипают белой пеной. Он вернулся. Но погас огонь, Просиявший в сумраке вселенной.Умер Рудик 4 сентября 2003 года в Бостоне, выступая перед аудиторией, слушавшей его стихи. Родился 14 сентября 1938 года.
* * *
Владимир Максимович Фриче прославился не своими литературоведческими трудами. Их у него мало. Хотя первая книжка обещала быть интересной. Она вышла в 1912 году. И называлась «Поэзия кошмара и ужаса» – об истории искусства и культуры на Западе, иллюстрированная картинами Босха, Брейгеля и других. Остальные две книжки скучны. Написал он ещё несколько статеек в Литературной энциклопедии, в которой был главным редактором, но умер 4 сентября 1929 года аккурат между вторым и третьим томом, так что в третьем успели дать некролог (родился 27 октября 1870.)
Но прославился Фриче другим. Вместе с А.М. Дебориным и Н.М. Лукиным.
Дело в том, что в январе 1929 года проходили выборы в академию. Большевики давно косо смотрели на это учреждение, намеривались его распустить. От коммунистов баллотировалась, в частности, эта тройка Деборин-Лукин-Фриче. И не прошла. Никто не собрал нужных двух третей голосов.
Несмотря на то, что остальные коммунисты были избраны, в партийной печати поднялся угрожающий шум. Руководство академии поняло реальность угрозы роспуска и приняло решение о перебаллотировке. На этот раз тройка прошла. И на этот раз академия была спасена.
«На этот раз» – то есть до следующего раза, до нынешних времён, когда академия всё-таки почти уже уничтожена нынешними властями. Даже Сталин её не тронул. Перестрелял, арестовал многих академиков – не без этого. Но принцип существования самой академии оставил. Нынешние правители, о которых то и дело читаешь в Интернете: этот списал кандидатскую, этот – докторскую, так вот нынешние правители посягнули на сам принцип существования академии. И наука постепенно стала хиреть.
5 СЕНТЯБРЯ
Как часто мы встречаем в биографии яростно антисоветского писателя, что был он поначалу социалистических, а то и коммунистических взглядов. Таким оказался и Артур Кёстлер, родившийся 5 сентября 1905 года (умер 2 марта 1983-го).
Он был научным редактором немецкой газеты в Берлине. На знаменитом немецком дирижабле «Граф Цепеллин» летал к Северному полюсу. В декабре 1931 года вступил в Коммунистическую партию Германии.
В середине тридцатых совершил большое путешествие по Средней Азии, и год прожил в СССР.
После прихода нацистов к власти переехал в Париж. Дважды посетил Испанию во время гражданской войны. Когда приехал во второй раз был арестован франкистами и приговорён к смертной казни. В ожидании казни он исцарапал стены тюрьмы математическими формулами (в юности он учился в политехническом институте). Пять месяцев он провёл в камере смертников, а затем его обменяли на жену франкистского лётчика-аса.
Время, проведённое в камере смертников, сформировало его взгляды на смертную казнь, которую он счёл недопустимой. Он написал об этом в книге «Размышления о виселице».
Не поверил сталинским театральным процессам бывших ленинских соратников. Вышел из компартии. После начала Второй мировой французские власти интернировали Кёстлера и выпустили только в начале 1940 года.
Он вступил в Иностранный легион, вместе с ним выехал в Северную Африку. Дезертировал, добрался до Лиссабона, оттуда вылетел самолётом в Англию и сразу на таможне был отправлен в тюрьму на шесть недель за незаконный въезд в страну.
Освободившись, он вступил добровольцем в британскую армию. Был сапёром. Раз в неделю он приезжал в Лондон, где участвовал в пропагандистских радиопередачах на немецком языке, писал антифашистские листовки, выступал с лекциями о природе тоталитаризма, над которой размышлял и о которой писал книгу.
Она вышла в 1941 году. Это был его знаменитый роман «Слепящая тьма» – об эпохе «Большого террора» в СССР, о том, как жернова революции перемалывают своих создателей, которые, по мнению Партии, усомнились в правильности избранного пути к счастью. Кёстлер называет страну, где происходят события, страну победившей Революции.
Книга предварена следующим заявлением автора:
«Все персонажи этой книги вымышлены автором. Исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни.
Судьба Н. 3. Рубашова вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых Московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу».
Главный персонаж книги Николай Залманович Ромашов, бывший Народный Комиссар, бывший бригадный командир во время гражданской войны, похож на тех, кто участвовал в показательных сталинских судебных процессах, – Зиновьева, Каменева, Бухарина, и на тех, кто в показательных не участвовал, но тоже был приговорён к расстрелу (например, Тухачевский).
Джордж Оруэлл очень высоко оценил книгу Кёстлера и констатировал, что среди британских писателей 30-40-х годов не нашлось ни одного, кто создал бы книгу, настолько точно запечатлевшую страшные события сталинской действительности.
Книга Кёстлера вошла в список 100 лучших романов XX века по версии издательства Modern Library.
В 1946 году «Слепящая тьма» была издана во Франции, накануне конституционного референдума, который мог легальным путём привести к власти коммунистов. Французские коммунисты развернули бешеную травлю писателя, о разрыве с Кёстлером объявили Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Но Андре Мальро и Альбер Камю поддержали Кёстлера, опирались на его книгу, убеждая французов не поддерживать коммунистов.
Вот к какому выводу о партии, в какой он состоял, пришёл Николай Залманович Ромашов, ожидая казни:
«Партия не признавала человека личностью, отрицала его право на свободную волю – и требовала добровольного самопожертвования. Отрицала способность человека выбирать – и требовала выбора правильных решений. Отрицала, что человек способен отличать правду от лжи, добро от зла, – и постоянно твердила про виновность и предательство. Индивидуумом управляли экономические законы, он был безликим винтиком механизма, на который совершенно не мог влиять, – так утверждала партийная доктрина, – но Партия считала, что безликие винтики должны восстать и перестроить механизм. В логических выкладках таилась ошибка: задача изначально не имела решения».
Вспомните математические формулы, какими испещрил стену тюрьмы приговорённый франкистами к смерти Артур Кёстлер. Не за этими ли формулами таились те, какие проступили в его гениальной книге?
* * *
На мой взгляд, великий писатель. Алексей Константинович Толстой, родившийся 5 сентября 1817 года (умер 10 октября 1875-го), был одинаково велик в разных жанрах – в поэзии, прозе, драматургии.
Совместно с тремя двоюродными братьями Жемчужниковами создал пародийный образ Козьмы Пруткова, ставший повсеместно известным.
Но мне хотелось бы здесь дать представление об ином Толстом, радевшем об Отечестве, о её памятниках старины.
Вот что написал он императору:
«Ваше величество,
Вследствие нового жестокого приступа моей болезни я несколько дней не был в состоянии двигаться и, так как ещё и сейчас не могу выходить, то лишён возможности лично довести до сведения Вашего величества следующий факт: профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, навестил меня и рассказал, что в Новгороде затевается неразумная и противоречащая данным археологии реставрация древней каменной стены, которую она испортит. Кроме того, когда великий князь Михаил высказал намерение построить в Новгороде церковь в честь своего святого, там, вместо того чтобы просто исполнить это его желание, уже снесли древнюю церковь св. Михаила, относившуюся к XIV веку. Церковь св. Лазаря, относившуюся к тому же времени и нуждавшуюся только в обычном ремонте, точно так же снесли.
В Пскове в настоящее время разрушают древнюю стену, чтобы заменить её новой в псевдостаринном вкусе. В Изборске древнюю стену всячески стараются изуродовать ненужными пристройками. Древнейшая в России Староладожская церковь, относящаяся к XI веку (!!!), была несколько лет тому назад изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира, чтобы заменить их росписью, соответствующей его вкусу.
На моих глазах, Ваше величество, лет шесть тому назад в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка, а на ее месте соорудили новую псевдорусскую колокольню. Той же участи подверглась церковь Николы Явленого на Арбате, относившаяся ко времени царствования Ивана Васильевича Грозного и построенная так прочно, что и с помощью железных ломов еле удавалось отделить кирпичи один от другого. Наконец, на этих днях я просто не узнал в Москве прелестную маленькую церковь Трифона Напрудного, с которой связано одно из преданий об охоте Ивана Васильевича Грозного. Её облепили отвратительными пристройками, заново отделали внутри и поручили какому-то богомазу переписать наружную фреску, изображающую святого Трифона на коне и с соколом в руке.
Простите мне, Ваше величество, если по этому случаю я назову ещё три здания в Москве, за которые всегда дрожу, когда еду туда. Это прежде всего на Дмитровке прелестная церковка Спаса в Паутинках [церковь Рождества Богородицы «в Путинках». 1649 – 1652 гг.], названная так, вероятно, благодаря изысканной тонкости орнаментовки, далее – церковь Грузинской Божьей матери и, в-третьих, – Крутицкие ворота, своеобразное сооружение, всё в изразцах. Последние два памятника более или менее невредимы, но к первому уже успели пристроить ворота в современном духе, режущие глаз по своей нелепости – настолько они противоречат целому. Когда спрашиваешь у настоятелей, по каким основаниям производятся все эти разрушения и наносятся все эти увечья, они с гордостью отвечают, что возможность сделать все эти прелести им дали доброхотные датели, и с презрением прибавляют: «О прежней нечего жалеть, она была старая!»
И всё это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства. Именно духовенство – отъявленный враг старины, и оно присвоило себе право разрушать то, что ему надлежит охранять, и насколько оно упорно в своем консерватизме и косно по части идей, настолько оно усердствует по части истребления памятников. Что пощадили татары и огонь, оно берётся уничтожить. Уж не раскольников ли признать более просвещёнными, чем митрополита Филарета? [Василий Михайлович Дроздов (1783-1867) – московский митрополит, прозванный «московским Златоустом»].
Государь, я знаю, что Вашему величеству не безразлично то уважение, которое наука и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности, столь малочисленным у нас по сравнению с другими странами. Обращая внимание на этот беспримерный вандализм, принявший уже характер хронического неистовства, заставляющего вспомнить о византийских иконоборцах, я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо всем, наверно, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит опасность их систематического и окончательного разрушения…
Август-сентябрь 1860 года».
Нечего даже спрашивать о том, что вам это напоминает. Вот ещё с каких времён было понято, что «духовенство – отъявленный враг старины, и оно присвоило себе право разрушать то, что ему надлежит охранять»!
* * *
Сергей Семёнович Уваров, родившийся 5 сентября 1786 года (умер 16 сентября 1855-го), как многие тогда, претерпел эволюцию во взглядах.
Интересовался классической античностью. В молодости опубликовал работы по древнегреческой литературе и археологии. Был лично знаком с Гёте и с Гумбольдтами.
Входил в то же литературное общество «Арзамас», что и Пушкин. По традиции Уваров получил в нём кличку: «Старушка».
В 1811 году стал почётным членом Императорской Академии наук, а с 1818 года – её президентом.
С 1828 года – почётный член Императорской Российской академии, с 1831-го – действительный её член.
1 апреля 1833 года вступил в должность министра народного просвещения. Находился на этой должности вплоть до 1849 года.
Заступая на должность министра, писал: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалась в соединённом духе Православия, Самодержавия и народности».
Эта триада: «православие, самодержавие, народность» стала крылатым выражением и сжато воплощала русскую монархическую доктрину.
Вместе с тем именно Уваров добивается практики прохождения учёбы студентов за границей. При нём Московский университет достигает уровня европейской высшей школы.
В марте 1846 года за большие заслуги в области образования император возводит Уварова в графское достоинство. А в 1849 году во время революций в Европе Уваров инспирировал статьи в защиту университетских прав, которые прогневали императора. Уваров был отправлен в отставку. А сменивший его Ширинский-Шихматов начал политику «закручивания гаек».
Под псевдонимом А.В. в журнале «Современник» в 1851 году Уваров опубликовал «Литературные воспоминания».
Отношения Пушкина и Уварова никогда не были дружественными. Но поначалу – нейтрально благожелательными. Пушкин не проявил восторга по поводу перевода его стихотворения «Клеветникам России» Уваровым на французский. И в то же время благодарил Уварова. Уваров пригласил Пушкина прочитать лекцию студентам университета, произнёс тёплое вступительное слово. В дальнейшем голосовал за избрание Пушкина в академики.
Отношения испортились после того, как Пушкин отдал в «Библиотеку для чтения» свою повесть в стихах «Анджело». Цензор А.В. Никитенко не взял на себя ответственность, но предоставил Уварову решить судьбу пушкинского произведения. И Уваров вымарал из «Анджело» восемь стихов. Узнав о вымарках, Пушкин потребовал заменить их точками. Но кто автор цензурного изъятия, Пушкин узнал слишком поздно.
Начались трения.
Уварову крайне не понравилась «История Пугачёва». И Пушкин записал об этом: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении».
Ну, а дальше – известная эпиграмма «В Академии наук», стихотворение «На выздоровление Лукулла», где обыгрывалась известная всем история о том, как Уваров поспешил вступить в наследство, которое ему не было завещано.
Злоба Уварова не утихла и со смертью Пушкина. Недаром он потребовал, чтобы все публикации покойного проходили цензуру наново. И только вмешательство Жуковского отменило это издевательство над памятью великого поэта.
* * *
Захар Львович Хацревин, родившийся 5 сентября 1903 года (погиб 19 сентября 1941-го), был известен меньше, чем его постоянный соавтор Борис Лапин. Что и понятно: Лапин много написал и отдельно от Хацревина.
Хацревин – один из авторов книги «Канал имени Сталина» (1934), инспирированной органами госбезопасности, которые устроили поездку по Беломорско-Балтийскому каналу, возводимому заключёнными, группы писателей, создавших книгу о чудесном преображении зека в честных людей.
Фильм «Его зовут Сухэ-Батор» поставлен по сценарию, написанному Хацревиным вместе с Лапиным. Оба писателя были участниками боёв за Халхин-Гол.
Во время войны в газете «Красная звезда» Хацревин печатал «Письма с фронта».
Погиб вместе с Лапиным в бою под Киевом.
* * *
Меня с Анатолием Ивановичем Кобенковым познакомил поэт Алик Зорин. Тогда же, в доме Зорина, Кобенков читал свои стихи, которые мне понравились.
Увы, знакомство наше было очень недолгим. Спустя небольшое время – 5 сентября 2006 года Анатолий Кобенков умер. (Родился 9 марта 1948 года.)
А заочно я его знал давно. Знал, что в Иркутске раскололось в 90-х годах отделение Союза писателей. И что меньшее количество писателей стали членами Союза российских писателей. Среди них – Анатолий Кобенков.
Потом он возглавил это отделение.
А через несколько лет оказался в Москве.
Он выпустил много книг стихов. Составил много интересных книг. Выбирать у него есть из чего. И всё же мне хочется закончить его «Автоэпитафией»:
Ничего не остаётся - Только камни да песок, Да соседство с тем колодцем, Что к виску наискосок. Никуда уже не деться - Успокойся, помолчи… Пусть дорога по-над сердцем Рассыпающимся мчит, - Хорошо бы к ней пробиться Чем-то вроде родника - Пусть и птица, и девица Припадут к нему напиться… Выпей мой зрачок, девица, Чрез соломку червячка!… Русаку и иудею, Как русак и иудей, Я взываю, как умею: Влажной смертушкой моею Свою грядочку залей…* * *
С Анастасией Ивановной Цветаевой меня познакомила Маэль Исаевна Фейнберг-Самойлова, вдова известного пушкиниста Илья Львовича Фейнберга, мой хороший друг и редактор моей книги в «Советском писателе».
Жила Анастасия Ивановна недалеко от нас (мы с Маэлью Исаевной были соседями по рядом стоящим писательским домам в Астраханском и в Безбожном переулках) на улице Большая Спасская. Маэль Исаевна часто у неё бывала. А после того, как она практически написала по материалам, которые ей передала Анастасия Ивановна, книгу «Воспоминания», Анастасия Ивановна звонила ей ежедневно, если та сегодня почему-либо не заходила.
Я знал биографию младшей сестры Марины Цветаевой.
Арестовали её впервые в 1933 году как знакомую ранее арестованного Б. Зубакина, якобы розенкрейцера и масона. Провела она в тюрьме 64 дня. После чего её, благодаря хлопотам Б. Пастернака, Е. Пешковой и М. Горького, освободили.
В сентябре 1937-го снова арестовали и обвинили в причастности к «Ордену Розенкрейцеров», якобы созданному Зубакиным. Вместе с ней арестовали и её сына Андрея Трухачёва.
В январе 1938-го тройкой НКВД приговорена к 10 годам лагерей и направлена в Бамлаг, преобразованный через некоторое время в Амурлаг. Сын тоже получил 10 лет. Но отбывал наказание в Карелии, а потом в Каргопольлаге.
В 1947 году, освободившись, поселилась в посёлке Печаткино Вологодской области, где жил с семьёй сын. Но в марте 1949 года снова арестована и приговорена к ссылке в посёлок Пихтовка Новосибирской области. Там жила ещё два года после освобождения и только в 1956 году переехала к сыну (который, кстати, тоже был ещё раз арестован в 1951-м и получил 2 с половиной года тюрьмы) в город Салават в Башкирии.
В 1957-м снова переехала к сыну в Павлодар: он искал работу в местах, разрешённых матери для проживания.
В 1959-м наконец-то была реабилитирована. В 1960-м поехала в Елабугу, чтобы разыскать могилу сестры. Установила крест на предполагаемом месте захоронения. В 1961-м переехала в Москву, жила у друзей, знакомых, пока не получила на Большой Спасской в 1979 году однокомнатную квартиру.
Я застал её доброй, исключительно внимательной и очень религиозной старушкой. В Маэль она была влюблена и всё время повторяла: «Я каждый день молюсь за Вас, Маэлюшка!» Да и Маэль Исаевна говорила мне: «Если я что-то и сделала в жизни хорошего, так это отредактировала «Воспоминания» Анастасии Ивановны!»
Надо сказать, что Анастасия Ивановна и до ареста писала новеллы, сказки. Но абсолютно всё ею написанное было уничтожено госбезопасностью. При реабилитации ей не отдали ни листка. Сказали, что всё сожжено.
Знаю, что её воспоминания издают сейчас по частям. Книги называют «Непостижимое», «Неисчерпаемое». Это всё – из переписанного Маэлью Исаевной. Так что, вспоминая Анастасию Ивановну Цветаеву, скончавшуюся 5 сентября 1993 года (родилась 27 сентября 1894-го), будем помнить и ту, кто донёс до нас всё, что запомнила младшая сестра Марины Цветаевой, – Маэль Исаевну Фейнберг-Самойлову.
6 СЕНТЯБРЯ
Евгений Антонович Козловский, родившийся 6 сентября 1946 года, стал известен, когда в 1982 году опубликовал в журнале «Континент» повесть «Диссидент и чиновница». Для таких публикаций время ещё не настало, поэтому Козловского немедленно загребли, и он провёл семь с небольшим месяцев в Лефортовской тюрьме. Надо сказать, что ему в вину вменяли ещё и публикации в Париже и Нью-Йорке романа «Мы встретились в Раю» и повести «Красная площадь».
Конечно, за ним следили и прежде. Его так называемые «москвабургские повести» печатались в самиздате и в альманахе «Каталог».
Но то, что его выпустили, не отправив в лагерь, удивило многих.
Тем более что после Лефортовской тюрьмы он прозы не пишет.
Фильмы по его старым повестям снимаются. Но главное, чем он сейчас занят, – это журнал «Компьютерра», где он главный редактор.
Написал большое количество пособий по компьютеру. Занимал призовые места по популярности в условном конкурсе «Знаменитости Интернета». Авторитетнейший специалист по всем компьютерным новинкам. А к идеям, питавшим его диссидентство, очевидно, потерял интерес.
* * *
Однажды после обеда я прогуливался по дорожке дома творчества писателей в Малеевке и встретил чрезвычайно удручённого поэта Сергея Острового. «Что с Вами? – спрашиваю. – Вы чем-то расстроены?» «Третий день подряд, – отвечает, – из меня несёт». «Желудок?» – сочувственно спрашиваю я. «Какой желудок? – явно злится Островой. – Позавчера 6 стихотворений, вчера – семь, сегодня с утра – три. Представляете? Прямо, как графоман!»
Разумеется, речь не шла о самокритике. Я почувствовал, что, называя себя «графоманом», Островой ждёт, чтобы я попросил его что-нибудь прочесть из столь стремительно увеличивающегося цикла. Но я не попросил. И тогда он сказал:
– Хотите, прочту парочку?
– Увы, я со слуха не воспринимаю, – сослался я на часто спасавший меня в таких случаях плохой слух.
– А давайте, – сказал Островой, – зайдём ко мне. – Заодно и выпьем. У меня есть. А свежий глаз мне сейчас очень нужен.
Что на это отвечать? Идти к Островому – значит хвалить его стихи. Не ругать же их он меня зовёт.
– Не могу, – сказал я, – простите, Сергей Григорьевич. – Пишу. Я ведь и, прогуливаясь, обдумываю фразы.
– Понимаю, – сказал Островой. – А то, может, зайдёте. Ненадолго.
– Очень сожалею, – сказал я.
– Третий не нужен? – спросил нас, не помню кто из подошедших писателей.
– Вот и слушатель, – сказал я Островому.
– Слушатель? – переспросил подошедший.
– Объясните, Сергей Григорьевич, – сказал я. – А я, простите, пошёл работать.
Чем тогда дело кончилось, не помню. Да я и не интересовался. Вспомнил, потому что посмешило меня это «как графоман».
Посмешило и напомнило его же фразу, сказанную собрату после того, как Островой похвастал, что написал 7 любовных стихотворений кряду. «Закрыл тему!» – сказал тогда Островой.
В этом смысле «как графоман» рифмовалось с тем анекдотом.
Сергей Григорьевич Островой, родившийся 6 сентября 1911 года, стихи начал писать рано с начала 30-х. Первый сборник песен «На страже границ» вышел в 1935-м. Да, песен, а не стихотворений, потому что Островой собрал в книгу тексты, на которые написали песни композиторы.
Здесь по количеству он возможно в лидерах. На его стихи писали песни Дунаевский, Хачатурян, Мурадели, Соловьёв-Седой, Мокроусов, Тухманов, Блантер, Н. Богословский, Константин Листов, А. Бабаев, Фрадкин, Б. Александров, Туликов, Шаинский. Кажется, легче назвать такого популярного композитора, который не писал бы мелодии на стихи Острового.
Хороши эти песни? Дело вкуса, конечно. Но я припоминаю только «Пора, в дорожку дальнюю», «Песня остаётся с человеком», «Зима» («Потолок ледяной»). Может, чего-нибудь забыл. Но шлягеров у Острового немного. Пожалуй, только те, что я сейчас перечислил.
Островой написал 50 книг. Однажды получил Госпремию РСФСР. В нашей «Литературной газете» печатался часто.
Но наш отдел тут ни при чём. Ни при чём и оказывался отдел публикаций, когда отделили его от нашего отдела русской литературы.
Потому что ни туда, ни туда Островой стихов не носил.
Они поступали в отдел от Чаковского.
Александр Борисович присылал обычно довольно толстую пачку стихов и просил отобрать то штук пять для отдельной подборки, то пару стишков (его выражение) для коллективной.
Зачем это было нужно Чаковскому? Нет, он не был поклонником поэтического таланта Острового. Но он по несколько раз в неделю играл в теннис. Чаще всего с Островым. Тот играл почти профессионально. Одно время даже был президентом теннисной федерации России. Вот и вручал Островой ему свои толстые пачки после игры. Писал он, как мы помним, много. «Как графоман» – сам определил!
Скончался 3 декабря 2005 года.
* * *
Гена Шпаликов за короткую свою жизнь (37 лет) написал 11 киносценариев. В том числе таких культовых фильмов, как «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича» (совместно с режиссёром М. Хуциевым), «Я родом из детства», «Ты и я». «Пой песню, поэт» (киноновеллы о Есенине). Написал Геннадий Шпаликов стихи, ставшие песней «Палуба» (звучит в «Коллегах»), или песней, которую распевает Никита Михалков в фильме «Я шагаю по Москве», или песней «Я помню страны позывные» (в фильме «Пока фронт в обороне»), или песней «Спой ты мне про войну» (в фильме «Рабочий посёлок»), или песней «Облако напрокат» (в фильме «Кто придумал колесо?», или песней «Милый, ты с какого года?» (в фильме «Мальчик и девочка»), или песней «Куда летит двадцатый век» (в фильме «Ждём тебя, парень»), или песней… Ставлю отточие.
А главное, что Геннадий Фёдорович Шпаликов, родившийся 6 сентября 1937 года, писал очень своеобразные, ни на кого не похожие стихи, в которых выражал себя человек добрейшей и чистейшей души:
Саша, ночью я пришёл, Как обыкновенно. Было мне нехорошо, Как обыкновенно. Саша, тёмное окно Не темнело лучше. Саша, мне нехорошо, А тебе не лучше. Ничего я не узнал Про тебя, любимый. Только видел я глаза Мне необходимые.Между тем, есть какой-то странный надрыв в этих строчках. Вдумываясь в них, понимаешь, почему Шпаликов повесился в Переделкине 1 ноября 1974 года: «Было мне нехорошо, Как обыкновенно»!
* * *
Наума Лазаревича Лейдермана я печатал, когда был главным редактором газеты «Литература». Иногда печатал его в соавторстве с сыном Марком Липовецким, покинувшим Россию в 90-е.
Я уважал Наума Лазаревича. Мне нравилась его работа «В метельный леденящий век» о творчестве Варлама Шаламова, напечатанная в начале девяностых в журнале «Урал». И совершенно не нравилась его увлечённость «Русским лесом» Леонова. Впрочем, незадолго до смерти он выпустил хорошую, на мой взгляд, книжку, которую не худо школьному учителю иметь под рукой, – «Уроки для души. О преподавании литературы в школе». Вышла в Тюмени. В 2006 году.
А 6 сентября 2010 года Наум Лазаревич скончался. Родился 23 июня 1939 года.
* * *
Яков Александрович Хелемский у меня в газете «Литература» напечатал немало прекрасных эссе о писателях и даже теоретических статеек о той или иной литературной проблеме.
Я поражался: Якову Александровичу было за 80, а писал он молодым энергичным слогом. Никакой усталости письма! Всё на месте: редактура не требуется!
А главное: он писал невероятно увлекательно. Помните, как Перельман писал о математике? Вот так Хелемский писал о литературе.
Жаль будет, если не соберут потомки эти небольшие статеечки из «Литературы» и не выпустят их отдельной книжкой.
У Якова Александровича выходило немало поэтических книг и книг переводов, но такой не было.
Я помню, какие планы он строил. Сколько ещё хотел написать. Но, увы. Он умер 6 сентября 2003 года в возрасте 89 лет (родился 31 января 1914 года). Для нашей газеты потеря оказалась невосполнимой.
7 СЕНТЯБРЯ
Георгий Сергеевич Берёзко, родившийся 7 сентября 1905 года (умер 2 января 1982 года), участвовал и в гражданской войне и в Великой Отечественной. С тех пор армейская тема – одна из главных в его произведениях. «Красная ракета», «Ночь полководца», двухтомный «Мирный город», «Сильнее атома» – всё это произведения либо о войне, либо о буднях армии.
После войны Берёзко преподавал в Литературном институте. Писал не только о войне. Автор книг для детей, киносценариев, пьес.
Правда, фильмы, снятые по его сценариям, – «Прыжок на заре» (1960) и «Негасимое пламя» (1964), событием в мире кино не стали. Но мультфильмы «Серая Шейка», «Крепыш», «Гадкий утёнок» запомнились.
Что же до его прозы, то прав оказался немецкий славист Вольфганг Казак в том, что «с точки зрения литературного мастерства, произведения Берёзко малозначительны».
Да, Березко писал много, но мастерством так и не овладел. Вот очень характерная цитата из его романа «Ночь полководца»:
«Возбуждение, охватившее Николая, было приятным, как всякое ощущение удачи, даже иллюзорной. Самый мир опасностей, открывшийся ныне ему, сообщал небывалую достоверность его вымыслам. Обращённые в будущее, они переживались почти как воспоминание о случившемся. Однако и у большинства людей событие, происшедшее в воображении, существует потом как бы в скрытом виде… Окружающие просто не подозревали пока того, что было известно о себе Николаю. Ибо уже сейчас со всей полнотой он ощущал себя сильным, стойким, самоотверженным… Он не чувствовал усталости, хотя идти по размытой тропе было нелегко, и он часто перебрасывал винтовку с одного плеча на другое. Губы его были плотно сомкнуты, брови хмурились над ореховыми глазами…»
Что здесь описывает автор? Чувства, которыми охвачен его герой. Но не портрет героя. Герой размышляет о себе, поэтому его «ореховые глаза» здесь поразительно неуместны. Получается, что, размышляя о себе, герой ещё и смотрится в зеркало!
* * *
Игорь Несторович Голембиовский, родившийся 7 сентября 1935 года (умер 2 октября 2009 года), в начале шестидесятых работал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Ничто не предвещало появления талантливого журналиста, а он появился и проявил себя, долгие годы работая в газете «Известия».
Сразу после провала путча 23 августа 1991 года его избирают главным редактором «Известий». Газета объявила о своей независимости и перестала быть органом Верховного Совета СССР.
После развала Советского Союза Голембиовский становится генеральным директором газетно-издательского комплекса «Известия», председателем ОАО.
Это была одна из самых смелых в то время газет. Она поддерживала реформы Ельцина и критиковала методы их проведения.
С началом первой русско-чеченской войны Голембиовский публикует интервью с правозащитником Сергеем Адамовичем Ковалёвым, который резко высказывается против войны.
В 1997 году «Известия» перепечатывает из французской газеты «Монд» заметку о миллиардном состоянии Газпрома, которые приписаны Черномырдину. В результате Лукойл (президент Вагит Алекперов) и Онэксим-банк (детище Владимира Потанина) скупают акции «Известий», что лишает Голембиовского реальной власти.
В августе 1997 года Игорь Несторович вместе с группой дружественных с ним «известинцев» при финансовой поддержки Бориса Березовского создают «Новые известия», которые продолжают политику старой газеты. Но в 2003 году после публикации материала о культе личности Путина Голембиовского со своего поста смещает Олег Митволь, бывший тогда председателем совета директоров «Новых известий».
Голембиовский попробовал создать газету «Русский курьер», но уже весной 2005 года из-за финансовых проблем выпуск газеты был остановлен.
* * *
Владимир Николаевич Крупин, родившийся 7 сентября 1941 года, не зря тепло отзывался о Фатее Шипунове. Крупин, можно сказать, ученик Фатея (в некоторых источниках это имя пишется с двумя «т» – Фаттей) Яковлевича Шипунова, автора книги «Истина Великой России», юдофобской, великодержавной и суперправославной.
Вообще, впечатление такое, что Крупин вечно живёт под чьим-то влиянием. Начинал он неплохо с повести «Живая вода», опубликованной «Новым миром». Был он тогда членом компартии, и, выступая перед слушателями наших Высших литературных курсов, говорил, что не спешит, подобно многим кировчанам, выходить из партии, находит в принадлежности к ней немало для себя разумных доводов. Но уже на следующий год я узнал, что из партии он всё-таки вышел и ударился в противоположную крайность – стал активным деятелем православия.
Посмотрите все его книги, выпущенные с 2000 года – от «Детского церковного календаря» до «Афон. Стояние в молитве». Впечатление такое, словно он был религиозен с детства и никаких истин, кроме Христовых, не искал.
Он и журнал создал особый, не похожий ни на «Молодую гвардию», ни на «Наш современник». То есть «Москва» Крупина была им, разумеется, близка по националистической позиции. Но «Москва», как её задумал Крупин, когда её возглавлял, являлась журналом, так сказать, душеполезного чтения. Здесь печатались старые и новые церковные философы и писатели, непременно подчёркивающие своё православие.
Жаль Крупина. Был неплохим писателем и вполне разумным человеком.
* * *
Александра Григорьевича Хмелика, родившегося 7 сентября 1925 года, я знал со времён своей работы в Госкино СССР, то есть с 1963 года. В это время он был сценаристом любимого в нашей семье фильма «Друг мой Колька». Я очень расхваливал ему этот фильм, и мы подружились.
Одно время он был заместителем главного редактора студии имени Горького, которая ставила в основном детские фильмы. Потом работал главным редактором любимого детворой киножурнала «Ералаш».
Мне ещё нравились его киносценарии «Безумный день инженера Баркасова» – по М. Зощенко и «Пять похищенных монахов» – по Ю. Ковалю.
Умер он 8 декабря 2001 года.
Это был добрый, порядочный, талантливый человек.
* * *
Помните булгаковского Сашку Рюхина из «Мастера и Маргариты». Того, который сопровождает завёрнутого в ресторанные скатерти Ивана Бездомного в сумасшедший дом. Кандидатов в прототипы Рюхина называют несколько. Но мне представляется, что самый вероятный – Александр Алексеевич Жаров, умерший 7 сентября 1984 года (родился 13 апреля 1904 года). Мне он представляется прототипом хотя бы потому, что булгаковский Сашка-бездарность вспоминает свою строчку «взвейтесь-развейтесь». Не увидеть здесь аллюзии на жаровские известнейшие стихи просто невозможно: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы – пионеры, дети рабочих…»
Вряд ли Булгакову нравился этот пионерский гимн. Поэтому пародировать его он не отказался. Не отказался представить его автора не просто бездарностью, но человеком, ничего не понимающим в стихах, то есть взявшимся не за своё дело.
Что ж. Булгаков точен. Жаров выпустил огромное количество поэтических книг. Найти в них стихи, а не рифмованные проповеди трудно.
Одно время в его молодости пользовалась популярностью его поэма «Гармонь». Но в ней Жаров для чего-то подпускает воровского арго, называя гармонь «гармозою». Причём по фене у него ботают не какие-нибудь блатняги, а героини-комсомолки.
Писал Жаров песни. «Мы за мир» при Сталине и после была очень популярной. Но ведь по жанру это обычная рифмованная агитка.
Писал Жаров стихи в так называемые «Окна ТАСС» по типу «Окон РОСТА» времён Маяковского. Плакатные эти стихи были однодневками и ни на что другое не были рассчитанными.
* * *
С Надеждой Августиновной Надеждиной, родившейся 7 сентября 1905 года (умерла 14 октября 1992-го), мы с женой познакомились в 1972 году, когда оказались в одной туристической группе, ездившей по ГДР.
Интеллигентная, мягкая, добросердечная, она понравилась нам и нашим друзьям, поехавшим с нами. Так что в Москве мы с удовольствием приняли её приглашение прийти к ней в гости.
Потом уже я прочитал её детскую книжку «Моревизор» уходит в плаванье» и оценил её как детскую писательницу.
В статье о ней в Википедии я прочёл, что Надежда Августиновна не любила вспоминать о годах заключения. Смотря с кем. Мой друг, писатель Юрий Давыдов, который обретёт известность в девяностых и который тоже был с нами в поездке и в гостях у Надеждиной, вспоминал с ней об этих годах. И она рассказывала о них довольно подробно. Надежда Августиновна была арестована на год позже Давыдова в 1950-м и получила меньший срок – 10 лет лагерей (Юра – 25). Как Юра, освобождена была досрочно – в 1955-м. Реабилитирована в 1956-м.
Она и раньше арестовывалась, как сторонница Троцкого и левой оппозиции. Но именно арестовывалась, а не осуждалась: до суда дело не доходило: её отпускали.
Училась она в Литературно-художественном институте имени Брюсова. При ней институт был закрыт, и она вместе с другими студентами была переведена на литературное отделение МГУ, которое окончила. Вышла замуж за своего однокурсника поэта Николая Дементьева. Помните, у Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»? Это о нём. Дементьев покончил жизнь самоубийством в 1935-м.
Надежда Августиновна писала рассказы для детей о природе, о жизни растений и животных. Выйдя замуж второй раз, взяла фамилию мужа. С начала Великой Отечественной войны работала в «Пионерской правде». В 1947 году вышла её первая книга в Детгизе «Полное лукошко».
О ней как о бывшей троцкистке вспомнили и забрали, как я уже сказал, в 1950-м. Посадили, убеждённые, что троцкистов бывших не бывает. Отбывала срок в Дубровлаге в Мордовии.
Её заинтересовала судьба четырнадцатилетней пионерки Ларисы Михеенко, которая, чтобы не быть угнанной в Германию, пробралась к партизанам, была схвачена и расстреляна немцами. Надеждина написала о ней книгу «Партизанка Лара».
В лагере она писала стихи. Они вошли в антологию поэтов-заключённых ГУЛАГа, вышедшую в 1990-м под названием «Средь других имён».
Вот – стихотворение заключённой Надеждиной:
Нам, у кого на спине номера, Кровь чью в болотах сосёт мошкара. Нам, кто, как клячи, впрягаясь в подводу, В лютый мороз на себе возит воду, Нам, по инструкции разрешено Два раза в год написать письмо. Что ж ты не пишешь письма, седая? Трудно живётся, не доедаешь… Дети пришлют сахарку, сухарей. Или, прости, у тебя нет детей? – Как же не быть? Дочка есть и сынок. Только письмо моё детям не впрок. С лагеря я им послала привет, И вот такой написали ответ: «Мама, нам ваше письмо, словно гром. Петю уже вызывали в партком. Столько расстройства, столько заботы… Митю, наверное, снимут с работы. А от соседей такой позор, Что и не высунешь носа на двор. Если дела так и дальше пойдут – Лизочке не поступить в институт». – Матери доля известно какая: Каждая счастья детям желает. Сердце моё изболелось в тревоге: Я им, родным, поперёк дороги. В ссылку старушка одна уезжала, Просьбу исполнить мою обещала: Детям черкнуть адресок я дала, Что от простуды-де… я померла… Что ж мне на это тебе сказать, Мёртвой себя объявившая мать? Жёстки слова мои пусть, но правы: Те, для кого умерла ты, – мертвы!Конечно, стихи, быть может, и несовершенны. Написаны в некрасовской традиции. Но, по мне, это сильные стихи. Как объёмно выражено в них гневное чувство автора!
* * *
Мария Михайловна Шкапская в первый раз была арестована после Ленского расстрела, когда она вышла на демонстрацию к Казанскому Собору. Две недели сидела в тюрьме. Через год её арестовали снова, после двух месяцев тюрьмы была приговорена к ссылке в Олонецкую губернию, но, по ходатайству московского филантропа Н.А. Шахова, ей с мужем разрешили выехать в Европу. В Тулузе она закончила литературный факультет, в Париже прослушала годичный курс китайского языка.
В 1916 году вернулась в Россию.
В начале двадцатых по рекомендации А. Блока, М. Кузмина и М. Лозинского была принята в члены петроградского Союза поэтов, представив рукопись книги стихов. За три года (1922 – 1925) издала семь поэтических сборников и книгу для детей.
Но в 1925 году оставила поэзию и занялась журналистикой. Ездила по стране от «Правды», от ленинградской «Красной газеты».
С началом Великой Отечественной войны зачислена в Литгруппу при Совинформбюро.
Перенесла парез левой стопы. В 1947 году попала под машину, в 1950 – под поезд.
Скончалась 7 сентября 1952 года. Родилась 15 октября 1891-го.
В 1968 году издана её книга очерков «Пути и поиски».
Её стихи почти забыты. А жаль. У неё есть хорошие стихотворения. Например, «Библия»:
Её на набережной Сены В ларце старуха продаёт, И запах воска и вербены Хранит старинный переплет. Ещё упорней и нетленней Листы заглавные хранят И даты нежные рождений И даты трудные утрат. Её читали долго, часто, И чья-то лёгкая рука Две-три строки Экклезиаста Ногтём отметила слегка. Склоняюсь к книге. Вечер низок. Чуть пахнет старое клише. И странно делается близок Моей раздвоенной душе И тот, кто счёл свой каждый терний, Поверив, что Господь воздаст, И тот, кто в тихий час вечерний Читал Экклезиаст.8 СЕНТЯБРЯ
Александра Константиновича Воронского, родившегося 8 сентября 1884 года, я полюбил, прочитав его «Бурсу», книгу, изданную в 1933-м.
Так получилось, что от одной старушки мне вместе с «Бурсой» достались ещё два тома Воронского «Литературные портреты» (1928-1929). Они мне тоже понравились.
Надо учесть, когда я это читал, – в конце пятидесятых – начале шестидесятых, когда Воронский был официально запрещён. Прочитав замечательную «Бурсу», мне оставалось только удивляться: за что запретили эту изумительную повесть, написанную явно на биографическом материале?
Впрочем, я быстро просёк, что запрещает не какую-нибудь книгу, а имя. Воронский, расстрелянный 13 августа 1937 года, становился врагом советской власти. Несмотря на то, что эту советскую власть он же и устанавливал. Но, правда, она ко времени его расстрела совершила столько модификацией, что своей он её уже вряд ли ощущал.
Старый партиец (с 1904 года), он неоднократно сидел как большевик. Был участником Пражской конференции 1914 года. С 1917 по 1920 годы был членом ВЦИК.
С 1921 по 1927 редактировал журнал «Красная новь», с 1922 по 1927 – журнал «Прожектор». Организовал литературную группу «Перевал», где был основным идеологом.
В 1923 году примкнул к «левой оппозиции». Подписал в 1923 году «заявление 46», направленное против установлении в партии режима фракционной диктатуры, против подавлении любого инакомыслия под предлогом сохранения единства партии. Ленин уже по здоровью таких документов не читал, а Сталин начал медленно уничтожать старых партийцев.
В 1927 году сталинские сторонники добились исключения Воронского из партии и ссылки в Липецк. В 1929 году Воронский заявил об отходе от оппозиции. Был возвращён в Москву, где получил работу редактора отдела классической литературы в Гослитиздате.
Но не в обычае Сталина было прощать былым оппозиционерам. В 1935-м Воронского снова арестовывают, ненадолго отпускают и в 1937-м уже арестовывают, судят и расстреливают.
Вместе с Воронским были репрессированы многие литераторы-«перевальцы».
Дочь Воронского как член семьи изменника родины оказалась на Колыме, где вышла замуж за такого же зека. Внучка Воронского Татьяна Ивановна Исаева, родившаяся в Магадане, многое делает для издания не только книг деда, но и незаслуженно забытых магаданских литераторов.
Советую, кроме «Бурсы» прочитать книги Александра Константиновича «За живой и мёртвой водой» и те, которые выходили у нас ещё до перестройки, начиная с 1976 года, когда Воронского реабилитировали для читателя.
* * *
Расул Гамзатов, родившийся 8 сентября 1923 года в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, по существу всю жизнь шёл по восходящей. Окончил Литературный институт, где подружился со многими поэтами, которые его охотно переводили (печатание в Дагестане Гамзатову было обеспечено), в 1952 году – в 29 лет становится лауреатом сталинской премии, был избран сперва депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР, а потом депутатом и даже членом президиума Верховного Совета СССР. Общественных должностей он наполучал много, награды, сыпавшиеся на него, походили на звёздопад. После того, как ему одному из первых дали ленинскую премию, он неизменно входил в комитет по её присуждению.
Переводили его хорошие, даже отличные поэты: Н. Гребнев, С. Липкин, Е. Николаевская и И. Снегова, Ю. Нейман, Я. Хелемский, Р. Рождественский, Ю. Мориц. Поэтому у русского читателя он заслужил славу большого поэта. Переведённое Н. Гребневым стихотворение «Журавли» заметил Марк Бернес, который обратил на него внимания композитора Яна Френкеля. Исполненная Бернесом песня стала модным шлягером.
Жил Гамзатов в полном согласии с политикой властей. Недаром в 1973 году подписал письмо деятелей культуры против Сахарова и Солженицына, которое напечатала «Правда».
Сумел сохранить отличные отношения и с российскими властями после распада СССР. За что Ельцин наградил его орденом Дружбы народов в 1993-м, «За заслуги перед Отечеством» 3 степени в 1999 году, а Путин в 2003 году дал ему орден Святого апостола Андрея Первозванного. Получил незадолго до смерти – к юбилею. Умер 3 ноября 2003 года.
* * *
30 июля 1830 года из Петербурга Пушкин пишет в Москву своей невесте Наталье Николаевне Гончаровой (подлинник по-французски): «Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил её, если бы она не стоила 40,000 рублей».
Перед какой белокурой мадонной простаивал Пушкин, установлено давно. Старинная копия картины, приписываемая Рафаэлю (не всеми; к примеру, Б.В. Томашевский в своём комментарии к академическому десятитомнику Пушкина поддерживает весьма распространённую версию о другом авторе – Пьетро Перуджино), была выставлена для продажи в витрине книжного магазина на Невском проспекте. Владельцем картины был недавно скончавшийся (1829) герцог Бриджуотер. Судя по цене, продавцы не знали, что предлагают покупателю копию, а не подлинник. Доказано ли, что картина, названная по имени герцога «Бриджуотерской мадонной», на самом деле принадлежит Рафаэлю или это работа его учителя – Перуджино, для нас сейчас значения не имеет. Для нас важно, что письмо невесте написано спустя три недели после стихотворения «Мадонна», где Пушкин, как и в письме Наталье Николаевне, говорил о поразившем его её удивительном сходстве с Мадонной, изображённой итальянским мастером, писал о вожделенном:
Одной картины я желал быть вечный зритель, Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая и наш Божественный Спаситель - Она с величием, Он с разумом в очах Взирали, кроткие, во славе и лучах, Одни, без ангелов, под пальмою Сиона, -и радовался его поистине чудесному осуществлению:
Исполнились мои желания. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести чистейший образец.«Кощунником» назвал за это Пушкина протоиерей Михаил Ардов: «И в голову ему, кощуннику, не идёт, как тут хулится Пресвятая Богородица!».
Что же до последней строчки, обрисовывающей Наталью Николаевну, льстящей ей: «Чистейшей прелести чистейший образец», то по поводу этих пушкинских слов Ардов выступает от имени некоего Небесного Трибунала: «Это звучит как невольно вырвавшийся богословский приговор всему светскому искусству в его попытках изображать духовное».
А ведь ничего кощунственного в этих стихах нет. Ибо они – художественные, а не духовные, и на то, чтобы быть духовными не претендуют.
Пушкин желает быть «вечным» зрителем понравившейся ему картины на евангельский сюжет, который вовсе не запретен для светской интерпретации. Не с иконописным образом Богородицы сравнивает Пушкин свою невесту, а с тем, как воссоздал этот образ итальянский художник.
А относительно чистейшего образца чистейшей прелести – комплимента героя стихотворения любимой женщине – отец Михаил очень показательно заблуждается. Да, с религиозной точки зрения, слово «прелесть» есть, как и зафиксировал Словарь Даля «совращенье от злого духа». Но тот же Словарь фиксирует и такие значения этого слова, как «красота, краса […] пригожество и миловидность». По-моему, нетрудно догадаться, образцом какой прелести считает Пушкин свою невесту.
Она родилась 8 сентября 1812 года, родила Пушкину четверых детей и, несмотря на ханжескую клевету недоброжелателей, Пушкин был с ней счастлив. А ведь ради этого он и женился. Умерла Наталья Николаевна 8 декабря 1863 года.
* * *
На мой взгляд, это очень странный поэт. Прожил 27 лет. Написал массу стихов. Среди них есть и хорошие, и отличные.
Он родился 8 сентября 1974 года. Увлекался спортом. Занимался боксом. Был чемпионом Свердловска среди юношей.
Стихи его не предвещали трагедии. Не скажу, что от них веяло оптимизмом. Но дыхание жизни Борис Рыжий улавливал точно. Совпадал с тем ритмом жизни, который передавал. Поэтому и оглушает его предсмертная записка: «Я всех любил. Без дураков». После такого осознания себя в этом мире обычно не вешаются.
И какие стихи писал! Сколько бы мог написать ещё!
Ночь – как ночь, и улица пустынна так всегда! Для кого же ты была невинна и горда? …Вот идут гурьбой милицанеры - все в огнях фонарей – игрушки из фанеры на ремнях. Вот летит такси куда-то с важным седоком, чуть поодаль – постамент с отважным мудаком. Фабрики. Дымящиеся трубы. Облака. Вот и я, твои целую губы: ну, пока. Вот иду вдоль чёрного забора, Набекрень кепочку надев, походкой вора, прячась в тень. Как и все хорошие поэты в двадцать два, я влюблён – и вероятно, это не слова.Повесился 7 мая 2001 года.
Женя Рейн сказал, что Борис Рыжий был самым талантливым поэтом своего поколения. Редкий случай, когда я полностью согласен с Женей.
* * *
Лев Эммануилович Разгон женился на дочери Глеба Ивановича Бокия, видного чекиста, комиссара госбезопасности 3 ранга. Это его и утянуло в гулаговские воды.
Бокий был арестован и расстрелян в 1937-м. А за Разгоном пришли в апреле 1938-го. Он тогда работал в издательстве «Детская литература». Получил 5 лет лагеря. Отбывал наказание в Устьимлаге. Но срок заканчивался во время войны. А в это время не отпускали. В 1943 году его судили снова. Обвинили в пораженческой агитации. Увеличили срок. Однако с приговором Разгон не смирился. Подал кассационную жалобу, написав, что еврей не может агитировать за победу Германии. Помогло. Приговор отменили, и за Разгоном зафиксировали статус «закреплённого за лагерем до особого распоряжения».
В 1946 году ему разрешили уехать в Ставрополь вместе со второй женой Рикой, с которой он познакомился в заключении.
Но в 1949 году Рику отправили в ссылку, а летом 1950-го арестовали Разгона, получившего десять лет лагерей и пять лет поражения в правах.
Освободили Разгона в 1955 году. После освобождения он написал немало книг для детей. Но главной книгой стала его «Непридуманное» – мемуарная проза, снискавшая ему популярность.
Был он членом Комиссии по помилованию при Президенте РФ. Подписал письмо 42 в 1993 году – обращение к Ельцину против заигрывания с красно-коричневыми.
Умер Лев Разгон 8 сентября 1999 года. Родился 1 апреля 1908 года.
9 СЕНТЯБРЯ
Как нам с вами отметить день рождения Льва Николаевича Толстого, родившегося 9 сентября 1828 года (наверное, не надо напоминать, что он умер 20 ноября 1910 года)?
Отметим, думаю, тем, что скопируем из Википедии писателей и мыслителей, отзывавшихся о Толстом:
Французский писатель и член Французской академии Андре Моруа утверждал, что Лев Толстой – один из трёх величайших писателей за всю историю культуры (наряду с Шекспиром и Бальзаком).
Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн говорил, что мир не знал другого художника, в котором эпическое, гомеровское начало было бы так же сильно, как у Толстого, и что в его творениях живёт стихия эпоса и несокрушимый реализм.
Индийский философ и политический деятель Махатма Ганди говорил о Толстом как о самом честном человеке своего времени, который никогда не пытался скрыть правду, приукрасить её, не страшась ни духовной, ни светской власти, подкрепляя свою проповедь делами и идя на любые жертвы ради истины.
Русский писатель и мыслитель Фёдор Достоевский говорил в 1876 году, что только Толстой блистает тем, что, кроме поэмы, «знает до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность».
Русский писатель и критик Дмитрий Мережковский писал о Толстом: «Лицо его – лицо человечества. Если бы обитатели иных миров спросили наш мир: кто ты? – человечество могло бы ответить, указав на Толстого: вот я».
Русский поэт Александр Блок отзывался о Толстом: «Толстой – величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая гордость России, человек, одно имя которого – благоухание, писатель великой чистоты и святыни».
Русский писатель В. В. Набоков в английских «Лекциях по русской литературе» писал: «Толстой – непревзойдённый русский прозаик. Оставляя в стороне его предшественников Пушкина и Лермонтова, всех великих русских писателей можно выстроить в такой последовательности: первый – Толстой, второй – Гоголь, третий – Чехов, четвёртый – Тургенев».
Русский религиозный философ и писатель В. В. Розанов о Толстом: «Толстой – только литератор, но не пророк, не святой и потому его учение никого не окрыляет».
Известный богослов Александр Мень говорил, что Толстой до сих пор является голосом совести и живым упрёком для людей, уверенных, что они живут в соответствии с моральными принципами.
* * *
Если вдуматься, один Борис Заходер написал огромную детскую библиотеку. Я имею в виду не только его гениальные переводы. Хотя с «Алисой в стране чудес» даже Набоков не оказался в столь непринуждённых отношениях. А «Винни-Пух» стал классическим персонажем именно в заходеровском оформлении.
Но мне хочется поговорить об оригинальном творчестве самого Заходера. Это большая редкость, когда замечательный переводчик не подражает своим великим оригиналам. А Заходер не подражает. В его собственных стихах мы не найдём никакого напоминания о, допустим, английской поэзии.
Убедитесь в этом сами. Стихотворение Бориса Заходера «Барбосы»:
В одном селе Один Барбос Залаял на Луну. Не так уж сильно этот пёс Нарушил тишину, Да в это время, как на грех, Не спал его сосед. – Эй ты, потише, пустобрех, - Залаял он в ответ. И так как он рассержен был И не был безголос, То тут со сна заголосил Ещё один Барбос. Вот тут и началось!… Пошло гулять по всем дворам: – Не гавкать! – Тихо! – Что за гам! – Да прекратите лай! – Эй, будет вам! – Ай-ай-ай-ай! – Гав-гав! – Ррр-гам! - Такой поднялся тарарам - Хоть уши затыкай! И каждый, главное, всерьёз Других унять желает. Не понимает он, Барбос, Что сам он – тоже лает!Не выдерживает сравнения с переводами Заходера? Ну почему же? Почитайте это стихотворение ребёнку. Всё рассказано Заходером, который учёл психологию своего маленького читателя. И без нудной дидактики.
Это был удивительный поэт, который мог весело, почти беспечно писать для взрослых о совсем невесёлых вещах:
– Больной, дышите! Не дышите!… – Ах, милый доктор, Не смешите! Вы думаете, Вам решать - Дышать мне или не дышать?Трудно даже представить, что было бы с русской литературой, русской поэзией, если б 9 сентября 1918 года не родился бы этот поэтический маг Борис Владимирович Заходер! Он скончался 7 ноября 2000 года.
* * *
Соломон Константинович Апт, первый переводчик Кафки на русский язык, родился 9 сентября 1921 года. Благодаря Апту русские читатели узнали «Игру в биссер» Германа Гессе, «Человека без свойств» Роберта Музиля, пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и её дети», «Кавказский меловой круг», «Трёхгрошовая опера». И, конечно «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, любимого писателя Апта.
О Томасе Манне Апт написал превосходную книгу в «ЖЗЛ», написал книгу очерков «Над страницами Томаса Манна».
Впрочем, Апт переводил не только с немецкого. Эсхил, Еврипид, Аристофан, Менандр, Платон.
Он увенчан разными государственными наградами. И Австрии, и Германии. Почётный доктор Кёльнского университета, член-корреспондент Германской академии литературы и языка. Удостоен премии имени Александра Меня.
«Он думал и тревожился о будущем, о судьбах великой русской культуры и её возможных путях. Живо интересовался, несмотря на преклонный возраст, состоянием современной литературы, читал произведения молодых авторов, старался им помочь, посоветовать, подсказать», – вспоминает о нём переводчик Константин Азадовский. Апт бескорыстно служил искусству. Был отзывчивым и очень хорошим человеком. Умер 7 мая 2010 года.
* * *
Валериан Николаевич Майков, родившийся 9 сентября 1823 года, получил, как и другие его именитые братья, блестящее домашнее образование. Поначалу он занимался естественными науками, Написал оставшуюся в рукописи работу «Об отношении производительности к распределению богатства», перевёл «Письма о химии» Либиха. Но, поездив по зарубежным странам (он там лечился), он приехал в Россию и принял участие в составлении «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Словарь этот официально именуется Словарем Кириллова, поскольку официально во главе его составления стоял артиллерист Н.С. Кириллов, но на самом деле душой предприятия были Майков и Петрашевский.
В «Финском вестнике» Майков поместил начало неоконченного своего труда «Общественные науки в России». В ней Майков нападает на английскую политико-экономическую школу Адама Смита и на немецких политэкономов. Выступает сторонником учения Огюста Конта, которого в России знали мало.
Майков вообще раньше других приобщился к таким умственным течениям, которые стали признаваться в России всеобщими значительно позже. В философии он одним из первых восстал против немецкой метафизики; в политэкономии он проповедовал «дольщину» рабочих в предприятии; взгляды его на искусство поразили в будущем ценителей тем, что он их высказывал за 40 лет до Гийо, считавшимся новатором в их выражении. Он терпеть не мог национального самохвальства, и Белинский находил, что Майков слишком уж «всечеловек» в своих работах.
Впрочем, с Белинским Майков разошёлся с первой же статьи о Кольцове, опубликованной в «Отечественных записках». Майков ставил в вину Белинскому склонность к литературному диктаторству. Хотя во многом они – Белинский и Майков – между собой сходились. Поэтому через некоторое время Майков стал сотрудничать и в «Современнике» вместе с Белинским.
Недолго, потому что 15 июня 1847 года Майков разгорячённый полез купаться и умер в воде от удара.
* * *
Сергей Александрович Нилус, родившийся 9 сентября 1862 года (умер 14 января 1929-го), получил сомнительную славу первого публикатора «Протокола сионских мудрецов» – антисемитской фальшивки, изготовленной русскими жандармами.
Все биографы Нилуса подчёркивают его истовую религиозность, его благостные впечатления о встречах с Иоанном Кронштадским, его посещение Саровского и Дивеевского монастырей, его книги, типа «Сила Божия и немощь человеческая» или «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле». Но все это не перевешивает мерзкого поступка Нилуса, опубликовавшего «Протоколы», ставшие любимой книгой Гитлера и всей жидоборской сволочи.
Поэтому удивляет, что нынешние власти оказались весьма благодушными к тому, что некое общество «Православный Петербург» учредило премию С.А. Нилуса. Удивляет и то, что в начале нулевых в России было издано полное собрание сочинений этого мракобеса-клерикала. Или, пожалуй, удивляло это раньше. Теперь не удивляет.
* * *
Афанасий Дмитриевич Салынский, рождённый 9 сентября 1920 года, участвовал в Великой Отечественной войне, печатался во многих фронтовых газетах. После войны работал в Свердловске, в книжном издательстве. Писал очерки, сценарии документальных фильмов.
В 1949 году Свердловский драматический театр поставил пьесу Салынского «Дорога первых». В Московском драматическом театре в 1951 году она пошла под названием «Братья».
Учился на Высших литературных курсах Литинститута. Во время учёбы написал пьесы «Забытый друг», «Хлеб и розы», «Барабанщица».
С 1972 по 1982 и потом с 1987 года возглавлял журнал «Театр», умеренно-либерального направления. Был секретарём СП СССР, лауреатом союзной и республиканской госпремий. Обычно не поддерживал таких мастодонтов, как Грибачёв, Софронов, Сартаков, Грибачёв. Старался уклониться от развязанных государством погромных литературных кампаний. Но – здесь уж ничего не поделаешь! – подписал в 1973 году письмо против Сахарова и Солженицына.
Скончался 22 августа 1993 года.
* * *
Любопытно, что написанную на английском языке «Историю русской литературы» Дмитрия Петровича Святополка-Мирского Владимир Набоков называл «лучшей историей русской литературы на любом языке, включая русский».
Сам Дмитрий Петрович, родившийся 9 сентября 1890 года, окончил гимназию в Петербурге, где школьными его товарищами были В.М. Жирмунский, Л.В. Пумпянский. Уже в школьные годы заинтересовался символизмом, переводил Китса и Велена. Общался с М. Кузминым.
В 1908 году поступил в Петербургский университет на факультет восточных языков. Изучал китайский и японский.
В 1911 году выпустил книгу «Стихотворения. 1906-1910», которая особого успеха не имела.
Летом 1914 был мобилизован, участвовал в Первой мировой. В Гражданской войне был на стороне белого движения, временно исполнял должность начальника штаба 1 Пехотной дивизии Добровольческой армии А.И. Деникина. С 1920 в эмиграции.
С 1922 – участник Евразийского движения, мечтал о сближении евразийской эмиграции с СССР. К концу 20-х переходит на марксистские позиции. Сближается с Горьким. В 1931 году вступил в компартию Великобритании, а в 1932 году при содействии Горького вернулся в СССР.
Здесь был взят в оборот компетентными органами. Принял участие в поездке с другими писателями по Беломорско-Балтийскому каналу, который строили заключённые, и в написании коллективной книги «Канал имени Сталина».
Опубликовал ряд статей о зарубежной литературе, клеймил антисоветски настроенных западных писателей, прославлял настроенных просоветски.
Но несмотря на это был арестован в 1937 году, приговорён к 8 годам исправительно-трудовых работ и умер в лагере под Магаданом 6 июня 1939 года.
* * *
Вот что рассказывает о самом своём нашумевшем романе его автор Иван Михайлович Шевцов (родился 9 сентября 1920 года):
«Тля» вчерне была написана 50 лет назад, когда я работал спецкором газеты «Красная звезда». Это был мой первый опыт серьёзного литературного произведения. Острые споры происходили на фоне развернувшейся в конце 40-х годов борьбы с космополитами, т.е. сионистами. Это нашло отражение в романе «Тля» Я видел и знал поимённо космополитов и как прототипы они ложились в ткань повествования. В начале 50-х годов я предложил роман издательству «Молодая гвардия» и нашёл там поддержку. Со мной заключили договор, и рукопись была направлена в набор. Одновременно роман был принят в ленинградском журнале «Нева». Но идеологический ветер подул в другую сторону. Рукопись возвратили автору «до лучших времён».
«Лучшие времена» настали быстро. Хрущёв устроил в Манеже погром выставленных там работ молодых художников-модернистов. Под предлогом борьбы за чистоту искусства социалистического реализма «Тлю» напечатали.
Однако раздавшаяся с разных сторон критика антисемитского содержания романа привела к тому, что Шевцов был уволен с поста заместителя главного редактора журнала «Москва».
Несмотря на то, что Шевцову покровительствовал член политбюро ЦК Полянский, новые его романы в издательствах подзадержали. В Союз писателей его не принимали долго. «Если мы примем Шевцова, мы просто себя ликвидируем. Нам стыдно будет смотреть людям в глаза», – заявил при рассмотрении шевцовского приёмного дела В.П. Катаев.
Тем не менее стараниями первого секретаря Московского отделения Союза писателей Феликса Феодосьевича Кузнецова Шевцов получил билет члена Союза.
Любопытно, что на фронте Шевцова назначили командиром диверсионной группы, которая готовилась быть заброшенной в тыл врага. В группе, оказавшейся на вражеской территории, был будущий критик В. Кардин. Шевцов в тыл врага не попал из-за того, что на тренировке неудачно прыгнул с парашютом, повредив при приземлении ногу. Вот что пишет об этом Кардин:
«Для неудачного приземления с парашютом достаточно было опуститься на одну ногу, поджав вторую. Такое могло произойти непроизвольно, могло – по трусливому расчёту. Коль офицера-пограничника так и не отправили на задание, значит, командование ему не доверяло. А бойцов, командиров с неблагозвучными фамилиями отправляли на опасные задания – и никто не оплошал. Один из них в числе первых получил медаль «За отвагу», другой первым в бригаде посмертно удостоился Героя. В книге по истории ОМСБОНа (Отдельной мотострелковой бригады особого назначения) Шевцов не упоминается даже в перечислениях».
За «Тлёй» последовали такие же юдофобские романы. Некоторые из них напечатаны на деньги спонсоров. Но мы ни названий книг, ни фамилий меценатов называть не будем. Много чести! Скажем только, что прожил Шевцов долго – больше девяноста лет. Умер 17 января 2013 года.
* * *
Надежда Давыдовна Вольпин, скончавшаяся 9 сентября 1998 года (родилась 6 февраля 1900-го), была гражданской женой Сергея Есенина, от которого у неё был сын Александр Сергеевич – известный в будущем диссидент.
Сама Надежда Давыдовна занималась переводами художественной литературы. Переводила Гёте, Овидия, Вальтера Скотта, Конана Дойла, Мериме, Гюго, Голсуорси, Фенимора Купера. Выучив в Ашхабаде, где она находилась в эвакуации во время войны, туркменский язык, она переводила туркменскую поэзию.
Но в литературе осталась не только добротными своими переводами, но главным образом – мемуарами «Свидание с другом».
* * *
Зинаида Николаевна Гиппиус известна не только как поэтесса и драматург, не только как писательница и литературный критик, не только, наконец, как пламенный публицист, как жена Дмитрия Сергеевича Мережковского, союз с которым стал идеологическим центром русского символизма. Зинаида Николаевна известна тем, что порвала со всеми, кто принял большевизм, вычеркнула их из своей жизни и до конца своих дней никогда о них положительно не отзывалась.
Хотя сами они с Мережковским политически колебались сильно. Одно время были антимонархистами, были близки с эсерами Б. Савинковым, И. Фондаминским. Потом выступили против участия России в Первой мировой войне. Потом приветствовали Февральскую революцию и даже установили дружеские отношения с Керенским. Потом сумели бежать от большевиков. Потом подружились с Муссолини и одно время жили в Италии по его приглашению. Потом поссорились между собой из-за антибольшевистской речи Мережковского, с которой он выступил по немецкому радио вскоре после нападения Германии на СССР. Гиппиус оказалась дальновиднее, сказав о речи мужа: «Это конец». И не ошиблась: Мережковскому этой речи не простили.
Правда, ему жить оставалось недолго. После его смерти она писала и не окончила о нём книгу.
Умерла она 9 сентября 1954 года. Родилась 20 ноября 1869-го.
Наследие её огромно. И всё же хочу закончить стихотворением, которое полюбил ещё, когда был школьником:
Мне повстречался дьяволёнок, Худой и щуплый – как комар. Он телом был совсем ребёнок, Лицом же дик: остёр и стар. Шёл дождь… Дрожит, темнеет тело, Намокла всклоченная шерсть… И я подумал: эко дело! Ведь тоже мерзнет. Тоже персть. Твердят: любовь, любовь! Не знаю. Не слышно что-то. Не видал. Вот жалость… Жалость понимаю. И дьяволёнка я поймал. Пойдём, детёныш! Хочешь греться? Не бойся, шёрстку не ерошь. Что тут на улице тереться? Дам детке сахару… Пойдёшь? А он вдруг эдак сочно, зычно, Мужским, ласкающим баском (Признаться – даже неприлично И жутко было это в нём) – Пророкотал: «Что сахар? Глупо. Я, сладкий, сахару не ем. Давай телятинки да супа… Уж я пойду к тебе – совсем». Он разозлил меня бахвальством… А я хотел ещё помочь! Да ну тебя с твоим нахальством! И не спеша пошёл я прочь. Но он заморщился и тонко Захрюкал… Смотрит, как больной… Опять мне жаль… И дьяволёнка Тащу, трудясь, к себе домой. Смотрю при лампе: дохлый, гадкий, Не то дитя, не то старик. И всё твердит: «Я сладкий, сладкий…» Оставил я его. Привык. И даже как-то с дьяволёнком Совсем сжился я наконец. Он в полдень прыгает козлёнком, Под вечер – тёмен, как мертвец, То ходит гоголем-мужчиной, То вьётся бабой вкруг меня, А если дождик – пахнет псиной И шёрстку лижет у огня Я прежде всем себя тревожил: Хотел того, мечтал о том… А с ним мой дом… не то, что ожил, Но затянулся, как пушком. Безрадостно-благополучно, И нежно-сонно, и темно… Мне с дьяволёнком сладко-скучно… Дитя, старик, – не всё ль равно? Такой смешной он, мягкий, хлипкий, Как разлагающийся гриб. Такой он цепкий, сладкий, липкий, Всё липнул, липнул – и прилип. И оба стали мы – единый. Уж я не с ним – я в нём, я в нём! Я сам в ненастье пахну псиной И шерсть лижу перед огнём…* * *
Траурный день в истории русской Церкви. 9 сентября 1990 года был зарублен топором бандитами отец Александр, Александр Владимирович Мень (родился 22 января 1935-го).
Это был один из редких подвижников, которому обязано приобщением к христианству великое множество людей. Сам он пережил страшный советский период гонения на Церковь. Главный свой труд «Историю религии» в 7 томах поначалу издал на Западе в Брюсселе под псевдонимом. Он был одним из зачинателей христианского самиздата 60-х годов. Хотя Александр Мень воздерживался от активной диссидентской деятельности, он был духовным наставником и часто крёстным отцом многих известных диссидентов.
Получив в перестройку трибуну для выступлений, отец Александр быстро становится одним из самых популярных проповедников. Естественно, что это очень не нравилось его врагам, которые и организовали его убийство.
Вот часть экспромта отца Александра. Он отвечает на вопросы из зала:
«Расскажите о жизни после смерти.
Когда умирает человек, у него останавливается сердце, дыхание, наступает клиническая, а потом биологическая смерть. В это время его душа отрывается от тела, попадает в другое измерение и чувствует себя легко, свободно и прекрасно, как это описано во многих случаях, в частности в книге Моуди.
Далее, когда он постепенно приходит в себя, когда он осваивается в другом измерении, перед ним начинают проходить картины прошедшей жизни. Человек начинает оценивать прошедшее, и вот тут-то возникают все сложности. Там тянутся за тобой твои дурные мысли, дурные поступки, тянутся последствия этих поступков. Ты обречён (или обречена) это видеть – и ничего не можешь сделать, всё продолжает разрушаться…
У Крылова есть басня о том, как в преисподней какая-то ведьма варила двух грешников в котлах. Поварив одного, она открыла крышку, тот высунулся и сделал перерыв. А другого она все время варила, и тот возмутился, сидя в котле, высунулся оттуда и говорит: «Ну, чего ты меня тут держишь? Кто он такой? Он разбойник! А я мирный писатель. Почему мне сидеть тут так долго?» А ведьма сказала: «Милый мой, вот тот разбойник делал свои грязные дела, но он умер, и всё уже прошло. А ты умер, но твои гнусные книги, которые разлагают людей, продолжают действовать…». Значит, здесь очень сложная штука: когда мы умрём, за нами всё это будет тащиться.
Далее. Человек бездуховный, который привык жить только внешними впечатлениями, когда он отрывается от этого мира, он просто в ужасе, потому что он лишён всего, чем он жил. Чем живёт такой человек? Едой, питьём, обыкновенными чувствами – поспать, поесть и прочее. Но там-то уж не поспишь – кончилось это. И с едой кончилось, и со многими другими забавами. Что же дальше? Человек как в пустоте. Вот пример. В одиночке человек сидит, лишённый всего, часто даже света. Если у него что-то в голове было, в сердце было, он ещё как-то может перебиться. Но если он жил только внешним, то в этой одиночке он сходит с ума, потому что у него ничего нет в душе.
Так вот, процесс вхождения человека в иной мир очень сложен и труден, и Православная Церковь в своей традиции называет это «мытарствами», католическая традиция называет это «чистилищем». И мы не знаем многого, что там происходит, но только верим, что Творец более благ, более справедлив, более мудр, чем мы, и глубже знает нас самих, чем мы. Не надо понимать ад как уголовное наказание, что-то вроде места бессрочного заключения. Это иное – это отражение нашей черноты.
Может ли быть она там рассеяна? Многие учители Церкви убеждены, что не только может, но это должно быть. Библия говорит нам, что некогда, когда мир преобразится, Бог отрёт всякую слезу и будет всем во всём. Всем во всём, в каждом из нас… Не сказано, что Он будет в некоторых, а Он будет во всём. Значит, всё злое исчезнет, останется полнота, красота и свет. И предчувствие этого живет во всём прекрасном, что есть на земле. И поэтому «Символ веры» христианский кончается не исповеданием только бессмертия души, а словами: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».
На месте гибели о. Александра воздвигнут храм в честь преподобного Сергия Радонежского, в котором регулярно совершается Божественная Литургия.
* * *
Один из самых страшных сталинских палачей-писателей. Анатолию Владимировичу Софронову выпало руководить кампанией по борьбе с космополитами, то есть в переводе с государственного языка – с евреями. И он, отъявленный антисемит руководил судилищами со вкусом.
Самая смешная фраза о нём сказана журналистом Ярославом Головановым: «Софронов награждён орденом Октябрьской Революции. Ему бы вполне хватило медали павильона «Свиноводство» на ВДНХ».
Действительно, внешне он напоминал хряка. Толстый с маленькими глазками. При Сталине получил две сталинских премии за пьесы, которых писал великое множество и которые ставились большинством отечественных театров. Но любопытно, что литературных премий такого уровня он уже больше не получал. Хотя и после Сталина драматургической активности не снижал. Получил в 1973-м за две пьесы республиканскую премию. Но престижной союзной ему не дали.
Дали, конечно, героя соцтруда. Но звёзды при Брежневе вешали на грудь любого активного секретаря Союза писателей СССР. Орденов на Софронова тоже не жалели. Хотя я уже приводил смешную фразу Голованова.
33 года – сказка! – был Софронов главным редактором «Огонька», который ещё со времён Сталина отличался повышенными гонорарами и выпускал библиотечки и библиотеки (собрания сочинений), какие оплачивались по ставкам массовых изданий. За 33 года Софронов привык печатать у себя в журнале любой отчёт о поездке за границу, любое стихотворение, которое вчера пришло в голову. В конце концов, он исхитрился не платить с полученных гонораров партвзносы, за что получил выговор от Комитета партийного контроля. Но у Софронова в окружении Брежнева были свои люди, которые, воспользовавшись хорошим настроением Леонида Ильича, представили выговор несправедливостью. Брежнев с Софронова выговор снял.
Умер Софронов 9 сентября 1990 года. Родился 19 января 1911-го.
10 СЕНТЯБРЯ
«Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня» – памятные занимательные книги моего детства. Запомнился их автор Владимир Клавдиевич Арсеньев. Сегодня его дата. Он родился 10 сентября 1872 года.
Кончил пехотное училище. Получил назначение в Польшу. Но по его просьбе был переведён во Владивосток.
Экспедиции начал с изучения Южного Приморья в качестве военного топографа. 9 раз он прошёл в первой экспедиции Сихотэ-Алинь. А, исследовав бассейн реки Бикин и побережье, прошёл Сихотэ-Алинь ещё четыре раза.
В 1908-1910 годах изучал Северное Приморье: северную часть Уссурийского края от побережья Татарского залива до Амура и низовья Уссури. Снова Сихотэ-Алинь был пройден – 7 раз.
По этим двум экспедициям Арсеньев написал несколько научных трудов. И две книги художественного содержания: «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923). Обе книги потом были объединены в одну «В дебрях Уссурийского края», и сдаётся мне, что именно её я брал в библиотеке нашего двора.
Арсеньева избрали действительным членом Императорского Русского географического общества.
Он работал директором Хабаровского краеведческого музея с 1910 по 1918 и с 1924 по 1926 годы.
До революции Владимир Клавдиевич совершил экспедицию в хребты Быгин-Быгинен и Ян-де-Янге. После революции изъездил Камчатку, подымался на Авачинскую сопку, совершил длительную экспедицию по маршруту Советская Гавань – Хабаровск, которую описал в книге «Сквозь тайгу» (1930).
Для него не было вопроса: принимать или не принимать революцию. «Революция для всех, – сказал он, - а значит и для меня». Он был инициатором создания на Дальнем Востоке первых природных заповедников. Он категорически выступал против аренды американским и японским промышленникам тихоокеанских островов. Требовал запрета аренды.
Тем не менее его неоднократно допрашивали чекисты. Позже выяснилось, что его оклеветал человек, который втёрся к нему в доверие. Клевету разоблачили, и от Арсеньева отстали.
В июле 1930 года он выехал из Владивостока в низовья Амура для инспектирования экспедиционных отрядов. 26 августа вернулся домой. Близкие обеспокоились его простудой, как он это назвал. Ночью с 3 на 4 сентября он не мог уснуть, метался в постели. Вызванный врач ничего опасного в организме не нашёл. Однако 4 сентября 1930 года Владимир Клавдиевич умер от воспаления лёгких.
Его вдову арестовали в начале 1935-го. И вот парадокс: вдову заставили написать заявление с признанием, что покойный муж был главой японской разведки в России. Он, протестовавший против сдачи японцам в аренду тихоокеанских островов, теперь был обвинён в шпионаже в пользу Японии. Так как мёртвого уже не расстреляешь, расстреляли вдову.
На столе у Арсеньева осталась незаконченная рукопись «Страна Удыге», которую он писал 27 лет. Она пропала.
* * *
Александр Фёдорович Воейков, родившийся 10 сентября 1778 года, был одноклассником Жуковского по Московскому университетскому благородному пансиону.
В 1806 году в «Вестнике Европы» заявил о себе как о литераторе, напечатав «Сатира к Сперанскому об истинном благоденстве».
В Отечественную войну с Наполеоном вступил в народное ополчение.
В 1814 году женился на Александре Андреевне Протасовой, племяннице и крёстнице Жуковского. Чтобы обеспечить её приданным, Жуковский продал своё имение, а на свадьбу подарил ей балладу «Светлана». Он исхлопотал для Воейкова место профессора Дерптского университета. Вместе с молодожёнами в Дерпт уехали мать Александры Екатерина Афанасьевна со своей младшей дочерью Машей.
Их супружеская жизнь оказалась удивительно несчастливой. По вине Воейкова, который сделал невыносимой жизнь жены, тёщи и свояченицы. В 1817 году Маша вышла замуж за Иоганна Мойера и переехала вместе с матерью к мужу.
В 1820 году Воейковы переезжают в Петербург. По рекомендации Жуковского Греч соглашается на соредакторство Воейкова в «Сыне отечества», где он стал вести отдел критики и обозрения журналов.
Жуковский предложил Воейковым поселиться вместе, и они съезжаются в доме на Невском проспекте. Их квартира стала центром литературной жизни Петербурга 1820 годов. Хозяйка салона Александра Воейкова была не только ценительницей поэзии, но и сама писала стихи. Она помогала мужу, который был редактором газеты «Русский инвалид», обрабатывать переводы и статьи. Именно по её инициативе Воейков начал издавать «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». Все восхищались умом и талантом Александры Андреевны. Своей музой её считал И. Козлов. Её воспевали Е. Баратынский и Н. Языков.
Все восхищались Воейковой, кроме мужа, который создал ей невыносимые условия для проживания.
Осенью 1837 года она на деньги Жуковского уезжает лечиться за границу. Через два года она скончалась.
А Воейков продолжал заниматься журналистикой. Его жёлчный характер приводил его к ссоре с прежними друзьями, которых он язвил эпиграммами, а порой и обливал грязью.
Настоящую известность принесла Воейкову сатира «Дом сумасшедших», начатая им ещё в 1814 году и обновлявшаяся почти до самой смерти. Сатира представляет из себя сон героя, оказавшегося в Жёлтом (то есть – сумасшедшем) доме, где он встречает всех известных ему литераторов. Никого не щадит Воейков, всех осмеивает, на всех клевещет. Как на этого – близкого ему друга, много для него сделавшего:
Вот в саван длинный Скутан, лапочки крестом, Ноги вытянувши чинно, Чёрта дразнит языком. Видеть ведьму вображает: То глазком ей подмигнёт, То кадит и отпевает, И трезвонит и ревёт.Так он и остался в литературе – автором клеветнического памфлета «Дом сумасшедших». Умер 28 июня 1839 года.
* * *
От этого поэта по существу остался один гимн со словами: «Никогда, никогда. Никогда, никогда коммунары не будут рабами». Хотя знатоки указывают на оригинал – на английский гимн, где слова по сути те же, только речь не о коммунарах, а об англичанах.
Вообще-то Василий Васильевич Князев, восторженно принявший Октябрьскую революцию, писал много частушек, фельетонов, агиток.
Ездил по фронтам Гражданской с агитвагоном Пролеткульта. Печатался в основном в «Красной газете».
Подражал Демьяну Бедному в своём «Красном Евангелии».
Тем не менее его арестовали. Несмотря на инвалидность, отправили в магаданские лагеря. Умер 10 сентября 1937 года на тюремном этапе в посёлке Атка, в 276 км от Магадана. Родился 18 января 1887 года.
Говорят, что причиной приговора послужило объяснение органам самого Князева, что он «до ареста работал над романом о смерти тов. Кирова».
Слова эти действительно нашли в деле репрессированного, а рукописи романа не нашли. Да её искать было необязательно: убийство тов. Кирова в качестве темы произведения было веским аргументом во враждебности автора.
* * *
В дневнике Александра Афиногенова за 1941 год я нашёл такую запись 5 августа: «Панфёров исключён из партии. Его посылали на фронт военкором, а он написал Сталину, ссылаясь на болезнь, на то, что он человек невоенный и т.д. Это письмо и послужило поводом для исключения. Он теперь ходит, как помешанный, не знает, что делать. Написал второе письмо Сталину. Ждёт сам не свой… Уже люди его сторонятся, уже тыкают пальцами и радуются».
Но больше нигде я об этом не прочёл. Восстановили ли Панфёрова в партии? Наверное! Иначе он не получил бы после войны две сталинских премии. А они говорят и о восстановлении сталинского доверия. Но воевал ли Панфёров?
Фёдор Иванович Панфёров был одним из руководителей РАППа. Уже в 1931 году возглавил журнал «Октябрь», главным редактором которого с перерывами был всю жизнь.
Из довоенных произведений особой известностью пользовался его четырёхтомный роман «Бруски», вокруг которого завязалась оживлённая дискуссия о языке художественного произведения.
«Бруски» критиковал, в частности, М. Горький, не принявший натуралистических сцен романа и вульгарные новообразования, которые сторонники Панфёрова пытались объявить диалектизмами.
Но в целом критика была положительной: многотомное произведение Панфёрова поднимало вопросы пересоздания крестьянина – из единоличника в колхозники, описывало несомненное преимущество колхозной жизни.
Недаром Панфёрову доверили выступить с речью на XVII съезде ВКП(б).
А в 1946 году избрали депутатом Верховного Совета СССР.
Да и сталинскую премию он получил за романы «Борьба за мир» (1948) и «В стране поверженных» (1949).
Я помню эти весьма унылые, написанные газетным языком вещи. К ним примыкает ещё «Большое искусство», которое тоже, возможно, было б отмечено сталинской премией, да Панфёров с ним опоздал: книга вышла в 1954 году.
Трилогия, кстати, особенно первая её часть много рассказывает о фронтовых буднях страны Советов в Великую Отечественную. Так был на войне Панфёров или не был?
Нашёл я ещё, что в 1941 году он написал военную повесть «Своими глазами», а в 1942-м – повесть «Рука отяжелела». Видимо, всё-таки Сталин его простил, восстановил в партии и дал возможность искупить свою вину.
Панфёров написал ещё одну трилогию «Волга – матушка река» о развитии сельского хозяйства в послевоенные годы. Написал автобиографическую повесть «Родное прошлое» (1956).
Умер 10 сентября 1960 года. Родился 2 октября 1896-го.
Я был после его смерти в посёлке Николина Гора. Мне показали красивый дом в русском стиле, где под крышей славяницей было выложено «Антоша». В честь жены Панфёрова Антонины Коптяевой, объяснили мне. Она тогда и жила в этом доме.
* * *
С именем Сергея Михайловича Третьякова, родившегося 20 июня 1892 года, у меня крепко связано название «Рычи, Китай!». Это пьеса Третьякова о борьбе китайских портовых рабочих против американских колонизаторов. На китайском материале Третьяков написал ещё роман «Ден-Ши-Хуа». Дело в том, что Сергей Михайлович в 1919-1922 годах, жил на Дальнем Востоке, участвовал там в Гражданской войне, бывал в Пекине и Харбине.
В 1922 году переехал в Москву, где на сцене ГосТиМа Мейерхольд поставил его пьесу «Рычи, Китай!».
Один из создателей группы «Леф», он редактировал журнал «Новый Леф» (после ухода Маяковского). В 1930-1931 годах он побывал в Германии, Австрии, Дании, завязал знакомства со многими деятелями культуры, в том числе и с Брехтом, которого впервые перевёл на русский язык.
В книге «Люди одного костра» (1936) рассказал о тех писателях, чьи книги сжигали нацисты, – о Б. Брехте, Ф. Вольфе, Й.Р. Бехере, Т. Пливье и о композиторе Г. Эйслере.
В 1937 году он был арестован НКВД. Расстрелян 10 сентября 1937 года.
11 СЕНТЯБРЯ
За год до смерти писатель Григорий Яковлевич Бакланов сказал по телеканалу «Культура»: «Из всех человеческих дел, которые мне известны (ни в концлагерях, ни в гетто мне быть не пришлось), война – самое ужасное и бесчеловечное дело…».
За год до смерти Бакланов подвёл итог всему, чем занимался с юности, – с 1941 года, когда семнадцатилетним (он родился 11 сентября 1923 года) добровольно ушёл на фронт. Воевал рядовым на Северо-Западном фронте, затем командиром взвода управления артиллерийской батареи на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах.
«В октябре 1943 года, когда мы брали Запорожье, – вспоминает Бакланов, - меня тяжело ранило, шесть месяцев в госпиталях, несколько операций, в итоге признан ограниченно-годным, инвалидом третьей группы, но в свой полк, в свой взвод я вернулся». И не просто вернулся. Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, которую описал потом в повести «Пядь земли». Дальше воевал в районе венгерского озера Балатон и описал эти бои в первой своей повести «Южнее главного удара». Брал Будапешт, Вену и закончил войну лейтенантом.
В 1951-м окончил Литинститут. И не отпускавшая от себя солдата война нашла своё выражение в первых же его повестях «Южнее главного удара» (1957) и «Пядь земли» (1959). Бакланов писал по собственным переживанием, но критика находила, что так писать неправильно, что картины панорамной войны не возникает, потому что писатель пишет, как бы глядя на события из окопа, показывая не грандиозную правду войны, а её «окопную правду».
Надо сказать, что манией грандиоза были охвачены не ровесники Бакланова, а бывшие штабисты, командиры, которым не пришлось повоевать на передовой. Здесь и прошла граница, которая разделила людей разного фронтового опыта, разного мировоззренческого отношения к войне.
Конечно, сознавать, что его дело правое, фронтовику необходимо. Но недаром Толстой считал любую войну – человеческой бойней. По существу к нему примыкают и художники, живописавшие окопную правду.
Им пришлось очень нелегко после войны. Сталин уже в 1944-м старался вытравить из солдат память о двух годах тяжёлых боёв – отступлений по всем фронтам, огромной потери и в людях, и в боевой технике. И добивался своего. Искусство снова было пронизано шапкозакидательскими настроениями.
Однажды Сталин спросил одного следователя, знает ли он, сколько весит государство со всеми его заводами, машинами, армией, флотом? И когда тот ответил, что речь идёт об астрономических цифрах, снова спросил, может ли человек противостоять давлению такого астрономического веса?
Бакланов – один из тех писателей, которые показали, что да, человек может противостоять такому давлению. Ведь по существу Сталин интересовался, какова цена человеческой порядочности. А что она может быть бесценной, Сталин не верил.
Бакланов в «Июле 41», напечатанном в 1964 году, поднял вопрос о личной ответственности Верховного главнокомандующего, личной его вине за чудовищные потери Красной армии в начале войны. «Июль 41» потом не издавался 12 лет.
По существу ни одна его книга о войне не обходилась без зубодробительной критики. А война не отпускала Бакланова. И он писал «Мёртвые сраму не имут», «Карпухин», «Навеки девятнадцатилетние», «Меньший среди братьев», «Свой человека», «И тогда приходят мародёры», «Мой генерал».
И везде – в каждой своей книге доказывал Бакланов, что война – это ужасное, бесчеловечное дело.
Кстати, а как расцвело «Знамя», когда его главным редактором стал Бакланов! Как быстро при нём стал журнал лидером, таким, каким некогда был «Новый мир» Твардовского.
И при этом – что лично для меня – особенно ценно – Бакланов открыто заявлял о своей гражданской позиции, не скрывал её из боязни лишиться редакторского кресла. Выступил против чеченской войны, подписал письмо сорока двух Ельцину, упрекающих президента в нерешительности в борьбе с красно-коричневыми, призывающих Ельцина стряхнуть, наконец, с себя остатки номенклатурной вельможности.
Бакланов был человеком действия. Если ему что-то не нравилось, он не копил это в себе, не уговаривал себя прикусить удила ради некой благой цели. Выдерживал давление на себя любого веса. Оставался при своём мнении всегда и везде. В том числе и во мнении об ужасности и бесчеловечности любой войны.
Скончался 23 декабря 2009 года.
* * *
Григорию Александровичу Санникову, родившемуся 11 сентября 1899 года (скончался 16 января 1969-го), повезло с сыном Данилой, крупным советским учёным, физиком, который посвятил всё своё свободное время собиранию и публикации наследия отца.
На свои деньги Данила Санников издал несколько замечательных книг, вышедших в «Прогресс-Плеяде». К примеру, книга Григория Санникова «Лирика» (2000), которая не заканчивается публикацией стихов, а продолжена материалами из архива поэта: письма А. Белого, И. Бунина, автографы С. Есенина, М. Цветаевой, документы, связанные с именами Б. Пастернака, Б. Пильняка, А. Платонова, наконец, автобиографические заметки поэта.
Или в том же издательстве в 2009 году вышла книга А. Белого и Г. Санникова «Переписка 1928 – 1933». Кроме собственно переписки здесь напечатаны письма жены Андрея Белого К.Н. Бугаевой Григорию Санникову и его жене Елене Аветовне. Вошли в книгу и документы Андрея Белого, хранящиеся в архиве Г. Санникова.
В книгу Григория Санникова «Раздумья: Стихотворения. Строки памяти» («Прогресс-Плеяда, 2005) помимо стихов входят воспоминания самых разных людей, знавших Григория Санникова. В частности, известная диссидентка внучка поэта Елена Санникова вспоминает о деде, что «…он был каким-то «несоветским». Заступался за репрессированных. Не писал хвалебных од Сталину. Совершал «антипартийные» поступки, за что получал партийные взыскания и выговоры… Выносил из редакций и сохранял в своём архиве материалы, которые, как он понимал, будут иметь со временем ценность».
А в изданной в том же издательстве в 2000 году к столетию со дня рождения Санникова его книге «Лирика» помещены фотографии из семейного архива, фотографии дарственных автографов Сергея Есенина и других поэтов.
Издал Данила Санников и книгу к столетию Павла Васильева «Ястребиное перо» Вот что он пишет в предисловии: «Мой отец поэт Григорий Санников (1899-1969) с декабря 1935 года по июнь 1937-го работал редактором отдела поэзии и ответственным секретарём журнала «Новый мир». В 1936 году Павел Васильев закончил поэму «Христолюбовские ситцы» и отнёс её в редакцию, где она уже готовилась к печати, когда 6 февраля 1937 года поэт был арестован. Санников вынес из редакции и сохранил поэму».
Он опубликовал её в 1956 году, а машинописный оригинал передал вдове поэта Елене Алексеевне Вяловой-Васильевой. Д.Г. Санников позднее разыскал в отцовском архиве и напечатал другую поэму П. Васильева – «Крестьяне».
Наконец, книга Г. Санникова «Прощание с керосиновой лампой», вышедшая в том же издательстве в 2012 году.
Практически в каждой книжке сохраняется память о жене Григория Санникова, матери Данилы – Елене Аветовне, которая так же, как Цветаева, покончила жизнь самоубийством в Елабуге в Чистопольской эвакуации.
Сын бережно донёс до нас память о родителях, всё делал, чтобы Григорий Александрович и Елена Аветовна Санниковы предстали перед нами в своём неповторимом облике.
Увы, приходится писать об этом в прошедшем времени. Даниил Григорьевич скончался 22 января 2016 года.
* * *
Это очень интересный человек. Я познакомился с ним, как с автором, когда составлял в 1989 году сборник «Пушкинист». Мне принесли статью некоего Александра Алексеевича Ванновского «Новые данные о влиянии Шекспира на Пушкина». Автор сравнивал Гамлета и Сильвио. Оба медлят с возмездием своим врагам, своим обидчикам. Точнее, Сильвио не медлит. Он, по мнению Ванновского, мстит графу прощением за обиду. Для чего?
А для того, что, «заставив своего героя мстить прощением за обиду, Пушкин, сам того не подозревая, вплотную подошёл к величайшей тайне превращения человеческого духа, к тайне происхождения заповеди о любви к врагам из заповеди «око за око», к тайне духовной эволюции Христа от иудейства к христианству, замаскированной Шекспиром в его «Гамлете».
Я напечатал эту статью. И до сих пор этому радуюсь. Потому что книг Ванновского я в России по-прежнему не вижу.
Александр Алексеевич Ванновский, родившийся 11 сентября 1874 года, был делегатом Первого учредительного съезда РСДРП от московского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». После съезда был в ссылке в Сольвычегодске. Познакомился с Б. Савинковым, Н. Бердяевым, А. Богдановым.
Участвовал в декабрьском московском восстании 1905 года. Поддерживал меньшевиков.
Но в 1912 году вышел из РСДРП, принял христианство. Как писал он сам, «через Шекспира пришёл к Христу».
В Первую мировую служил в инженерных войсках, за храбрость был награждён орденом Св. Анны 3-ей степени с мечами и бантом. Был направлен в Хабаровск.
В 1917 году был противником Ленина, писал статьи против него. Заболел нервным расстройством, уехал лечиться в Японию. И там остался навсегда.
Преподавал русскую литературу в университете Васэда (Токио). Был известен как шекспировед. Выпустил феноменальную книгу «Третий Завет и Апокалипсис. Новые данные о жизни, личности и учения Спасителя мира», где выводил Апокалипсис из Евангелия, а не наоборот, и объявлял автором Апокалипсиса не Иоанна, а Иисуса Христа.
С началом Второй мировой войны, как другие иностранные преподаватели, уволен из университета.
В середине 50-х получил предложение вернуться на Родину. Для этого он должен был написать статью о прислуживании русской эмиграции японскому милитаризму. От чего наотрез отказался. Умер в Японии 16 сентября 1967 года.
* * *
В детстве одной из моих любимых книга была «Что я видел?» Бориса Житкова, где взрослых всё время теребит своими «почему?» мальчик Алёша, прозванный «Почемучкой».
Борис Степанович Житков (родился 11 сентября 1882 года) окончил гимназию вместе с К.И. Чуковским. В будущем именно Корней Иванович привлечёт своего школьного приятеля к сотрудничеству с детскими журналами, Тем более что Житков приобретёт самые разные профессии – моряка, штурмана, капитана, преподавателя физики и черчения, а главное – неутомимого путешественника.
Он сотрудничал со многими детскими изданиями – «Ленинские искры», «Новый Робинзон», «Ёж», «Чиж», «Юный натуралист», «Пионер». Работал корреспондентом в Дании.
Писал на самые разные темы. Его горой Алёша Почемучка имел реального прототипа – мальчика Алёшу из коммунальной квартиры, где жил писатель Борис Степанович Житков.
Сам Житков считал главным своим произведением роман о революции 1905 года «Виктор Вавич». Публикация его в полном объёме стала возможной только в 1999 году, благодаря тому, что Лидия Корнеевна Чуковская сохранила экземпляр этой книги.
А к этому времени Борис Степанович давно уже умер: 19 октября 1938 года.
Роман вышел, но, увы, остался не замеченным массовым читателем.
Канет в Лету? Посмотрим.
* * *
Один из видных сотрудников журнала «Русское слово» Варфоломей Александрович Зайцев (родился 11 сентября 1842 года) в модных тогда вопросах философии разбирался плохо. Мог в споре страстно доказывать, что Шопенгауэр материалист на манер Фохте.
Спровоцировал ожесточённую полемику между «Русским словом» и «Современником», вошедшую в историю как «Раскол в нигилистах».
Разбирал произведения в духе вульгарного материализма.
В 1865 году из-за скандала с редактором ушёл из «Русского слова». В 1866-м после покушения Каракозова на Александра, как и многие нигилисты, был арестован и провёл несколько месяцев в Петропавловской крепости, которая сильно подорвала его жизненный иммунитет. После освобождения находился под надзором полиции. В 1869-м уехал за границу, где печатался в таких эмигрантских изданиях, как «Общее дело», «Колокол». Бедствовал. Жил уроками, переводами. Умер в 39 лет 20 января 1882 года.
Среди оставленных им трудов – переводы Вольтера, Дидро, Гильома.
Под редакцией Зайцева и Чернышевского переведена на русский язык «Всемирная история» Шлоссера.
* * *
Вильгельм Александрович Зоргенфрей, родившийся 11 сентября 1882 года, начал печататься со статьями с 1904 года, а со стихами – с 1905-го.
В 1906 году познакомился с А.А. Блоком, который оказал на него большое влияние. Единственный свой сборник «Страстная суббота» (1922) Зоргенфрей посвятил «благословенной памяти Александра Александровича Блока», написал о нём две статьи.
Он окончил технологический институт и, печатаясь, не прекращал работать инженером-технологом.
Много переводил. В частности перевёл стихами «Краткое известие о Московии в начале XVII века» голландского купца и дипломата Иссака Массы.
Вот – небольшой отрывок: характеристика Ивана Грозного:
Казань и Астрахань и прочих царств немало, могучий, покорил ты силою меча. Поистине, тебе не мудрость пособляла - ты был позорищем господнего бича, был василиском – так молва тебя прозвала, затем, что мир не знал такого палача.Переводил Зоргенфрей С. Цвейга, Т. Манна, Г. Гейне, Г. фон Клейста, поэму «Сид» И. Гердера.
Его арестовали и расстреляли 21 сентября 1938 года. Убили очень хорошего поэта:
Вот и всё. Конец венчает дело. А казалось, делу нет конца. Так покойно, холодно и смело Выраженье мёртвого лица. Смерть ещё раз празднует победу Надо всей вселенной – надо мной. Слишком рано. Я её объеду На последней, мёртвой, на кривой. А пока что, в колеснице тряской К Митрофанью скромно путь держу. Колкий гроб окрашен жёлтой краской, Кучер злобно дёргает вожжу. Шаткий конь брыкается и скачет, И скользит, разбрасывая грязь, А жена идёт и горько плачет, За венок фарфоровый держась. – Вот и верь, как говорится, дружбе: Не могли в последний раз прийти! Говорят, что заняты на службе, Что трамваи ходят до шести. Дорогой мой, милый мой, хороший, Я с тобой, не бойся, я иду… Господи, опять текут калоши, Простужусь, и так совсем в бреду! Господи, верни его, родного! Ненаглядный, добрый, умный, встань! Третий час на Думе. Значит, снова Пропустила очередь на ткань. - А уж даль светла и необъятна, И слова людские далеки, И слились разрозненные пятна, И смешались скрипы и гудки. Там, внизу, трясётся колесница И, свершая скучный долг земной, Дремлет смерть, обманутый возница, С опустевшим гробом за спиной.* * *
Человек трагической судьбы, написавший в стихотворении «Четыре нации» о русской: «В России чтут / Царя и кнут; / В ней царь с кнутом, / Как поп с крестом: / Он им живёт, / И ест и пьёт / А р[уссаки], / Как дураки, / Разиня рот / На весь народ / Кричат: «Ура! / Нас бить пора! Мы любим кнут!…»
Александр Иванович Полежаев родился 11 сентября 1804 года. В 1825 году написал пародическое подражание «Евгению Онегину» поэму «Сашка», высмеивающую университетские нравы.
Считается, что об этой поэме новому императору Николаю донёс Иван Петрович Бибиков, который был дружен с Бенкендорфом. Николай пришёл в ярость. Полежаева привезли ночью к царю, который заставил поэта читать «Сашку» вслух при министре народного просвещения. По приказу царя Полежаева отдают унтер-офицером в Бутырский пехотный полк.
Прощаясь, царь сказал, что будет следить за поэтом, и попросил его писать ему лично о своих проблемах. Полежаев воспользовался царской милостью, но его письма к Николаю оставались без ответа. Решив, что их не доставляют, он самовольно оставляет полк, чтобы пройти в Петербург к царю. За это войсковое начальство его отдаёт под суд, который разжаловал Полежаева до рядового.
Снова унтер-офицером Полежаев стал в 1831-м, провоевав на Кавказской войне – в Чечне и Дагестане.
В 1934 году Полежаев вновь встречается с И.П. Бибиковым, ставшим генералом. Александр Иванович влюбляется в его шестнадцатилетнюю дочь Екатерину. Бибиков обращается к царю с просьбой простить опального поэта. Николай непреклонен.
16 июля 1937 года начальство представило Полежаева в офицеры. Представление было подтверждено, но Полежаеву офицерское звание ничего не дало: в сентябре 1837 он был помещён в Лефортовский госпиталь, где через четыре месяца – 28 января 1838 года – скончался.
Его лучший портрет написан шестнадцатилетней Екатериной Бибиковой, которая впоследствии писала о поэте, что он «не был хорош собой. Роста он был не высокого, черты лица его были неправильны; но вся наружность его, с виду некрасивая, могла в одно мгновение осветиться, преобразиться от одного взгляда его чудных, искромётных, больших чёрных глаз».
Он написал много стихов. Лучшие из них остались в поэзии. Как «Грешница» («Из VIII главы Иоанна):
И говорят ему: «Она Была в грехе уличена На самом месте преступленья. А по закону мы её Должны казнить без сожаленья: Скажи нам мнение своё!» И на лукавое воззванье Храня глубокое молчанье, Он нечто – грустен и уныл - Перстом божественным чертил! И наконец сказал народу: «Даю вам полную свободу Исполнить древний ваш закон; Но где тот праведник, где он, Который первый на блудницу Поднимет тяжкую десницу?» И вновь писал он на земле… Тогда, с печатью поношенья На обесславленном челе, Сокрылись дети ухищренья, И пред лицом его одна Стояла грешная жена! И он, с улыбкой благотворной, Сказал: «Покинь твою боязнь! Где обвинитель твой упорный? Кто осудил тебя на казнь?» Она в ответ: «Никто, учитель!» - «Итак, и я твоей души Не осужу, – сказал Спаситель, - Иди в свой дом и не греши!»* * *
Эту пародию Александра Архангельского я помню с детства. Она называется «Сморкание»:
Ныне, о муза, воспой иерея – отца Ипполита, Поп знаменитый зело, первый в деревне сморкач. Утром, восставши от сна, попадью на перине покинув, На образа помолясь, выйдет сморкаться на двор. Правую руку подняв, растопыривши веером пальцы, Нос волосатый зажмёт, голову набок склонив, Левою свистнет ноздрёй, а затем, пропустивши цезуру, Правой ноздрёю свистит, левую руку подняв. Далее под носом он указательным пальцем проводит. Эх, до чего ж хорошо! Так и сморкался б весь день. Закукарекал петух, завизжали в грязи поросята, Бык заревел, и в гробу перевернулся Гомер.Пародия высмеивает стихи деревенского поэта Павла Александровича Радимова, который на самом деле сельскую новь пытался уложить в классические гекзаметры:
Всякая дрянь напихалася за день в большую лоханку: Тут кожура огурцов, корки, заплесневший хлеб; В жёлтых помоях из щей, образуемых с мыльной водою, Плавает корнем наверх вялый обмусленный лук; Рядом лежит скорлупа и ошмётки от старой подошвы, Сильно намокнув в воде, медленно идут ко дну. Всклянь налилася лоханка, пора выносить поросятам, - В тёмном они котухе подняли жалобный визг. Старая бабка Аксинья, в подтыканной кверху понёве, Взявши за ушки лохань и, поднатужась, несёт. Вылила вкусное пойло она поросятам в корыто. Чавкают, грузно сопят, к бабе хвосты обратив.Павел Александрович родился 11 сентября 1887 года. Он был не только поэтом, но и художником. Поначалу даже Гумилёву понравились его стихи. Первая его книжка «Полевые псалмы» (1912) вызвала немало сочувственных откликов. Но уже вторая «Земная риза» разочаровала многих. И особенно начали издеваться над стихами Радимова, когда в 1914 году вышла книга его гекзаметров «Попиада».
До 1936 года отношения поэта с властью были отличные. Стихи хвалили. Радимов был дружен с Луначарским, Ворошиловым, Будённым. Ездил с делегацией художников в Финляндию к Репину. Портрет Репина работы Радимова хранится в Третьяковской галерее.
Но после решения проблемы крестьянина на государственном уровне Радимов попал под кампанию раскулачивания крестьянских поэтов.
Однако быстро переключился на описательные пейзажные стихи с элементами советской символики (красный флаг, другие символы советской власти). Одновременно писал социалистическую новь в своих картинах.
Это спасло его от ареста. Умер своей смертью 12 февраля 1967 года.
* * *
Алексей Яковлевич Каплер был очень известным сценаристом. «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» – за оба сценария сталинская премия 1 степени, «Котовский», «Она защищает Родину». А после смерти Сталина: «За витриной универмага», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия».
Но известен Каплер был не только своими сценариями. Известен был романом с дочкой Сталина Светланой.
Сталин яростно отреагировал на их роман. В 1943 году Каплер был арестован, обвинён в шпионаже и выслан на пять лет в Воркуту, где работал фотографом. В 1948 освободился и вопреки запрету приехал в Москву. За что снова был арестован и отправлен в лагерь в Инту (Коми АССР). Освобождён и реабилитирован в 1954-м.
Каплер был несколько раз женат. Последний раз на поэтессе Юлии Друниной. Я их обоих помню. Это была красивая пара. Каплера узнавали повсюду: он по телевидению вёл «Кинопонараму». Они предпочитали не ходить в клубные рестораны писателей, кинематографистов и журналистов. Но вот однажды я сидел в ресторане «Спутник», на Ленинском проспекте. Вдруг всеобщее оживление: официанты срываются с места, публика смотрит в одну и ту же сторону: да, пришли и сели Друнина с Каплером. Оба приветливы, улыбаются, раскланиваются с теми, кто им кивает. Не знаю, доставляла ли им радость такое узнавание. По-моему, ощущать себя в обычной жизни чуть ли не на сцене тяжело.
Алексей Яковлевич скончался 11 сентября 1979 года. Родился 11 октября 1904-го.
12 СЕНТЯБРЯ
Станислав Лем (родился 12 сентября 1921 года) в рекомендации не нуждается. Это один из самых известных писателей-фантастов мира!
Наверное, он держит пальму первенства и по числу экранизаций его вещей. Я насчитал около 30 фильмов. Причём тот же «Солярис» снял не только Андрей Тарковский в 1972-м. Через тридцать лет – в 2002-м его снял американец Стивен Содерберг.
Я люблю его максимы. Он в них нисколько не уступает мастерам этого жанра. Даже такому, как его соплеменник Станислав Лец. Вот максимы Лема:
«Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы способны его себе вообразить» – точно! «Люди не хотят жить вечно. Люди просто не хотят умирать» – пожалуй! «Больше всего может дать тот, кто всё потерял» – напоминает евангельскую притчу о вдове с её лептой. «Аргументы разума бессильны перед господствующей моралью» – точно! «Глупость – движущая сила истории» – пожалуй, ибо втягивает тебя в спор. И наконец: «Суть старости в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться» – как это верно, увы!
Умер писатель 27 марта 2006 года.
* * *
Сергея Николаевича Маркова, родившегося 12 сентября 1906 года, как поэта знают меньше, чем Алексея Маркова. Хотя Сергей Николаевич и серьёзней и даровитей. А проза Сергея Маркова, посвящённая в основном сибирским первопроходцам, вообще хороша сама по себе.
Марков – самоучка. Он овладел историей, этнографией, географией. Занимался русскими людьми, вступившими на землю Аляски, или добравшимися до Северной Африки. Его поэзия, как и его проза, очень точна по выражению мысли.
Вот как он в 1943 году написал об Иване Сусанине:
Поёт синеволосая зима Под окнами сусанинской светлицы… Приснились – золотая Кострома, Колокола Ипатьевской звонницы. Трещат лучины ровные пучки, Стучит о кровлю мёрзлая берёза. Всю ночь звенят запечные сверчки, И лопаются брёвна от мороза. А на полу под ворохом овчин Кричат во сне похмельные гусары - И ляхи, и оборванный немчин, И чёрные усатые мадьяры. «Добро… Пойдём… Я знаю верный путь». Сусанин будит толстого немчина… И скоро кровью обольётся грудь, И скоро жизнь погаснет, как лучина. «Прощайте, избы, мёрзлые луга, И тёмный пруд в серебряной оправе… Сколь радостно идти через снега Навстречу смерти, подвигу и славе…» Блестят пищалей длинные стволы, А впереди, раскинувшись, как полог, Дыханьем снега, ветра и смолы Гостей встречает необъятный волок. Сверкает ледяная бахрома. Сусанин смотрит зоркими глазами На полдень, где укрылась Кострома За древними брусничными лесами. И верная союзница – метель По соснам вдруг ударила с размаху. «Скорей стели мне свежую постель, Не зря надел я смертную рубаху…» И почему-то вспомнил тут старик Свой тёплый кров… «Оборони, владыко: Вчера забыл на лавке кочедык И золотое липовое лыко. И кочедык для озорных затей Утащат неразумные ребята. Ленился, грешник, не доплёл лаптей, Не сколотил дубового ушата…» Остановились ляхи и немчин… Нет ни бахвальства, ни спесивой власти, Когда глядят из-под людских личин Звериные затравленные пасти. И вздрогнул лес, и засветился снег, Далёким звоном огласились дали, И завершился стариковский век Причастьем крови и туманной стали. …Страна могуча, и народ велик, И для народа лучшей нет награды, Когда безвестный костромской мужик Бессмертен, как предания Эллады. Его душа – в морях спокойных нив, В простой красе природы полудикой, Где Судиславль и тихий Кологрив, Где дышит утро мёдом и брусникой. Горжусь, что золотая Кострома И у моей звенела колыбели, В просторах, где лесные терема Встают навстречу солнцу и метели.Умер Сергей Николаевич 4 апреля 1979 года.
* * *
Пётр Александрович Плетнёв (родился 12 сентября 1791 года) был довольно в близких отношениях с Пушкиным, который ему доверял и поверял некоторые тайны.
Вместе с Дельвигом Плетнёв с 1824 года выпускал альманах «Северные цветы». Вместе с Пушкиным выпустил этот альманах 1832 года, посвящённый памяти Дельвига. Плетнёв много помогал Пушкину и тем, что был одним из первых слушателей или из первых читателей пушкинских новинок. Мнением Плетнёва Пушкин дорожил.
И понятно. Литературная критика Плетнёва выражала теоретические воззрения пушкинского круга.
Плетнёв в первых же своих статьях выступил против псевдоклассицизма с его стремлением создавать поэтов искусственно путём риторики и пиитики. Кроме того, именно поэты пушкинского круга вырабатывали определённые формы поэзии и языка. Иными словами, Плетнёв в своей критике поддерживал и пропагандировал устремления поэтов пушкинской плеяды.
Надо отметить широту литературных вкусов Плетнёва. Уже после смерти Пушкина Плетнёв сохранял объективность, следил за успехами литературы, признавал права новых литературных форм и течений, если чувствовал в них литературный талант. Так он сумел понять Гоголя, написав одну из лучших статей о «Мёртвых душах». Так он приветствовал восходящих Тургенева, Достоевского, Писемского, А.Н. Островского, Плещеева, А. Майкова, Полонского.
Тургенев оставил о нём воспоминания, напечатав в «Русском архиве» в 1869 году очерк «Литературный вечер у Плетнёва».
Я ничего здесь не сказал о поэтическом даре Плетнёва. А ведь и он писал стихи, которые одобряли его великие друзья. Был он скромен. И в доказательство этому стихи, которые Плетнёв назвал «Безвестность»:
За днём сбывая день в неведомом углу, Люблю моей судьбы хранительную мглу. Заброшенная жизнь, по воле провиденья, Оплотом стала мне от бурного волненья. Не праздно погубя беспечность и досуг, Я вымерял уму законный действий круг: Он тесен и закрыт; но в нём без искушенья Кладу любимые мои запечатленья. Лампада тёмная в безмолвии ночей Так изливает свет чуть видимых лучей, Но в недре тишины спокойно догорает И тёмный свой предел до утра освещает.Скончался Пётр Александрович 10 января 1866 года.
* * *
Помню наш разговор с Володей Максимовым, который готовился выехать на Запад и напечатал там, кажется, «Семь дней творенья». «Княгиня Шаховская, – сказал он мне, – написала, что роман заслуживает Нобеля. Так что перспективы у меня там неплохие».
Сейчас, посмотрев на дату рождения Зинаиды Алексеевны Шаховской, – 12 сентября 1906 года, я подумал о неугасающем интересе Шаховской к новой литературе. Всё-таки ей было тогда под семьдесят, а в этом возрасте человек обычно с трудом воспринимает новизну.
В 1975 году она выпустила мемуарную книгу «Отражения», где вспоминала прежних друзей: Ходасевича, Бунина. Цветаеву, Адамовича, Замятина, Ремизова, Дон-Аминадо, Георгия Иванова, Вячеслава Иванова.
А после прожила ещё 26 лет (умерла 11 июня 2001 года), приветствуя третью волну эмиграции, дожив до распада коммунистической империи России. Она должна была быть удовлетворена: ведь для подобного распада она и работала, не жалея себя, главным редактором «Русской мысли» (1968-1978), в русской секции французского радио и телевидения.
К её столетию в России вышла книга «Таков мой век». Хорошие, умные слова Шаховской выбрали редакторы для предисловия:
«В постоянных исканиях, страдая от мучительного несоответствия между тем, что я есть, и тем, кем хотела бы стать, а также от других – самых главных, сформировавших меня противоречий между моей необузданной пылкостью, чрезмерной гордостью, глубоким презрением ко всему, что его заслуживает, и желанием остаться праведной, смиренной по отношению к Богу, перед которым я слишком часто бываю грешна, мне суждено прожить свой век. Но разве не следует жить с самой собой так же, как и с другими, со всем миром: мошками, дождём, солнцем, змеями, птицами, праведниками и грешниками, – теми, кто нас предаёт и кто нам верен, между тем, что мы покидаем, и тем, к чему стремимся, между землёй и небом? Писатель не может себе позволить не запечатлеть мимолётные оттенки пейзажа, называемого жизнью».
* * *
Николая Фёдоровича Сумцова я хорошо знаю по книге «А.С. Пушкин», изданной в Харькове в 1900 году. Монография полезная для любого, кто её прочитает. Мешает, конечно, некая наукообразность книги. Но тут уж ничего не поделаешь: Николай Фёдорович был именно учёным. Преимущественно фольклористом.
Некогда, в 1947 году в официальном заключении на книгу «Украинская культура» под редакцией К. Гуслистого, С. Маслова, М. Рыльского Николай Сумцов вместе с многими деятелями украинской культуры был наречён «буржуазным деятелем украинской культуры с националистическими, антинаучными взглядами». Понятно, почему. Время было такое, когда в литературе и культуре любого (кроме русского) народа СССР обязательно искали буржуазных националистов.
Что Сумцов не был буржуазным националистом, говорят его работы. Их много. Посвящены они и князю В.Ф. Одоевскому, и свадебным обрядам, «по преимуществу русским», и обрядовым песням, и влиянию малорусской схоластической литературы XVII века на великорусскую раскольничью XVIII века, и истории Слободского казачьего войска, уничтоженного Екатериной II.
Да, Сумцов много сделал для изучения украинской литературы. Его этнографические исследования и сборники представляют огромную научную ценность. Но он был не только фольклористом. И не только этнографом. Он ещё автор монографий «Леонардо да Винчи», «Культурные переживания».
Он дожил до советской власти. Но никак себя при ней не проявил.
Умер 12 сентября 1922 года. Родился 18 апреля 1854-го.
13 СЕНТЯБРЯ
Пётр Михайлович Бицилли родился 13 сентября 1879 года. Закончил Новороссийский университет в Одессе, выдержал там магистерский экзамен (1910). А в 1912-м в Петербургском университете защитил диссертацию по итальянской культуре XIII века.
Уже до революции приобрёл известность своими трудами «Западное влияние на Руси и начальная летопись», «Падение Римской империи», «Элементы средневековой культуры». В 1918 году Саратовский университет предложил ему работу профессора. Но поработать там Бицилли не удалось. Большевистски настроенные преподаватели не пропустили Бицилли. И в 1920 году он уезжает в эмиграцию.
Сперва он поселился в Сербии, преподавал в университете города Скопле. Потом переехал в Болгарию. Там 33 года возглавлял в Софийском университете кафедру новой истории Западной Европы.
В 1944 году он становится советским подданным. Но кафедра в Софийском университете за ним пока остаётся. В 1948 году его увольняют без права пенсии. Умер Бицилли 25 августа 1953 года и похоронен в Софии.
Бицилли считается одним из крупнейших литературоведов и историков культуры своего времени. Написал он очень много. Только одних литературоведческих работ у него немало. Причём на самую разную тематику. Тут и «Этюды о русской поэзии» (1926), и «Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого» (1929), и «Путешествие в Арзрум» (1937), и «Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа» (1942), и «Пушкин и чистая поэзия» (1945), и «К вопросу о внутренней форме романов Достоевского» (1946), и «Проблема человека у Гоголя» (1948).
Обратите внимание на последнюю дату: в 1948 его увольняют из софийского университета, а он именно в Софии печатает эту одну из последних своих работ.
Вернув Бицилли гражданство, советские власти помнили о его многолетней эмиграции. Поэтому позаботились о том, чтобы он умер мало кому известным учёным. На всём протяжении времени – от возвращения Бицилли в СССР и до распада СССР – его не печатали.
* * *
Любопытно прочитать в Википедии о том, что через викуловский «Наш современник» прошёл Солженицын.
Неужели Сергей Васильевич Викулов, рождённый 13 сентября 1922 года, был так же храбр, как Александр Трифонович Твардовский? Неужели он, как и Твардовский, сражался за Солженицына с советской властью? Нет, конечно. Вероятно, авторы Википедии имеют в виду, что после официального разрешения печатать Солженицына «Наш современник» опубликовал в перестройку один из Узлов «Красного Колеса». Но к гражданской храбрости Викулова это отношения не имеет.
Фронтовик, поэт из Вологды, он был переведён в Москву в 1968 году и назначен главным редактором «Нашего современника». За двадцать лет его редакторства поменялась не одна редколлегия, сменилась масса замов главного и ответственных секретарей. И если бы речь шла о литераторах одного направления. Так нет. Поначалу и Юрий Нагибин был в редколлегии, и Владимир Пальчиков ответственным секретарём.
О чём это говорит? О том, конечно, что на Сергея Викулова влияли уважаемые им люди. Типа Анатолия Софронова или Петра Проскурина. Они постепенно и привели «Наш современник» в свой фарватер.
Разумеется, как главный редактор Викулов был избран в правление не только республиканского, но и большого Союза писателей, получил республиканскую премию за книгу стихов. Но это уже обязательный бонус для номенклатурной должности. Принимать всерьёз такие вещи не стоит.
Умер 1 июля 2006 года.
* * *
Удивительно бездарный писатель. Пришёл в литературу, поработав прежде корреспондентом «Красной звезды». Был назначен сначала замом главного редактора журнала «Москва», потом замом главного в «Октябрь. Потом стал секретарём московской писательской организации СП СССР, возглавлял Высшие литературные курсы при Литинституте. Наконец, был избран секретарём Союза писателей СССР и председателем правления Литфонда РСФСР.
Николай Андреевич Горбачёв родился 13 сентября 1923 года. Написал три романа, две повести. За один роман – госпремия РСФСР (положена по должности). Читать и его и остальные вещи Горбачёва скучно.
* * *
Альберт Анатольевич Лиханов, родившийся 13 сентября 1935 года, имеет столько наград и званий, что дух захватывает. Он – академик РАО, почётный профессор Вятского государственного педагогического университета (1995), почётный профессор Белгородского государственного университета (2001), почётный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (2007), почётный доктор Тюменского государственного университета (2006), почётный доктор Японского университета «Сока», Токио (2008), почётный профессор Московского государственного педагогического института (2008), почётный доктор Уральского государственного университета (2009).
Кстати, чтобы покончить с «почётным»: почётный гражданин города Кирова и почётный гражданин Кировской области.
В Кирове он был главным редактором газеты «Комсомольское племя», с чего и началась его номенклатурная карьера.
В Москву его перевели на должность ответственного секретаря журнала «Смена», а потом он этот журнал возглавлял больше 13-и лет.
Одновременно был секретарём московской писательской организации СП СССР, членом Правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).
Ну, а дальше ещё ослепительней: Председатель советского детского фонда имени Ленина, получивший в своё распоряжение газету «Семья». А с развалом СССР этот фонд преобразован в Международную ассоциацию детских фондов и учреждён Российский детский фонд. Оба фонда доверили возглавить Лиханову.
Дальше цитирую Википедию:
«Также Лиханов учредил и возглавил Научно-исследовательский институт детства, создал литературный клуб «Молодость» для начинающих авторов, создал издательство «Дом», журналы «Мы» для подростков и «Трамвай» для малышей, а впоследствии – журналы «Путеводная звезда. Школьное чтение», «Божий мир», «Дитя человеческое», «Зарубежный роман». Открыл издательский, образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность». По его инициативе в Подмосковье создан реабилитационный детский центр Международной Ассоциации детских фондов. В Белгородской области существует детский дом в райцентре Ровеньки, построенный с финансовым участием Российского детского фонда и также получивший его имя. В Кирове есть библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова. Детская библиотека имени Альберта Лиханова работает в городе Шахты Ростовской области, а Белгородской областной детской библиотеке присвоен статус «Библиотека А. А. Лиханова».
Впечатляет, правда!
А в 2013 году, как сообщает Интернет, в Башкирии «маленькая делегация Российского детского фонда, писатели Альберт Анатольевич Лиханов и Дмитрий Альбертович Лиханов приняли участие в выездном Пленуме Правления Союза писателей России, проходившим под председательством руководителя Союза, писателя, доктора исторических наук В.Н.Ганичева […] На Пленуме выступил А.А. Лиханов, являющийся также сопредседателем Союза писателей России. Он посвятил свою речь проблемам субкультуры для подрастающих поколений, её кризису и перемене духовных целей, которые переводят молодых людей на нижние ступени развития».
Вы поняли, о чём речь? Во-первых, о том, что подрос ещё один Лиханов, тоже ставший писателем. Во-вторых, наш первый Лиханов является ещё и сопредседателем Союза писателей России. Кстати, он член редколлегии журнала «Наш современник».
Отвлечёмся на минуту на Дмитрия Альбертовича. Он работал в газете «Совершенно секретно». Написал книгу. В 1994 году основал собственную компанию «Карл Гиберт медиа», которой принадлежит несколько Интернет-проектов и журналов, в том числе популярное издание для родителей «Няня».
Ну, и снова к Альберту Анатольевичу. За всеми перечислениями его должностей мы и забыли ещё об одной: он – писатель. Причём невероятно востребованный. Снова сошлёмся на Википедию:
«Его произведения опубликованы в России 30-миллионным тиражом. В 2000 году издательство «Терра» выпустило Собрание сочинений в 6 томах. В 2005 году вышла «Библиотека «Люби и помни» в 20 книгах. А в 2010 году «Терра» издаёт новое издание – собрание сочинений в 7 томах. В этом же, 2010 году, издательский, образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность» выпустил собрание сочинений для детей и юношества Альберта Лиханова в 15 томах с цветными иллюстрациями и крупным шрифтом. В Белгородской области (с 2000 года) и в Кировской области (с 2001 года) проводятся ежегодные лихановские общественно-литературные и литературно-педагогические чтения, в которых принимает участие множество детей, родители, педагоги, творческая интеллигенция, общественность. В Кировской области учреждена премия имени Альберта Лиханова для библиотекарей школьных, детских и сельских библиотек. Для учителей начальной школы он учредил премию имени своей первой учительницы А. Н. Тепляшиной, учившей его в годы войны и удостоенной двух орденов Ленина. По инициативе писателя ей установлена мемориальная доска. За границей России на 34 языках выпущено 106 книг писателя».
106 книг на 34 языках. И это при жизни! Снилось ли такое нашим классикам?
* * *
Академик Павел Никитич Сакулин, родившийся 13 сентября 1868 года, был последним председателем Общества любителей российской словесности, которое власти распустили в 1930 году.
Наиболее известные его книги: «Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский» в двух частях (1913), «История новой русской литературы: Эпоха классицизма» (1918), «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса» (1920), «К вопросу о построении поэтики» (1923), «Наука о литературе. Её итоги и перспективы. Социологический метод в литературоведении» (1925), «Русская литература. Социологический обзор литературных стилей» в двух частях (1928, 1929), «Проблема творческой истории» (1930).
Добавлю к этому, что в 1930-м Павел Никитич возглавил Институт русской литературы (Пушкинский дом) и нередко председательствовал на обсуждениях, которые проводили отделы института. Читать стенограммы, опубликованные, например, во «Временнике Пушкинской комиссии», очень интересно. Увы, в том же 1930-м 7 сентября Павел Никитич скончался.
14 СЕНТЯБРЯ
Юрий Павлович Иваск (родился 14 сентября 1907 года, умер 13 февраля 1986-го), эстонец по отцу, даже жил в Эстонии, но по языку, по духу впитанной литературы считал себя русским.
Окончил юридический факультет Тартуского университета в 1932 году, то есть до оккупации Эстонии Советами.
Когда немцы вошли в Эстонию, Иваск был мобилизован в Эстонский легион, но не воевал ни дня из-за болезни лёгких.
В 1944-м перед советским наступлением бежал в Германию, изучал философию и славистику в 1946-1949 годах в Гамбурге.
В 1949-м переехал в США. Защитил диссертацию «Вяземский как литературный критик» в Гарвардском университете. В дальнейшем преподавал в разных американских университетах. С 1930 года Иваск встречался или переписывался с такими поэтами, как Г. Адамович, З. Гиппиус, Д. Мережковский, М. Цветаева. Публиковался в журналах и альманахах «Путь», «Числа», «Современные записки».
Первую книгу стихов выпустил в 1938 году.
В американских стихах Иваска усиливается элемент стиховой игры. Сам Иваск называл свою манеру «необарокко». А предшественником своим Иваск считал Державина. Хотя я здесь с ним согласиться не могу. Это Мандельштам мог считать своим предшественником Державина, а Цветаева называть Мандельштама «молодым Державиным». Собственно державинского в поэзии Иваска не так уж и много.
Он составил антологию поэтов первой и второй волн эмиграции «На Западе» (1953), подготовил к публикации книги Г. Федотова, В. Розанова. Издал монографию о Константине Леонтьеве.
Но главным его делом была поэзия. Стихи он писал всю жизнь. И очень недурные стихи:
И в ноябре они бывают, Бывают солнечные дни; Сияют краткие они, Но горькой правды не скрывают. И поздней осени жилище Ещё пустынней и грустней; И ты, душа, ещё бедней, Чем это бедное кладбище. И всё же солнечным сияньем, Скупою славой неземной Земля гордится, а больной Мирится с болью и страданьем.* * *
Сергей Александрович Обрадович родился 14 сентября 1892 года в семье обрусевшего серба. С 1912 года начал посещать лекции в народном университете имени Шанявского. Увлёкся социалистическими идеями. В Первую мировую солдаты избрали Обрадовича председателем полкового комитета, настроенного по-большевистски. После демобилизации Обрадович вступил в Пролеткульт. Однако постепенно обнажились разногласия поэта с руководителями Пролеткульта, которые представляли в своём творчестве революцию в отвлечённом, неконкретном виде. В 1920 году В. Александровский, Г. Санников, В. Казин, С. Обрадович и некоторые другие поэты выступили с заявлением о разрыве с Пролеткультом и об организации новой литературной группы «Кузницы».
В отличие от многих поэтов этой группы Обрадович не зацикливался на так называемой теме труда. Его стихи этого периода не чужды картинам природы: «Спозаранок хворостинкой / Льдинки крошим второпях, / Чтоб осколком солнце тинькало / В голубеющих камнях. / Иль, шумя асфальтом звонким,/ Воробьиною гурьбой / Вьёмся с ветром вперегонки / За смеющейся струёй». Эти «вперегонки» говорят, конечно, о не вполне грамотном письме, но Обрадович учился, набирался сил и знаний.
Об учёбе писал Обрадовичу и следивший за его поэзией Горький: «…поэт Вы хороший, настоящий, и уверен в дальнейшем Вашем росте. Не уставайте учиться».
На приход Гитлера к власти Обрадович откликнулся почти сразу: «Ласточка бьётся на льдине. Весна, / Шатаясь, бредёт по Германии. / Без песен бродяжничает она / И без гроша в кармане. / Диктатор полуночи встал над страной. / Ручьи молчаливы и тусклы. / Ведёт безработных в лагерь конвой. / Изглоданы голодом мускулы». Во время войны он не был по нездоровью на фронте, но писал стихи, так сказать, приближающие победу, нисколько не сомневаясь в ней.
Обрадович оставил большое количество переводов поэтов народов СССР. С некоторыми из них именно он первым познакомил русского читателя.
И всё же преувеличивать не станем. Сергей Александрович был поэтом очень некрупного калибра. Перечитывать его не тянет. Скончался 25 октября 1956 года.
* * *
Семён Афанасьевич Венгеров писал работы, искавшие в русской литературе «тоску по подвигу», «жажду самопожертвования». По Венгерову для русского писателя характерен беззаветный героизм, отказ от классовых привилегий.
Такие взгляды на русскую литературы были характерны для разночинцев, каким и был Венгеров как историк литературы.
Но, конечно, не этим остаётся Венгеров в русском литературоведении. Он мастер тонкого психологического портрета, воссозданного в работах о Дружинине, Аксаковых, Белинском, Гоголе, Писемском, Гончарове.
Кроме того, из знаменитого семинария Венгерова вышли такие учёные, как С. Бонди, В. Жирмунский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Ю. Оксман. Вместе со своими учениками он начал составление поэтического языка Пушкина и опубликовал ряд работ о поэте (сборники «Пушкинист», 1914-1918).
Венгеров начал выпуск 25-томного издания «Русские книги. С биографическими данными об авторах и переводчиках (1708-1893)». Из-за недостатка финансирования издание было прекращено после третьего тома. В 1900-1917-м Венгеров выпускал «Источники словаря русских писателей». Вышло 4 тома, содержащие краткие биографии и обширные библиографические данные.
В 1901 году Венгеров стал редактором «Библиотеки великих писателей», издаваемой Брокгаузом и Ефроном. Пушкин, Шекспир, Шиллер, Байрон, Мольер вышли в этой библиотеке откомментированные Венгеровым. Под его руководством выходило Полное собрание сочинений Белинского (Венгеров успел издать 11 томов). А если к этому прибавить более ста статей для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, написанных Венгеровым, то мы получим пусть и неполное, но убедительное представление об этом подвижнике русской литературы.
Он умер 14 сентября 1920 года. Родился 17 апреля 1855 года.
* * *
Соседка Пушкина по имениям. Тригорское, где жила Анна Николаевна Вульф, соседствует с имением Пушкина – Михайловским.
Пушкин был дружен со всем семейством Вульфов – братом Анны, её сёстрами. Дружил он и с их матерью Прасковьей Александровной Осиповой.
С Анной Вульф Пушкин был ровесником. Поэтому, написав в 1825 году ей стихотворение, проявил, быть может, и не желая того, некоторую жестокость: в то время 26 лет для девушки были опасны: она выходила в старые девы:
Я был свидетелем златой твоей весны; Тогда напрасен ум, искусства не нужны И самой красоте семнадцать лет замена. Но время протекло, настала перемена, Ты приближаешься к сомнительной поре, Как меньше женихов толпятся на дворе, И тише звук похвал твой слух обворожает, А зеркало смелей грозит и упрекает. Что делать… утешься и смирись, От милых прежних прав заране откажись, Ищи других побед – успехи пред тобою, Я счастия тебе желаю всей душою, …. а опытов моих, Мой дидактический, благоразумный стих.Увы, стихи эти, писанные, как видим, наспех в альбом Анны Николаевны, оказались пророческими: Анна Вульф так и осталась старой девой.
Умерла она 14 сентября 1857 года. Родилась 22 декабря 1799-го.
* * *
О романе Василия Гроссмана «Степан Кольчугин» нет единого мнения: выдвигался или нет он на сталинскую премию. В официальных списках он не значится. Но это (простите за каламбур) ничего не значило: были случаи, когда произведения добавлялись в претенденты на премию в последнюю минуту.
Так или иначе, но сталинской премии Гроссман не получил.
Может быть, и правильно, если учесть, какой силы он создал произведение. Уже «За правое дело» говорило о толстовской традиции в описании военной эпопеи. А в том, что этот роман – начало эпопеи сомнений не было.
Даже в разгромной, заушательской статье Михаила Бубеннова, появившейся в феврале 1953-го за месяц до смерти инспирировавшего статью Сталина, была, так сказать, ложка дёгтя в бочке зубодробительного мёда: Бубеннов не оспаривал жанра. А Фадеев и другие вожди Союза писателей после смерти Сталина с облегчением отреклись от поддержки статьи Бубеннова. Роман в 1956-м был издан без цензурных купюр.
Но вторая часть эпопеи, которую Гроссман назвал «Жизнь и судьба» была далеко не так счастлива. Писатель отдал её в журнал «Знамя». Там была срочно созвана редколлегия, где книгу Гроссмана объявили не только идейно-порочной, но опасной. Редколлегия обратилась к ЦК КПСС с просьбой воспрепятствовать тому, чтобы рукопись романа попала во вражеские руки. К Гроссману нагрянули сотрудники госбезопасности. Изъяли все копии не только романа, но и копировальной бумаги у машинистки.
Суслов, встречи с которым Гроссман добился, сказал, что подобный роман можно будет напечатать только через двести лет.
Но он ошибся.
Конечно, Суслов не знал, что существуют экземпляры, до которых не добралась госбезопасность. Их Гроссман отдал на хранение друзьям. С одного из них писатель Владимир Войнович сделал микрофильм, и роман на Западе был опубликован в 1980 году в Лозанне.
Увы, Василия Семёновича к этому времени на свете не было. Он умер 14 сентября 1964 года. Родился 12 декабря 1905 года.
Не дожил до публикации на Западе. А главное – не дожил и до публикации у нас в 1988 году, посрамившей прогноз главного партийного идеолога Суслова.
Жизнь коротка, искусство вечно!
* * *
Гениальный Данте Алигьере был создателем итальянского литературного языка. Свою великую вещь, которая, благодаря Боккаччо, названа «Божественной комедией», он писал в прославление своей соседки Беатриче Портинаре, на которой, однако, ему жениться не позволили. Он женился на другой, прижил с ней троих детей, но когда Данте был изгнан из родной Флоренции, жена за ним не поехала. Да и Данте не настаивал: память о покойной уже Беатриче перекрывала чувство к любой другой женщине.
Изгнан Данте был со всей своей партией белых гвельфов, обосновался в Равенне, где и умер 14 сентября 1321 года. Родился во второй половине мая 1265-го.
Я был у гробницы Данте в Равенне. Мне рассказывали, что Флоренция время от времени обращается к равеннцам с просьбой перенести прах великого поэта на родину. И каждый раз Равенна в этом Флоренции гневно отказывает.
На русский язык полностью или кусками «Божественную комедию» переводили многие поэты. Лучшим считается перевод М. Лозинского. Но мне хотелось бы обратить внимание и на перевод А.А. Илюшина силлабическим стихом – каким и написана эта гениальная вещь.
* * *
Константин Иосифович Бабицкий, скончавшийся 14 сентября 1993 года (родился 15 мая 1929-го), один из семерых человек, вышедших на Красную площадь после вторжения наших войск в Чехословакию в августе 1968 года.
Кончил филологический факультет МГУ. Был видным лингвистом. Описал трансформацию сочинительного сокращения однородных членов предложения и конверсивную трансформацию в русском языке. Эти работы оказали влияние на синтаксические концепции ряда лингвистов.
Приговорён к 3 года ссылки, которую отбывал в Коми АССР.
После освобождения был лишён работы по специальности. Работал плотником, разнорабочим в посёлке Щелыково Костромской области.
В 1990 году стал почётным гражданином города Прага.
* * *
Юлий Петрович Чепурин всю сталинградскую оборону был спецкором фронтовой газеты армии Чуйкова «Сталинское знамя». Там и напечатал очерк «Дом Павлова» (октябрь 1942), который положил начало легендарной славе сержанта Я.П. Павлова и горстки гвардейцев, бившихся с немцами за дом. Очерк Чепурин использовал для написания пьесы «Сталинградцы», которую поставил режиссёр А.Д. Попов на сцене театра ЦДКА. Для постановки спектакля Чепурин был отозван в Москву.
С 1955 по 1958 был секретарём московской писательской организации. Написал немало сценариев и пьес. Сталинской премии была удостоена пьеса «Совесть» (1951).
Умер 14 сентября 2003 года. Родился 10 мая 1914-го.
На личные средства супруги писателя Т.С. Чепуриной с благотворительной целью и без права продажи издана книга его фронтовых воспоминаний «Сталинградский котёл» (2008, 2010).
* * *
Михаил Александрович Зенкевич был вместе с Н. Гумилёвым соучредителем «Цеха поэтов».
После революции жил в Саратове. Работал в газете «Саратовские известия».
В 1923 году переехал в Москву. В 1934-1936-м заведовал отделом поэзии в журнале «Новый мир».
Стихов писал мало. Больше занимался художественными переводами. Перевёл «Юлия Цезаря» и «Меру за меру» Шекспира, «Войну миров» Уэллса. Много переводил американских поэтов.
Зенкевич являлся ключевым свидетелем по делу об убийстве поэта Дмитрия Кедрина. В день убийства они случайно встретились и провели время в пивном баре на улице Горького. После чего расстались. Зенкевич дал показания о неком подозрительном типе, крутившемся возле них. Но изобличён убийца не был.
Умер Михаил Александрович 14 сентября 1973 года.
Среди стихов, которые он написал, попадаются подлинные, пронзительные:
Вот она, Татарская Россия, Сверху – коммунизм, чуть поскобли… Скулы-желваки, глаза косые, Ширь исколесованной земли. Лучше бы ордой передвигаться, Лучше бы кибитки и гурты, Чем такая грязь эвакуации, Мерзость голода и нищеты. Плач детей, придавленных мешками. Груди матерей без молока. Лучше б в воду и на шею камень, Места хватит – Волга глубока. Над водой нависший смрадный нужник Весь загажен, некуда ступить, И под ним ещё кому-то нужно Горстью из реки так жадно пить. Над такой рекой в воде нехватка, И глотка напиться не найдёшь… Ринулись мешки, узлы… Посадка! Давка, ругань, вопли, вой, галдёж. Грудь в тисках… Вздохнуть бы посвободней… Лишь верблюд снесет такую кладь. Что-то в воду шлепнулось со сходней, Груз иль человек? Не разобрать. Горевать, что ль, над чужой бедою! Сам спасай, спасайся. Всё одно Волжскою разбойною водою Унесёт и засосёт на дно. Как поладить песне тут с кручиной? Как тягло тягот перебороть? Резать правду-матку с матерщиной? Всем претит её крутой ломоть. Как тут Кривду отличить от Правды, Как нащупать в бездорожье путь, Если и клочка газетной «Правды» Для цигарки горькой не свернуть?9 ноября 1941, Чистополь.
15 СЕНТЯБРЯ
Пётр Маркович Абовин-Егидес родился 15 сентября 1917 года. Когда ему было три года, расстреляли отца, и он попал в детский дом. Кончил рабфак. Ушёл добровольцем на фронт и тяжело раненный попал в плен. Из плена бежал. Но попал в фильтрационный лагерь. Приговорён к 10 годам лагерей. В конце 1948-го реабилитировали.
В 1953-м жил с женой в Пензе. Отвечая на решение сентябрьского пленума ЦК о развитии сельского хозяйства, пошёл работать председателем колхоза Пензенской области.
В 1964 году стал кандидатом философских наук. С 1966 преподавал в университете Ростова-на-Дону. В 1967-м направил письмо в ЦК, где потребовал освобождения Синявского и Даниэля, проведения альтернативных выборов во все органы власти, преобразования «Правды» из органа ЦК в орган всей партии, реорганизации колхозов в коллективные хозяйства крестьян на самом деле. Его направили в психиатрическую больницу. Освободили в 1972 году.
С 1978 начал выпускать самиздатовский журнал «Поиски», который закрыли в 1980-м. В 1980-м Абовина-Егидеса вытолкнули за границу.
В начале 90-х часто приезжал в Россию, сблизился с представителями несоциалистических движений в России. Критиковал гайдаровские реформы. На выборах в Госдуму баллотировался по списку Святослава Фёдорова. Умер 13 мая 1997 года.
Он один из немногих, кто пришёл к выводу о разделении социализма и сталинизма.
* * *
Агата Кристи, родившаяся 15 сентября 1890 года (умерла 12 января 1976-го). Является одним из самых известных мастеров детективного жанра и самой публикуемой писательницей в мире за всю историю человечества после Библии и Шекспира.
Опубликовала более 60 детективных романов и 6 психологических романов, 19 сборников рассказа.
Её книги изданы суммарным тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на 100 языков мира.
Она держит рекорд и по максимальному числу театральных произведений.
Автобиография Кристи, которую она окончила писать в 1965 году, заканчивается словами: «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована».
* * *
Очень любил его в детстве. Романы «Следопыт», «Зверобой», «Шпион», «Последний из могикан».
Впервые на русский язык Фенимора Купера, родившегося 15 сентября 1789 года (умер 14 сентября 1851-го), перевела детская писательница А.О. Ишимова. О переведённом ею романе «Открыватель следов» Белинский написал, что это шекспировская драма в форме романа.
Любопытно, что для ЖЗЛ книгу о Фениморе Купере написал Сергей Сергеевич Иванько, герой «Иванькиады» Войновича.
До этого Иванько писал о маоцзедуновском Китае. И на большее не замахивался.
Хороша ли его книга? Не знаю. Не читал.
* * *
Наталья Ивановна Толстая, родившаяся 15 сентября 1926 года, владела английским, французским, санскритом и панджаби. С 1963 по 2000 год работала в петербургском отделении издательства «Художественная литература». Написала учебник «Язык панджаби».
А после увлеклась изучением творчества Набокова. Переписывалась с сестрой писателя Е.В. Сикорской и с самим писателем до его смерти в 1977 году. Именно благодаря Н.И. Толстой были открыты музеи писателя в Санкт-Петербурге и в селе Рождествено. Толстая же добилась, чтобы произведения Набокова печатались в России.
В 1999 году в издательстве «Симпозиум» вышло пятитомное «Собрание сочинений русского периода» Набокова. Его составила Н.И. Толстая, скончавшаяся 24 января 2003 года.
* * *
Степан Павлович Злобин стал красногвардейцем после 4 класса реального училища. Но в Бутырскую тюрьму был посажен большевиками, которые разгромили эсеров. В тюрьме Злобин заболел тифом. Его отпустили на поруки отца.
В 1921 году поступил в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова, где увлёкся языкознанием и психологией творчества.
В 1924 году снова попадает в Бутырскую тюрьму, где проводит два месяца в одиночке.
После окончания института уехал в Уфу, где работал школьным учителем. Однако обострившийся туберкулёз заставил отказаться от этой работы, и Злобин устроился статистиком в башкирский Госплан. Ездил в экспедиции по районам Башкирии, знакомился с нравом народа, записывал пословицы и поговорки, – всё это пригодилось ему для создания романа «Салават Юлаев». По нему при участии жены писателя Галины Спевак был создан одноимённый фильм. Но сам роман издательство «Молодая гвардия» печатать отказалось, усмотрев в нём негативное отношение к комсомолу. Что, впрочем, не помешало в дальнейшем издать его тиражом в 1,5 миллиона экземпляров.
За две недели до начала войны Злобин оканчивает курсы для писателей, организованные Военно-политической академией. Вступил в «писательскую роту» московской Краснопресненской дивизии. Потом его переводят в 24 армию для работы в дивизионных газетах.
В окружении под Вязьмой контуженный, раненный в ногу Злобин попадает в плен и оказывается в лазарете санинструктором в бараке для сыпнотифозных. Готовит побег, который срывается из-за предательства. Его переводят закованным в кандалы в лагерь Цайтхайн на Эльбе. С конца 1942 по октябрь 1944-го Злобин возглавляет подполье. Разоблачённый, он переводится в польский лагерь недалеко от Лодзи, откуда его освобождают в январе 1945 года.
По возвращении с войны Злобин начинает писать роман «Восставшие мертвецы» о пребывании в плену. Однако из-за темы в 1946 году роман попал под цензурные колёса и изъят.
В 1948 году Злобин пишет исторический роман «Остров Буян», а в 1951-м роман «Степан Разин». Последний роман понравился Сталину и, несмотря на информацию Берии о лагерном прошлом Злобина, получает сталинскую премию 1-й степени.
Берия действовал через писателей, которые входили в Комитет по сталинским премиям. Они и сказали, когда обсуждался роман Злобина, что тот побывал в плену.
Сталин, не спеша прогуливающийся по залу, заговорил как бы с самим собой: «Простим?» и, описав круг: «Или не простим?» «Простим?» – ещё раз сказал Сталин, прохаживаясь за спинами членов комитета, – «Или не простим?», сказал он, вернувшись с прогулки. Члены комитета испуганно ждали. «Простим!» – объявил Сталин. И добавил: «1 степень».
Автобиографический роман «Пропавшие без вести» (1962) сыграл свою роль в деле реабилитации бывших советских военнопленных. К сожалению, остался незаконченным роман «Утро века» о событиях накануне первой русской революции 1905 года.
Умер Степан Павлович 15 сентября 1965 года. Родился 24 ноября 1903 года.
* * *
Ничто не предвещало трагической судьбы Юлиана Григорьевича Оксмана. Толковый архивист, он был сторонником советской власти, был даже в 1918-1919 году членом Петроградского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В 1923 по 1936 год жил в Петрограде-Ленинграде, работал учёным секретарём, затем замом директора Института русской литературы. Был Председателем Пушкинской комиссии АН СССР, участвовал в подготовке Полного собрания сочинений Пушкина. Был членом Ленсовета.
Но в ночь с 5 на 6 ноября 1936 года Оксман был арестован по ложному доносу сотрудницы. Ему вменялась в вину попытка срыва юбилея Пушкина путём торможения юбилейного собрания сочинений. Осуждён ОСО НКВД к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывал на Колыме. Был банщиком, бондарем, сапожником, сторожем. В 1941 получил ещё 5 лет за «клевету на советский суд». Освобождён в Магадане в ноябре 1946 года.
В 1947-1957 на кафедре истории русской литературы в Саратовском университете. Старший преподаватель, доцент, профессор. В 1958 приехал в Москву, до 1964 года работал старшим научным сотрудником отдела русской литературы ИМЛИ. Заведовал Герценовской группой. Подготовил к печати «Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского», за что был удостоен академической премии В.Г. Белинского.
На научных собраниях Оксман публично разоблачал доносчиков. С 1958 года начал устанавливать связи с западными славистами. В том числе с эмигрантами, например, с Глебом Струве. Передавал на Запад не опубликованные в Советском Союзе тексты Гумилёва, Мандельштама, Ахматовой и свои воспоминания о них, помогая Струве в их публикациях.
Летом 1963 года Оксман анонимно опубликовал на западе статью «Доносчики и предатели среди советских писателей и учёных». В августе 1963 после того, как одно из писем было конфисковано пограничниками, у Оксмана провели обыск, изъяли рукописи, письма – проверяли версию, что Оксман печатается на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Версия не подтвердилась, тем не менее Оксмана исключили из Союза писателей (второй раз; первый – после первого ареста), вынудили уйти из ИМЛИ на пенсию, вывели из редколлегии «Краткой Литературной Энциклопедии», одним из инициаторов которой он был.
В 1965-1968 годах Оксман работал профессором-консультантом кафедр истории СССР и истории русской литературы Горьковского университета. Но по требованию КГБ и обкома был уволен и оттуда. Работы Оксмана либо не выходили в свет, либо печатались под псевдонимами. Он умер 15 сентября 1970 года (родился 17 января 1895 года). Некролог в советской печати не появился. Он был опубликован только в Хронике текущих событий.
* * *
Юлиан Семёнович Семёнов был сыном известного журналиста Семёна Ляндреса, репрессированного в 1952 году. Женат Семёнов был на падчерице Сергея Михалкова, родной дочери его жены Натальи Петровны Кончаловской.
Он закончил афганское отделение Московского института востоковедения. В институте был дружен с Примаковым, который учился на арабском отделении.
Со статьями стал выступать с 1955 года. В 1962-1967 годах был членом редколлегии журнала «Москва».
В 60-70-х годах он работал зарубежным корреспондентом многих изданий, в том числе и нашей «Литературной газеты». За границей Семёнов занимался работой в архивных ведомствах. Умел находить нужные материалы. Нашёл как-то телефонные номера рейхсканцелярии Гитлера, прямые номера Гиммлера и Геббельса.
Мне он приносил свои стихи, которых писал много. Не обижался на критику. А хвалить их было не за что.
Его романы пользовались популярностью. «ТАСС уполномочен заявить», «Пресс-центр», «Аукцион». Но, конечно, бешеной популярностью пользовался фильм «17 мгновений весны» по сценарию Семёнова. После выхода всех серий все авторы фильма получили госпремию СССР, кроме Семёнова, который был смертельно обижен таким оборотом дела.
Надо сказать, что престарелый Брежнев, в который раз посмотрев свой любимый сериал, спросил, присвоено ли Штирлицу звание Героя Советского Союза. Ему ответили, что Штирлиц – это персонаж, которого играет Тихонов. Брежнев разволновался: «Надо дать героя Тихонову». Многие были ошеломлены, когда ни с того ни с сего в «Правде» появился указ Брежнева о награждении орденами и медалями съёмочной группы «17 мгновений весны». Тихонов действительно получил героя соцтруда. Лиознова (режиссёр) – орден Ленина. Но про Семёнова Брежнев забыл, и тот не получил награды.
Юлиан обладал кипучей энергией. Он основал издательство «ДЕМ» и журнал «Детектив и политика», газету «Совершенно секретно» (название придумал он). Практически он ввёл так называемое «журналистское расследование» в советской периодике.
И ещё чем стоит помянуть Юлика – он был щедр. В любом отношении: и не жаден, и склонен к верной дружбе, и тем, что охотно делился самыми сокровенными планами в надежде, что собеседник поможет ему их осуществить.
Умер он 15 сентября 1993 года, немного не дожив до 62 лет. Родился 8 октября 1931 года.
16 СЕНТЯБРЯ
Сергей Сергеевич Динамов, родившийся 16 сентября 1901 года, забыт, по-моему, незаслуженно. Он был не только один из первых главных редакторов советской «Литературной газеты», не только из первых директоров Литературного Института красной профессуры, не только один из первых редакторов журнала «Интернациональная литература». Он – автор великого множества статей о Г. Уэллсе, Б. Шоу, А. Барбюсе, Р. Роллане, П. Верхарне, М. Прусте, Гёте, Д. Лондоне, Э. Хемингуэе, Э. По, автор множества статей о Шекспире. Редактор (вместе с А.А. Смирновым) полного собрания сочинений Шекспира в 8 томах («Academia» – Гослитиздат, 1936 – 1950).
В 1960 году выпущен сборник статей С.С. Динамова «Зарубежная литература».
Это после долгого забвения, после того, как его арестовали в 1938-м, расстреляли 16 апреля 1939-го и реабилитировали в 1956-м.
* * *
Иосиф Бродский сказал о нём: «Для ленинградцев его писательское дарование заслонялось гениальностью его личности».
Насчёт гениальности личности – абсолютная правда. Кажется, что Давид Яковлевич Дар ничего и никого не боялся.
Во время войны он был командиром разведроты, был ранен, имел боевые награды.
Из его литературного объединения, которое он возглавлял, вышли такие писатели, как В. Соснора, А. Кушнер, В. Марамзин, И. Ефимов, Б. Вахтин, Д. Бобышев, К. Кузьминский.
Ни одна из громких кампаний не обошлась без его участия.
Он решительно выступил в защиту Иосифа Бродского. Он 19 мая 1967 года написал письмо к IV съезду писателей СССР с требованием «назвать своим подлинным именем такое явление, как бюрократический реализм, которое у нас стыдливо и лицемерно называется социалистическим реализмом». 13 ноября 1969 года обратился с открытым письмом к секретариату Союза писателей СССР, протестуя против исключения из Союза Солженицына.
Власти еле выдавили его в Израиль в 1977 году.
А писательское дарование за ним признавали все. Дар выпустил двенадцать книг. Сам он лучшей из них считает сборник рассказов «Богиня Дуня» (1964; второе расширенное издание – «Книга чудес», 1968).
А читали ли вы «Моби Дика» Германа Мелвилла? Я его читал в переводе Д. Дара и В. Паперно.
Умер Давид Яковлевич в Иерусалиме 16 сентября 1980 года. Родился 24 октября 1910 года.
* * *
Признанный мастер перевода. Переводил Шекспира, Байрона, Бодлера, Гёте, Шиллера, Гейне, Лафонтена, Мицкевича, Ронсара, Дю Белле, Камоэнса, Петрарку, Готье, Ленау.
Первый перевод Вильгельм Вениаминович Левик выполнил в шестнадцатилетнем возрасте. Он перевёл стихотворение Гейне «Зазвучали все деревья». Позже он переведёт классическое произведение Гейне «Германия. Зимняя сказка».
Левик обладал удивительным чувством слова. Ну вот в его переводе Жоашен Дю Белле. Поэт XVI века, в данном случае выбравший форму сонета. В переводе Левика чувствуется огромная отдалённость времени. И одновременно вы ощущаете Дю Беле своим современником. Вот в таком временном наложении он выходит у Левика к русскому читателю:
Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг живёт? Проснувшись, облачась по всем законам моды, Час размышляет он, как сократить расходы И как долги отдать, а плату взять вперёд. Потом он мечется, он ищет, ловит, ждёт, Хранит любезный вид, хоть вспыльчив от природы, Сто раз переберёт все выходы и входы, Замыслив двадцать дел, и двух не проведёт. То к папе на поклон, то письма, то доклады, То знатный гость пришёл и – рады вы, не рады - Наврёт с три короба он всякой чепухи. Те просят, те кричат, те требуют совета, И это каждый день, и, веришь, нет просвета… Так объясни, Панжас, как я пишу стихи?Вильгельм Вениаминович, озвучивший многих поэтов, донёсший до нас их голоса, умер 16 сентября 1982 года. Родился 13 января 1907 года.
17 СЕНТЯБРЯ
У Любови Фёдоровны Воронковой, родившейся 17 сентября 1906 года, я в детстве прочитал повесть «Девочка из города». Смутно её помню. Но тогда показалась (или была) интересной.
Сейчас взялся за тексты. У Воронковой целый букет исторических повестей. Прокользил глазами. Написано грамотно. Но как очерк. Нет характеров. Точнее, они заявлены, то есть, о них объявлено, но приходится верить автору на слово. Характер персонажа не выражается в прозе.
Посмотрел детские вещи. Воронкова пишет и для школьников, и для дошколят. Нет, ничего самобытного. Снова очерк, а не художественная проза, к которой и должна относиться «Девочка из города».
Если это была удача, то впечатление такое, что автор захотела продублировать её. И она занялась дубляжом.
Смотрите:
«Таня прошла через двор к палисаднику. Возле сирени на самом солнцепёке росли в палисаднике весёлые цветы мальвы. Таня подняла голову к розовым бутонам, – как они высоко растут! – взялась рукой за шершавый стебель; стебель покачнулся, и капелька росы из алого цветка упала ей прямо на лицо.
– Ещё один расцвёл! – закричала Таня. – Мамушка, гляди – самый красный развернулся! Вот бы наш папка поглядел, если бы жив был, – он бы обрадовался!
Мать сжала губы и ничего не ответила. У Тани отца не было – он погиб на войне.
– А что, не правда? – сказала Таня. – Не обрадовался бы? А ты сама всегда говорила, что папка эти цветы любил!
– Любил, – ответила мать.
С шумом пролетела стайка маленьких чёрных ласточек, нагрянула на старую берёзу.
– Любил он эти цветы… – повторила мать, – и ласточек любил. Ишь как кричат, как рты разевают! Уже оперились, а всё ещё у матери корму просят.
Пролетела, просвистела синим крылом большая ласточка, поймала на лету козявку и сунула детёнышу в широкий жадный рот.
Маленькая птичка трепыхнула крылышками и чуть с ветки не свалилась. А остальные ещё пуще подняли крик.
В это время пришёл дедушка. Он убирал на конюшне лошадей, потому что он колхозный конюх.
Дедушка стал мыть руки под рукомойником. А бабушка увидела из окна, что дед пришёл, и закричала:
– Эй, народ честной, идите завтракать!»
И дальше:
«Хорошо, если бы все были дома!» – думала Зина, поднимаясь по лестнице через две ступеньки. Ей казалось, что она очень давно отсутствовала, так давно, что даже немножко соскучилась.
У двери сидел светло-серый кот Барсик. Он увидел Зину, встал и мяукнул, глядя ей в глаза своими круглыми, прозрачными, как виноградины, глазами.
– А, домой хочешь? – сказала Зина. – Я тоже хочу!
Зина позвонила, дверь открылась, и они вместе с Барсиком вошли в квартиру.
– Ух, целый веник принесла! – закричал открывший двери Антон. – Дай мне листиков!
Из комнаты уже сыпались, как горох, отчётливые, маленькие шажки – бежала Изюмка. По-настоящему Изюмку звали Катей, но мама уверяла, что у Кати чёрные глаза, как изюминки в белой булочке, да так и прозвали её Изюмкой. Изюмка, не замедляя хода, подбежала к Зине и схватилась за её пальто.
– И мне! – ещё громче, чем Антон, закричала она. – И мне листиков!
– Вот налетели на меня! – засмеялась Зина. – Со всеми поделюсь, не кричите только… Антон, а мама дома?
Мама уже стояла в дверях комнаты в своём домашнем полосатом платье с подвёрнутыми рукавами и в синем фартуке, с которым почти не расставалась.
– Долго вы как! – сказала она с упрёком, а добрые серые глаза её светились от улыбки. – Я уж думала, не случилось ли чего… Садись скорее за стол, сейчас соберу поесть».
Я сказал дальше? Но дальше не было. Приведены отрывки из разных повестей. А как будто из одной, правда? Да и как будто не из повести, а из какого-то беллетризованного газетного очерка.
Ну, а как обстоит дело с историческими книгами Воронковой?
«Александр молчал, лишь изредка пригубливая чашу с вином. Иногда он взглядывал на отца и тут же, нахмурясь, опускал ресницы. Филипп весь вечер не замечал Александра, не глядел в его сторону.
«Каким чужим он мне стал, – горько думал Александр, – каким чужим и даже враждебным!»
Давно ли они с отцом стояли в одном строю перед грозным врагом! Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не видеть и не слышать того, что здесь происходит.
Против него за столом сидел, развалившись, рыжий Аттал. Красный от вина, с мокрым лоснящимся ртом и черными, как маслины, глазами, он был отвратителен Александру.
Аттал уже чувствовал себя самым близким человеком македонскому царю, он уже снисходительно поглядывал вокруг себя на царских этеров и полководцев. Александра он словно не видел, его пьяные, маслянистые глаза глядели на царского сына как на пустое место.
Заметив, как вздрагивают у Александра ноздри, какое бешенство сверкает в его глазах, Гефестион старался отвлечь его разговором, начал было читать первый пришедший в голову стих «Илиады».
Но тут грузно поднялся Аттал. Вскинув кверху свою чашу и расплёскивая вино, он громко провозгласил, обращаясь к гостям:
– Теперь молите богов, македоняне, чтобы боги даровали нашему царю македонскому Филиппу законного наследника!
Александр вскочил, будто его ударили плетью.
– А меня, негодяй, ты что же, считаешь незаконным, что ли? – крикнул он.
И, размахнувшись, швырнул в Аттала свою тяжёлую золотую чашу.
Филипп, не помня себя от ярости, выхватил меч и бросился к сыну. Но тут же, споткнувшись, пошатнулся и с грохотом свалился на пол.
Александр, пылающий, будто охваченный заревом пожара, вышел из-за стола. Он обернулся к отцу с презрением и насмешкой:
– Смотрите, друзья, мой отец хочет идти в Азию, а сам не может дойти от стола до стола! […]
И вот наступил день, когда вестники принесли важную новость, нарушившую тишину эпирского двора, – у Клеопатры родился сын!
– Ты понимаешь, что грозит моему сыну? – обратилась Олимпиада к брату, царю Александру.
– Но что может грозить Александру? Ведь он старший, – возразил брат.
Александр эпирский боялся Филиппа. Он окружил Олимпиаду теплотой и вниманием, но никак не мог скрыть своих опасений. Если Филипп разгневается и двинется к нему, в Эпир… Сдобровать ли им всем тогда?
– Ты недальновиден, брат мой, – резко и настойчиво продолжала Олимпиада, – а я тебе скажу, что будет дальше. Клеопатра заставит Филиппа признать своего сына наследником, и тогда Филипп отстранит Александра от царства.
Александр слушал эти тревожные речи, и ему становилось не под силу сохранять хотя бы внешнее спокойствие. Неужели отец, который доверял ему, ещё шестнадцатилетнему, царство, которому он предоставил честь решить битву при Херонее, с которым он делился, как полководец с полководцем, своими военными замыслами, – неужели он теперь отстранит Александра? Как это может быть?
– Как это может быть? – повторил и царь эпирский. – Александр – старший сын царя. Что можно сказать против его права наследовать царство? Нет, тут ничего сказать нельзя.
– Можно, – глухим голосом возразила Олимпиада, – можно сказать. И говорят.
Оба Александра – и брат и сын – удивленно глядели на неё.
– Что говорят?
– Что у моего сына Александра мать чужеземка – вот что говорят!»
А здесь автор – как бы репортёр. Характеры героев не выражаются, а описываются. То есть перед нами всё тот же беллетризованный очерк.
А это значит, что написала Любовь Фёдоровна много, а писательницей была небольшой.
Она умерла 20 января 1976 года.
* * *
«Вот начало ваших Записок. Все экземпляры уже напечатаны и теперь переплетаются. Не знаю, возможно ли будет остановить издание.
Мнение моё, искреннее и беспристрастное, – оставить как есть.
«Записки амазонки» – как-то слишком изысканно, манерно, напоминает немецкие романы. «Записки Н. А. Дуровой» – просто, искренне и благородно. Будьте смелы – вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило. Полумеры никуда не годятся.
Весь ваш А. П.
Дом мой к вашим услугам. На Дворцовой набережной, дом Баташева у Прачечного моста».
«А.П». – это А. Пушкин. Кому он пишет, кого уговаривает не страшиться на литературном поприще, понятно из письма. Его адресат: Надежда Андреевна Дурова, знаменитая кавалерист-девица, влюбившаяся в Александра I, который разрешил ей остаться в армии в чине подпоручика Мариупольского гусарского полка под мужским именем Александрова Александра Андреевича.
В Отечественную войну она командовала полуэскадроном. Участвовала в нескольких сражениях, была ранена в ногу, произведена в поручики и служила ординарцем у Кутузова.
Вышла в отставку в чине штабс-ротмистра.
Пушкин, заинтересовавшийся её биографией, оценил её литературный стиль, собираясь печатать её записки в своём «Современнике».
Это она, Надежда Андреевна, родившаяся 17 сентября 1783 года (умерла 2 апреля 1866-го), предложила Пушкину не называть её фамилию, а назвать её сочинение «Записки амазонки».
И Пушкин, не терпевший пошлости, учуял её в названии и вежливо, но твёрдо отвёл его.
К счастью для русской литературы.
* * *
«…В период триумфального шествия нашей политпсихиатрии (1969 – 1974 годы) автор убедился, что для здорового человека, надолго помещённого в жёлтый дом, составление перевёртней – лучший способ спастись от сумасшествия. Эти упражнения, интеллектуальные, почти как шахматы, и азартные, почти как карты, до отказа заполняют досуг, стерилизуют сознание от всего, что могло бы ему повредить, перестраивают структуру мышления таким образом, чтобы оно было постоянно и прочно избавлено от изнуряющей его губительной зацикленности на ближнесущных проблемах, которая для зэка спецпсихтюрьмы может стать причиной духовной, моральной, а то и психической катастрофы. В отличие от обычных тюрем в жёлтой тюрьме человек не только заживо погребён, но погребены и его мысль, его дух – в той обстановке беспросветного, идеального бесправия, которую не пробивают даже активная поддержка и защита извне. Там постепенно исчезает желание и способность к чтению, адского напряжения ума требует писание даже коротких писем. Деформируется восприятие реального, и сюрреалистическое, кафкианское делается доступным и близким – но не так, как для ребёнка волшебная сказка, мобилизующая хоть небольшие усилия воображения, а так, как во время бреда галлюцинаторные образы, в реальности которых больной не сомневается… В этой атмосфере Босх и Дали убедительнее Репина, Бодлер читается так же легко, как Михалков… Мировосприятие, порождаемое жёлтой тюрьмой, обрекает на модернизм».
Это из «новомировской» публикации Владимира Гершуни «Суперэпос» (1994. № 9). Владимир Гершуни знал так называемый «жёлтый», то есть сумасшедший дом изнутри.
Прежде чем попасть туда, он ещё в 1949 году был осуждён на 10 лет лагерей. Освобождён в 1954-м, работал каменщиком. В 1960-е примкнул к правозащитному движению, собирал материал для книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В 1969-м его арестовали и направили в Орловскую психиатрическую больницу специализированного типа.
Освободили в 1974 году.
В 1976-1978 году был соредактором самиздатовского журнала «Поиски». В 1979-м – один из создателей СМОТ – Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся. Под псевдонимом В. Львов публиковал в советской печати юморески. В 1982-м арестован в третий раз и во второй раз помещён в «психиатричку» в Благовещенске, а затем в Алма-Ате.
Так что набил себе руку на полидромах:
Умыло Колыму алым. Умыла Воркуту кровьИли:
Я нем – меня лишил Амур ума, а муза – разума! Да рад я и музе безумияВладимир Львович Гершуни скончался 17 сентября 1994 года. Родился 18 марта 1930 года.
* * *
Лев Владимирович Гинзбург свою первую книгу переводов выпустил с армянского. Это потом он увлёкся немецкими поэтами, стал переводить в основном их. Перевёл немецкие народные песни и баллады, поэзию вагантов, стихи поэтов XVII века.
Переводил хорошо. И я понимаю Евгения Юрьевича Сидорова, написавшего такую эпиграмму:
Скажу, нахально осмелев, Опровергая Брема, Лис-Райнеке и Гинзбург Лев Теперь одна поэма.Гинзбург очень часто ездил в ГДР и в ФРГ. Описал поездки в своих публицистических книгах.
Мне нравилась его книга «Бездна», которая показывает злодеяния одной из частей СС на основании документов судебного процесса над нацистами.
Умер Лёва Гинзбург 17 сентября 1980 года. Родился 24 октября 1921 года.
* * *
Вообще-то считалось, что Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая после того, как вышла замуж за А.Н. Толстого, перестала писать стихи.
Оказалось, что это не так. Много стихов она уже не писала. Но после развода с Толстым (1935) пописывала. И очень неплохо.
Вот стихотворение 1936 года:
Подумала я о родном человеке, Целуя его утомлённые руки: И ты ведь их сложишь навеки, навеки, И нам не осилить последней разлуки. Как смертных сближает земная усталость, Как всех нас равняет одна неизбежность! Мне душу расширила новая жалость, И новая близость, и новая нежность. И дико мне было припомнить, что гложет Любовь нашу горечь, напрасные муки. О, будем любить, пока смерть не уложит На сердце ненужном ненужные руки!Умерла Наталья Васильевна 17 сентября 1963 года. Родилась 21 января 1888 года.
18 СЕНТЯБРЯ
Вторая жена Михаила Булгакова Любовь Евгеньевна Белозёрская, родившаяся 18 сентября 1895 года, весьма активно помогала мужу. При ней был завершён роман «Белая гвардия», посвящённый ей. Ей посвящены повесть «Собачье сердце» и пьеса «Кабала святош» («Мольер»).
После развода с Булгаковым (1932) Любовь Евгеньевна находилась на редакторской работе. С 1936 года она – литературный секретарь академика-историка Е.В. Тарле.
Оставила очень интересную книгу о жизни с Булгаковым «О, мёд воспоминаний», книгу «У чужого порога» – об эмигрантской жизни с первым своим мужем И. Василевским, писавшем под псевдонимом «Не-Буква», книгу «Так было» – о работе у Тарле.
Все они изданы после её смерти, то есть после 27 января 1987 года.
* * *
Академик Михаил Гаспаров считает поэта Семёна Исааковича Кирсанова, родившегося 18 сентября 1906 года, создателем рифмованной прозы в русской литературе.
Кирсанов – один из последних футуристов. Неоднократно обвинялся критикой в формализме. Был склонен к поэтическим экспериментам.
Он считал себя последователем Маяковского. Был убеждён, что реализует замыслы Маяковского, которые тот не успел воплотить в жизнь. Например, написал в 1931 году поэму «Пятилетка», которая, по замыслу Кирсанова, завершает начатую Маяковским поэму «Во весь голос».
Из последующих вещей Кирсанова поэты и критики почти единодушно хвалят поэму Кирсанова о только что умершей жене – «Твою поэму» (1937). Она и в самом деле лирична и пронзительна.
Во время войны, в 1942 году Кирсанов пишет солдатский лубок «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата».
Писатель Михаил Алексеев назвал героя бесстыдно-фальшивым, заявив, что политруки – а он, Алексеев, служил политруком – не читали своим солдатам этот лубок. Алексеев был известным лгуном, и данную ложь опровергает многочисленные письма солдат к Кирсанову, многие из которых были убеждены, что Фома Смыслов – реальное лицо.
В 1946 году в журнале «Октябрь» Кирсанов напечатал поэму об Александре Матросове. Через год он опубликовал поэму «Небо над Родиной». М. Гаспаров нашёл, что в поэме несколько раз возникает ритм из «Колоколов» Эдгара По: «Только луч, луч, луч ищет лётчик в мире туч», «Это плеск, плеск, плеск щедро льющихся небес…».
Любопытно, что единственную сталинскую премию 3-й степени Кирсанов получил в 1950 году за драму в стихах «Макар Мазай». Но эту драму почти не вспоминают пишущие о Кирсанове.
Всего, включая переиздания, Кирсанов выпустил 64 книги. В 2000 году, то есть почти через тридцать лет после смерти Кирсанова (10 декабря 1972 года) вышла книга, которая названа, по-моему, очень точно «Циркач стиха». Многие его стихи напоминают цирковые трюки. Он легко играл просторечиями, диалектизмами, составными и омонимическими рифмами. К открытию московского метро написал стихотворение «Буква М», составленное из слов, начинающихся на эту букву.
Мастерством стиха Кирсанов владел отменно.
* * *
Дочь Марины Цветаевой Ариадна (Аля) Сергеевна Эфрон, родившаяся 18 сентября 1912 года, первой из всей семьи вернулась в СССР в марте 1937 года.
Работала в редакции советского журнала «Revue de Moscou» (на французском языке), писала статьи, очерки, делал иллюстрации, переводила.
В августе 1939-го была арестована и осуждена на 8 лет лагерей. То, что мать повесилась в 1941-м, а отец расстрелян, узнала не сразу.
Освободившись, в 1948 году работала в Рязани преподавателем графики в художественном училище.
Вновь арестована в феврале 1949-го. Как ранне судимая приговорена к пожизненной ссылке в Туруханский район Красноярского края. Работала в Туруханске художником-оформителем местного районного дома культуры. Часть акварельных зарисовок о жизни в ссылке опубликована только в 1989 году.
В 1955 году реабилитирована и вернулась в Москву.
Подготовила к печати издания сочинений матери. Оставила воспоминания, опубликованные в журналах «Литературная Армения» и «Звезда». Много занималась стихотворными переводами из Гюго, Бодлера, Верлена, Готье. Писала собственные стихи.
Любопытно, что она и в девичестве писала стихи: 20 её стихотворений опубликовано Мариной Цветаевой в составе своего сборника «Психея». Поздние стихи Али Эфрон опубликованы только в 1990-е годы. Через много лет после её смерти 26 июля 1975 года.
Вот стихотворение 1949 года:
Солдатским письмом треугольным В небе стая. Это гуси на сторону вольную Улетают. Шёлком воздух рвётся под крыльями. Спасибо, что хоть погостили вы. Летите, летите, милые! На письме – сургучовой печатью Солнце красное. Унесёте его на счастье вы - Дело ясное. Нам останется ночь полярная, Изба чёрная, жизнь угарная, Как клеймо на плече позорная, Поселенская, поднадзорная. На такую жизнь не позарюсь я, Лучше трижды оземь ударюсь я, Птицей серою обернуся, Полечу – назад не вернуся - Погодите, я с вами, гуси.* * *
Дмитрий Борисович Кедрин где-то в середине 30-х выдал едкую эпиграмму:
У поэтов жребий странен, Слабый сильного теснит. Заболоцкий безымянен, Безыменский именит.Вполне возможно, что позже ему отозвалась и эта эпиграмма.
Из-за ужасного зрения его не призвали на фронт. Однако Кедрин непременно хотел принять участие в войне. И добился своего. Он был направлен в авиационную газету 6-й Воздушной армии «Сокол Родины» на Северо-Западном фронте. В газете печатались его очерки и сатирические стихи, которые Кедрин писал под псевдонимом «Вася Гашеткин». За время работы во фронтовой газете Кедрин прислал домой 75 номеров со своими публикациями. Так что медаль «За боевые заслуги» в 1943 году он получил вполне заслуженно.
Госбезопасность на него обратила внимание рано. Точнее, это он обратил на себя внимание госбезопасности, написав в анкете по приезду в Москву, что в 1929 году за «недонесение известного контрреволюционного факта» был осуждён на два года. Факт состоял в том, что у приятеля отец был деникинским генералом, а Кедрин об этом не донёс. Пробыл в тюрьме 15 месяцев и был досрочно освобождён.
После этого Кедрина пригласили для «разговора», но стать сексотом он отказался наотрез.
Вероятно, и этим объясняются его неудачные попытки выпустить стихи отдельным изданием. Ни одна из книг, которые он подготовил к печати и предлагал до войны издательствам, света не увидела.
Его прекрасные исторические стихи и поэмы были подвергнуты резкой критике в докладе секретаря Союза писателей В. Ставского, который нашёл, что Кедрин пишет историю не в партийном духе.
А после войны на поэта началась охота. 15 сентября 1945 года неустановленные лица на платформе Ярославского вокзала едва не столкнули поэта под поезд. И обязательно бы столкнули, если б не помешали свидетели.
А уже 18 сентября 1945-го Кедрин погиб. Он должен был сесть в электричку на Ярославском вокзале и ехать к больной жене к себе в Черкизово. Возможно, сел и ехал, и те, кто охотился за ним, смогли выкинуть его по ходу движения. Но дело в том, что на следующий день его труп обнаружили совсем в другом месте – в Вешняках, куда можно было приехать только с Казанского вокзала. На мой взгляд, ничего загадочного в этом нет. Госбезопасность перевезла мёртвого Кедрина, чтобы запутать следы.
Разумеется, убийц не нашли.
Уничтожили одного из лучших поэтов того времени! Он родился 4 февраля 1907 года.
* * *
Александр Викторович Михайлов переводил не только немецких романтиков, но и немецких философов: Гегеля, Шеллинга, Ницше, Хайдеггера, Ауэрбаха, Вебера.
Печатался в основном в журнале «Вопросы философии». Книги издавал опять-таки большей частью по проблемам философии.
Второй его страстью была музыка. Одно время он был профессором Московской консерватории, где читал лекции по истории мировой культуры. Консерватория выпустила его замечательную книгу «Музыка в истории культуры» (1998).
Умер Александр Викторович 18 сентября 1995 года. Родился 24 декабря 1938-го.
Мне бы хотелось привести цитату А.В. Михайлова из статьи, которая помещена в книге Т. Адорно «Избранное. Социология музыки», переведённой А.В. Михайловым и М.И. Левиной. Вот что сказал А.В. Михайлов:
«Слушание классической музыки – улавливание неуловимого, что кажется очень близким и почти осязаемым. Но при такой осязаемости явного смысла есть ли ещё живая духовная субстанция у таких вещей, которые каждый слышит десятки и сотни раз, как Девятая симфония Бетховена или Четвертая Брамса. Дирижёры, а за ними слушатели, гадают, что же это такое скрывается за звуковым обликом вещи, которая – в суете концертной жизни – перед ними толкается сама о себя, превосходит сама себя, не достигает своего собственного уровня и, реально размноженная в неограниченном количестве экземпляров, странно похожа и не похожа сама на себя».
Правда, хорошо сказано?
* * *
Александр Андреевич Прокофьев, кажется, всё сделал, чтобы уничтожить в себе поэта. А начинал очень обещающе. Вот стихотворение 1934 года:
По улице полдень, летя напролом, Бьёт чёрствую землю зелёным крылом. На улице, лет молодых не тая, Вся в бусах, вся в лентах – невеста моя. Пред нею долины поют соловьём, За нею гармоники плачут вдвоём. И я говорю ей: «В нарядной стране Серебряной мойвой ты кажешься мне. Направо взгляни и налево взгляни, В зелёных кафтанах выходят лини. Ты видишь линя иль не видишь линя? Ты любишь меня иль не любишь меня?» И слышу, по чести, ответ непрямой: «Подруги, пора собираться домой, А то стороной по камням-валунам Косые дожди приближаются к нам». «Червонная краля, постой, подожди, Откуда при ясной погоде дожди? Откуда быть буре, коль ветер – хромой?» И снова: «Подруги, пойдёмте домой. Оратор сегодня действительно прав: Бесчинствует солнце у всех переправ; От близко раскиданных солнечных вех Погаснут дарёные ленты навек». «Постой, молодая, постой, – говорю, – Я новые ленты тебе подарю Подругам на зависть, тебе на почёт, Их солнце не гасит и дождь не сечёт. Что стало с тобою? Никак не пойму. Ну, хочешь, при людях тебя обниму…» Тогда отвечает, как деверю, мне: «Ты сокол сверхъясный в нарядной стране. Полями, лесами до огненных звёзд Лететь тебе, сокол, на тысячу вёрст! Земля наши судьбы шутя развела: Ты сокол, а я дожидаю орла! Он выведет песню, как конюх коня, Без спросу при людях обнимет меня, При людях, при солнце, у всех на виду». …Гармоники смолкли, почуяв беду. И я, отступая на прах медуниц, Кричу, чтоб «Разлуку» играл гармонист.А известнейший пародист тридцатых годов Александр Архангельский именно на Прокофьева написал весьма запоминающуюся пародию, которая хорошо передавала пафос его стихов:
Душа моя играет, душа моя поёт, А мне товарищ Пушкин руки не подаёт. Александр Сергеич, брось, не форси, Али ты, братенник, сердишьси? Чего же ты мне, тёзка, руки не подаёшь? Чего ж ты, майна-вира, погреться не идёшь? Остудно без шапки на холоде стоять. Эх, мать моя Эпоха, высокая Оять! Наддали мы жару, эх! на холоду, Как резали буржуев в семнадцатом году. Выпустили с гадов крутые потроха. Эх, Пиргал-Митала, тальянкины меха! Ой, тырли-бутырли, эх, над Невой! Курчавый братенник качает головой. Отчаянный классик, парень в доску свой, Александр Сергеич кивает головой. Душа моя играет, душа моя поёт, Мне братенник Пушкин руку подаёт!И вот, проникаясь пафосом поэта, а его пародист сохранил, ждёшь и от стихов, так сказать, зрелого, позднего Прокофьева того же сохранения ни на кого не похожего пафоса, но читаешь его стихи и ощущаешь, что это не стихи вовсе, а рифмованное недоразумение:
Мне о России надо говорить, Да так, чтоб вслух стихи произносили, Да так, чтоб захотелось повторить, Сильнее всех имён сказать: Россия! Сильнее всех имён произнести, Сильнее матери, любви сильнее И на устах отрадно пронести К поющим волнам, что вдали синеют. Не раз наедине я был с тобой, Просил участья, требовал совета, И ты всегда была моей судьбой, Моей звездой, неповторимым светом. Он мне сиял из материнских глаз, И в грудь вошёл, и в кровь мою проник, И если б он в груди моей погас, То сердце б разорвалось в тот же миг!Какие-то плохо связанные между собой образы: хочется говорить о России, хочется говорить о ней «сильнее матери» (?), но она (Россия?), обернулась каким-то «неповторимым светом», который «мне сиял из материнских глаз»!
То есть, как поэт Александр Андреевич умер задолго до своей естественной смерти, случившейся 18 сентября 1971 года. Родился 2 декабря 1900 года.
Понятно, что наступать на горло собственной песне в советской стране было очень выгодно. Сталинская премия 2-й степени 1946 года, ленинская в 1961-м, герой соцтруда, четыре ордена Ленина.
А, может, многое объясняет наградной знак «Почётный сотрудник ВЧК-ГПУ»? Просто – как обычный значок: абы кому – его не дарили. Нет, он вручался сотрудникам в удостоверение того, что тот стал почётным.
19 СЕНТЯБРЯ
Наталья Григорьевна Астафьева, родившаяся 19 сентября 1922 года, о своём отце так рассказывает в стихах:
Пришли. Ночную дачу оцепили. И увели. И нет у нас отца. Наверно, мучили. Наверно, били. Он оказался стойким до конца. Нет в деле подписи его рукою. Не подписал ни одного листка. Осталась лишь написанная кровью записочка в кармане пиджака. Отец отверг нелепость обвинений и, внутренним гореньем озарён, шагнул к окну и выбросился в небо из бреда обезумевших времён. На площади плашмя лежало тело того, чей дух взлетал за облака… Так вышвырнули царские войска на мостовую инструмент Шопена… Проходят годы, крови не смывая, а только бередя мою беду. Когда по этой площади иду - кипит отцовской кровью мостовая. Когда я говорю с отцовской тенью, две родины ведут во мне свой спор: я полька, варшавянка по рожденью, по крови я москвичка с этих пор. Но негде мне припасть к его надгробью, погоревать, поплакать по нему. Осталась лишь написанная кровью записочка в архивах ГПУ. Что – вся поэзия, все поэтизмы! Нет более красноречивых слов, чем результат двукратной экспертизы, удостоверившей, что это кровь.Остаётся добавить, что отец Натальи Астафьевой был членом ЦК польской компартии. Вынужден был эмигрировать в СССР. Там стал представителем польской компартии в Коминтерне.
В августе 1933 года его арестовали. А через месяц он покончил самоубийством на Лубянке. «Написанная кровью записочка в архивах ГПУ» – не фантазия поэтессы. Отец кровью написал, что ни к каким контрреволюционным организациям не принадлежал.
Мать Натальи Астафьевой арестовали в 1937 году и сослали в Казахстан, в Павлодар, где в 1938 году она была снова арестована и отправлена с пятилетним сроком в лагерь Долинка в Карлаге. Вышла из лагеря в 1946-м. Амнистирована в 1953-м. Реабилитирована в 1956-м.
Астафьева с братом в 1937-м приехали в Павлодар. Там она окончила 8 класс. Но после повторного ареста матери стала работать секретарём в облплемзаготконторе. В 1941-м кончила педагогическое училище в Павлодаре. Работала учительницей.
В 1951 году окончила областной педагогический институт в Москве, училась в аспирантуре. Её стихи в 1956 году представил в «Литературной газете» поэт Илья Сельвинский.
В 1958 году вышла замуж за поэта Владимира Британишского. Летом 1958-го работала с ним в тундре на Полярным Урале. Потом жила в Салехарде.
Я её и Володю помню по литературному объединению «Магистраль». Её стихи не уступали стихам лучших членов объединения. Слушать её новые вещи всегда было интересно. Кстати, она читала не только стихи, но и свои переводы с польского, которыми занимается всю жизнь параллельно с созданием собственных стихов.
При Хрущёве её стихотворные мемуары – стихи о судьбах отца и матери были собраны в книгу «Заветы» и включены в план издательства. Однако там сделали всё, чтобы книга не вышла. Она вышла с дополнениями и исправлениями только в 1989 году.
Первая книга «Девчата» вышла в 1959 году. С тех пор в СССР вышло ещё 5 поэтических книг. Последняя – те самые «Заветы». А после развала империи – ещё несколько. В 2013 году очень мощная – «Сто стихотворений».
Переводов с польского Астафьева публиковала много и в разных журналах. Чаще всего в «Иностранной литературе». В 2000 году вместе с Британишским выпустила антологию «Польские поэты XX века». А в 2002-м она автор антологии «Польские поэтессы».
Закончить мне бы хотелось не совсем обычным стихотворением Астафьевой, которое она написала в 2011 году. Это стихотворение-портрет. Вы узнаете, кто это. И оцените добрую объективность поэтессы:
Вот входит он. Наверно, болен: как худ он, неважнецкий вид. Но он на сцене, он доволен, он всех за всё благодарит. Опять в невиданной рубашке, всё те же детские замашки - мальчишка, выскочка, актёр. Поэт – в любой естествен позе. Стоит, улыбчив, но серьёзен, быстр и находчив и остёр. Любимец давних школ и вузов. В десятках стран с тех пор он узнан. Лишь члены творческих союзов дружно завидуют ему. и это видно по всему, не любят, ненавидят просто. И это знать ему несносно. А он – недюжинного роста, с огромной жаждою любить и помогать, и это бремя легко и радостно носить в себе, поскольку сердце ёмко. Актёр, с потребностью ребёнка хорошим быть, любимым всеми. Это важнее всяких премий. Ну, как такого не любить? В беде идущего навстречу, к себе зовущего на вечер, чтоб яркой стихотворной речью, о главном громко говорить, как Маяковский, может быть. Он выразил себя и время. Но времени наперекор против рожна бесстрашно пёр, к запретной прорываясь теме. Он «Бабьим Яром» мир потряс: словно расстреливали нас, на миг евреями мы стали. А через год (в который раз) потряс – «Наследниками Сталина». Время с тех пор его состарило, но темперамент не угас. Должны мы должное воздать, нашёлся ль бы другой такой ещё, кто вдохновил бы Шостаковича симфонию-шедевр создать? Вот почему он столько лет в России больше, чем поэт. Не ангел он, не херувим, обычный человек, свой парень. А есть и те, кто был им ранен, и те, кто был обижен им. Я не оценщик, не судья людских поступков и ошибок. В его лице читаю я итог любого бытия - усталость, старость, боль ушибов.Очень узнаваемо написала о Евтушенко и очень добро.
* * *
Виктор Фёдорович Боков, родившийся 19 сентября 1914 года, был моим хорошим знакомым. Несмотря на огромную разницу в возрасте, мы были с ним на «ты». Это был удивительно жизнерадостный человек. От него исходило душевное тепло: он всем желал добра, играл на балалайке, пел сочинённые им частушки.
Трудно было поверить, что и он хлебал сталинскую лагерную баланду. Но это было так.
Это случилось, когда его в 1942-м призвали в действующую армию. И через короткое время арестовали «за разговоры»: нашёлся доносчик. Виктор был осуждён и отправлен в Сиблаг. Освободился в 1947-м. И с 1948 по 1956 отбывал ссылку (101 км) в Калужской области.
Любопытно, что он стал лауреатом Первого фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.
Я уже говорил о балалайке и о частушках. Да, стихи Бокова явственно опираются на русский фольклор. Ему близки традиции Кольцова, Некрасова, Есенина, Клюева, Исаковского. Стих его звучен, насыщен аллитерациями и ассонансами.
Мелодичность его стиха сказалась не только в его частушках, но в том, как легко песни на его стихи становились поистине народными песнями – «Оренбургский пуховой платок», «Я назову тебя зоренькой», «Гляжу в поля просторные».
За свою огромную жизнь (он умер 15 октября 2009 года на 96 году жизни: родился 19 сентября 1914-го) Боков выпустил большое количество книг, выступил на громадном количестве поэтических вечеров и всегда с неизменным успехом.
Таков уж был его характер, что его любили люди, враждовавшие между собой. Даже Андрей Вознесенский произнес: «Богу – Богово, а Бокову – боково»!
И Боков выдавал «боковое»:
Год был ягодный, Год грибной, С яркой радугой За спиной. С земляникою По буграм, С голубикою По углам. По болотинам, По низам - То-то радость Была глазам. Год был памятным На добро, Мне во всем тогда Так везло! Свистну в займище - Конь бежит, Ногу в стремя - Земля дрожит! Быстры реченьки Стелят мост, Грудь героя Горит от звёзд. Горы головы Клонят в дол, Расступается Тёмный бор. Красно солнышко Манит вдаль, В туеске моём Спит печаль.* * *
Хорошая знакомая Пушкина Елизавета Ксаверьевна Воронцова родилась 19 сентября 1792 года. Многие пушкинисты уверенно говорили и говорят об отношениях её с Пушкиным как о романе. Приводят в пример стихи, навеянные знакомством с Воронцовой, ссылаются на так называемый «дон-жуанский список» Пушкина, наконец, видят свидетельство былого романа и в том, что умирающий Пушкин просил, чтобы к его одру пришла именно Воронцова.
На мой взгляд, это чушь. Да, Воронцов был очень ревнив и невзлюбил Пушкина, заподозрив, что тот увлёкся его женой. Но в этом виноват Александр Раевский, тот, который послужил Пушкину натурщиком для стихотворения «Демон»: «…какой-то злобный гений / Стал тайно навещать меня. / Печальны были наши встречи: / Его улыбка, чудный взгляд, / Его язвительные речи / Вливали в душу хладный яд. / Неистощимой клеветою / Он проведенье искушал; / Он звал прекрасное мечтою; / Он вдохновенье презирал; / Не верил он любви, свободе. / На жизнь насмешливо глядел…»
Так вот. Роман Воронцовой был с Александром Раевским, который, однако, представил мужу в качестве любовника его жены Пушкина. Позже и Воронцов убедился в клевете Раевского и в том, что именно Раевский имел с его женой недозволенную связь: от Раевского Воронцова родила дочь.
А что же Пушкин? А Пушкин дружил с Елизаветой Ксаверьевной, которая была прекрасной музыкантшей-органисткой, устроительницей многих литературных вечеров, вообще, в отличие от мужа, любительницей искусства.
Ни в одном стихотворении, написанном Пушкиным о Воронцовой, мы не найдём страсти. Вот, пожалуй, самое откровенное проявление пушкинских чувств:
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла По небу стелется одеждою свинцовой; Как привидение, за рощею сосновой Луна туманная взошла… Всё мрачную тоску на душу мне наводит. Далёко, там, луна в сиянии восходит; Там воздух напоён вечерней теплотой; Там море движется роскошной пеленой Под голубыми небесами… Вот время: по горе теперь идёт она К брегам, потопленным шумящими волнами; Там, под заветными скалами, Теперь она сидит печальна и одна… Одна… никто пред ней не плачет, не тоскует; Никто её колен в забвенье не целует; Одна… ничьим устам она не предаёт Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных. … … … Никто её любви небесной не достоин. Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен; … Но если…Неясно, почему именно это стихотворение «назначено» пушкинистами быть обращённым к Воронцовой. Найдено оно не у неё, а среди пушкинских бумаг. Многоточия не разъяснены: за ними нет конкретных слов.
Конечно, чувства Пушкина обозначены здесь достаточно откровенно. Но Пушкин на Юге увлекался многими женщинами.
Сохранилось только одно письмо Пушкина 1833 года Елизавете Ксаверьевне в ответ на её просьбу поддержать его произведениями затеваемый ею литературный альманах. Пушкин отправил ей несколько сцен из какой-то трагедии (думают, что из «Русалки») и присовокупил: «Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не забыли самого преданного из ваших рабов?»
Но так радуют не любовницу, а друга.
Умерла Елизавета Ксаверьевна 27 апреля 1880 года.
* * *
С Семёном Израилевичем Липкиным, родившимся 19 сентября 1911 года, я был дружен так же, как с ним были дружны мои товарищи – Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин. А они многое записали о нём и с его слов в своих мемуарных книжках. Так что добавить какой-нибудь рассказанный Липкиным эпизод (а он был прекрасным рассказчиком) мне затруднительно. Разве что вспомнить любимый его анекдот о короле и еврее-барабанщике?
Итак, король производит смотр своих войск. К каждому солдату и офицеру он обращается с тремя вопросами: «Ты меня знаешь?», «Ты меня любишь?», «Ты меня не убьёшь?»
Понятно, что ответы король получает однотипные: «Так точно, Ваше Величество!», «Так точно, Ваше Величество!», «Никак нет, Ваше Величество!»
Настает очередь отвечать еврею-барабанщику:
– Ты меня знаешь?
– Ещё бы!
– Ты меня любишь?
– Вопрос?!
– Ты меня не убьёшь?
– Из чего? Из этого барабану?!!
Семён Израилевич был замечательным поэтом. Но писал стихи, которые очень холодно встречали советские редакторы. Знающий языки, человек высокой культуры, он взялся за переводы, которые выходили совершенными.
Особенно с восточных языков. Аккадский эпос «Поэма о Гильгамеше», калмыцкий эпос «Джангар», киргизский эпос «Манас», памятник индийской культуры «Бхагавадгита». Он переводил таджиков, узбеков, кабардинцев. Переводил с языка хинди. Писал письма Сталину от имени народов автономных республик, когда проходили их Декады в Москве. Обязательное стихотворное письмо вождю печатала «Правда».
Надо сказать, что последнее оказалось немаловажным для физического выживания Липкина. Сталину нравились эти написанные им письма.
Я не стану долго распространяться об истории с «Метрополем», из-за которой Липкин вместе с женой Инной Лиснянской вышли из Союза писателей. И, возможно, им пришлось бы уехать или бедствовать, если б через непродолжительное время не грянула перестройка. И Липкин получил возможность наконец-то публиковаться беспрепятственно:
О том, как был с лица земного стёрт Мечом и пламенем свирепых орд Восточный град, – сумел дойти до нас Короткий выразительный рассказ: «Они пришли, ограбили, сожгли, Убили, уничтожили, ушли». О тех, кто ныне мир поверг во мрак, Мы с той же краткостью расскажем так: «Они пришли как мор, как чёрный сглаз, И не ушли, а растворились в нас».Поздновато, конечно, он получил такую возможность. Но Бог продлил ему жизнь. Он умер 31 марта 2003 года.
* * *
Елизавета Михайловна Хитрово, родившаяся 19 сентября 1783 года, была дочерью Михаила Илларионовича Кутузова и другом Пушкина.
С Пушкиным она познакомилась в 1827 году и оказалась для него источником политических слухов и фактов. Она исправно писала Пушкину обо всём и радовалась, получая от него благодарственную весточку.
«Ваши письма, – писал ей Пушкин, – единственный луч, проникающий ко мне из Европы».
Она была старше Пушкина на 16 лет. И, кажется, была огорчена предстоящей женитьбой Пушкина. На что он отвечал: «Поверьте, что я останусь всегда самым искренним поклонником Вашего очарования, столь простого, Вашего разговора, столь приветливого и столь увлекательного, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших светских дам».
Умел Пушкин льстить дамам. Даже таким не слишком очаровательным, какой была Елизавета Михайловна, скончавшаяся 3 мая 1839 года.
* * *
Николай Фёдорович Погодин, пожалуй, единственный из литераторов, который за одну и ту же вещь получил сталинскую и ленинскую премии.
Ленинскую не только за эту, но и за эту тоже.
Речь о его пьесе «Человек с ружьём» на ленинскую тему. За эту пьесу он в 1941 году получил сталинскую премию 1-й степени.
А в 1959-м получает ленинскую премию за «Человека с ружьём», к которому прибавляет «Кремлёвские куранты» и «Третью патетическую», и всё вместе называет трилогией.
Впрочем, советские власти своих певцов не обижали. Сталин тоже мог дать премию за каждый том романа или за каждую его книгу.
Но, повторяю, чтобы сталинскую и ленинскую вместе – таких примеров я не помню.
Погодин получил ещё одну сталинскую 2-й степени за сценарий фильма «Кубанские казаки». Надо сказать, что название было придумано самим Сталиным, который тем самым твёрдо констатировал, что фильм зафиксировал самую что ни на есть настоящую реальность. А Пырьев (режиссёр) с Погодиным поначалу ставили комедию под названием «Весёлая ярмарка».
С 1951 и почти до самой смерти Погодин был главным редактором журнала «Театр». Умер 19 сентября 1962 года. Родился 16 ноября 1900 года.
20 СЕНТЯБРЯ
Нестор Васильевич Кукольник, родившийся 20 сентября 1809 года, стал любимцем Николая I, которому невероятно понравилась его пьеса «Рука Всевышнего отечество спасла», поставленная в 1834 году на сцене Александринского театра в бенефис актёра Каратыгина.
А до этого он был выпущен из гимназии без аттестата как один из основных обвиняемых по «делу о вольнодумстве», начатом по доносу после восстания декабристов.
Его первые литературные гимназические опыты не сохранились: их изъяли дознаватели по «делу о вольнодумстве». Реабилитированный по этому делу Кукольник обосновался в Вильно, где в 1829-1831 году преподавал в гимназии русскую словесность и издал на польском языке практический курс русской грамматики.
А дальше Петербург, куда он переезжает в 1831-м. Дальше та самая пьеса, так понравившаяся императору в 1834 году.
Кукольник обладал многими дарованиями. Кроме драматургии он пишет прозу в жанре авантюрного романа, пишет исторические повести, критические статьи, даже музыку.
Причём его драматургия рассматривается как буфер между российской исторической драмой первой трети XIX века и второй половины его. Он стоит у истоков русской драматической поэмы. Он первый использовал и ввёл в обиход приёмы и мотивы, которые станут характерными для А.К. Толстого, Л. Мея, даже М. Цветаевой. Кукольник первым в русской литературе представил новый тип жанра исторического романа, который с блеском будет писать во Франции его современник А. Дюма.
В период наибольшего творческого взлёта Кукольник сближается с композитором М. Глинкой и художником К. Брюлловым. Он участвует в судьбе Тараса Шевченко. Помогает М. Салтыкову-Щедрину и И. Никитину. Он соавтор стихов либретто опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». На его стихи писали музыку многие композиторы. В том числе Глинка («Жаворонок», «Попутная песня»), С. Монюшко, А. Варламов.
Но все эти дарования как бы пригашены отсутствием настоящего мощного таланта. Кукольник не стал ни великим, ни выдающимся. Что делать? Как говорится, чего не дано, того не дано.
Служил Кукольник хорошо, с рвением. Работал в канцелярии Военного Министерства, ездил по стране, изучал состояние горнодобывающей промышленности в районе Донбасса.
Крымская война 1853-1856 года застаёт Кукольника в Новочеркасске, где он прикомандирован к штабу Войска Донского. Кукольник весьма успешно занимается снабжением армии. В отставку выходит в чине действительного статского советника и поселяется в Таганроге. И здесь проявляется его неутомимая деятельность. Он обосновал необходимость университетского образования на юге. В конце концов, в Одессе был открыт Новороссийский университет. Начиная с 1865 года, Кукольник возглавлял рабочую группу по обоснованию и выбору трассы железной дороги от Харькова к Таганрогу. В 1868 году Александр II утвердил выводы рабочей группы. Кукольник содействовал открытию в ходе судебной реформы Окружного суда в Таганроге.
Далеко не всем нравилась его деятельность. У него было много врагов среди провинциальной знати. Он высмеял её в своей последней драме «Гофф-юнкер», запрещённой фактически по указанию императора.
Умер Кукольник внезапно 20 декабря 1868 года. Оставив о себе память как об очень деятельном чиновнике и литераторе.
* * *
Гриша Поженян, мой старший товарищ, с которым мы крепко дружили.
Григорий Михайлович Поженян родился 20 сентября 1922 года и умер в день своего рождения в 2005 году.
Во время войны служил на Черноморском флоте, в диверсионном отряде: взрывал мосты.
В августе 1941 диверсионная группа, в которой находился Поженян, сумела отбить водозаборную станцию в захваченной румынскими войсками Беляевке. Разведчики попытались запустить насосы и подать воду в испытывающую нехватку Одессу. Почти все участники операции погибли. Поженян был ранен, но и его посчитали погибшим. В Одессе на улице Пастера, 27 установлена мемориальная доска памяти погибших, среди имён ошибочно выбито имя Поженяна. Эта история потом послужит Поженяну материалом для киносценария «Жажда» (1959) Фильм поставит Евгений Ташков, а роль главного героя лейтенанта сыграет Вячеслав Тихонов.
Гриша был дважды ранен и однажды контужен. Начав войну краснофлотцем, он закончил её капитан-лейтенантом.
Стихи писал и печатал ещё во фронтовых газетах.
В 1946 году поступил в Литинститут, откуда его два раза исключали в рамках борьбы с космополитизмом. Окончил институт в 1952-м.
Так или иначе, принимал участие во многих фильмах. В некоторых как автор сценария. В 1966 году выступил режиссёром фильма «Прощай», для которого написал сценарий и тексты песен.
С этим фильмом связан интересный эпизод.
Перед началом съёмок Поженян попросил поднять руку тех, кто состоит в Коммунистической партии. И, осмотрев своих коммунистов, объявил им: «Предупреждаю: на время съёмок ваша партия уходит в подполье!». Грише это сошло с рук.
Он написал массу стихов, которые стали песнями. Некоторые из них «Два берега», «Песня о друге» (из кинофильма «Путь к причалу»), «Маки» были очень популярны.
В 1986 году за стихотворный сборник «Погоня» получил Государственную премию РСФСР. В 1995-м он вновь получает Госпремию России. Но она уже не советская республика, а цельная страна.
Вспомним Гришу Поженяна стихотворением, которое он посвятил своему другу Г. Гельштейну:
Спешите делать добрые дела, пока ещё не склёвана рябина, пока ещё не ломана калина, пока берёста совести бела. Спешите делать добрые дела. В колесах дружбы так привычны палки, в больницах так медлительны каталки, а щель просвета так порой мала. А ложь святая столько гнёзд свила, анчары гримируя под оливы. У моря всё отливы и отливы, хоть бей в синопские колокола. Пока сирень в глазах не отцвела, и женщины не трубят в путь обратный, да будут плечи у мужчин квадратны!… Спешите делать добрые дела.* * *
До разысканий в архивах мало кто знал Тимофея Петровича Калашникова, жившего в XVIII веке. В «Русском архиве» 1904 года была опубликована «Жизнь незнаменитого Тимофея Петровича Калашникова, простым слогом писанная с 1762 по 1794 год». Но сын Тимофея Ивановича Иван Тимофеевич Калашников оставил свой след в русской литературе.
Он дебютировал в печати в 1817 году с краеведческими очерками об Иркутске и Иркутской губернии. Выступал в журнале «Сын Отечества» со стихами, начиная с 1829 года. Изобразил провинциальную жизнь в романах «Дочь купца Жолобова» (1832 и 1842, переведён на немецкий) и «Камчадалка» (тоже выходил двумя изданиями в 1833 и в 1843). Автор повестей «Изгнанники» (1834), «Жизнь крестьянки» (1835), романа о жизни и злоключениях бедного добродетельного чиновника «Автомат» (1841). Наконец, он оставил мемуары «Записки иркутского жителя», впервые, однако, напечатанные в «Русской Старине» только в 1905 году.
Вроде разделил судьбу отца? Тоже остался неизвестным? Но современники Ивана Тимофеевича так не считали. К примеру, Н.А. Некрасов писал в одной небольшой своей библиографической работе: «…перейдём к старой нашей знакомке, которая явилась очень кстати вторым изданием, чтобы утешить нас несколько на бесплодной почве русских романов. «Камчадалка» И.Т. Калашникова принадлежит к числу тех книг, которые можно прочесть два и три раза с одинаким удовольствием. Обычаи и нравы камчадалов, картины сибирской природы, которые г. Калашников умеет так мастерски иллюминовать и оживлять, невольно завлекают ваше любопытство и представляют вам предмет совершенно новый и в высшей степени интересный. Некоторые характеры этого романа обрисованы весьма удачно, и нить самих происшествий занимательна, потому что драма разыгрывается между свежим и малоизвестным нам народом. Подробности этого романа заставляют невольно желать, чтобы г. Калашников издал нам когда-нибудь книгу о Сибири, с которой он так коротко знаком и которую умеет так хорошо изображать в простодушном и занимательном рассказе. Мы ещё очень мало знаем эту часть нашего отечества, и верная её картина, начертанная образованным и умным пером, была бы истинным подарком для русской литературы. Но мы ещё ждём этого труда от почтенного автора «Камчадалки», и он, верно, не заставит нас дожидаться слишком долго. А пока – советуем прочесть его «Камчадалку».
«Камчадалку» и «Автомат» можно прочесть и сегодня в электронной библиотеке Максима Мошкова.
К этому добавим, что в 1842 году Калашников выступил со статьёй «Патриотический взгляд на русскую литературу», где оспаривал знаменитое утверждение Белинского, что «у нас нет литературы».
Умер Иван Тимофеевич 20 сентября 1863 года. Родился 2 ноября 1797 года.
* * *
Михаила Александровича Лифшица очень ценил как мыслителя Александр Трифонович Твардовский.
Лифшиц вместе с другим философом Д. Лукачем основали кружок, объединившийся вокруг журнала «Литературный критик». Кружок ставил своей целью реконструировать эстетические взгляды Маркса. К кружку примкнул писатель Андрей Платонов. Но науськиваемые Фадеевым официальные критики В. Кирпотин, В. Ермилов объявили взгляды Лифшица «страшным течением», которое даёт советским писателям неверные образцы для подражания вроде Платонова. Лифшиц ответил им в «Литературной газете» «В чём сущность спора?» Однако вопрос, который он задал, был закрыт постановлением ЦК, ликвидировавшим «Литературный критик».
Во время войны Лифшиц добровольцем уходит на фронт. И попадает в окружение. Он выходит из него без документов, которые он уничтожил (в том числе и партбилет). Только заступничество Твардовского спасло философа.
Я очень хорошо помню статью Лифшица «Дневник Мариэтты Шагинян», напечатанную при первом редакторстве Твардовского в «Новом мире» в 1954 году. То есть, статью я прочитал несколько позже. Но скандал, который разгорелся после её выхода, был очень громким. Лифшица били все органы печати. Он был исключён из партии. Когда в первый раз снимали Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», статья Лифшица оказалась одним из веских доводов для такого партийного решения.
Твардовский продолжал дружить с Лифшицем. Когда его снова назначили главным редактором «Нового мира», и встал вопрос о публикации «Одного дня Ивана Денисовича», Твардовский попросил Лифшица написать рецензию на эту вещь. Тот откликнулся. Рецензию Лифшиц закончил так: «Было бы преступлением оставить эту повесть ненапечатанной. Она поднимает уровень нашего сознания. Советская власть от этого не пострадает, а только выиграет».
Повесть была напечатана во многом благодаря этой рецензии. Но Солженицына подобное раздражало. Что проявилось несколько позже, когда он назвал Лифшица «ископаемым марксистом». На что Лифшиц ответил, что ископаемые бывают полезными и что лучше быть ископаемым марксистом, чем ископаемым защитником реставрации Бурбонов.
Огромную полемику в печати вызвала статья Лифшица «Почему я не модернист?», опубликованная в «Литературной газете». Название пародировало статьи позитивиста Бертрана Рассела «Почему я не коммунист?» и «Почему я не христианин?». Так называемые «прогрессивные» литераторы ополчились на Лифшица: он, дескать, выступает против пафоса западной литературы. А мне статья понравилась. Я разделял её основной вывод: «Начиная со времён Ницше… реакционная мысль нащупала новую форму оправдания своего господства. Главным направлением… стало отрицание объективных норм истинного, нравственного и прекрасного, подчёркивание негативной, разрушительной стороны человеческой пневмы……Бунт против разума, освобождение совести от всяких стеснений… Современная духовная проституция состоит именно в этом выворачивании наизнанку прежних канонов и догм буржуазной идеологии. Нынешний мещанин не верит больше в нетленную красоту Венеры Милосской и Аполлона Бельведерского. Он повторяет банальности ходячего релятивизма, утверждающего, что нет никакой объективной истины, что все эпохи и стили одинаково хороши, что безобразное имеет даже преимущество перед прекрасным, потому что оно более «провоцирующее».
По-моему, эта мысль актуальна и сегодня.
Скончался Михаил Александрович 20 сентября 1983 года. Родился 23 июля 1905 года.
* * *
6 марта 1831 года из Москвы в Смоленск идёт письмо:
«Милостивый государь
Николай Иванович.
Спешу ответствовать на предложение Вашего превосходительства, столь лестное для моего самолюбия: я бы за честь себе поставил препроводить сочинения мои в Смоленскую библиотеку, но вследствие условий, заключённых мною с петербургскими книгопродавцами, у меня не осталось ни единого экземпляра, а дороговизна книг не позволяет мне и думать о покупке.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть, милостивый государь,
Вашего превосходительства покорнейшим слугою.
Александр Пушкин.
6 марта 1831.
Москва.
Дав официальный ответ на официальное письмо Ваше, позвольте поблагодарить Вас за Ваше воспоминание и попросить у Вас прощения, не за себя, а за моих книгопродавцев, не высылающих Вам, вопреки моему наказу, ежегодной моей дани. Она будет Вам доставлена непременно. Вам, любимому моему поэту; но не ссорьте меня с смоленским губернатором, которого, впрочем, я уважаю столь же, сколько Вас люблю.
Весь Ваш».
Письмо адресовано Николаю Ивановичу Хмельницкому, к которому Пушкин относится очень дружественно. А просьба не ссорить его со смоленским губернатором – шутлива. Ибо Николай Иванович и есть тот самый смоленский губернатор, который по всей очевидности просил Пушкина прислать свои книги для смоленской библиотеки.
Но Пушкин ценит Хмельницкого не только за доброту и человечность. Он ценит драматурга Хмельницкого.
Тот в 1817 году перевёл комедию Л. Буасси «Говорун». Причём сократил пятиактную пьесу до одного действия и наполнил её «петербургскими» реалиями. В результате у Хмельницкого получилась одна из самых изящных «салонных» комедий того времени. Успех сопутствовал и переделке комедии Реньяра «Шалости влюблённых». Хмельницкий оказался в центре театральной жизни Петербурга. Следующая его «светская» комедия «Воздушные замки» (1818) – вольная обработка комедии Коллена Д’Арлевиля. Наиболее серьёзной литературной заслугой Хмельницкого является перевод мольеровских «Школы женщин» и «Тартюфа». В обоих переводах Хмельницкий по своей привычке допускает большие водевильные вольности.
Своими комедиями, эстетизировавшими «светскость», Хмельницкий оказал влияние на драматургию и прозу 1820-1830-х годов. Он встал у истоков замечательной литературы, сыграл значительную роль в культуре той эпохи. Не оценить этого Пушкин не мог.
Умер Николай Иванович Хмельницкий 20 сентября 1845 года. Родился 22 августа 1789 года.
21 СЕНТЯБРЯ
Юз Алешковский, мой хороший товарищ. Я бы даже сказал так: мой и поэта Владимира Соколова. Мы чаще всего встречались втроём. А после отъезда Юза в первое время у нас обоих было ощущение сиротства.
Юз не только писал великолепные песни, он писал прекрасную прозу. Он писал её на языке советских партийных работников и органов безопасности. А их язык был матерным. Поэтому если Михаил Зощенко представил нам СССР как страну полуграмотного мещанства, то Иосиф Ефимович Алешковский, рождённый 21 сентября 1929 года, представил СССР как страну-тюрьму, страну-концлагерь.
Он пел песни, подыгрывая себе стуком ладоней по столу. Он хорошо владел юмором. Но, смеясь, он говорил о печальном, а то и о страшном.
По-моему, меньше всего известна «Песня Молотова», написанная Юзом совместно с Г. Плисецким в то время, когда Молотова сковырнули со всех постов и сослали послом в Монголию:
Антипартийный был я человек, я презирал ревизиониста Тито, а Тито оказался лучше всех, с ним на лосей охотился Никита. Сильны мы были, как не знаю кто, ходил я в габардиновом костюме, а Сталин – в коверкотовом пальто, которое достал напротив, в ГУМе. Потом он личным культом занемог и власть забрал в мозолистые руки. За что ж тяну в Монголии я срок? Возьми меня, Никита, на поруки! Не выйдет утром траурных газет, подписчики по мне не зарыдают. Прости-прощай, Центральный Комитет, и гимна надо мною не сыграют. Никто не вспомнит свергнутых богов, Гагарина встречает вся столица. Ах, Лазарь Моисеич, Маленков, к примкнувшему зайдём опохмелиться!Однажды Юз написал в своей автобиографической статье, что «сегодня, как всегда, сердечно славословя Бога и Случай за едва ли повторимое счастье существования, я горько жалуюсь и горько слезы лью, но, как бы то ни было, строк печальных не смываю; жену, детей, друзей и Пушкина люблю, а перед Свободой благоговею».
Дай Бог ему ещё долгой жизни!
* * *
Лёня Киселёв, рано умерший поэт. Прожил на свете всего 22 года.
Сын заведующего корпунктом нашей «Литературной газеты» в Украине Володи Киселёва Леонид Владимирович Киселёв родился 21 сентября 1946 года. Рано стал писать стихи. «Новый мир» Твардовского в 1963 году опубликовал подборку школьника Леонида Киселёва. И это было признанием дарования. Твардовский скидку ни для кого не делал.
Лёня поступил в Киевский университет на переводческое отделение иностранных языков. Но переводить не пришлось: рак крови сожрал его быстро: он умер 19 октября 1968 года.
Кстати, писал Лёня стихи на русском и украинском.
В память о нём приведу его стихотворение на русском:
Дайте Тютчеву стрекозу, Догадайтесь, почему. Веневитинову – розу… Остальных на Колыму. Дайте пулю Гумилёву, Сам предвидел, сам просил. Пусть смердит живое слово От наркомовских чернил. Убивайте, чтоб уснули, Чтоб не встали, сдохли чтоб. Бейте пулей, верной пулей, Ртутной пулей в бледный лоб. Убивайте, ваше право, Ваша должность, ваша власть. Ты бросаешь нас, держава, В окровавленную пасть. Бережёт тебя начальство От невзгоды от любой. Но подумай: в смертный час твой Кто останется с тобой.* * *
Михаил Викторович Панов, родившийся 21 сентября 1920 года, – очень крупный учёный-лингвист. Его вклад в русскую морфологию существенен: ему принадлежат работы о проблеме членимости слова. В исследованиях по фонологии его интересовали тенденции эволюции русской морфологической системы. Новаторскими были работы Панова социолингвистического характера. Много внимания уделял Панов прикладным проблемам русистики.
Он один из выдающихся популяризаторов языкознания. Писал для детей. «Энциклопедический словарь юного филолога» (1984) – пример блистательного доступного разговора об очень сложных вещах.
Панов работал в Институте русского языка, где вступил в конфликт с директором Ф. Филиным и партийным руководством. Дело в том, что Михаил Викторович заступался за инакомыслящих сотрудников. За это его исключили из партии, в которую он вступил на фронте, и уволили. На 20 лет задержали выход его книги по истории русского литературного произношения.
Он устроился на работу в НИИ национальных школ. Одновременно читал лекции, пользующиеся огромной популярностью как почасовик в МГУ. В середине 1990-х преподавал в Московском государственном гуманитарном университете имени М.А. Шолохова, который нынче соединили с МПГУ. Был Шолоховский одним из самых поганых университетов в Москве. Туда и выдавили Панова.
Так по существу расправились с выдающимся человеком, который умер 3 ноября 2001 года.
Но посмертная жизнь его произведений, кажется, обещает быть счастливой. Их переиздают. А о самом авторе недавно написал хорошую книгу литературовед Владимир Новиков.
* * *
О Сергее Александровиче Поделкове, родившемся 21 сентября 1912 года, я упоминал в заметке о Борисе Корнилове.
Дело в том, что по одному и тому же делу арестовали Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова и Сергея Поделкова. Васильева и Корнилова расстреляли. Смелякова отправили в ГУЛАГ, а Поделков из тюрьмы был освобождён.
Разумеется, это ещё ничего не значит.
Значило поведение Смелякова с Поделковым: Ярослав его чаще всего в упор не видел. Однажды Поделков подошёл к столику, за которым среди других сидел Смеляков. Смеляков встал и бросил: «С гнидами сидеть не буду!». И ушёл.
Мне говорил Володя Соколов, который был более близок с Ярославом, чем я, что Смеляков не просто подозревал Поделкова, но следователь давал читать ему доносы, устраивал с Поделковым очную ставку.
С другой стороны, Поделков после освобождения много сделал для реабилитации своего бывшего самого близкого друга – Павла Васильева. Добился издания книг, писал о нём.
Так что как было на самом деле, я утверждать не берусь.
Стихи Поделкова мне никогда не нравились. Он работал напротив меня на шестом этаже на Цветном бульваре, когда там находились «Литературная газета» и «Литературная Россия». Поделков ведал стихами в «ЛитРоссии», был членом редколлегии. Членов редколлегии, ведающих у себя стихами, другие издания, точнее работавшие в них руководящие поэты печатали охотно по известному принципу «Ты – мне, я – тебе». Так что ничего необычного.
А вот то, что Поделков купил дачу рядом с Куняевым, Фирсовым, Шевцовым и другими, что он вошёл в их кружок, как они именовали его, «радонежцев» – это знаменательно. «Радонежцы» были националистической, а скорее, даже нацистской организацией, которую опекала милиция Сергиево-Посадского района Московской области, опекал райком партии. «Радонежцам» охотно устраивали выступления в воинских частях.
Умер Поделков 6 марта 2001 года.
* * *
Леонид Николаевич Трефолёв, родившийся 21 сентября 1839 года, не был большим поэтом.
Как стихотворец он формировался в некрасовской традиции. Герои его поэзии – городская беднота, униженные простонародные женщины, нищее крестьянство. Но стихи Трефолёва всего только фиксировали жизнь, они лишены чёткой эмоциональной направленности автора. Он жалеет своих героев, но выхода для них не видит.
Трефолёв был ещё и переводчиком. Он переводил в основном стихи славянских и польских поэтов. Перевод стихотворения «Ямщик» («Почтальон») польского поэта В. Сырокомли под названием «Когда я на почте служил ямщиком» стал русской народной песней. Народными песнями стали и «Дубинушка», и «Песня о камаринском мужике» – стихи того же Трефолёва, положенные на музыку.
Скончался 11 декабря 1905 года.
* * *
Иоганна Петера Эккермана, родившегося 21 сентября 1792 года, многие знают как литературного секретаря Гёте, записавшего удивительно интересную книгу «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни». Немцы часто оттуда цитируют фразы Гёте, доверяя источнику: Эккерман действительно проникал в душу своего гениального собеседника.
Он опубликовал и посмертные произведения Гёте 1832-1833 годов. Вместе с другим секретарём Гёте библиотекарем Фридрихом Вильгельмом Римером был соредактором Полного собрания сочинений Гёте в 40 томах (1839-1840).
Сам Эккерман был поэтом. Он выпустил две книги стихов в 1821 и 1838 годах. Но в Интернете я его стихов в переводе на русский не нашёл. Нашёл только афоризм Эккермана: «Правду мы узнаём только от тех, кого мы любим». Неплохо схвачено. От врагов мы узнаём только факты, а всю правду – от любящих нас людей!
Умер Эккерман 3 декабря 1854 года.
* * *
Самуил Залманович Галкин перевёл на идиш трагедию Шекспира «Король Лир». Её постановка Еврейским театром стало событием культурной жизни, а исполнитель роли короля Лир Соломон Михоэлс был признан одним из лучших в мире исполнителей этой роли.
Галкин написал и трагедию «Геттоград» (русские названия «Восстание в гетто», «За жизнь»). Её тоже собирался поставить Еврейский театр, но не смог: её премьера не состоялась из-за ликвидации театра в 1949 году.
В феврале 1949 года Галкина арестовали как члена Еврейского Антифашистского комитета. Через недолгое время из-за обширного инфаркта он попал в тюремную больницу, что спасло ему жизнь. Потому что его подельники Перец Маркиш, Лев Квитко, Ицик Фефер, Давид Гофштейн были расстреляны. Галкин же после пребывания в ГУЛАГе был реабилитирован в 1955 году и вернулся в Москву.
Стихи, посвящённые пережитому в заключении, Галкин смог напечатать только в Париже в журнале на идише. Кроме того они включены в посмертное издание поэта.
На русский язык Галкина переводили достойные поэты М. Петровых, А. Ахматова, Л. Гинзбург.
А на иврит их перевёл двоюродный брат поэта Шимон Галкин.
Умер Самуил Залманович 21 сентября 1960 года. Родился 5 декабря 1897-го.
Стихотворение Галкина в переводе Ахматовой:
Мне звезда отрадна эта Чистотой и силой света, Тем, что ни одно светило Свет подобный не струило, Тем, что блеск её ночной В капле заключён одной. Мне звезда отрадна эта Тем, что блещет до рассвета, Тем, что, блеск на воды сея, Не становится тусклее, На своём пути большом - С звёздной выси в водоём. Мне звезда отрадна эта Щедростью безмерной света, Тем, что, свет её вбирая, Я безмерность постигаю, Тем, что сразу отдана Небу и земле она.* * *
Бенедикт Константинович Лившиц печатался много, примыкал к кубофутуристам. На Первую мировую войну ушёл добровольцем, был ранен, награждён Георгиевским крестом за храбрость.
В 1922 году поселился в Петрограде. Опубликовал четыре сборника стихов. Но после 1928 года стихов практически не писал, хотя работал над циклом «Картвельские оды».
Много занимался художественным переводом. Вячеслав Всеволодович Иванов считает Лившица одним из лучших интерпретаторов французского символизма, особенно – поэзии Артюра Рембо.
В 1934 году издал сборник переводов французской поэзии «От романтиков до сюрреалистов». Но известность снискал книгой «Полутороглазый стрелец» (1933) – о футуристическом движении 1910-х годов.
25 октября 1937 года он был арестован. 20 сентября 1938-го приговорён к расстрелу. И расстрелян на следующий день вместе с писателями и поэтами Юрием Юркуном, С.М. Дагаевым, Валентином Стеничем и В.А. Зоргенфреем. Родился же Бенедикт Константинович 6 января 1887 года.
* * *
Константин Петрович Масальский известность начал приобретать в начале 1830-х годов, когда стали появляться в печати его исторические романы и повести. Хорошо выстроенный авантюрный сюжет заинтриговывал читателя. Даже Белинский, строго оценивая поверхностность передаваемых писателем исторических фактов, признавал за ним ум и прекрасную форму изложения.
В 1842-1843 и в 1847-1852 редактировал журнал «Сын Отечества», помещал в них свои материалы под псевдонимом «Русский». В журнальной полемике тех лет поддерживал булгаринскую «Северную пчелу». В 30-е годы выступал противником романтического идеализма, а в 40-е – противником натуральной школы. Написал пародию на «Мёртвые души» Гоголя – «Повесть о том, как Петушков, Цыплёнков и Тетерькин сочиняли повесть».
Умер 21 сентября 1861 года. Родился 25 сентября 1802-го.
Некоторые его исторические романы и повести переизданы в 1980-1990-е годы.
* * *
Лидия Андреевна Русланова была арестована в 1948 году сразу после ареста мужа, генерал-майора Владимира Крюкова, близкого соратника Жукова.
Разумеется, мародёрство победители продемонстрировали отменное. Предметы роскоши, искусства упаковывались в ящики, грузились в вагоны и вагонами вывозились на квартиры и дачи командования. В этом смысле Жуков мало чем отличался от своих друзей-генералов.
Но арестовывали генералов не за мародёрство.
Госбезопасность объявила о «заговоре военных» и, начиная с середины 1948-го, арестовала почти всех генералов из окружения Жукова с целью выбить из них показания против него.
Ясно было, что Сталин собрался приватизировать победу и держать рядом с собой человека, чья фамилия в последние годы войны звучала даже чаще, чем фамилия Верховного главнокомандующего, Сталин не будет.
Жуков был сослан командовать Одесским округом, а его ближайшее окружение было отправлено в лагеря и тюрьмы.
Русланова вообще обожала предметы роскоши, и вместе с предъявленным ей стандартным обвинением «антисоветская пропаганда», её обвинили в «грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах». Русланова не признала себя виновной в грабеже и мародёрстве, объяснила природу происхождения её драгоценностей и антикварных вещей: она получала большие деньги за концерты, на которые всё это приобрела. Тем не менее получила она 10 лет с конфискацией имущества.
Сперва её отправили в село Изыкан Иркутской области. Там она строила здание нового клуба и новые рубленные из бруса дома. После Изыкана её перевели в Тайшет. Там в Озёрлаге было много репрессированных актёров, певцов, музыкантов. Русланова давала концерты не только начальству, но и в самом исправительно-трудовом лагере.
В 1950-м из Озёрлага её перевели во Владимирскую тюрьму. Причиной был донос капитана Меркулова: «Русланова распространяет среди своего окружения антисоветские, клеветнические измышления, и вокруг неё группируются разного рода вражеские элементы из числа заключённых». В конце доноса Меркулов ходатайствовал о замене Руслановой 10 лет лагерей на десять лет тюрьмы.
Во Владимирской тюрьме в это время сидела актриса Зоя Фёдорова, с которой Русланова подружилась. Тюремное начальство просило певицу устроить для него концерт, на что Русланова, глядя на решётку, отвечала: «Соловей не поёт в клетке».
Её муж был осуждён на 25 лет лагерей с конфискацией имущества и с лишением всех боевых наград.
25 апреля 1953 года сразу после смерти Сталина Крюков написал заявление в ЦК о пересмотре его дела и дела его жены. Он весьма убедительно отвёл все обвинения в хищениях и мародёрстве.
В начале августа Русланову реабилитировали и освободили. В Москве она жила в гостинице ЦДКА (квартиру конфисковали). Тяготясь одиночеством, она часто бывала на квартире своего друга Виктора Ардова, где почти постоянно жила Анна Ахматова.
В конце августа освободили и Крюкова. Тюрьма подорвала здоровье обоих. Русланова поставила перед собой цель – вернуться на сцену. И уже через полтора месяца она начала выступать.
На первом после возвращения на сцену концерте желающим не хватило места. Зал Чайковского был оцеплен конной милиции, концерт транслировали по радио…
А как блистательно она начинала. В течение всего периода гражданской войны она выступала перед бойцами Красной армии.
В 20-е годы оформился её стиль. Она выходила на сцену в крестьянской одежде, пела народные песни.
Это было время первых пластинок. Пластинки с её исполнением выходили массовыми тиражами. Концерты по радио собирали у репродукторов толпы народу. В Париже её услышал Шаляпин и делился своим впечатлением в письме к другу: «Вчера вечером слушал радио. Поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой. И вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Всё детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь её, передай от меня большое русское спасибо».
В 30-е году Русланова ездила по всему Советскому Союзу. Она была самой высокооплачиваемой артисткой страны. На заработанные деньги покупала картины русских художников, иконы, старинную мебель, украшения. Любила хорошо и дорого одеваться.
На финской войне Русланова ездила выступать перед бойцами в тридцатиградусный мороз. Принимала стрептоцид, чтобы не потерять голос от простуды.
В начале Великой Отечественной в репертуаре Руслановой появились знаменитые «Валенки». Она ездила по фронту, многократно выступая перед бойцами.
В 1942 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
На свои деньги Лидия Русланова покупает две батареи «катюш», которые отправляют в 1 Белорусский фронт, в корпус, которым командовал её муж.
2 мая 1945 года у стен рейхстага Русланова выступала вместе с казачьим ансамблем песни и пляски. Концерт продолжался до ночи. Маршал Жуков снял с себя орден и вручил Руслановой. Она расписалась углём на колонне рейхстага.
Всего во время войны она дала 1120 концертов. Маршал Жуков лично подписал приказ о награждении Лидии Андреевны орденом Отечественной войны 1 степени.
Ну, а дальше началось то, с чего я начал. В 1947 году вышло постановление ЦК «О незаконном награждении т.т. Жуковым и Телегиным певицы Л. Руслановой и других артистов орденами и медалями Советского Союза». Наград Лидию Русланову лишили. Сталин исключительно по-своему благодарил Жукова и его окружение.
Ей так и не присвоили звания народной артистки. Ни РСФСР, ни СССР.
21 сентября 1973 года Русланова скончалась от сердечного приступа. В последний путь её провожало столько народа, что пришлось у Новодевичьего кладбища остановить транспорт. Родилась она 27 октября 1900 года.
* * *
Старшая дочь Льва Николаевича Толстого Татьяна Львовна Сухотина-Толстая вела дневники с 14 лет. И продолжала их вести ещё 40. На основании дневников написала свои «Воспоминания».
Была она последовательницей учения своего отца. С 1917 по 1923 состояла на службе: хранитель музея Ясная Поляна.
Но в отличие от нынешних потомков Толстого, к власти не прилипала. С 1925 года она уехала в эмиграцию. Участвовала в работе благотворительного Толстовского фонда, который поддерживал бедствующих писателей-эмигрантов.
Остаток жизни провела в Италии. Умерла в Риме 21 сентября 1950 году. В Риме же и похоронена. На протестантском кладбище. Родилась 4 октября 1864 года.
* * *
Вальтер Скотт в России был так же знаменит, как поэт Байрон. И тому и другому подражали.
Впрочем, как и Байрону, Скотту подражали не только в России. Его исторические романы пользовались повсеместной известностью.
Романы делятся на две группы. Первая посвящена прошлому Шотландии. Вторая – прошлому Англии и континентальных стран.
В своё время Вальтер Скотт купил типографию. Чтобы окупить её, ему приходилось очень много писать. Но не только собственные романы печатал у себя Скотт. Он напечатал более 70 томов других авторов.
В 1831 году Скотт почувствовал себя плохо. Ему посоветовали ехать в Италию. Но до Италии он не доехал, вернулся в своё поместье, где несколько месяцев находился в полубессознательном состоянии.
В своём поместье 21 сентября 1832 года он и скончался. Родился 15 августа 1771 года.
22 СЕНТЯБРЯ
Я успел познакомиться с Ильей Захаровичем Серманом в Иерусалиме, куда приехал на научную конференцию, посвящённую 3000-летию Иерусалима по приглашению Еврейского университета.
Оказалось, что он в этом университете преподаёт.
Я хорошо знал о событиях, предшествовавших эмиграции его и жены – писательницы Руфи Зерновой.
Сам он был арестован в 1949-м за антисоветскую пропаганду. Отбывал срок (дали 25 лет) в Магаданской области. Амнистирован в 1954-м. Реабилитирован в 1961 году.
После амнистии работал по договорам с издательствами. С 1956 года младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом), с 1961-го старший научный. Докторскую диссертацию защитил по XVIII веку: «Русская поэзия XVIII века (от Ломоносова до Державина)» в 1969 году. Участвовал в комментировании и текстологической подготовке изданий Лермонтова, Белинского, Чернышевского, Некрасова, Лескова. Читал лекции в ЛГУ.
Но в 1975 году в эмиграцию выехала дочь. Чтобы уехать в эмиграцию детям, родители должны были дать на это письменное согласие. Серман и Зернова такое согласие дали. И, разумеется, за это поплатились. Зернову перестали печатать, а Серман был вынужден уволиться из ИРЛИ в 1976 году. Оказавшись без работы, то есть без средств существования, супруги сами уехали в эмиграцию.
Я взял у Ильи Захаровича текст его выступления на конференции и опубликовал его у себя в газете «Литература» (ИД «Первое сентября»). Было это в 1999 году.
Я расхвалил ему его «Державина», который вышел в «Библиотеке словесника» в 1967 году. Это и решило судьбу его статьи. Поначалу он никак не хотел отдавать её в «Литературу»: «Газета же для учителей? А у меня, если это для учителя, то очень продвинутого!»
Тут я рассказал о своей беседе с учителем – автором «Литературы» о «Державине» Ходасевича. «А вы читали, – спросил меня учитель, – «Державина» Сермана?» Я читал, но очень удивился, что эту книгу читал и мой собеседник. И мы с ним оживлённо стали обсуждать «Державина» Ильи Захаровича.
«Умеете вы льстить, – заулыбался Серман. – Ну, хорошо. Даю Вам статью. Номер-то пришлёте?»
Я послал ему газету. Он позвонил, поблагодарил и попросил, если можно, прислать ему какие-то другие номера: газета его заинтересовала. Я послал ему полугодовую подшивку с оказией. Он снова позвонил. Много и хорошо говорил о газете. Пообещал прислать мне ещё что-нибудь. Но сказал, что в данный момент ничего не пишет: чувствует себя неважно.
А потом уже он позвонил году в 2006-м. Собрался, наконец, прислать что-то в «Литературу». Но я там уже год не работал.
Так ничего у нас не вышло с постоянным его сотрудничеством.
Когда я пришёл в «Вопросы литературы», я тут же послал ему письмо с предложением печататься. Он откликнулся. Долго оговаривал тему, а потом сказал, что чувствует себя неважно. Будет чувствовать получше, напишет и пришлёт. Я ждал. Но не дождался. 9 октября 2010 года Илья Захарович скончался. Родился он 22 сентября 1913 года.
* * *
Помните в «Евгении Онегине»:
Архивны юноши толпою На Таню чопорно глядят.Кто такие «архивны юноши», можно узнать из любого комментария, а вот кто придумал этот термин, комментаторы не пишут. Его придумал Сергей Александрович Соболевский, родившийся 22 сентября 1803 года, который и сам с 1822 года служил в архиве Коллегии иностранных дел. «Архивными юношами» он назвал своих коллег – любомудров Дмитрия Веневитинова, Петра Киреевского и Степана Шевырёва. Вот кто чопорно смотрел на пушкинскую Татьяну.
Очень общительный Соболевский был знаком со многими литераторами. Был дружен с Пушкиным. В 1820 году готовил к печати «Руслана и Людмилу» (автор был выслан из Петербурга), посредничал в 1825-1826 годах между Пушкиным и «Русским телеграфом», а после освобождения Пушкина из ссылки в 1826-м по агентурным донесениям возил поэта по трактирам, поил и кормил.
В доме Соболевского на Собачьей площадке Пушкин прожил полгода в 1826-1827. Здесь он читал друзьям «Бориса Годунова». Позже Соболевский вёл издание Второй главы «Онегина», «Братьев-разбойников» и «Цыган». Уезжая в Петербург, Пушкин заказал для Соболевского свой портрет московскому художнику В.А. Тропинину.
Соболевский привёз Пушкину из Франции стихи Адама Мицкевича, которые Пушкин упоминает в примечаниях к «Медному Всаднику», был посредником в контактах Пушкина с Мериме, о некоторых из них Пушкин пишет в «Песнях западных славян». Наконец, Соболевский был миротворцем для Пушкина, помирил его с Толстым-Американцем, хотя поначалу речь шла только о кровавой дуэли. Когда Пушкин стрелялся с Дантесом, Соболевский был во Франции. Считалось, что окажись Соболевский рядом с Пушкиным, дуэли бы не было.
Сам Соболевский был довольно известен своими шутливыми, сатирическими или ехидными эпиграммами. Его адресатами было очень много народу. Я же говорил, что был Соболевский общительным человеком.
Вот, к примеру, его отзыв о мемуарной статье литератора Н.В. Сушкова «Обоз к потомству»:
Идёт обоз С Парнаса, Везёт навоз Пегаса.А вот – приятельнице многих литераторов и в первую очередь Гоголя – А.О. Смирновой:
Не за пышные плечи, Не за чёрный ваш глаз, А за умные речи Обожаю я вас. По глазам вы – плутовка, По душе вы – дитя, Мне влюбляться будь ловко, В вас влюбился бы я. Что ж сказать мне о муже? Похвалить, так солжёшь; А глупее и хуже С фонарем не найдёшь.Во второй половине жизни Соболевский прославился как библиофил и библиограф. Ездил за рубеж специально за книгами. Активно содействовал публичным библиотекам в России, даря им редкие книги. Собрал прекрасную библиотеку книг по истории книгопечатания, библиографии. Собрал библиотеку путешествий.
Всё это было продано наследниками Соболевского, который разорился во франко-прусскую войну, умерев в самый её разгар 18 октября 1870 года. Наследники продали библиотеку Лейпцигской книготорговой фирме. От неё часть библиотеки перешла в Лейпцигский университет, а часть – в Британский музей. Ценный архив этого музея был куплен на аукционе С.Д. Шереметевым и в настоящее время хранится в российских государственных собраниях.
* * *
У Рувима Исаевича Фраермана, родившегося 22 сентября 1891 года, больше всего люблю «Дикую собака динго, или Повесть о первой любви». О Фраермане есть очень тёплые воспоминания Паустовского.
Рувим Исаевич писал в основном для детей. Писал много. И неплохо.
Добрый человек, он сохранил тепло и в своих книгах.
Но «Дикая собака динго» – это шедевр для юношества. Недаром на неё обратили внимание и киношники, и радиоредакторы. Кажется, в фильме Юлия Карасика (1962) дебютирует Галина Польских. А в радиоспектакле играли И. Савина, О. Табаков, О. Ефремов, Е. Козырева, Г. Новожилова и другие.
Достойная Фраермана, который скончался 28 марта 1972 года, получилась вещь.
* * *
Иосиф Михайлович Маневич, родившийся 22 сентября 1907 года, был неплохим искусствоведом, написавшим дельные работы по киноискусству, профессором ВГИКа. Из его мастерской вышли такие сценаристы, как В. Приёмыхов, А. Анненский, Э.Тополь, А. Гусельников, В. Лобанов и многие другие.
Сам он тоже был сценаристом. Но собственных историй не придумывал. Он был профессионалом, который писал сценарии по мотивам чужих произведений.
Маневич – автор сценариев фильмов «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Слепой музыкант», «Гиперболоид инженера Гарина». Разные были фильмы, но сценарии – сильные.
Умер 30 ноября 1976 года.
* * *
Сергей Иванович Ожегов, родившийся 22 сентября 1900 года, известен прежде всего своим «Толковым словарём русского языка», выдержавшим множество изданий. Правда, в 1992 году у этого словаря появился ещё один автор – Наталия Юльевна Шведова. Но к этому времени Сергея Ивановича уже больше 25 лет не было на свете (он умер 15 декабря 1964 года), а словарь соавторов сильно дополнен как по количеству слов, так и фразеологическими выражениями.
Был Ожегов одним из составителей «Толкового русского словаря» под редакцией Д.Н. Ушакова.
А кроме того Сергею Ивановичу принадлежат «Орфографический словарь русского языка», словари-справочники «Русское литературное произношение и ударение» и «Правильность русской речи». Он основатель и главный редактор сборников «Вопросы культуры речи», выходивших 10 лет – с 1955 по 1965.
Хочется поделиться отрадными воспоминаниями о созданной Ожеговым в Институте русского языка Справочной службе русского языка, отвечавшей на любые вопросы, связанные с грамотностью, с правильным употреблением русской речи. Мы в «Литературной газете» туда нередко звонили, и всякий раз получали доброжелательный, квалифицированный ответ.
* * *
Александр Афанасьевич Потебня, родившийся 22 сентября 1835 года, – выдающийся учёный-филолог, лингвист, литературовед, философ.
Был Александр Афанасьевич ещё и этнографом, защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской поэзии» (1861). На следующий год выпустил книгу «Язык и труд». Докторскую диссертацию «Из записок по русской грамматике» защитил в 1874 году.
Занимаясь вопросами лексикологии и морфологии, Потебня ввёл в русскую грамматическую традицию ряд терминов и понятийных противопоставлений. Так, например, он предложил различать «дальнейшее» (связанное, с одной стороны, с энциклопедическими знаниями, а с другой, – с персональными психологическими ассоциациями) и «ближайшее» (общее для всех носителей языка, народное, или, как ещё говорят в лингвистике, «наивное») значение слова. В языках с развитой морфологией ближайшее значение делится на вещественное и грамматическое.
Известен Потебня своей теорией внутренней формы слова, которая есть ближайшее этимологическое значение этого слова, сознаваемое носителями языка (например, слово «стол» находится в образной связи со словом «стлать»). Благодаря внутренней форме слово может приобретать новое значение через метафору.
Одним из первых в России Потебня изучал проблемы поэтического языка в связи с мышлением. Ставил вопрос об искусстве как особом виде познания мира.
Изучал Потебня украинские говоры и фольклор.
Несмотря на то, что он был горячим патриотом Украины, он скептически относился к идее о самостоятельности украинского языка и разработке его как литературного. Русский язык он рассматривал как совокупность великорусских и малорусских наречий. Общерусский литературный язык он считал достоянием в равной степени не только великороссов, но и белорусов и малороссов.
Скончался 11 декабря 1891 года.
В наше время Потебня издавался достаточно широко. Рекомендую такие его книги, как «Эстетика и поэтика» (1976), «Слово и миф» (1989), «Символ и миф в народной культуре» (2000).
23 СЕНТЯБРЯ
Майя Ганина – очень сложная и противоречивая личность, что отразилось и на её творчестве.
Майя Александровна Ганина родилась 23 сентября 1927 года. Я познакомился с ней в 1965 году, когда помогал ответственному секретарю журнала «Семья и школа» Петру Ильичу Гелазонии формировать литературный портфель редакции.
Позвонил Майе Ганиной, которая нравилась мне своей ранней прозой, был приглашён к ней домой на Кутузовском проспекте, где она вручила мне рассказ о живущем в Норвегии русском эмигранте, оставшемся там после освобождения их лагеря от гитлеровцев американцами. «Вы это не напечатаете», – твёрдо сказала она.
Однако мы это напечатали, что её несказанно обрадовало. Мы подружились.
Она дарила мне книги, которые содержали произведения разного уровня. Меня удивляло, что она этого не понимает. Я сказал ей об этом. Она усмехнулась: «А помнишь у Пастернака: «Но пораженье от победы ты сам не должен различать»?» Я ответил, что к критикам это не относится и что, на мой взгляд, ей не мешало бы прислушиваться к критическим мнениям.
Но Майя если и слушала критику на себя, то исключительно положительную. Едва критика обретала своё истинное значение в разборе её произведений, она отключалась.
Дружила она тогда с Г. Баклановым, Ю. Трифоновым, Б. Окуджавой, С. Рассадиным и другими достойными людьми.
Но вот в её жизни появился Юрий Сбитнев. Очередной муж. Мы и относились сперва к нему именно как к очередному: перебесится Майя, и они разведутся. Уж слишком, как мне казалось, не подходил ей по взглядам и жизненной позицией этот скучный, неинтересный писатель, секретарь Союза писателей РСФСР, юдофоб и гонитель талантливых людей. Ну, никак не укладывалось у меня в голове, что люди таких непримиримых жизненных позиций могут соединиться надолго.
Увы, они соединились надолго.
В 1983 году мы вместе ездили в туристическую поездку в Италию, где Майя подарила моей жене и мне книгу «Сто жизней моих», раскрыв которую в гостиничном номере, я понял, что читать её не смогу. То же самое сказала и жена, проглядев текст.
Больше мы с Ганиной не встречались. А она продолжала эволюционировать. Выступила на погромном съезде писателей РСФСР с погромной речью, где явственно зазвучали нотки антисемитизма. Подписала в 1990 году так называемое «Письмо 74», с его откровенно людоедскими заявлениями, типа: «Не замечателен ли сам по себе факт, что фабрикация мифа о «русском фашизме» проходит на фоне стремительной реабилитации и безоглядной идеализации сионистской идеологии? Эта идеализация равно касается нынче и советских, и зарубежных культурных, общественных деятелей еврейского происхождения – в том числе политических деятелей фашистского государства-агрессора Израиля. Эта чисто расистская идеализация дошла ныне до игнорирования едва ли не всей мировой общественности с её трезвыми оценками и выводами». И была в награду избрана так же, как муж, секретарём Союза писателей России.
Потом они с мужем переехали в Чеховский район Московской области, где жили постоянно. Там в больнице города Талежа 14 апреля 2005 года она умерла.
* * *
Лицеист пушкинского (первого) выпуска Модест Андреевич Корф.
Родился 23 сентября 1800 года. После окончания Царскосельского лицея сделал хорошую чиновничью карьеру. Уже с 1831 года управлял делами комитета министров, в 1834-м стал государственным секретарём, а в 1843 – членом Государственного совета.
В 1848 году его назначили членом негласного комитета по надзору за книгопечатанием, в 1855-м он стал его председателем. В 1856-м подал записку Александру II с ходатайством о закрытии комитета после русско-крымской войны «не только переставшего быть полезным, но и сделавшегося вредным».
В 1849-1861 году был директором Санкт-Петербургской публичной библиотеки, для которой сделал немало хорошего. В 1861-м назначен главноуправляющим II отделением Его Императорского Величия канцелярии. В 1872 году возведён в графское достоинство.
К своему товарищу по Лицею А.С. Пушкину относился хорошо. Так, узнав, что тот собирает материалы о жизни и трудах Петра Первого, пишет Пушкину:
«Лет пятнадцать тому назад, когда служба не поглощала ещё всего моего времени, мне хотелось ближе изучить Русскую историю, и это постепенно навело меня на мысль: составить полный библиографический каталог всех книг и пр. когда-либо изданных о России, не в одном уже историческом, но во всех вообще отношениях и на всех языках: труд компилятора, но который в то время приносил мне неизъяснимое удовольствие. Перебрав все возможные каталоги, перерыв все наши журналы, перечитав всё, что я мог достать о России и, воспользовавшись всеми, сколько-нибудь надёжными цитатами, – я собрал огромный запас материалов, впоследствии, однако ж, оставшихся без всякой дальнейшей обработки и частию даже растерянных. Последний наш разговор о великом твоём труде припомнил мне эту работу. Из разрозненных её остатков я собрал всё то, что было у меня в виду о Петре В.[еликом] и посылаю тебе, любезный Александр Сергеевич, ce que j’ai glané sur ce champ [то, что я подобрал на этой ниве, – фр.], разумеется, без всякой другой претензии, кроме той, чтобы пополнить твои материалы, если, впрочем, ты найдёшь тут что-нибудь новое. Это одна голая, сухая библиография, и легче было выписывать заглавия, чем находить самые книги, которых я и десятой части сам не видал. Впрочем, в теперешней моей выборке я ограничился решительно одними специальностями о Петре В.[еликом], его веке и его людях, не приводя никаких общих исторических курсов, и т. п. В этой выборке нет ни системы, ни даже хронологического порядка: я выписывал заглавия книг, так как находил их в своих заметках, и искренно рад буду, если ты найдёшь тут указание чего-нибудь, до сих пор от тебя ускользнувшего, а ещё больше, если по этому указанию тебе можно будет найти и достать самую книгу. Я охотно обратил на это несколько часов свободного моего времени и прошу ценить моё приношение не по внутреннему его достоинству, а по цели.
Весь твой Модест.
13 окт. 1836».
Пушкин оценил этот ценный подарок своего товарища, благодарил его, восхищался его упорством в поисках нужных материалов.
Последуем в своей оценке барона Модеста Андреевича Корфа, скончавшегося 14 января 1876 года, за Пушкиным.
* * *
Старший сын Бориса Пастернака Евгений Борисович родился 23 сентября 1923 года. Автор первой отечественной биографии Бориса Пастернака, созданного на основе богатого, эксклюзивного материала – прежде всего из семейных архивов. Составитель и комментатор Полного собрания сочинений Пастернака в 11 томах, вышедшего в 2005 году.
Как наследник своего отца, принял от Нобелевского комитета в Стокгольме 9 ноября 1989 года диплом и медаль Нобелевского лауреата, которые не разрешили принять Борису Леонидовичу советские власти. Умер 31 июля 2012 года.
* * *
Эдвард Станиславович Радзинский, известный драматург и телеведущий, родился 23 сентября 1936 года.
Начинал с пьес, вызывавших недовольство властей. Например, пьесу «Снимается кино» (1965) тогдашний член политбюро ЦК А.Н. Шелепин назвал «ублюдочной».
Популярным Радзинский стал после того, как режиссер Анатолий Эфрос поставил спектакль «104 страницы про любовь». По пьесе режиссёр Г. Натансон снял фильм «Ещё раз про любовь» с Т. Дорониной и А. Лазаревым в главных ролях.
После этого ставились различными театрами практически все пьесы Радзинского. Он автор киносценариев, научно-популярных произведений на исторические темы, об исторических личностях. Мировыми бестселлерами стали его биографии Николая I, Сталина и Распутина.
Лично мне оценка Радзинским личности Сталина глубоко антипатична. Сталин Радзинского выписан в духе ныне требуемого амбивалентного подхода к исторической личности: да, Сталин тиран, но Сталин ещё и великий человек. На мой взгляд, от такого двоедушия воняет фальшью.
* * *
Любопытно, что академик Дмитрий Петрушевский, историк-медиевист, прочитав рукопись романа «Джек-соломинка», объявил, что автор заслуживает звания кандидата исторических наук.
Автор романа Зинаида Константиновна Шишова родилась 23 сентября 1898 года.
Я у неё читал именно «Джека-соломинку». Читал в детстве и помню, что книга мне очень понравилась.
Она написала ещё несколько книг, но я из них читал только автобиографический роман «Год вступления. 1918». Он мне понравился меньше, чем «Джек-Соломинка».
В молодости Зинаида Константиновна писала стихи. Свою единственную одесскую книжку стихов «Пенаты» посвятила погибшему от рук бандитов 14 ноября 1918 года мужу Анатолию Фиолетову, служившему в Одесском уголовном розыске. И написала об этом:
У ворот звонили, целовались, Говорили нежные слова, Руки жали, второпях прощались, И кружилась голова. По ночам, друг друга вспоминая, Разметавшись, плакали во сне. – Ты ли это, ты ли дорогая, Наклоняешься ко мне? – Это я, но ты ли это, милый? – Это я, но губы, губы где? Сохнет белый венчик над могилой, Пригвождённый на кресте.В последние годы жизни замкнулась, практически ни с кем не поддерживая отношений. Она умерла 14 декабря 1977 года.
* * *
Юрий Никандрович Верховский, переводчик «Фьезоландских нимф» Боккаччо и «Евгении Гранде» Бальзака», был ещё и литературоведом, занимавшимся творчеством Баратынского, Дельвига, составившим сборники «Поэты пушкинской поры» и «Поэты-декабристы».
Но больше всего в его наследии осталось стихов.
В молодости он входил в немногочисленную группу «классического символизма».
Первую поэтическую книгу издал в 1908 году. Последнюю – в 1943-м.
Умер 23 сентября 1956 года. Родился 4 июня 1878.
В 2008 году вышла его книга «Струны: Собрание сочинений». Это очень большая книга. Выбираю из неё:
Когда ты телом изнемог И дух твой по земле влачится, - На перепутье трёх дорог Понуженный остановиться, Ты изберёшь из них одну, - Какую? Будет ли желанной Она – ведущая ко сну, Где мак цветёт благоуханный? Иль путы жизненных тенёт Ты примешь с гордостью терпенья, Где подорожник в пыль сомнёт Свои бесцветные цветенья? Нет, на твоём – ином – пути Ты слышишь сквозь усталый шорох, Как порывается цвести Золотоцвет в весенних хорах.Здесь меня ещё привлекает правильно произнесённое слово «тенёты», которые в разговорной речь давно уже превратились в «тенеты» – результат бездумного выбрасывания печатными органами буквы «ё».
* * *
Павел Коган – «лобастый мальчик невиданной революции», как он определял себя в стихотворении «Письмо». Поэт-романтик, воспевавший идеалы революции, которые были ею объявлены, верящий в чистоту этих идеалов. Из тех, кого сумели обмануть большевистские вожди.
В 1937 году он писал:
Люди не замечают, когда кончается детство, Им грустно, когда кончается юность, Тоскливо, когда наступает старость, И жутко, когда ожидают смерть. Мне было жутко, когда кончилось детство, Мне тоскливо, что кончается юность, Неужели я грустью встречу старость И не замечу смерть?Нет, ему не пришлось встретить старость ни с грустью, ни с весельем. Он погиб почти в мальчишеском возрасте. Стихи, с которых начата эта заметка, со строки из них, где речь идёт о «лобастых мальчиках невиданной революции», несут и такую их характеристику: «В двадцать пять – внесённые в смертные реляции».
Он ошибся на год. Он погиб не в 25, а в 24 года. Погиб на фронте 23 сентября 1942 года (родился 4 июля 1918-го).
* * *
С книгой этого писателя я познакомился, когда у меня был маленький сын. Ему я и купил «Морские сказки» Святослава Владимировича Сахарнова. Она нам понравилась.
Позже я узнал, что Святослав Владимирович прежде чем стать главным редактором журнала «Костёр» был профессиональным моряком.
Для детей он умел писать занимательно, что и отмечено разными жюри разных конкурсов. За книгу «По морям вокруг земли» писатель удостоен первой премии Международной книжной ярмарки в Болонье, премии на фестивале в Братиславе и серебряной медали Международной московской книжной выставки 1975 года. За книгу «Леопард в скворечнике» Сахарнов стал лауреатом Почётного диплома Международного совета по детской книге.
Больше всего он написал детских книг. Но не все его книги адресованы детям.
Взрослым предназначены книга фантастики «Лошадь над городом» и роман о войне на Тихом океане «Камикадзе».
А книгу-шутку «Сын лейтенанта Шмидта», написанную на тему книг Ильфа и Петрова, с удовольствием прочтут читатели любого возраста, начиная с юношеского.
Умер Святослав Владимирович 23 сентября 2010 года. Родился 12 марта 1923-го.
24 СЕНТЯБРЯ
В воспоминаниях Дины Рубиной о Лидии Борисовне Либединской, опубликованных в «Иерусалимском журнале» (2006. № 23), я прочитал, как ушла Лидия Борисовна. Её обнаружила дочь, которая утром вошла в квартиру в доме в Лаврушинском переулке. Горела ничего уже не освещавшая лампа. Из рук покойницы выпала книга, на обложке которой было помещено такое стихотворение Александры Истогиной:
Когда мой дух растает В рассветной тишине, И новый день настанет, Забудьте обо мне. Угасла с жизнью дружба, И не скорблю о ней. И памяти не нужно. Забудьте обо мне. Кого легко любила, Сгорели, как в огне. Наш новый дом – могила. Забудьте обо мне. Простите, не взыщите, Но даже и во сне, Не надо, не ищите. Забудьте обо мне.В траурный контекст это стихотворение вписывается, как недостающий мазок в окончательно отделанную картину. А кроме этого, как неслучайно, что перед смертью Лидия Либединская читала именно стихотворение Александры Истогиной. Инвалид, чудесной доброй души человек, Александра Истогина умела поддерживать дух нуждающихся в этом людей. Вот и 85-летняя Лебединская попрощалась с жизнью, со всем, что ей было дорого, словно вошедшими в неё словами печального стихотворения Александры Истогиной.
Лидия Борисовна родилась 24 сентября 1921 года. Её девичья фамилия Толстая, и она имеет прямое отношение к Льву Николаевичу Толстому: Борис Дмитриевич Толстой – двоюродный племянник писателя.
Борис Дмитриевич сгинул в 1942 году в лагере под Красноярском, куда его запихнули карательные органы. Мать Лидии Борисовны, слава Богу, уцелела. Она была известной журналисткой, писательницей, выпускавшей книги под псевдонимом Вечёрка. За писателя Либединского Лидия Борисовна вышла замуж в 1942 году и тогда же опубликовала свои первые стихи.
В дальнейшем много занималась переводами поэтов народов СССР.
Я с ней и с ленинградским поэтом Вадимом Шефнером оказался на берегу реки Чегдомын в Хабаровском крае. Было это в июне 1978 года. Жара стояла удушающая. Мы, державшиеся втроём, с завистью смотрели на нескольких местных поэтов и поэтесс, которые с удовольствием купались. Остальные члены делегации (а в Хабаровском крае был выездной секретариат Союза писателей) ходили по берегу с сопровождающей нас женщиной председателем Чегдомынского горисполкома. Время от времени кто-нибудь из них подходил к реке и осторожно, как если бы это был кипяток, пробовал ногой воду. И немедленно её отдёргивал не из-за кипятка, а из-за ледяной воды. Под раскалённым солнцем её температура вряд ли поднималась до 5 градусов тепла. А как же местные? А они привыкли, и Лидия Борисовна рассказала, как несколько лет назад здесь же одна поэтесса, которую она переводила, нанайка, зазывала её в воду, а другая поэтесса из народности ульчи, которую Лидия Борисовна тоже переводила, очень тогда разозлилась на нанайку: «Она тебе столько добра делает, а ты хочешь, чтобы она умерла!».
Не скажу, что мы с тех пор подружились, но в отношениях были очень хороших. Она давала мне читать свою прозу. Мне очень нравилась её мемуарная книга «Зелёная лампа» и не очень понравилась её книга о Горьком. Правда, мне не нравился и сам Горький. Подозреваю, что свои антипатии в Буревестнику я перенёс на книгу о нём. Потому что позже прочитал книгу Лебединской об Огарёве «С того берега», и она мне понравилась.
Зятем Либединской был известный поэт Игорь Губерман, чьими «гариками» (сатирическими или юмористическими четверостишиями) зачитывались, а потом делились с друзьями. Игорь после отсидки в советском лагере уехал с семьёй в Израиль, и Лидия Борисовна часто к ним ездила. Появлялась в ЦДЛ и немедленно бывала окружена поклонниками Губермана: «Что нового она привезла?»
Умерла она, как я уже говорил, почти в 85 лет: 19 мая 2006 года. Всего на несколько месяцев пережила лучшую свою подругу Елену Матвеевну Николаевскую. Жизнерадостный человек, она явно затосковала, оставшись без Леночки. Тосковать было не в её стиле. Возможно, поэтому ей и не отпустили времени на оформление этого нового стиля.
25 СЕНТЯБРЯ
Сталинскую премию Сергей Петрович Бородин, родившийся 25 сентября 1902 года, получил за роман «Дмитрий Донской», который я читал в детстве. Трилогию «Звёзды над Самаркандом» («Хромой Тимур», «Костры похода», «Молниеносный Баязет») я дочитать уже не смог. Не пошло. Слишком старательно вырисован орнамент под восточный стиль. Слишком плохо владеет автор умением передать психологические характеристики героев. Потом я узнал, что Бородин собирался писать не трилогию, а тетралогию. Начал ещё один роман – «Белый конь». Не успел написать. Умер 22 июня 1974 года.
А недавно из воспоминаний Александра Гладкова (его Дневник опубликовало в 2014 году издательство журнала «Нева) я узнал, что Бородин был негодяем. Имел отношение к аресту Мандельштама, приложил руку к травле Евгения Шварца во время войны.
Так что тем более расхотелось мне его читать.
* * *
Христиан Готлиб Гейне, родившийся 25 сентября 1729 года, родственником великого немецкого поэта не является. Он работал в библиотеке и переводил с древнегреческого, латыни и французского. В 1755-м вышел его перевод Катулла. Через год появилось издание Эпиктета. Но во время семилетней войны библиотека, где работал Гейне, была разрушена. И он остался без средств к существованию. А здесь ещё в 1760 году при артиллерийском обстреле Дрездена сгорело почти завершённое Гейне издание Лукиана.
В 1763 году Гейне удаётся устроиться профессором Гёттингенского университета. Он вызвал полемику среди учёных, заявив, что изучение древних языков необходимо лишь как средство понимания древнего мира. Гейне много трудился для разъяснения спорных вопросов в древней мифологии, археологии и истории. Издал «Илиаду» Гомера, сочинения Пиндара, Вергилия.
Был избран почётным членом Санкт-Петербургской Академии наук с 15 мая 1805 года. Умер 14 июля 1812 года.
* * *
Из Старой записной книжки П.Я. Вяземского:
«По занятии Москвы французами граф Мамонов перешёл в Ярославскую губернию с казацким полком, который он сформировал. Пошли тут требования более или менее неприятные и кляузные сношения и переписка с местными властями по части постоя, перевозки нижних чинов и других полковых потребностей. Дошла очередь и до губернатора. Тогда занимал эту должность князь Голицын (едва ли не сводный брат князя Александра Николаевича). Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой». Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка мой. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма говорит он: «После всего сказанного мною выше предоставляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истинным почтением остаюсь я, милостивый государь мой, мой, мой (на нескольких строках), вашим покорнейшим слугою». Граф Мамонов был человек далеко недюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами. Говорили, что он даже приписывал рождению своему значение, которого оно не имело и по расчёту времени иметь не могло. Дмитриев, который всегда отличал молодых людей со способностями и любил давать им ход, определил обер-прокурором в один из московских департаментов Сената графа Мамонова, которому было с небольшим двадцать лет. Мамонов принадлежал в Москве обществу так называемых мартинистов. Он был в связи с Кутузовым (Павлом Ивановичем), с Невзоровым и с другими лицами этого кружка. В журнале последнего печатал он свои духовные оды. Вообще в свете видали его мало и мало что знали о нём. Впрочем, вероятно, были у него свои нахлебники и свой маленький дворик. Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своею он несколько напоминал портреты Петра 1-го. По приезде в Москву императора Александра в 1812 году он предоставлял свой ежегодный доход (и доход весьма значительный) на потребности государства во всё продолжение войны; себе выговаривал он только десять тысяч рублей на своё годовое содержание. Вместо того было предложено ему чрез графа Растопчина сформировать на свой счёт конный полк. Переведённый из гражданской службы в военную, переименован он был в генерал-майоры и назначен шефом этого полка. Всё это обратилось в беду ему. Он всегда был тщеславен, а эти отличия перепитали гордость его. К тому же он никогда не готовился к военному делу и не имел способностей, потребных для командования полком. Пошли беспорядки и разные недоразумения. Ещё до окончательного образования полка он дрался на поединке с одним из своих штаб-офицеров, кажется, Толбухиным. Сформированный полк догнал армию нашу уже в Германии. Тут возникли у графа Мамонова неприятности с генералом Эртелем. Вследствие уличных беспорядков и драки с жителями немецкого городка, учинённых нижними чинами, полк был переформирован: мамоновские казаки были зачислены в какой-то гусарский полк. Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль! Полк этот под именем Мамоновского должен был сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который одушевлял русское общество. Нет сомнения, что уничтожение полка должно было горько подействовать на честолюбие графа Мамонова; но он продолжал своё воинское служение и был, кажется, прикомандирован к генералу-адъютанту Уварову. По окончании войны он буквально заперся в подмосковном доме своём, в прекрасном поместье, селе Дубровицах Подольского уезда. В течение нескольких лет он не видал никого даже из прислуги своей. Всё для него потребное выставлялось в особой комнате; в неё передавал он и письменные свои приказания. В спальной его были развешены по стенам странные картины кабалистического, а частью соблазнительного, содержания. Один Михаил Орлов, приятель его, имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества. По управлению имением его оказались беспорядки и, притеснения крестьянам, разумеется, не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил напоказ ему, в виде жалобы, если не совсем поличное, то очевидное доказательство нанесённого ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались начальству высшему на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над имением его и над ним самим назначена была опека. Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая зачалась таким блистательным и многообещающим утром. Есть натуры, которые при самых благоприятных и лучших задатках и условиях как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах».
Я привёл эту обширную выписку, чтобы показать, каким был этот оригинальный чудак – граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, родившийся 25 сентября 1790 года, публиковавший в юности стихи, написанные под влиянием Семёна Боброва и Гаврилы Державина, бывший литературным противником Карамзина – одним из так называемых «архивистов».
Вяземский не пишет, из-за чего был высечен камердинер Дмитриева-Мамонова. Он был высечен, потому что у помещика имелись на руках доказательство, что тот, недавно поступивший на службу, был нанят правительством, чтобы шпионить за графом.
А для чего правительству нужно было приставить к Мамонову шпиона? Дело в том, что граф организовал конспиративное общество «Орден русских рыцарей», в чью программу входил захват власти и широкий круг последующих реформ. Правительству был подан донос. После этого и появился в доме Мамонова шпион, с которым граф расправился круто.
Наказанный камердинер явился в Москву – жаловаться военному губернатору Д.В. Голицыну Тот отправил в имение Мамонова своего адъютанта. И когда адъютанта прогнали, в село явились жандармы и солдаты и арестовали графа.
Расследование его дела курировали лично император Александр I и влиятельнейший приближённый царя Аракчеев. И после того, что, как и пишет Вяземский, «по управлению имением его [Мамонова] оказались беспорядки», графа по именному повелению подвергли домашнему аресту в московском доме в Мамоновом переулке. Назначенная Д. Голицыным медицинская комиссия признала Дмитриева-Мамонова сумасшедшим. 5 июля 1825 года кабинет министров принял решение об установлении над Мамоновым опеки.
А чуть раньше, сразу после декабрьского восстания граф, ещё не признанный сумасшедшим, отказался присягать новому императору Николаю I и признавать законность его режима. После этого его лечение стало для Мамонова мучением. Родственник графа и один из его последних опекунов Н. А. Дмитриев-Мамонов пишет, что «первое время с ним обращались строго и даже жестоко, чему служат доказательством горячешные рубашки и бинты, которыми его привязывали к постели, найденные мною тридцать лет спустя в его гардеробе».
В 30-х годах графа содержали на Воробьёвых горах в усадьбе, купленной у князя Юсупова. Имение это получило название у москвичей «Мамоновой дачи». Там он прожил ещё больше 30 лет, терпя издевательства. Там и скончался 23 июня 1863 года.
Стихи он писал, как я уже сказал, в молодости. Вот – одно из них. Считается, что оно представляет собой программу «Ордена русских рыцарей»:
В тот день пролиется злато – струёю, а сребро – потоком. Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких! Москва просияет, яко утро, и Киев, яко день. Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких? Богатства Индии и перлы Голконда пролиются на пристанях Оби и Волги, И станет знамя россов у понта Средиземного. Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких! Исчезнет, как дым утренний, невежество народа, Народ престанет чтить кумиров и поклонится проповедникам правды. Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких! В той день водрузится знамя свободы в Кремле, – С сего Капитолия новых времян полиутся лучи в дальнейшие земли. Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких! В тот день и на камнях по стогнам будет написано слово, Слово наших времен – свобода! Восстанут ли бессмысленные на мудрых и слабые на крепких! Богу Единому да воздастся хвала!* * *
Вот – частичка воспоминаний об эпизоде, связанном с Пушкиным:
«В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро – было ровно три четверти восьмого, – только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. [Денисевича] не было в это время дома; он уходил смотреть, всё ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в неё три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой – фронтовой офицер. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?» – «Здесь, – отвечал я, – но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошёл сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» – сказал он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать, – отвечал статский, – вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остаётся ещё четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место…» Всё это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. [Денисевич] мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал вас к себе… я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично…» – «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, – сказал более энергическим голосом статский, – я уж не школьник, и пришёл переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно…» [Денисевич] не дал ему договорить. «Я не могу с вами драться, – сказал он, – вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер…» При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. Статский продолжал твёрдым голосом: «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мной дело».
При имени Пушкина блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его: «Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?»
– Меня так зовут, – сказал он, улыбаясь.
«Пушкину, – подумал я, – Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь [Денисевича]; или убить какого-нибудь [Денисевича] и жестоко пострадать… нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой».
[…] Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена. «В противном случае, – сказал я, – иду сейчас к генералу нашему, тогда… ты знаешь его: он шутить не любит». Признаюсь, я потратил ораторского пороху довольно, и недаром. Денисевич убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввёл его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему: «Господин [Денисевич] считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас».
– Надеюсь, это подтвердит сам господин [Денисевич], – сказал Пушкин. Денисевич извинился… и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю», – и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.
Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день – по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его».
Всё резонно. Не окажись рядом с майором Денисевичем Ивана Ивановича Лажечникова, родившегося 25 сентября 1792 года, неизвестно, не пал бы Пушкин на дуэли ещё в 1819 году! Уже только за этот поступок русская литература многим обязана Ивану Ивановичу!
Но она Лажечниковым ещё и обогащена. Иван Иванович стоит у истоков русского исторического романа.
Уже его роман «Последний Новик» (1831-1833) имел широкую популярность.
А самый знаменитый его роман «Ледяной дом» он написал в 1835 году.
Впрочем, уж коли мы начали с Пушкина, предоставим ему возможность высказаться о романах Лажечникова. Он сделал это в письме писателю от 3 ноября 1835 года:
«Милостивый государь,
Иван Иванович!
Во-первых, должен я просить у вас прощения за медленность и неисправность свою. Портрет Пугачева получил месяц тому назад, и, возвратясь из деревни, узнал я, что до сих пор экземпляр его «Истории» вам не доставлен. Возвращаю вам рукопись Рычкова, коей пользовался я по вашей благосклонности.
Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нём не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в правах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.
Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно: в каком смысле упомянули вы слово хобот в последнем вашем творении и по какому наречию?
Препоручая себя вашей благосклонности, честь имею быть с глубочайшим, почтением,
милостивый государь,
вашим покорнейшим слугою
Александр Пушкин»
Сразу же дадим Ивану Ивановичу ответить Александру Сергеевичу, в каком смысле употребил он слово «хобот» в своём романе: «Всякий лихой сказочник, вместо того чтобы сказать: таким-то образом, таким-то путём, пощеголяет выражением: таким-то хоботом. Я слышал это, бывало, от моего старого дядьки, слыхал потом не раз в народе московском, следственно по наречию великороссийскому». И словарь В.И. Даля подтверждает, что в новгородских наречиях «хобот» – «крюк, околица, окружный путь».
Надо сказать, что здесь Лажечников действенно помог Пушкину, который работал над статьёй о «Слове о полку Игореве» и внимательно вглядывался во все диалектизмы и в слова, ушедшие к его времени из языка.
Прав ли был Пушкин в своей критике «Ледяного дома»? Во многом, да. И всё-таки характер Анны Иоанновны написан художником и правдиво с исторической точки зрения. Прекрасно переданы Лажечниковым отношения Волынского и Мариорицы.
Уже после смерти Пушкина, в 1838-м Лажечников пишет «Басурмана» – тоже неровный роман, где, однако, исторически и художественно верно изображён Иван III.
Кстати, Лажечников был не только литератором, но крупным чиновником. К примеру, в 1842-1854 годах он служил вице-губернатором в Твери и Витебске.
Его драма «Опричник», написанная в 1842 году белыми стихами, была запрещена. Предполагают, что за попытку вывести Ивана Грозного на сцену (по российским законам для того, чтобы вывести на сцену царя, требовалось личное разрешение действующего императора). Но по ней создана одноимённая опера П.И. Чайковского.
При жизни Лажечникова называли «русским Вальтер Скоттом». Называли справедливо, если иметь в виду, что Иван Иванович был горячим поклонником и подражателем английского писателя. Скончался Иван Иванович 7 июля 1869 года.
* * *
Сергей Васильевич Максимов, родившийся 25 сентября 1831 года, предпринимал немало литературно-этнографических экспедиций по России. В 1855 году он отправился на Север к Белому морю и добрался до Ледовитого океана. По поручению Морского ведомства через некоторое время он устремился на Дальний Восток, чтобы исследовать только что приобретённую Амурскую область. В 1862-1863 годах посетил Юго-Восток России, прибрежье Каспийского моря и Урал.
Только эти поездки послужили рождению таких книг, как «Год на Севере» (1859), «На Восток, поездка на Амур в 1860-61 гг. Дорожные заметки и воспоминания» (1871), таких статей, как «Из Уральска», «С дороги на Урал», «Иргизские старцы», «Ленкорань», «Секта общих», «Молокане», «Духоборцы», «Скопцы», «Хлысты».
Он объездил Смоленскую, Могилёвскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую, Минскую губернии и написал об этом в книге «Бродячая Русь Христа ради» (1877).
Восстанавливая первоначальный смысл различных слов и оборотов обиходной речи, Максимов написал книгу «Крылатые слова» (1890). Умер Максимов 3 июня 1901 года.
В советское время Максимова печатали хорошими тиражами. Это продолжается и сейчас. Легко можно приобрести такие книги Сергея Владимировича, как «Нечистая, неведомая и крёстная сила», «Александр Николаевич Островский (По моим воспоминаниям)», «Год на Севере», «Куль хлеба и его похождения», «Крылатые слова», «Лесная глушь», «Сибирь и каторга» и другие.
Читать их интересно, И очень полезно для любителей русского слова. Очень точно сказал об этом М.Е. Салтыков-Щедрин: «Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности».
* * *
Эрих Мария Ремарк – один из самых читаемых писателей моей юности.
Прежде всего, конечно, «Три товарища» – культовая книга. Кто из нас не подражал героям? Кто не влюблялся в Патрицию Хольман?
Позже я узнал, что Ремарк срисовывал Патрицию со своей жены, бывшей танцовщицы Ильзы Ютты Замбона.
Кстати, он прожил с ней всего четыре года. А потом снова женился после прихода в Германии к власти нацистов, чтобы помочь ей уехать из Германии.
Он сохранил к ней благодарность за чувство. До самой своей смерти выплачивал ей ежемесячную пенсию. И завещал 50 тысяч долларов.
Участник Первой Мировой, он был тяжело ранен на войне, о которой потом много писал. Например, в романе «На Западном фронте без перемен».
В 1933 году нацисты сожгли его книги, якобы распознав его еврейское происхождение. Мистики и оккультисты, они решили, что фамилия Ремарк есть перевёрнутая Крамер. Ремарк смог покинуть Германию и обосноваться в США.
В 1937 году у Ремарка бурный роман с актрисой Марлен Дитрих. Однако счастья он ему не приносит. Хотя благодаря этому роману появилась «Триумфальная арка». Считается, что её героиня во многом срисована с великой актрисы.
В 1951 году Ремарк знакомится с актрисой Полетт Годар, с которой постепенно отошёл от своего романа с Дитрих. В 1958 году Ремарк и Годар поженились и переехали в Швейцарию.
Там написаны «Жизнь взаймы», «Время жить и время умирать», «Ночь в Лиссабоне».
Перечисляю и вспоминаю. Все эти романы я читал с большим интересом. Но мало кто из них выдержал перечитывание.
Умер Эрих Мария Ремарк 25 сентября 1970 года. Родился 22 июня 1898-го.
* * *
Будущий нобелевский лауреат Уильям Фолкнер родился 25 сентября 1897 года. Признание критики получил после выхода первого романа «Шум и ярость» (1929). Но у читателей роман успехом не пользовался. Чтобы содержать жену и двух дочерей, стал писать сценарии и занимался этим без малого пятнадцать лет: с 1932 по 1946 год.
Писал он и романы «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!», «Непобеждённые», «Дикие пальмы». Всё это до войны. И всё – без особого читательского признания в США.
Другое дело за рубежом. Его романы переводятся. Публика зачитывается Фолкнером.
В 1948 году он пишет роман «Осквернитель праха». А в 1949-м Нобелевский комитет присуждает Фолкнеру премию. Комитет формулирует своё решение: премия присуждена «за его значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа». И соотечественников как подменили. Фолкнер становится популярнейшим писателем в Америке. Его роман «Притча» награждён Пулитцеровской премией в 1954 году. Ещё одной Пулитцеровской премией отмечен роман «Похитители» в 1963 году. Но эта премия, увы, дана посмертно. Фолкнер умер 6 июля 1962 года.
В России Фолкнер пользовался известностью и любовью. Особенно нравились русским читателям такие романы, как «Деревушка», «Город», «Особняк», составившие трилогию.
В период книжного дефицита в советское время читатели за Фолкнером охотились – за его романами, за его рассказами. Купить их было невероятно трудно.
Я бы помянул Фолкнера его высказыванием, которое беру из очень интересной книги Николая Анастасьева «Владелец Йокнапатофы»: «Мне кажется, достичь гармонии можно единственным путём – создать то, что не зависит от воли человека, то, что его переживёт. То есть вообразите: исчезая за стеной забвения, человек оставляет за ней зарубку – вам где угодно и когда угодно попадутся эти слова: «Килрой был здесь». Вот это и есть след художника. Он не может жить вечно. Он знает это. Но когда его не станет, кто-нибудь узнает, что в отпущенный ему краткий срок он был здесь. Можно построить мост, и имя строителя будут помнить день или два. Но картина, но стихотворение – они живут долго, очень долго, дольше, чем всё остальное».
Думаю, что это высказывание можно считать и фолкнеровской автоэпитафией.
26 СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Владимирович Веневитинов прожил очень короткую жизнь. Родившись 26 сентября 1805 года, он умер на 22 году жизни – 27 марта 1827 года.
«Архивный юноша», то есть поступивший на службу после окончания университета в архив Коллегии иностранных дел, он стал центром литературного кружка, в который входили И. Киреевский, А. Кошелев, В. Одоевский, М. Погодин, С. Шевырёв и другие известные литераторы. Они собирались в доме Веневитинова, читали друг другу свои произведения. Читали и обсуждали любимого своего философа Шеллинга. И заботились о журнале «Московский Вестник», редактором которого был Погодин, где все они были активными авторами.
Благодаря Веневитинову журнал получал материалы от Пушкина. Веневитинов часто советовал Погодину привлечь к журналу талантливых авторов. Погодин и сам отмечал заслуги Веневитинова как редактора, неизменно числя его членом коллективного руководства, которое, подчёркивал Погодин, и есть настоящий главный редактор журнала.
О Веневитинове Пушкин узнал в Михайловской ссылке, прочитав, как ответил в своей статье Дмитрий Владимирович на критику «Московского телеграфа» первой главы «Онегина». «Это единственная статья, – сказал Соболевскому вернувшийся из ссылки Пушкин, – которую я прочёл с любовью и вниманием». И пожелал познакомиться с автором.
Встреча состоялась в доме Веневитинова, где Пушкин читал хозяину и его друзьям «Бориса Годунова».
Они подружились. И, как отмечает П.В. Анненков, незадолго до смерти Веневитинов написал стихотворение «Послание Пушкину», в котором призывал нового друга воспеть великого Гёте. Пушкин выполнил это пожелание, создав «Сцены из Фауста».
Удивляешься тому, как много сделал Веневитинов за свою краткую жизнь, как много написал стихов, переводов. Впечатление такое, что он спешил жить. Несомненно, случайно, что в его стихотворном диалоге «Поэт и друг» поэт делится с другом своим предчувствием:
Душа сказала мне давно: Ты в мире молнией промчишься! Тебе всё чувствовать дано, Но жизнью ты не насладишься, -однако то обстоятельство, что слова эти сказаны совсем незадолго до смерти Веневитинова, придали им вещее значение.
На его надгробье вырезана строка из того же стихотворного диалога: «Как знал он жизнь! как мало жил». И это горькое чувство охватывало всех, кто был знаком с юношей-поэтом, – от его ровесников до его учителей, до литераторов почтенного возраста, каким был, например, И.И. Дмитриев, написавший Веневитинову такую эпитафию:
Здесь юноша лежит под хладною доской, - Над нею роза дышит - А старость дряхлою рукой Ему надгробье пишет.* * *
Любимый писатель мой и всей нашей семьи.
Я познакомился с Владимиром Николаевичем Войновичем, родившимся 26 сентября 1932 года, в литературном объединении «Магистраль». Не уверен (память стала сдавать), но кажется мне, что первым стихотворением, которое я от него услышал, было о танцах в сельском клубе: деревенские девушки с офицерами. Сразу же врезалось в память: «Видевшая виды радиола / Выла, как собака, на луну», «Целовали девушки устало / У плетней женатый комсостав».
Всё-таки мне кажется, что я не ошибаюсь, потому что – то ли незадолго до Войновича, то ли через короткое время после Войновича – в «Магистрали» выступил другой её член Булат Окуджава, который спел: «А что я сказал медсестре Марии, когда обнимал её». Сказал он ей примерно то же, что у Войновича в том стихотворении «на приглашения солдат / Отвечали девушки: «Нэ треба. / Бачь, який охочий до дивчат».
А через некоторое время выступает Володя с двумя уморительными рассказами. Один из них, как сельский парикмахер в оккупации бреет немца.
Как я потом ни побуждал Войновича вспомнить этот рассказ, он, увы, его запамятовал навсегда. А жаль.
Ну, а об остальном я и не говорю. Это человек удивительного таланта. Очень разностороннего. Не только сатирик, хотя в этом жанре написал немало. Не только мудрый лиро-эпик. Не только исключительно правдивый мемуарист. Не только, наконец, гневный обличитель любого вранья, от кого бы оно не исходило.
Что радует: он не прекращает работы. Его пародия на гимн, по-моему, известней самого гимна. Вообще в жанре пародии он так же хорош, как в любом другом.
С удовольствием цитирую его «Возражение Пастернаку», написанное не так давно:
Быть знаменитым некрасиво. Красиво быть незнаменитым, Бомжом немытым и небритым, Бродягой, струпьями покрытым, Живущим без законной ксивы. Есть, что украл иль что подали, Над головой не зная крыши, Жить под мостом или в подвале, Себя газетами накрывши. Быть бесталанным графоманом, Ловя в потёмках славы призрак, И тешиться самообманом, Что после смерти будешь признан. Но пьяным где-то на помойке Упасть, замёрзнуть, стать ледышкой И трупом оказаться в морге Безвестным с биркой на лодыжке. Быть знаменитым некрасиво… Я знаменитую цитату Дополню, может быть, курсивом, Что некрасиво быть богатым И некрасиво быть красивым И на красавице женатым. Да, быть в зубах навязшей притчей, Талант имея с клювик птичий, Позорно, согласимся, но Талант иметь не всем дано, Сверчок, однако, всякий вправе Искать пути к любви и славе. И истину искать в вине, Желать, чтоб было много денег, Как ни потрать, куда ни день их, И никогда не быть на дне. А коль случилось стать известным Всемирно иль в масштабе местном, Тому, допустим, повезло Не столь удачливым назло. К сему заметим неспесиво (Кто будет против, тот соврёт), Быть знаменитым некрасиво, Но лучше, чем наоборот.* * *
Известный юдофоб. Даже лучше сказать: известен как юдофоб. Помню, в конце 80-х идём мы по центру Москвы с одним приехавшим из-за границы бывшим россиянином. Проходим мимо книжных рядов. «Ого! – говорит приятель и останавливается перед книгами. Берёт в руки: – И сюда Климов добрался. Точнее – перебрался. У нас его давно никто не читает! Большая сволочь!»
Речь шла о Григории Петровиче Климове, родившемся 26 сентября 1918 года, издания которого одно время действительно завалили книжные прилавки: издатели спешили воспользоваться его популярностью у русского читателя.
Он бежал из Восточного Берлина в Западный в 1947 году, когда работал в Советской Военной Администрации.
Его книга «Песнь победителя», известная также под названием «Машина террора», легла в основу фильма «Weg ohne Umkehr», получившего «Золотой Кубок» Международного кинофестиваля в Берлине в 1954 году.
Больше никаких успехов он не добился, если не считать взрыва популярности в России, где раскупали такие его книги, как «Князь мира сего», «Имя моё легион», «Протоколы советских мудрецов», «Красная Кабалла», «Гитлер был евреем?» и т.п.
Я читал несколько интервью с ним. Везде он высказывался по поводу так называемого малого народа, которого он вывел в книге «Божий народ».
Но волна популярности схлынула: Климов надоел.
Жизнь он прожил огромную. Скончался 10 декабря 2007 года.
Сейчас такая книга, как «Божий народ», внесена в Федеральный список экстремистских материалов в России. Поздно спохватились!
* * *
По правде сказать, у Сергея Александровича Найдёнова, родившегося 26 сентября 1868 года, я помню только пьесу «Дети Ванюшина». Её ставил Гончаров в театре Маяковского с Евгением Леоновым в главной роли.
Найдёнов написал ещё немало пьес, но я читал не их, а о них. Читал, что пытается Найдёнов синтезировать в своих пьесах театр Островского и театр Чехова. Если это действительно так, то попытка драматурга была заведомо негодной. Это всё равно, что попробовать синтезировать театры Мольера и Шекспира.
На его надгробье высечены слова из последней пьесы «Неугасимый свет»: «О, Боже мой, какой простор! Какие блещущие дали! Под мною звёзд певучих хор, над мною мир, где нет печали. Светлеет ум… За гранью смерти нет невежд. И нет законов дикаря. Живите, полные надежд… Неугасимая заря. Неугасимый свет повсюду. Я жив. Я буду жить. Я буду».
Но что это за пьеса, в которой, как я читал, Найдёнов приветствовал революционную новь и вся ли она написана подобными стихами, я не знаю. На том же надгробье высечена и дата его смерти: 5 декабря 1922 года.
* * *
Поэт, человек, которому посчастливилось быть учителем Ф. Тютчева и М. Лермонтова.
Семён Егорович Раич родился 26 сентября 1792 года.
Надо сказать, что со своими учениками Раич сохранял добрые отношения. С Тютчевым они вместе читали древних поэтов, сходились в любви к Державину. Издав альманах «Северная Лира на 1827 год», Раич поместил в нём пять стихотворений Тютчева. Что же до Лермонтова, то он оставил нам портрет Раича, тем более ценный, что изображений Раича сохранилось мало. Есть ещё портрет старика Раича, мало напоминающий того молодого человека, которого нарисовал Лермонтов.
Раич был председателем литературного Общества друзей («Кружок Раича»), куда входили многие известные литераторы М. Погодин, С. Шевырёв, М. Дмитриев, Д. Ознобишин, Ф. Тютчев, В. Одоевский, А. Норов, А. Муравьёв, М. Максимович и другие.
В кружок заходили московский генерал-губернатор Голицын и старый поэт И.И. Дмитриев. Вскоре от него отпочковалось «Общество любомудрия».
Кроме альманаха «Северная Лира» Раич выпускал журнал «Галатея» (1829-1830, 1839-1840), выпустил два номера журнала «Русский зритель».
Стихов и переводов он напечатал много. Переводя «Георгики» Вергилия, он передал латинский гекзаметр рифмованным шестистопным ямбом. Перевод «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо сам Раич считал своим достижением, хотя перевод больше критиковали, чем хвалили. Октавы оригинала Раич перевёл с помощью двенадцатистишной балладной строфы с чередованием четырёхстопных и трёхстопных ямбических строф. Ритм поэмы становился монотонным. Указывали Раичу и на отступления от текста и на излишние красивости.
Такой же балладной строфой переводил Раич октавы «Неистового Роланда» Ариосто. Но публиковавшийся по частям перевод читательского одобрения не встретил, и Раич прекратил над ним работать.
Стихи, которые оставил Раич, не слишком интересны. Они, как правило, растянуты, болтливы. Но вот – в «Северной Лире на 1827 год» я нашёл неплохое стихотворение Раича «Выкуп холостого». Как указывает он сам, он воскрешает в стихах малороссийский обычай: «на масленице замужние женщины приходят к холостым мужчинам с кандалами и требуют выкуп за безжёнство»:
Слышу – в двери стучат, слышу – громко кричат: «Кандалы на него! в тридцать лет не женат!» Растворилася дверь, и замужних конвой Ворвался и раздался вакханский их вой: «Кандалы на него! в тридцать лет не женат!» – Кандалы тяжелы; но жена тяжелей! – «Тяжелей кандалов?» – Тяжелей во сто крат! - «Что с тобой толковать? выкупайся скорей!» – Что хотите, – возьмите; не жаль мне казны; Я жалею себя, я боюся жены. Откупился… вперёд не пугайте меня. Провожаючи вас, не во гнев вам, скажу: Кто мне скажет – женись, я как лист задрожу; Я боюся жены, как холодного дня… Я боюся жены, как меча, как огня.Умер 9 ноября 1855 года.
* * *
Мы с Сергеем Сергеевичем Смирновым, родившимся 26 сентября 1915 года, были в начале 70-х в Печорском монастыре, недалеко от пушкинских мест в Псковской области. Сергей Сергеевич возглавлял писательскую делегацию, и нас очень хорошо принял настоятель. А Сергею Сергеевичу сказал: «Доброе дело делаете! Честь возвращаете людям и память о них!» Он имел в виду солдат и пограничников Бреста, на которых обрушился первый удар гитлеровцев. Многие попали в плен и, вырвавшись из него, были осуждены как предатели. Книга Сергея Сергеевича «Брестская крепость» получила в 1965 году ленинскую премию.
Да, дело, которое сделал Смирнов, бесценно. И в то же время не мог я забыть и того, что позорное писательское собрание, на котором исключали Пастернака за роман и обращались к советскому правительству с предложением лишить Бориса Леонидовича советского гражданства, вёл именно Сергей Сергеевич Смирнов. Он был тогда руководителем московской писательской организации.
Рассказывают, что однажды в правление отделения Союза писателей баллотировались три Смирнова Сергей Сергеевич и два антисемита – Василий Александрович и Сергей Васильевич. Сергей Сергеевич до этого был одно время заместителем Твардовского в первой редакции «Нового мира». Вёл себя, когда снимали Твардовского, не слишком красиво. Так вот к Твардовскому подошёл некто и спросил, какого Смирнова, по его мнению, следует вычеркнуть. «Вычёркивай всех, – якобы сказал Твардовский, – не ошибёшься!».
Сергей Сергеевич был действительно странно двойственным человеком. С одной стороны, к примеру, подписал в 1973 году письмо в «Правду» против Сахарова и Солженицына. А с другой стороны, в марте 1966 подписал письмо 25 деятелей культуры и науки в президиум ЦК, против реабилитации Сталина.
Трудно, наверное, ему было жить на свете, который он покинул 22 марта 1976 года!
27 СЕНТЯБРЯ
Из справки КГБ, сообщающей о судьбе Александра Ильича Зонина, родившегося 27 сентября 1901 года:
«На допросах Зонин А. И. показал, что в феврале 1919 года изменил свои анкетные данные в связи с антисемитскими проявлениями по месту службы в армии, до этого был Бриль Элиазар Израилевич; до 1917 года принимал участие в работе партии эсеров; входил в антипартийную группу «демократического централизма» («децистов»), которая вела борьбу против ЦК ВКП(б) по вопросам партийного строительства, и в антисоветскую группу «Литфронт», являющуюся оппозицией Российской ассоциации пролетарских писателей.
Решением Особого Совещания МГБ СССР от 4 февраля 1950 года Зонин А. И. осужден по ст. 58-10 ч. 2, 58-11 и 182 п. 4 УК РСФСР (хранение холодного оружия) на 10 лет лишения свободы.
По решению Центральной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления от 25-26.IV.1955 года, уголовное дело в отношении Зонина А. И. прекращено за недостаточностью предъявленного обвинения.
Заместитель Начальника Управления
В. Н. Теглев».
В 17 лет А. Зонин стал комиссаром Красной армии. Под Новгородом-Северским был ранен. Но остался воевать.
Печататься начал в армейской газете в 1920 году. Участвовал в усмирении Кронштадтского мятежа, за что был награждён орденом Красного Знамени. В 1922 году работал ответственным редактором журнала «Политработник» и газеты «Туркестанская правда» (Ташкент). С 1923-го переехал в Москву. Работал заведующим военным отделом журнала «Молодая гвардия», замом главного редактора журнала «Октябрь».
Его перебросили в Ленинград, в горком партии, где он получил назначение заведующего отделом печати. С 1927 года – редактор журнала «Звезда».
Входил в группы «На посту», РАППа, затем ЛОКАФа. В 1929 году окончил литературное отделение Института красной профессуры, был замом директора института.
Откликаясь на гибель Маяковского, Зонин напечатал в «Правде» статью, которую Ассоциация пролетарских писателей признала ошибочной и направила по этому поводу письмо Сталину и Молотову. Зонина направили на работу на Дальний Восток.
К этому времени он был довольно известным критиком, автором исторической повести «Капитан «Дианы».
В конце 1934 года Зонин с тяжёлым нервным истощением лёг в больницу, из которой вышел только в 1937-м.
И поехал в ЦК – решать вопросы о партийных взносах, которые не платил, пока лежал в больнице. Там встретил приятеля, который посоветовал Зонину исчезнуть. Зонин снимал в Москве комнату и писал роман об Александре Невском. Но гранки набора романа «Земля Новгородская» после заключения договора с Германией были рассыпаны.
Зонин дружил с Б. Лавренёвым, который поспособствовал переезду Зонина в Ленинград. Включил его в финскую войну в группу писателей, которых распределяли по частям Балтийского флота.
А в Великую Отечественную вместе с отрядом моряков сражался с приближающимися к городу немцами.
Вместе с отрядом Зонин погрузился на судно, которое потопили немцы. Спасся писатель чудом: рана, полученная ещё на Гражданской, не давала ему возможности плавать. Он спасся, ухватившись за бревно.
Блокадной зимой писатели в Ленинграде под руководством В. Вишневского работали над историей кораблей. Штаб оперативной группы находился на набережной Красного Флота. Истощённый Зонин далеко не всегда приходил туда ночевать, а оставался на том судне, историю которого описывал. Вишневский был в больнице, когда его заместитель полковой комиссар Г. Мирошниченко написал донос о нарушении Зониным инструкции и ведении им якобы пораженческих разговоров. Вишневский хода делу не дал.
Сорок девять дней длился героический поход на «Л-3», в котором Зонин принял участие и который описал в «Походном дневнике». Там он под фамилией Довлатов представил публике замполита, трусливого и лживого.
Реальный замполит написал в политотдел донос на командира корабля Петра Грищенко и его друга Зонина. Оба обвинялись в некомпетентности.
Однако Грищенко за этот поход получил Героя Советского Союза, а Зонин – второй орден Красного Знамени. Притом что партийная комиссия не утвердила решение собрание на «Л-3» о восстановлении его в партии.
В 1944 году он участвовал в боевых операциях торпедных катеров. За это получил ещё два ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
Всё пережитое им описал в романах и повестях «Воспитание моряка», «Поход подводной лодки под командованием капитана 2-го ранга Грищенко», «Две тысячи миль под водой», «Морское братство».
В 1942 году он женился на писательнице Вере Кетлинской. Обоих волновала реакция на чтение его романа «Свет на борту» в Военно-морской академии.
Ну, а дальше произошло то, с чего я начал. За год до смерти Зонину пришло письмо от Е. Стасовой, занимавшейся в ЦК восстановлением в партии реабилитированных. Зонину нужно было формально подписать заявление. Но он узнал, что первый его доносчик Г. Мирошниченко, исключённый было из партии, восстановлен в ней. И отказался подписывать заявление.
Умер 21 февраля 1962 года беспартийным.
* * *
Григорий Самойлович Фридлянд, родившийся 27 сентября 1897 года, историк-марксист, ученик М. Покровского. Первый декан исторического факультета МГУ (1934-1936).
Основная тема его научных работа – история Французской революции.
Арестован 1 мая 1936 года. Приговорён 7 марта 1937 года к расстрелу. Расстрелян на следующий день.
Отец писателя Феликса Светова, дед правозащитницы Зои Световой, прадед трёх прекрасных журналистов Тихона, Тимофея и Филиппа Дзядко.
* * *
Лидия Алексеевна Авилова прославилась мемуарами «А.П. Чехов в моей жизни», которые сначала назывались «Роман моей жизни». Многие склонны считать, что Авилова выдумала их с Чеховым близость. Доказать это или опровергнуть, разумеется, невозможно. Но имя себе у читателей Авилова создала.
Её книги «Власть и другие рассказы» (1906), «Сын» (1910), «Первое горе и другие рассказы» (1913), «Образ человеческий» (1914), «Пышная жизнь. Камардин» (1918) подобного успеха не имели. И не будь мемуаров, Авилову, возможно, никто бы сейчас и не вспоминал.
Умерла Лидия Алексеевна 27 сентября 1943 года. Родилась 15 июня 1864-го.
* * *
О Владимире Германовиче Лидине рассказывают, что он завладел куском сюртука покойного Гоголя, когда гоголевский прах переносили на Новодевичье кладбище.
Кусочек этого сюртука Лидин якобы вставил в переплёт какого-то тома сочинения Гоголя.
Не убеждён, что это правдивая байка: всё-таки сто лет пролежавшая в земле материя вряд ли не истлела.
Лидин оставил немало книг. Лучшие его вещи – небольшие рассказы и мемуарные произведения. Там и там он хорошо выписывает людей, добр к ним.
Умер 27 сентября 1979 года. Родился 15 февраля 1894 года.
* * *
Владимир Павлович Титов удостоился чести попасть в собрание сочинений Пушкина с дубиальной (то есть, возможно, и пушкинской) повестью «Уединённый домик на Васильевском».
Собственно, сам Титов говорил, что писал по воспоминаниям. Якобы однажды он услышал из уст Пушкина этот рассказ и записал его.
В пушкинистику с её проблемами эта повесть введена Ходасевичем в работе «Петербургские повести Пушкина», где ей отведено, по-моему, несоразмерно важное место. Потому хотя бы, что при внимательном чтении обнаруживаешь старательную подделку под пушкинский стиль. А во-вторых, слишком запоминается эта чертовщина, чтобы поверить, что, сочинив, Пушкин стал бы её пересказывать другим. Наверняка записал бы для себя.
А больше Титов, скончавшийся 27 сентября 1891 года и родившийся 17 марта 1807 года, ничем не примечателен.
28 СЕНТЯБРЯ
По произведениям Дмитрия Никитича Бегичева, родившегося 28 сентября 1786 и умершего 24 ноября 1855 года, можно весьма наглядно представить себе быт того времени. По его роману «Семейство Холмских» в 6 частях (1832, 1833 и 1841). Роман был издан анонимно. Но под остальными своими вещами он чаще всего ставил подпись: «Семейство Холмских». И они тоже любопытны прежде всего с бытописательской точки зрения: «Ольга, или Быт русских дворян в начале нынешнего столетия» (1840), «Провинциальные сцены» (1840), «Быт русского дворянина» (1855).
Дружил Бегичев со многими русскими литераторами. Будучи воронежским губернатором поддерживал поэта А.В. Кольцова.
Оставил о себе хорошую память.
* * *
Александр Давыдович Брянский, родившийся, по его утверждению, 28 сентября 1882 года, взял себе псевдоним «Саша Красный» конечно, в пику Саше Чёрному, известному поэту-сатирику, оказавшемуся в эмиграции.
Он был отцом нашей однокурсницы Инны Брянской, с которой мы с женой одно время дружили.
Очень удивились, когда газеты написали о столетнем юбилее Саши Красного, и он благодаря этой дате вернулся из небытия в литературу и даже был принят в 100 лет в Союз писателей СССР.
Инна очень стеснялась фантазии отца, сказав нам, что ему нет ещё и девяноста.
Поэтому все истории, которые он рассказывал в период этого «столетия», требуют дополнительной проверки: был, мол, он в охране Ленина, умел, дескать, стрелять из двух рук одновременно и т.п.
Мы знали, что некогда писал он стихи (куплеты) для эстрады, с которыми выступал. Что в Баку он выступал вместе со своей женой, актрисой Ниной Вильнер. Что в 1937 году, почувствовав, куда ветер дует, он уехал в провинциальный украинский городок и там затерялся, затаился. Что смог избежать участия на фронтах Великой Отечественной и что в Москве появился уже после смерти Сталина, где обратился в милицию за новым паспортом, утверждая, что все его бумаги погибли в пожаре.
Там, вероятно, и возник этот 1882 год, хотя о грядущем столетии Александр Давыдович вряд ли в то время помышлял.
Связей у него и жены с эстрадными актёрами было много, и он сумел их восстановить. Сумел даже вступить в Литфонд СССР, не будучи членом Союза писателей.
Ну, а, став членом Союза, Саша Красный выпустил две книжки стихов в Москве и в Туле. Не думаю, что их выпустили бы, если б Александр Давыдович не был членом Союза писателей.
* * *
Николай Иванович Родичев, родившийся 28 сентября 1925 года, первые свои стихи опубликовал на фронте в армейской газете «Защитник Родины» в 1944 году. В 1953 году выпустил сборник стихов, по которому в 1955 году его приняли в Союз писателей.
С тех пор опубликовал пятьдесят пять книг в основном прозы, которую писал намного чаще, чем стихи, и 16 романов и повестей писателей народов СССР в своём переводе.
Объясняется такая плодовитость ещё и тем, что Родичев работал в издательствах, а пишущему издательскому работнику легко было выпустить книгу в издательствах, где работали его авторы.
У нас в «Литературной газете» на последней юмористической её странице существовала рубрика «Ты – мне, я – тебе». Похоже, что этим правилом широко руководствовался в своей деятельности лауреат журналов «Москва», «Молодая гвардия» и «Огонёк» Николай Родичев.
Был он ещё удостоен литературной премии Союза писателей СССР 1969 года за книгу «Вешка у родника», объявленную лучшим произведением года о рабочем классе. А ещё прежде в 1963 году получил премию Министерства обороны за книгу «Амурское лето».
Скончался этот предприимчивый литератор 7 августа 2002 года.
* * *
Семён Кузьмич Цвигун, родившийся 28 сентября 1917 года, писал под собственным именем книги о разведчиках, а под псевдонимом Семён Днепров киносценарии. Кроме того, под псевдонимом «генерал-полковник К.С. Мишин» консультировал телесериал «Семнадцать мгновений весны» и фильм «Укрощение огня».
Последний псевдоним говорит о высоком военном ранге Цвигуна, который не посмел бы записаться генерал-полковником, если был бы ниже этого звания.
Но Цвигун был выше. Он был генералом армии. Причём служил в КГБ. Был первым заместителем его председателя, курировал третье (военная контрразведка) и пятое (борьба с идеологической диверсией) его управления.
В 1945 году он пришёл в МГБ Молдавской ССР. И дослужился там до заместителя министра МВД и одновременно заместителя председателя КГБ Молдавии. То есть, как Черненко, работал в Молдавии вместе с Брежневым, который и назначил его в КГБ, дал героя соцтруда и чин генерала армии.
Цвигун был не только писателем – автором книг о разведчиках, но и героем подобных книг. В частности, он один из героев романа Юлиана Семёнова «Тайна Кутузовского проспекта» (1990). Как генерал Вигун выведен в романе Э. Тополя и Ф. Незнанского «Красная площадь» (1983).
Понятно, почему он привлёк внимание детективщиков: Семён Кузьмич застрелился 19 января 1982 года.
По этому поводу существуют разные версии. Бывший председатель КГБ В. Крючков говорил о сильных болях, которые испытывал Цвигун на почве развившегося рака головного мозга и которые в конце концов стали для него непереносимыми.
Но гораздо больше ответственного народу утверждает, что Цвигуна в ЦК КПСС проинформировали о процессе по делу о коррупции в особо крупных масштабах, где подсудимые называют его имя как чиновника, бравшего огромные взятки.
Сдаётся мне, что последняя версия достоверней.
* * *
Степан Семёнович Дудышкин известен тем, что первым откликнулся на литературный дебют Льва Толстого в «Отечественных записках» (1852), где был тогда ведущим критиком.
С 1860 года стал соиздателем и фактически редактором этого журнала. Вместе с А.А. Краевским в 1858-1860 годах издал серию книг «Историки и публицисты новейшего времени в переводе на русский язык».
В 1860-м подготовил первое критическое собрание сочинений М.Ю. Лермонтова.
Скончался Степан Семёнович 28 сентября 1886 года. Родился 6 января 1821-го.
* * *
Владимир Яковлевич Зазубрин поначалу служил у белых. Потом перешёл к красным. В конце 1919 года перенес тиф. Выздоравливая, написал роман «Два мира», о котором положительно отзывались Ленин и Горький.
В 1923 году Зазубрин написал повесть «Щепка» о работе ЧК и красном терроре. Она была опубликована только в 1989 году. О его повести «Общежитие» (1923) напостовец Г. Лелевич писал: «У нас не было ещё такого позорного, отвратительного, слюнявого пасквиля на революцию, на коммунистическую партию».
С 1923 по 1928 год Зазубрин работал ответственным секретарём журнала «Сибирские огни». В 1928-м переехал в Москву, работал в Гослитиздате и в журнале «Колхозник». Опубликовал в «Новом мире» (1933), а через год отдельной книгой роман «Горы» о коллективизации на Алтае.
В 1937 году арестован вместе с женой органами госбезопасности. 28 сентября 1937 года расстрелян. На 42 году жизни: родился 6 июня 1895-го.
Разумеется, после смерти Сталина и разоблачения сталинских преступлений реабилитирован.
* * *
Герман Мелвилл устроился работать на китобойное судно; жил на Гавайях. Путешествовал. Свои впечатления он описал в книгах «Тайпи», «Ому», «Белый бушлат».
Но известность ему принёс роман «Моби Дик» (1851), рассказывающий о погоне за белым китом, который олицетворяет борьбу Добра и Зла. Роман представляет собой сочетание мелодрамы, приключений и философии.
После этого Герман Мелвилл написал немало книг прозы и стихов. Но популярности «Моби Дика» они не достигли.
Умер писатель 28 сентября 1891 года. Родился 1 мая 1819-го.
29 СЕНТЯБРЯ
Василий Павлович Бетаки (родился 29 сентября 1930 года) начал печататься в 1956 году. Первая книга вышла в 1965 году. Много переводил поэтов с английского и немецкого. В 1971 году стал победителем конкурса перевода трёх «главных стихотворений Эдгара По («Ворон», «Колокола», «Улалюм»), которые были опубликованы в изданном «Художественной литературой» двухтомнике Э. По.
Увы, через короткое время после этой победы последовала эмиграция. Так что в Союзе писателей, куда Бетаки приняли в 1965 году, он пробыл всего семь лет. В 1972 году в связи с отъездом на постоянное место жительства за границу, его из Союза исключили.
После первой, изданной в СССР книги, вторая «Замыкание времени» уже вышла в Париже в 1974 году. И ещё пять оригинальных книг Бетаки вышли в Париже. Но с 1989-го его снова публикуют в России.
То же самое и с его переводными книгами. Три из них изданы в России в престижной серии «Литературные памятники»: роман в стихах Вальтера Скотта «Мармион», полное собрание стихотворений Сильвии Плат и поэма неизвестного автора X1V века «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь», являющая собой рыцарский роман, описывающий приключения племянника короля Артура.
Во Франции Бетаки жил в Мёдоне – чудесном парижском пригороде. Я в нём останавливался проездом из бургундского монастыря «Тэзе», куда ездил с группой паломников. Мёдон даже, быть может, красивее самого Парижа. Во всяком случае, я понимаю восхищавшимся этим городком Хэмингуэя, который приезжал туда в полюбившийся ему рыбный ресторан.
Двадцать лет работал Василий Бетаки на радио «Свобода» и одновременно восемнадцать лет в журнале «Континент».
Он выпустил мемуарную книгу «Снова Казанова», очень насыщенную интересными фактами.
Мне там нравится история отношений Бетаки с Маршаком, который был двоюродным братом его матери:
«После смерти родителей я увидел Маршака только в 1946 году. Будучи в Москве у Лиды, я ему позвонил, и он меня тут же пригласил к себе. Поморщился от моих стишков («недобальмонт какой-то у тебя!»), но мои первые переводы (а это был Г. Гейне) сдержанно похвалил и сказал, что переводчик из меня точно выйдет, надо только две тонны груза к заду привязать для усидчивости. Правда, тут же сказал, что переводить Гейне – безнадёжный тупик, что и сам он начинал, да забросил. Посоветовал учить английский. Он уже тогда чувствовал, что за английским – будущее, хотя в девяти десятых советских средних школ ещё продолжали по инерции преподавать немецкий. К сожалению, его добрый совет так и пропал тогда даром: я был слишком ленив…
Через три или четыре года после той первой послевоенной встречи я с Маршаком поссорился и не виделся с ним до самого его юбилея в Ленинградском Доме Писателей. На юбилее он первый холодно со мной поздоровался, когда мы столкнулись на лестнице. Я, как мог, вежливо ответил, вежливо поздравил.
А поссорились мы в ходе разговора, в котором он поучал меня уму-разуму, объясняя с кем из писателей надо – именно надо – быть предупредительным. Можно, дескать, совсем не уважать, а вот быть предупредительным необходимо.
Я вспыхнул и сказал, что и с ним, наверно, тоже так надо, что за переводы я его очень уважаю, а вот пионерщины простить не могу – как ему не стыдно сочинять всю эту чушь, ведь он когда-то Оксфорд окончил, в Палестине и в Италии побывал, потом был главным редактором газеты у Врангеля! А теперь что пишет…
Короче говоря, я сказал ему всё, что мог сказать восемнадцатилетний студент, возмущаясь приспособленчеством, советскими газетными истинами и прочей дрянью, которая пышно расцветала в сорок восьмом – сорок девятом году – чуть ли не в самом мрачном и мерзком году за весь послевоенный период…
В общем, я ушёл, распрощавшись самым нежнейшим образом с его ньюфаундлендом, который, по-моему, был в этой идеологически-кухонной ругани на моей стороне.
Уверен, что на моей, поскольку собачья бескомпромиссная прямота мне всегда была приятнее, чем любые «соображения» старших.
А хозяин только сказал вслед, тщательно протирая очки, что не хочет меня больше видеть, а месяца через три переслал мне в Питер с другим своим двоюродным племянником, моим кузеном и однокурсником Сашей Гительсоном, книжку сонетов Шекспира с надписью «На память, прощально, Вздор-Кихоту Васе».
Саша сказал, что дядя Сёма не хочет больше меня видеть и что по его, Сашиному, мнению тут смешалось раздражение (мол, яйца курицу учат) с чувством опасности, которую могу я «своим колокольным языком на него накликать». Шел 1949 год, и «космополитам по рождению» жить было страшновато, даже таким заслуженным, как Маршак. Но я этого в своей вечной легкомысленной крайности почти не понимал. Вернее, понимал, но как-то не всерьёз…»
Хорошо написано, правда? Так что рекомендую почитать. Очень интересная книга.
Умер 23 марта 2013 года.
* * *
Пётр Львович Вайль, родившийся 29 сентября 1949 года, умер 7 декабря 2009-го на 61 году жизни.
Эмигрировал в 1977-м. С русской службой Радио «Свобода» сотрудничал с 1984 года. В 1995 он там возглавил службу информации. Вёл на радио программу «Цикл времени».
Печатал прекрасные книги в соавторстве с другом Александром Генисом. У меня есть их удивительная книга «Родная речь» – серия портретов произведений русских писателей XIX века. Я бы рекомендовал их школьникам на уроках литературы и студентам-филологам, которые до сих пор пережёвывают скучнейшие постсоветские учебники.
* * *
Николай Иванович Кочкуров, родившийся 29 сентября 1899 года и избравший себе литературный псевдоним Артём Весёлый, в РСДРП вступил в марте 1917-го. В 1919-м ушёл добровольцем на деникинский фронт, был матросом Черноморского флота, чекистом.
Не закончив ни Высший Художественный институт имени Брюсова, куда поступил в 1922 году, ни МГУ, стал редактором большевистской газеты «Красный пахарь», где выступал со статьями и очерками под разными псевдонимами (в том числе и Артём Невесёлый!).
А под псевдонимом Артём Весёлый выступил с пьесой «Мы» в 1921 году, которую напечатал в «Красной нови». Позднее там же напечатал рассказ «Масленица». Ну, а дальше почти ежегодно выходят его крупные произведения «Реки огненные» (1923), «Дикое сердце» (1924), «Вольница» (1924), «Страна родная» (1925-1926), «Россия, кровью умытая» (1927-1928).
До 1926 года входил в творческое объединение «Перевал». Но в 1929 году перешёл в РАПП.
Арестован был в 1937 году вместе с другими куйбышевскими литераторами. Практически все поэты и писатели Куйбышева (так называлась Самара) были объявлены членами террористической организации, главой которой определили Весёлого как самого старшего по возрасту. Были взяты Лев Правдин, Виктор Багров, Влас Иванов-Паймен, Арсений Рутько, Иосиф Машбиц-Веров и Лев Финк, самый молодой из них.
Расстреляли 8 апреля 1938 года Артёма Весёлого и Виктора Багрова.
В 1938 году на 8 лет осудили третью жену Весёлого Людмилу Иосифовну Борисевич. А в 1948 репрессировали его первую жену Гитю Григорьевну Лукацкую. В 1949 арестовали дочерей от первого брака Заяру и Гайру. Обе получили по 5 лет. Их и отца реабилитировали в 1956 году.
* * *
Виктор Александрович Некипелов, родившийся 29 сентября 1929 года, сперва окончил фармацевтический факультет Харьковского медицинского института и работал врачом. Но в 1966 году выпустил книгу стихов «Между Марсом и Венерой», заочно окончил Литературный институт.
В августе 1968 года изготовил вместе с женой и разбросал в Умани листовки с протестом против советской оккупации Чехословакии. Авторы найдены не были. Но общение Некипелова с московскими и украинскими правозащитниками привлекло внимание КГБ. Его уволили с работы.
В 1970-1973 заведовал аптеками в подмосковном Солнечногорске, а потом в посёлке Камешково Владимирской области. В июле 1973 года был арестован и приговорён Владимирским областным судом к 2 годам заключения за распространение «Хроники текущих событий» и собственных антисоветских материалов.
В 1975-1979 Некипелов подписал множество правозащитных документов, стал активным автором самиздата. Вместе с Александром Подрабинеком написал книгу «Из жёлтого безмолвия» о карательной медицине в СССР. Публиковался в парижском журнале «Континент» и в самиздатовском «Поиски». В 1978 был принят членом французского Пен-клуба. В марте 1977 года подал на выезд из СССР, боролся за право эмигрировать.
В декабре 1979 года арестован и в июне 1980 осуждён выездной сессией Владимирского областного суда на 7 лет ИТК и на 5 – последующей ссылки. Отбывал срок в пермских лагерях и Чистопольской тюрьме. В декабре 1986 года отправлен в ссылку в красноярский город Абакан. 20 марта 1987 в рамках горбачёвской кампании по помилованию заключённых освобождён.
И немедленно подал заявление на выезд. В сентябре 1987 года эмигрировал с женой во Францию. Там в Париже 1 июля 1989 года скончался.
Его стихотворение я вытащил из его мемуарной книги «Институт дураков» – о карательной медицине. Оно называется «Кизиловый лес»:
…Мы вышли б, наверно, на берег иной, Чего-то сказать не умея, но ты – наступаешь босою пятой на скрытого в ягодах змея! Мы падаем вместе, сплетаясь в одно, в пуховую алость кизила. О нет, мы не блудим, – мы давим вино для тайного, светлого пира!Конечно, «кизила-пира» – это не рифма. Но настроение передано довольно точно. Так что простим поэтическую небрежность!
* * *
Мне всегда было жаль Николая Алексеевича Островского (родился 29 сентября 1904 года) – слепого инвалида, так сказать, сталинского маяка, типа Осипенко, Стаханова. Так же, как они, Островский не совершал свой подвиг. То есть, роман «Как закалялась сталь» он с помощью трафарета написал и посылал в журнал «Молодая гвардия», откуда рукопись вернулась с разгромной рецензией: «выведенные типы нереальны». Но не тут-то было. Можно только гадать, каким образом Островский добился, чтобы роман снова прочитали в «Молодой гвардии» и чтобы зам главного Марк Колосов и ответственный секретарь Анна Караваева взялись за его литературную обработку.
Новый вариант был прочитан Островскому. Он делал замечания, по которым правились эпизоды. Причём писали не только Колосов и Караваева. Писал и Серафимович.
Словом, когда роман появился наконец сперва в «Молодой гвардии», а после отдельной книгой (1932), он был встречен восторженной критикой, которая быстро сделала книгу популярной у читателя.
Сталин в 1935 году награждает Островского орденом Ленина, дарит дачу в Крыму и квартиру в центре Москвы на улице Горького, которой нынче вернули старое наименование – Тверская.
В 1936 году Островского зачислили в Политуправление Красной армии в звании бригадного комиссара. Мёртвый переулок в Москве, где Островский жил в 1931-1932 годах, переименовали в переулок Николая Островского.
Островский взялся за новый роман «Рождённые бурей», но из трёх частей успел до смерти, последовавшей 22 декабря 1936 года, написать только первую, которую признали слабой. Однако и эту неоконченную книгу выпустили. Удивительно, но она понравилась Андрею Жиду, написавшему о ней в книге «Возвращение из СССР», в целом антисоветской направленности.
* * *
Александр Васильевич Сухово-Кобылин родился 29 сентября 1817 года. Отличался аристократизмом и защитником аристократических принципов. Так он противился браку сестры Елизаветы (стала писательницей под псевдонимом Елизавета Тур) и критика Н.С. Надеждина, не имевшего дворянской родословной.
Но жизнь стала как бы вытряхивать из него аристократа.
В Париже он свёл знакомство с Луизой Симон-Деманш, ставшей его любовницей. Когда её нашли убитой, обвинили Сухово-Кобылина. Семь лет он находился под судом, дважды арестовывался. Корыстолюбие судейских, почуявших поживу, привело к тому, что он и пятеро его крепостных были близки к каторге. «Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири», – говорил Сухово-Кобылин после освобождения.
В тюрьме он создал свою первую пьесу «Свадьбу Кречинского», немедленно ставшей популярной и у читателей и у зрителей. Любопытно, что в это же время в театрах шла и тоже с большим успехом комедия А.Н. Островского «Не в свои сани не садись», сходная с комедией Сухово-Кобылина и сюжетом и проблематикой. Но отличие их друг от друга весьма существенно. Островский рисует купечество с глубокой симпатией, а Сухово-Кобылину симпатичен помещик, неиспорченный хозяин земли.
Драма «Дело» (1861) развивает идеи первой пьесы Сухово-Кобылина, хотя отличается от неё своим содержанием и жанровыми особенностями. Но в «Деле» драматург выступает уже обличителем государственной системы. Зло олицетворено бюрократической иерархией: не человек, а его чин, его место на служебной лестнице – вот с чем считаются в обществе и вот от чего обогащаются.
Ясно, что цензура имела много претензий к такой пьесе. Она и не была поставлена. Напечатана за границей. В России появилась в печати только в 1869 году и то – в значительно урезанном виде.
«Смерть Тарелкина» – последняя часть трилогии (1869) явилась естественным продолжение «Дела». Здесь ещё более пристально рассматривается русская бюрократия, которая, оказывается, вовсе не представляет собой лагерь единомышленников. «Людей нет, все демоны», – говорит Тарелкин, точно характеризуя персонажей, среди которых нет положительного героя и которые живут в своём чиновничьем мире, как пауки в банке. Если «Дело» было, скорее, карикатурой на общество, то «Смерть Тарелкина» – это гротеск. Напечатать её вместе с двумя остальными пьесами разрешили. Они напечатаны в 1869 году под общим заглавием «Картины прошлого». Но допущена к представлению «Смерть Тарелкина» только в 1899 году под изменённым заглавием «Расплюевские весёлые дни» и с существенной переделкой.
В том виде, в каком трилогия написана Сухово-Кобылиным, она была поставлена Мейерхольдом в 1917 году.
В 1871 году по совету К.Д. Ушинского Сухово-Кобылин устроил в своём имении Новом Ярославской губернии учительскую семинарию, которая существовала до 1914 года и выпустила сотни учителей.
То есть, семинария значительно пережила своего организатора: скончался Сухово-Кобылин 24 марта 1903 года.
* * *
Владимир Дмитриевич Фоменко, родившийся 29 сентября 1911 года, написал роман «Память земли», который сделал его известным.
В 1933-1935 годах он проходил военную службу. После демобилизации заведовал в родном городе Ростове-на-Дону библиотекой. Был репрессирован и полностью реабилитирован.
После освобождения из тюрьмы поступил в Ростовский педагогический институт, который закончил в 1941-м.
Призванный в армию, направлен в Ростовское артиллерийское училище. После окончания как командир огневого взвода участвовал в обороне Ростова-на-Дону. Дальше в его фронтовой биографии – битва за Кавказ и освобождение родного города.
Его немногочисленные очерки и рассказы, напечатанные во фронтовых газетах, способствовали тому, что Фоменко несколько месяцев работает в «Красной звезде».
Выпускает книги. Сперва очерков, а потом рассказов.
И работает над романом «Память земли» – о строительстве Цимлянского моря, при котором ему довелось присутствовать, о людях, которые вынуждены покинуть затапливаемые хутора.
Первая книга вышла в 1961 году, вторая – в 1971-м. В 1976 года она экранизирована для телевидения режиссёрами Борисом Савченко и Борисом Ильченко.
После романа написал ещё несколько рассказов.
Умер 17 декабря 1990 года.
Но в литературе остался прежде всего своим романом «Память земли».
* * *
Эпопея «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» насчитывает 20 томов. Её автор Эмиль Золя не уступал в плодовитости своим современникам. Новое, что он внёс в литературу, было изображение в натуре таких сцен, которые прежде литература изображать стеснялась. В этом смысле Золя стоит у истоков натуралистической традиции во французской литературе XIX века, которой последовали не только французские писатели.
О книге «Тереза Ракен» Золя писал: «Мне кажется, что я вложил в этот роман свою душу и плоть. Боюсь даже, что вложил в него слишком много плоти и вызову волнения у господина имперского прокурора. Ну что ж. Несколько месяцев тюрьмы меня не пугают».
Одной из причин, побудивших Золя создать свою эпопею, было желание показать действия законов наследственности. Ругон-Маккары происходят от слабоумной женщины, которая умирает в последнем томе столетней старухой, лишённой разума. От её одного законного ребёнка и двух незаконных берут начала три ветви рода. Первая – процветающие Ругоны, связанные с политическими махинациями при Наполеоне III или со спекуляциями ценными бумагами. Вторая – семейство Муре, началу которого положил честолюбивый волокита, создавший один из первых парижских универмагов. Третья – Маккары, люди крайне неуравновешенные: их предок был алкоголиком. Они играют заметную роль в таких самых известных романах Золя как «Чрево Парижа», «Нана», «Западня», «Жерминаль».
Золя вмешался в процесс Дрейфуса, утверждая, что офицер Дрейфус, еврей по национальности, не продавал военных секретов Германии, а осуждён за свою национальность. Открытое письмо президенту Франции «Я обвиняю» дало толчок суду обвинить Золя в клевете и назначить ему год тюрьмы. Золя бежал в Англию. И вернулся на родину, когда его правота была юридически подтверждена.
Умер он от отравления угарным газом 29 сентября 1902 года. Родился 2 апреля 1840-го.
30 СЕНТЯБРЯ
Цитата из раннего К. Чуковского:
«Жил-был некий доктор.
Нос у него был задумчивый, как у ворона на взморье. Одна рука походила на красную деревенскую девку. Щёки доктора сползли на широкую нижнюю челюсть, и это было неудивительно, потому что у лакея, служившего доктору, щёки чуть не капали на землю и готовы были каждую минуту оборваться, как подтаявшие ледяные сосульки.
Глаза доктора заползли под мясистые веки, как две лисицы под дубовые корни, а всё лицо вообще – было похоже на сани деревенских тарханов. Что же касается его военной шинели, то она сходствовала с морскою тиной.
Этот очень странный доктор, столь мозаически составленный из различных животных, растений и предметов неорганического мира, действует в новом рассказе г. Сергеева-Ценского «Мертвецкая», помещённом в майской книжке «Образование» за этот год, – и имеет самое близкое отношение к тому, что мы только что говорили.
Сначала этот доктор пьёт в ресторане пиво, а потом идёт по улице домой. И ресторан, и улица тоже мозаические. В ресторане горят лампы, – нет, это струится красноватая пыль. В ресторане разговаривают люди, – нет, это пыль от стада. В ресторане салфетки взволнованы, как голуби на пожаре, а каждый столик прикрывается в ресторане густым слоем безучастности, как стеклянным колпаком.
На улице же хитрые тени, с просветами, словно глаза. На улице тает лёд, будто кто-то жуёт кости. Ночь на улице сначала подгнивает, а потом расплывается вправо и влево, как две чёрные кареты.
Словом, г. Сергеев-Ценский опростал целый Ноев ковчег лисиц, и голубей, и ворон, и стад, и саней, и карет, и костей.
Люди – мертвецы! – говорит Бабаев.
– Это вы оттого, что теперь общественная реакция, – отвечает г. Дионео.
– Обнимать прекрасную женщину и насиловать покойницу – одно и то же, – говорит Бабаев.
– Это вы оттого, что вас породило «неудавшееся движение», – отвечает г. Дионео. – То же было и в тринадцатом веке. Космос и личность…
Но Бабаев не дослушивает, уходит, делает петлю и вешается.
Вот что было бы, если бы искусство и в самом деле было теургическим, если бы слово претворялось в плоть, если бы фанатизм сказывался в чём-нибудь другом, кроме полемики «Золотого Руна» с «Весами».
Но в том-то и дело, что Бабаев не пойдёт и не повесится, а преспокойно начнет фигурировать в других вещах г. Сергеева-Ценского, ничуть не смущаясь комментариями своих комментаторов. О, они отлично понимают друг друга, поэты и их комментаторы! Они знают, что нужно только не слишком верить друг другу, и всё пойдет хорошо. Одни пишут рассказы: о, ужас, о, смерть, о, мертвецкая! другие пишут о рассказах: о, личность, о, космос, о, их разобщение! – и ни в чём не сказывается так наша нефанатическая эпоха, как именно в таких отношениях поэтов и их ценителей […]
Г. Сергеев-Ценский не одинок. Короткомысленное время захватило всех. Все стали мозаистами, и перелистайте что-нибудь из современного и вы увидите, как забота художника о каждом данном моменте творчества убила заботу о целом; как слово, – маленькое, отдельное, служебное слово художника, – зазналось, выпятилось на первый план, возомнило себя божеством и забунтовало. И уже много народилось молодых поэтов (почитайте-ка альманахи!), которых искусство свелось на придумывание новых эпитетов, на вырезывание всё новых и новых стёклышек для какой-то мозаики, которых они даже и склеивать не хотят, – ибо клеить их нечем, ибо спайка мозаических частиц осталась тайной старых мастеров».
Цитата почти издевательская. Никогда не подумаешь, что Сергей Николаевич Сернеев-Ценский (родился 30 сентября 1875), лауреат сталинской премии 1 степени, академик АН СССР, мог дать в 1907 году основание ехидному Корнею Ивановичу для такого разбора.
А пишет Корней Иванович по поводу романа Сергеева-Ценского «Бабаев», который, как утверждает Википедия, принёс автору литературную известность.
Ну, а дальше два основных произведения – «Преображение России», над которым писатель трудился больше 40 лет (1914-1958), включающее в себя 12 романов, три повести и два этюда. Время действия – от начала Первой мировой до Февральской революции, причём пять романов, посвящённых войне, отличаются тем, что в них приведены газетные вырезки, исторические документы и комментарии (похоже ли на солженицынское «Красное колесо»? Местами). И второе произведение: роман-эпопея «Севастопольская страда» (1937-1939), за которое автору и была вручена сталинская премия.
С конца Первой мировой войны Сергеев-Ценский жил в Крыму. Публиковался в деникинской печати. Но всё ему простили. И даже выбрали в академики.
Забавно, что за такие художественные произведения, как «Поэт и чернь (Дуэль Лермонтова)», «Гоголь уходит в ночь», «Мишель Лермонтов», «Невеста Пушкина» ему присвоили учёную степень доктора филологических наук!
Хорошо ли он писал? Мастеровито. Вольфганг Казак в своём словаре отмечает его «яркую образность», его сравнения и метафоры в батальных сценах. Но в целом, вещи его скучные. И то, что Иван Михайлович Шевцов, известный автор антисемитской «Тли», выпустил о Сергееве-Ценском в 1960 году книгу под названием «Подвиг богатыря», не может не настораживать: учуял Шевцов в академике родную душу!
Скончался академик 3 декабря 1958 года.
* * *
Слава Богу, биография академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва очень известна. Известно и то, что он, студент Ленинградского университета, сделал в 1928 году доклад в студенческом кружке «Космическая академия наук» на тему «попранной и искажённой врагом Церкви Христовой и народа российского» старой русской орфографии. За это был в феврале 1928-го арестован и осуждён на 5 лет. Отбывал наказание до 1931 года в Соловецком лагере особого назначения, а после 1931-го в БелБалтлаге.
Вернувшись в Ленинград, работал литературным редактором Соцэкгиза.
С 1941 года – младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом). В 1941-1942 годах жил с женой и дочками-близнецами в блокадном Ленинграде. Защитил кандидатскую диссертацию. В июне 1942 года эвакуирован вместе с семьёй по Дороге жизни в Казань.
В 1945 начал издавать свои книги «Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы 11-17 вв.» и «Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода 11-17 вв.».
Дальше научные работы называть не будем: нет места.
С 1951 года профессор Ленинградского университета, а перед этим в 1947-м защитил докторскую диссертацию.
В 1950 опубликовал свой перевод «Слова о полку Игореве» и откомментировал его.
В 1952-м получил сталинскую премию 2-й степени за коллективный научный труд «История культуры Древней Руси. Т. 2».
В 1953 – избран членом-корреспондентом АН СССР.
В 1963 – избран иностранным членом Болгарской академии наук.
В 1964 – получил степень почётного доктора наук польского Университета имени Николая Коперника в Торуне.
В 1967 – избран почётным доктором Оксфордского университета (Великобритания).
В 1968 – избран членом-корреспондентом Австрийской академии наук.
В 1969 – за научный труд «Поэтика древнерусской литературы» получил Государственную премию СССР.
В 1970 – избран действительным членом Академии наук СССР.
В 1971 – избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств, присуждена степень почётного доктора Эдинбургского университета (Великобритания).
В 1973 – избран иностранным членом Венгерской академии наук.
В 1975 – выступил против исключения А.Д. Сахарова из Академии наук СССР.
В 1976 – избран членом-корреспондентом Британской академии.
В 1982 – избран почётным доктором Университета Бордо (Франция).
В 1983 – избран почётным доктором Цюрихского университета (Швейцария).
В 1985 – присуждена премия имени Белинского АН СССР за книгу «Слово о полку Игореве» и культура его времени», присуждена степень почётного доктора наук Будапештского университета.
В 1987 – избран иностранным членом Национальной академии Италии.
В 1988 – избран членом-корреспондентом Гёттингенской академии наук (ФРГ), избран почётным доктором Софийского университета (Болгария).
В 1991 – присуждена степень почётного доктора наук Карлова университета (Прага), избран почётным членом Немецкого Пушкинского общества.
В 1992 – избран иностранным членом Философского научного общества США, избран почётным доктором Сиенского университета (Италия).
В 1993 – присуждена Государственная премия РФ за серию «Памятники литературы Древней Руси», присуждена Большая золотая медаль им. М.В Ломоносова Президиума Академии наук РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарных наук, избран иностранным членом Американской академии наук и искусств.
Уф!
А ведь я почти не касался всевозможных наград – государственных и научных, полученных Дмитрием Сергеевичем. Список бы увеличился вдвое.
Да, учёный он был блистательный. И гражданин замечательный. Заявлял о своей гражданской позиции смело и откровенно.
И при всём при этом был человеком простодушным, которого легко было обвести вокруг пальца. Чем и воспользовалась заведующая отделом литературоведения нашей «Литературной газеты» Светлана Селиванова, внушившая академику, что она полная его сторонница. Поверив, Лихачёв помог ей выпустить брошюру в издательстве «Наука», на основании которой её приняли в Союз писателей. И больше того! После бунта редакции журнала «Вопросы литературы», добившейся ухода малокомпетентного Мстислава Козьмина с поста главного редактора, Дмитрий Сергеевич предложил академии назначить на эту должность Светлану Данииловну Селиванову. Редакцию спасло то, что Феликс Кузнецов, директор ИМЛИ, уже обещал П. Палиевскому и В. Кожинову, что это место займёт Дмитрий Михайлович Урнов. Академик-секретарь отделения русского языка и литературы М.Б. Храпченко согласился с Кузнецовым. А Митя Урнов, став, кстати, весьма либеральным редактором, проработал в журнале недолго. В 1991-м он выехал в США, как выяснилось позже – навсегда, и прислал в редакцию письмо, извещая её об уходе. Время стояло либеральное, главного редактора больше никто не назначал, его выбирал коллектив, и редактором журнала стал Лазарь Ильич Лазарев, с которым журнал прожил лучшие годы своего существования.
Помню, как невероятно смущён был Дмитрий Сергеевич, когда ему показали письмо Селивановой в газете «День» (будущее «Завтра»), где она решительно отрекалась от либерального коллектива редакции «Литературной газеты» и открыто демонстрировала свою черносотенную позицию. «Вот уж не ожидал!» – растерянно сказал академик.
Умер Дмитрий Сергеевич 30 сентября 1999 года. Родился 28 ноября 1906 года.
Список имён тех, кому посвящены календарные заметки
АбовинЕгидес Пётр
Авдеенко Александр
Авербах Леопольд
Авилова Лидия
Адалис Аделина
Адамович Алесь
Адельгейм Павел
Азольский Анатолий
Аксёнов Василий
Алексин Анатолий
Алешковский Юз
Алигер Маргарита
Алянский Самуил
Амлинский Владимир
Ананьев Анатолий
Андерсен ГансХристиан
Андреев Леонид
Аникст Александр
Анисимов Григорий
Анненков Павел
Анненский Иннокентий
Антокольский Павел
Анчаров Михаил
Апт Соломон
Апухтин Алексей
Аронов Александр
Арсеньев Владимир
Асеев Николай
Астафьева Наталья
Атаров Николай
Ауэрбах Елизавета
Ашукин Николай
Бабаев Эдуард
Бабель Исаак
Бабицкий Константин
Баженов Василий
Бакланов Григорий
Балтер Борис
Бальзак Оноре де
Барабаш Юрий
Баруздин Сергей
Бегичев Дмитрий
Бедный Борис
Белозёрская Любовь
Белых Григорий
Беранже ПьерЖан де
Берёзко Георгий
Берзер Анна
Бёрнс Роберт
Беспощадный Павел
БестужевМарлинский Александр
Бетаки Василий
Бицилли Пётр
Блок Александр
Боборыкин Пётр
Богат Евгений
Богомолов Владимир
Боков Виктор
Борисов Вадим
Бородин Сергей
Брайнина Берта
БрешкоБрешковский Николай
Британишский Владимир
Бровман Григорий
Бруштейн Александра
Булгакова Елена
Булгарин Фаддей
Буртин Юрий
Буслаев Фёдор
Вайль Пётр
Вампилов Александр
Ванновский Александр
Васильев Сергей
Васинский Александр
Велтистов Евгений
Вельтман Александр
Венгеров Семён
Веневитинов Дмитрий
Верховский Юрий
Весёлый Артём
Викулов Сергей
Винокур Татьяна
Вишняков Михаил
Воейков Александр
Войнович Владимир
Волынский Леонид
Вольпин Надежда
Воробьёв Евгений
Воронкова Любовь
Воронский Александр
Воронцова Елизавета
Вульф Анна
Вырубова Анна
Высотская Ольга
Высоцкий Владимир
Вяземский Павел
Гагарин Иван
Галкин Самуил
Галь Нора
Гамзатов Расул
Гамсун Кнут
Ганина Майя
Ганичев Валерий
Гаркуша Евгения
Гароди Роже
Гейне Христиан Готлиб
Геллер Михаил
Гершензон Михаил
Гершуни Владимир
Гильфердинг Алексей
Гинзбург Лев
Гинзург Лидия
Гиппиус Владимир
Гиппиус Зинаида
Гладилин Анатолий
Глоцер Владимир
Глюк Кристоф
ГоворухаОтрок Юрий
Голембиовский Игорь
Голосовкер Яков
Голявкин Виктор
Горбатов Борис
Горбачёв Николай
Горфункель Александр
Греч Николай
Григорьев Аполлон
Григорьян Леонид
Грин Александр
Гронский Иван
Гроссман Василий
Груздев Илья
Грушко Павел
Губанов Леонид
Губарев Виталий
Губер Борис
Данте Алигьери
Дар Давид
Дашкевич Николай
Дельвиг Антон
Дементьев Андрей
Дементьев Валерий
Дёмин Михаил
Державин Гавриил
Джованьоли Рафаэло
Дидуров Алексей
Дик Иосиф
Динамов Сергей
Дмитриев Олег
ДмитриевМамонов Матвей
Довлатов Сергей
Долгоруков Пётр
Долинский Даниил
Дорош Ефим
Дубровин Евгений
Дудинцев Владимир
Дудышкин Степан
Дурова Надежда
Дымшиц Александр
Дьяконова Елизавета
Евдокимов Николай
Евтушенко Евгений
Еголин Александр
Жадовская Юлия
Жаров Александр
Желудков Сергей
Житков Борис
Жирмунский Виктор
Загоскин Михаил
Зазубрин Владимир
Зайцев Варфоломей
Заходер Борис
Звягинцева Вера
Зенкевич Михаил
Злобин Степан
Золя Эмиль
Зонин Александр
Зоргенфрей Вильгельм
Зощенко Михаил
Иванов Вячеслав В.
Иванов Георгий
ИвановРазумник Разумник
Иваск Юрий
Инбер Вера
Исаев Егор
Исаковский Михаил
К.Р. (великий князь Константин Константинович Романов)
Казаков Юрий
Казанцев Александр
Казин Василий
Калашников Иван
Калашников Исай
Калинин Анатолий
Каплер Алексей
Карабчиевский Юрий
Карякин Юрий
Катаев Иван
Катков Михаил
КвиткаОсновьяненко Григорий
Кедрин Дмитрий
Кёстлер Артур
Кирсанов Семён
Киршон Владимир
Киселёв Леонид
Климов Григорий
Клычков Сергей
Кнабе Георгий
Князев Василий
Кобенков Анатолий
Коваль Юрий
Коган Павел
Кожинов Вадим
Козаков Михаил Э.
Козловский Евгений
Козловский Яков
Козовой Вадим
Кольридж Самуэль
Корнилов Борис
Корф Модест
Корчак Януш
Костюковский Яков
Краевский Андрей
КрандиевскаяТолстая Наталья
Красный Саша (Брянский Александр)
Кривицкий Александр
Кривошеин Никита
Кристи Агата
Крупин Владимир
Кузнецов Анатолий
Кузнецов Исай
Кукольник Нестор
Кульчицкий Михаил
Купер Фенимор
Куприн Александр
Курочкин Василий
Лабрюйер Жан
Лавренёв Борис
Лажечников Иван
Ласкин Борис
Лафонтен Жан де
ЛебедевКумач Василий
Либединская Лидия
Левик Вильгельм
Левицкий Лев
Лейдерман Наум
Лем Станислав
Лермонтов Михаил
Лещенко Пётр
Лившиц Бенедикт
Лидин Владимир
Липкин Семён
Лисянский Марк
Лифшиц Михаил
Лиханов Альберт
Лихачёв Дмитрий
Ломейко Владимир
Луговой Владимир
Луи Виктор
Луконин Михаил
Львова Надежда
Ляпунов Борис
Магалиф Юрий
Майков Валериан
Максимов Сергей
Маневич Иосиф
Манн Томас
Мануйлов Виктор
Маранцман Владимир
Марков Алексей
Марков Сергей
Маршак Самуил
Масальский Константин
Матусовский Михаил
МашбицВеров Иосиф
Маяковский Владимир
МедведеваТомашевская Ирина
Мейлах Борис
Мелвилл Герман
Мень Александр
Мережковский Дмитрий
Месяцев Николай
Минский Николай
Митчелл Маргарет
Михайлов Александр
Модзалевский Лев
Мопассан Ги де
Мстиславский Сергей
Набоков Владимир
Надеждина Надежда
Найдёнов Сергей
Наровчатов Сергей
Некипелов Виктор
Некрич Александр
Никитенко Александр
Николай I
Нилус Сергей
Новиков Николай
Обрадович Сергей
Овчаренко Александр
Огнев Владимир
Одоевский Александр
Одоевский Владимир
Ожегов Сергей
Оксман Юлиан
Олейников Николай
Оленина Анна
Ольшевский Рудольф
Осетров Евгений
Островой Сергей
Островский Николай
Павленко Пётр
Павлова Каролина
Панов Михаил
Пантелеев Л[еонид]
Панфёров Фёдор
Панченко Николай
Паперный Зиновий
Парнок Софья
Пастернак Евгений
Паттерсон Джеймс
Перцов Виктор
Пестель Павел
Петрарка Франческо
Пикуль Валентин
Писарев Дмитрий
Письменный Александр
Плетнёв Пётр
Погодин Николай
Погорельский Александр
Поделков Сергей
Поженян Григорий
Полевой Борис
Полевой Ксенофонт
Полевой Николай
Полежаев Александр
Полонский Вячеслав
Поляков Марк
Померанцев Владимир
Померанцев Кирилл
Поспелов Геннадий
Потебня Александр
Похлёбкин Вильям
Приставкин Анатолий
Прокофьев Александр
Пропп Владимир
Пруст Марсель
Пумпянский Лев
Пунин Николай
Пушкин Александр А.
Пушкин Лев
Пушкина Наталья
Пшавела Важа
Радзинский Эдвард
Радимов Павел
Радищев Александр
Разгон Лев
Разумовский Юрий
Райх Зинаида
Раич Семён
Раневская Фаина
Ремарк Эрих Мария
Ржевская Александра
Ричардсон Самуэл
Родичев Николай
Рождественский Всеволод
Рождественский Игнатий
Розенгейм Михаил
Розов Виктор
Роттердамский Эразм
Русланова Лидия
Рыжий Борис
Сакулин Павел
Салынский Афанасий
Санников Григорий
Сахарнов Святослав
Светов Феликс
СвятополкМирский Дмитрий
Семенко Ирина
Семёнов Юлиан
СергеевЦенский Сергей
Серман Илья
Сикорский Вадим
Синявский Вадим
Скотт Вальтер
Слепакова Нонна
Слонимский Михаил
Случевский Константин
Смирнов Сергей С.
Соболев Леонид
Соболевский Сергей
Солженицын Александр
Соллогуб Владимир
Соловьёв Владимир
Соловьёв Леонид
Солодарь Цезарь
Сорокин Валентин
Софронов Анатолий
Стасюлевич Михаил
Стругацкий Аркадий
Суворин Александр
Суворов Евгений
Сумцов Николай
СуховоКобылин Александр
СухотинаТолстая Татьяна
Тарловский Марк
Тендряков Владимир
Терапиано Юрий
Тиняков Александр
Титов Владимир
Толстая Наталья
Толстой Алексей К.
Толстой Лев
Томашевский Борис
Томашевский Юрий
Трауберг Наталья
Третьяков Сергей
Трефолёв Леонид
Трифонов Юрий
Тургенев Иван
Тютчев Фёдор
Тютчева Анна
Уваров Сергей
Фалада Ганс
Федин Константин
Фейхтвангер Лион
Фолкнер Уильям
Фоменко Владимир
Фраерман Рувим
Фридлянд Григорий
Фриче Владимир
Хацревин Захар
Хвостов Дмитрий
Хелемский Яков
Хемингуэй Эрнст
Хитрово Елизавета
Хмелик Александр
Хмельницкий Николай
Цветаева Анастасия
Цветаева Марина
Цвигун Семён
Цетлин Михаил
Чаковский Александр
Чапчахов Фёдор
Чепурин Юлий
Черниченко Юрий
Чёрный Саша
Чернышевский Николай
Чехов Антон
Чулаки Михаил
Шамбинаго Сергей
Шаховская Зинаида
Шверубович Вадим
Шевцов Иван
Шервинский Сергей
Шергин Борис
Шим Эдуард
Шишова Зинаида
Шкапская Мария
Шкловский Иосиф
Шпаликов Геннадий
Эккерман Иоганн
Эфрон Ариадна
Юшкевич Семён
Якобсон Роман
Яковлева Арина
Ясенский Бруно
Яшвили Паоло

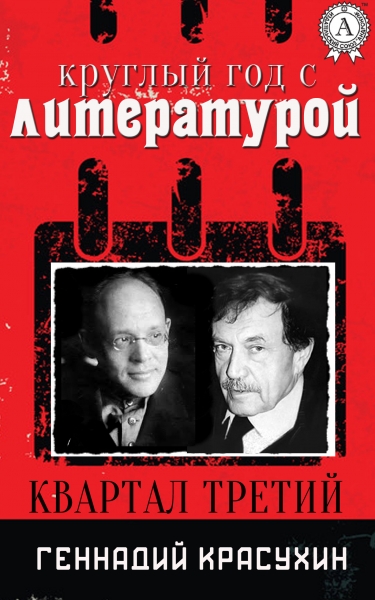




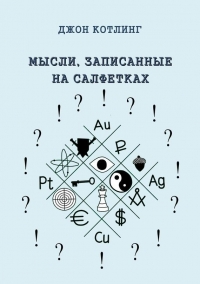

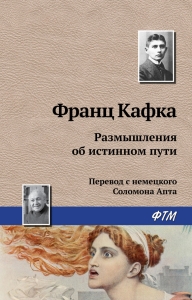

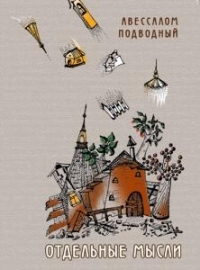

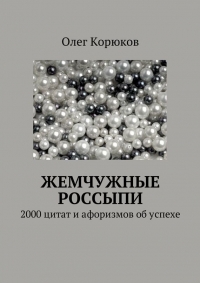
Комментарии к книге «Круглый год с литературой. Квартал третий», Геннадий Григорьевич Красухин
Всего 0 комментариев