Георгий Старков Страшная история
Сборник рассказов
Потерянная Песнь
Давным-давно, на стыке веков, тысячелетий и пряных пыльных дней, по земле бродила одинокая Песнь. Песнь не знала, кто её придумал и кто должен её спеть. Она знала только, что везде, куда бы она ни пришла, люди убегали, едва завидев её. А те, кто оставались, хранили хмурое молчание и уж никак не были настроены на то, чтобы распевать её. Песнь старалась их разговорить, узнать, почему все её чужатся, но безуспешно — люди делали вид, что не слышат её, и продолжали заниматься своими делами. Ей ничего не оставалось, кроме как обречённо вздохнуть и плестись дальше в поисках того, кто будет ей рад и позволит влиться в свои уста. Но надежда таяла вместе с чередой дней, остающихся за плечами.
Однажды дождливым осенним вечером, промокнув до ниточки, Песнь пришла на окраину небольшого города, расположенного на устье реки. Она грустно смотрела на колыхающиеся огни светильников в окнах, зная, что никто из тех, кто сейчас нежится в тёплой постели, не впустит её к себе. И вдруг… Песнь приподняла голову и замерла, не смея верить услышанному. Этого не могло быть… Над городом, заглушая топот миллионов капель воды, разносилась мелодия, тихая, но, тем не менее, слышная из любого закоулка. Сомнений быть не могло: в городе жил Музыкант. Человек, который согласится приютить отчаявшуюся Песнь.
Песнь не выдержала и побежала. Она долго блуждала посреди мокрых мостовых и пустых площадей, подбираясь к источнику музыки. Она боялась, что вот-вот музыка оборвётся и обрубит все её мечты, и потому бежала с горячечной спешкой. И вот перед её взором предстала скошенная хибарка в одном из самых грязных и бедных кварталов. Песнь неуверенно потопталась у окна, из-за ставней которого изливалась мелодия. Переборов волнение и страх, она постучалась. Музыка заглохла — остался только переливчатый шум дождя. Наконец, окно открылось, и в проёме появился старый человек с изборождёнными каналами морщин лицом. Это был Музыкант.
— Здравствуй, — осторожно сказала Песнь, готовая к худшему.
— Здравствуй, — ответил Музыкант.
Он заговорил с ней! Песнь не верила своему счастью. Как долго она ждала… Радость её была настолько велика, что она не нашла, что сказать дальше. Вместо неё заговорил Музыкант:
— Зачем ты пришла?
Он говорил спокойно, без злости и упрёка, но Песнь всё равно почувствовала, как по её спине пробежал холодок.
— Впусти меня, — попросила она. — Впусти меня в свой дом, позволь мне там остаться. Спой меня сам или доверь меня одному из своих инструментов. Мне надоело скитаться по всему белому свету. Пожалуйста…
Музыкант хмуро покачал головой:
— Нет.
— Но почему? — взмолилась Песнь, и холодный ливень больно хлестнул её по лицу. — За что?
Музыкант посмотрел на поникшую Песнь и ответил:
— Потому что ты — Песнь Одиночества.
Он подождал, что скажет Песнь, но она молчала. Тогда он продолжил:
— Вот почему тебя все сторонятся. Одним своим присутствием ты привносишь в их сердца тоску и опустошение. Тот, кто споёт тебя, будет обречён на вечное одиночество. Поэтому тебя никто не споёт. Никогда. В этом виноват я… Я сочинил тебя в годы молодости, в дни, когда жизнь казалась мне бессмысленной игрушкой. Сочинил — и пришёл в ужас. Ты начала властвовать в моём доме, превращая меня в увядающую сосульку. И однажды ночью я распахнул все окна и двери и выпустил тебя из дома, отправив блуждать по миру… Это моя ошибка, но не в моих силах её исправить. Я не впущу тебя.
С этими словами Музыкант захлопнул ставни, обдав Песнь струёй ледяного воздуха. Дождь шёл всю ночь, наутро превратив улицу в грязную гладь лужи, но Песнь продолжала стоять под окном Музыканта, не шевелясь. Лишь когда розовые лучи рассвета коснулись крыши, Музыкант осмелился вновь выглянуть наружу, и вздохнул с облегчением — улица была пуста.
С тех пор Песнь никто не видел — нигде и никогда. Поговаривали, что она прячется по далёким лесам и горам, чтобы не попасться в глаза людям. О Песни стали слагать байки и легенды, но и они канули в Лету. Сегодня никто не помнит потерянную Песнь, которая вкушает своё вечное одиночество где-то в неведомых краях — но те, кто вернулся из тёмных дремучих лесов, рассказывают, что в час, когда солнце исчезает за горизонтом и деревья громоздятся безликими чёрными великанами, они слышали странный тоскливый голос, сотрясающий высокие кроны — такой далёкий и пугающий…
2006 г.
Маятник и волк
Честно говоря, переступая порог квартиры на втором этаже разваливающейся «хрущёвки», я ни на мгновение не допускал мысли, что предстоящая встреча принесёт какие-то плоды. Если моя нога оказалась на лестничной площадке, воздух которой навсегда сохранил табачный аромат, то только из-за уважения к Денису и отчаянности ситуации, в которой я оказался.
Разглядывая полутёмную прихожую, где на полу лежал полк рваных тапочек, и слыша сиплое дыхание хозяина за спиной, я опять вспомнил утренний разговор по телефону. Я позвонил Денису, чтобы сказать ему: всё пропало, я не смогу присутствовать на презентации. Вся подготовка, все ожидания и надежды на контракт — коту под хвост. Я едва не рвал на себе волосы, и Денис прекрасно понял моё состояние. Варианты действий с его стороны были, на мой взгляд, негусты: либо прийти в ярость и отругать меня последними словами, либо выразить печальное понимание. Но Денис выбрал третий путь. Совершенно неожиданный.
— Кто тебя послал? — проворчал хозяин квартиры, заперев дверь. Это был желчный сгорбленный старик. Такие в тридцатые годы с удовольствием писали доносы на соседей.
— Денис Артемьев. Он сказал, что вы знаете…
— Ах да, он, — старик кисло улыбнулся. — Да, мы с твоим другом знакомы. Ну, тогда проходи, мил человек.
Вслед за ним я протопал в тесную комнату, которая, должно быть, гордо именовалась кухней. Здесь царил не меньший беспорядок, чем в прихожей. Положение немного спасал мутный свет зимнего солнца, который не давал достаточно освещения, чтобы увидеть бардак во всей красе.
«Зря я сюда пришёл, — обречённо подумал я. — Дурацкая шутка, Денис — послать меня в эту обитель инфекций. Что на него нашло?». Но при этом я отдавал себе отчёт, что вряд ли это было шуткой. Денис не отличался чувством юмора. Точнее, у него его не было совсем, и общаться с ним было делом трудным. Вот почему из долгосрочных компаньонов у него остался только я.
— Садись, — старик указал на деревянный табурет, поверхность которого почернела от грязи и времени. Немного поколебавшись, я подчинился. Всё равно завтра я брюки собирался отдать в химчистку.
Хозяин расположился на стуле напротив и отодвинул миску с кусками чёрного хлеба на край стола.
— Ну, рассказывай.
Я растерялся:
— О чём?
— О том, что тебя сюда привело.
Я повнимательнее всмотрелся в лицо старика. Сморщённое, высушенное, как репа, кожа свисает. Интересно, сколько ему лет? Возраст пощадил только глубоко посаженные чёрные глаза — они оставались живыми и блестящими, и мне стало не по себе, когда хозяин начал буравить ими моё лицо.
— Позвольте спросить, вы врач?
— Нет.
— Тогда я не понимаю…
— Друг отправил тебя ко мне, чтобы ты справился со своей неприятностью, — перебил меня старик. — Делай то, что я говорю. Рассказывай.
Мне захотелось встать и уйти, не говоря ни слова, но это выглядело бы глупо. Ладно, раз уж пришёл… Осведомлённость этого замогильного субъекта об особенностях моего организма никак не может помешать моей репутации.
— Видите ли, — сказал я, наблюдая краем глаза, как из-под хлеба в миске выполз большой чёрный таракан, — я предприниматель, партнёр Дениса, и у нас завтра утром назначена очень важная презентация… совещание, — поправился я, подумав, что старик может не знать слова «презентация». — Но я не смогу на него прийти из-за того, что… гм…
— Говори, — нетерпеливо сказал старик и прихлопнул таракана ладонью.
— В общем, у меня такая болезнь. Иногда, если я неосторожно питаюсь, мои пищеварительные органы начинают работать не так, как надо, — я ожидал, что старик ехидно ухмыльнётся, но на его лице отражалась едва ли не скука. — Мне нужно несколько дней провести на кровати и усиленно лечиться, тогда всё возвращается в норму. Каждые полчаса мне нужно… ну, вы понимаете. Вчера я ходил в ресторан, наелся, совершенно забыв про эту опасность. Болезнь вернулась сегодня утром и до завтрашнего дня точно не пройдёт. А совещание будет длиться полдня. Как минимум.
— Как ты смог прийти сюда? — поинтересовался старик.
— Я посетил уборную перед входом в ваш дом, — я почувствовал, как у меня запылали щёки. Я не упомянул о пластмассовом ведре, которое я на всякий случай взял с собой в салон автомобиля.
Хозяин продолжал смотреть на меня, поигрывая желваками. Несмотря на то, что он не насмехался, во мне росло раздражение. Чёрт возьми, это было даже хуже, чем если бы он стал хохотать над моим недугом. Я отвёл взгляд и стал разглядывать низкий белый холодильник советского производства и рваные обои с цветочками на стенах.
— Должно быть, это очень важное совещание, раз твой друг решил послать тебя ко мне, — наконец, сказал старик.
— Да, — подтвердил я. — Чрезвычайно важное. Приедут наши иностранные партнёры, а всю схему презентации готовил я единолично, так что, если меня не будет…
— Ладно, ладно, — буркнул он, подняв руку со вздувшимися зелёными венами и кожей, покрытой старческой пигментацией. — Это не моё дело. Значит, тебе нужно избавиться от своей хвори. Неужто хвалёная медицина не делает лекарств, которые могли бы тебе помочь?
Я посмотрел на него уже с открытой неприязнью:
— Если бы делала, меня бы здесь не было.
— Оно верно, — сухо сказал старик и поднялся из-за стола. Стоя он был ненамного выше, чем сидя. — Подожди меня здесь.
Он вышел из кухни и зашаркал в свою комнату. Я от нечего делать стал скрести пальцем поверхность деревянного стола. Кишечник опять дал о себе знать; я подумал, что более десяти минут не выдержу. Хоть бы поскорее… И вообще, что я тут делаю? Фарс какой-то…
К счастью, старик вернулся очень скоро. Солнце наполовину закатилось за горизонт, и в квартире стало ещё темнее, чем раньше. Холодильник слился с обоями. Я завертел головой в поисках выключателя, но не нашёл, хотя лампа висела аккурат над моей макушкой.
— Извините, а можно включить…
— Нет, — коротко сказал старик. В руке он что-то сжимал. «Если это чудодейственное зелье из трав или коготь какого-то зверя, то пошлю его к чертям и выйду», — решил я про себя. Когда он разжал ладонь, я увидел, что это стальной диск на серебристой цепочке, напоминающий маятник от миниатюрных часов с кукушкой. От края диска откололся небольшой кусок, так что маятник выглядел зазубренным.
Положив маятник на стол, старик наклонился и достал откуда-то с пола стеклянную банку, в которой расплылся огарок свечи. Он поставил свечу на стол и похлопал по карманам в поисках спичек.
— Огонь есть? — недовольно спросил он. Порывшись в карманах, я выудил оттуда свою зажигалку «Зиппо» и передал старику. Он нажал на кнопку, держа её в трясущейся руке. Вспыхнуло пламя. Комната озарилась рваным колыхающимся светом.
— Что будем делать? — спросил я, чувствуя себя героем сюрреалистической постановки. Из отведённых мне десяти минут семь были потрачены.
— Лечиться, — коротко ответил он и придвинул ко мне серебряный глаз маятника. Стальная поверхность отражала моё лицо, искажённое до неузнаваемости. — Что ты там видишь?
— Где? — я коснулся зазубренного края.
— Не трогай, — отрезал старик. — Скажи, что ты видишь в маятнике.
Я взглянул снова — расплывшееся лицо, вытянутые глаза, нос картошкой.
— Своё отражение, что же ещё.
— Да? — старик притянул маятник к себе за цепочку.
— А что я должен был видеть? Это же всего лишь…
— Нет, — он поднял голову и посмотрел на меня. В неярком огне свечи лицо лишалось старческих морщин, а глаза казались ещё чернее, чем обычно. Я непроизвольно задержал дыхание.
— Я, например, вижу там волка.
— Волка? — я нахмурился. Позывы кишечника вдруг исчезли — иначе бы я точно не выдержал, послал старого психа куда подальше и выбежал во двор.
Он схватил пальцами конец цепочки и поднял маятник в воздух, демонстрируя его мне. Диск качался влево-вправо, по-прежнему отражая моё лицо. Из-за непрерывного движения образ на зеркальной глади всё время менялся, перетекая из одной формы в другую.
— Да, волка. Это значит, что волк — твой зверь. Или что ты — человек волка. Одно означает другое. Посмотри хорошенько, тогда, может быть, твой зверь сможет тебе помочь…
Нос… глаза… зазубренность… Я не успевал следить за мельтешением маятника. А он раскачивался всё сильнее в руках старика. Отражение превратилось в кашицу, сдобренную оранжевым отсветом свечи. Уже не увидеть в этой жиже своего лица, не понять, волк ли то или человек…
Всё-таки волк.
Я приоткрыл рот, подавшись назад вместе с табуретом. Маятник качнулся и застыл в воздухе, нарушая все законы физики. Я перестал видеть того, кто держал серебристый диск на цепочке, и ошеломлённо глядел, как мохнатый зверь по ту сторону поверхности маятника поднимает голову и смотрит на меня. Сначала с любопытством, потом в зрачках появляется свирепость, шерсть на шее встаёт дыбом, и он пригибается к земле, готовясь к прыжку…
Какой бред! Я мотнул головой и вскочил с места. Маятник по-прежнему висел в воздухе. Пальцы, удерживающие его, исчезли; исчез человек, который находился в кухне вместе со мной. Не успел я это понять, как маятник рухнул на стол и громко зазвенел. Цепочка свернулась знаком вопроса.
А волк, в отличие от человека, никуда не ушёл. Он рвался ко мне с рычаньем, изогнутая коготь лапы высунулась из упавшего маятника.
Я панически обернулся, чтобы убежать. И увидел, что бежать некуда. Под ногами был не грязный пол с жёлтым линолеумом, а нечто абсолютно чёрное и очень твёрдое. Эта неименуемая плоскость простиралась далеко в темень; если она когда-то и заканчивалась, вряд ли я смог бы достичь этой границы при нынешней жизни.
«Это всё он! — в смятении подумал я. — Старик… Это он подстроил!».
А волк тем временем продолжал протискиваться сквозь линзу маятника подобно тому, как капля воды вырастает на кончике крана. На стол опустились передние лапы, вслед за ними потянулась ощерившаяся морда с капающей из пасти слюной. Я не стал ждать, когда хищник материализуется полностью, и бросился наутёк в тёмное пространство, надеясь, что волк меня там не сможет найти.
Далеко я не убежал. Пружинистый шорох лап нагнал меня уже через минуту. К тому времени я успел отбежать от стола с сияющей на нём свечой на сотню-другую метров. Огонёк пылал во мгле, как оазис в пустыне, а между ним и мной стоял зверь, настроенный на убийство. Обернувшись, я оказался с ним один на один. Волк выглядел сплошной темнотой, квинтэссенцией той чёрной материи, которая меня окружала — только его глаза сияли голубоватым светом, которые складывались в два мерцающих кольца.
— Не надо, — сказал я ему. — Не трогай меня, уходи…
Он налетел на меня и повалил на чёрную твердь. Лапы сдавили мне грудь, тёплое дыхание зверя ударило в лицо. Запах шерсти, сухой и солоноватый. Я стал кричать, но поперхнулся, когда волк сомкнул челюсти на моём животе. Он распорол кожу, вгрызаясь внутрь, клыки рвали внутренности. Боли почему-то не было — только ужасное ощущение, что тебя пожирают заживо, и кровь литрами вытекает из тебя, а вместе с ней и жизнь. Я размахивал руками и пытался оттолкнуть зверя, но не мог. Волк ел меня, вытаскивая кишки. А эти кишки, в свою очередь, извивались в его зубах, как живые, и в какой-то миг я понял, что они и есть живые. И всегда были. Это был червь, паразит, поселившийся в моём нутре, он с визгом умирал, зажатый между клыками волка. И то, что вытекало из меня, было не кровью, а вязкой отравой, наполнявшей ранее мой живот. Умирая, я последним усилием выбросил руку вперёд и благодарно сжал лапу зверя. Его глаза снова блеснули голубизной, и я понял, почему этот оттенок кажется мне таким знакомым — ведь это был цвет, который я каждое утро видел в зеркале, всматриваясь в собственные глаза.
Маятник в последний раз качнулся влево, вернулся в изначальное положение и умиротворённо замер. Зазубренность осталась там, где была. Сталь вновь отражала моё лицо.
— Ну, как? — спросил старик, опуская руку. Железо глухо стукнулось о дерево. — Я говорил правду, разве не так?
— Это был волк, — выдохнул я, стирая со лба пот. Волосы взмокли, рубашку можно стало выжимать. За окном стоял глубокий вечер.
— Конечно, — кивнул старик. — Как там твоя хворь поживает?
Я прислушался к ощущениям. Несмотря на полную измотанность и головокружение, я чувствовал, что мне стало легче. Что-то во мне изменилось. Кишечник больше не ныл.
— Мне кажется, я здоров, — неуверенно сказал я.
— Скажите, — это уже у выхода, когда старик закрывал за мной дверь, — а откуда вы знаете Дениса? Он тоже к вам раньше приходил?
— Мы с ним знакомы, только и всего, — мрачно сказал он.
— А какой зверь у него?
— Волк, конечно, — равнодушно ответил старик. — У всех людей — волк. За редкими исключениями. Успешного завтра совещания.
И он закрыл дверь, не забыв запереть её на замок.
2008 г.
Ведьмы
Кларисса встала и прокралась к выходу, когда розовое сияние заката угасло, уступив место лёгкому сумраку позднелетней ночи. Отец и братья — все спят, их тяжёлое дыхание с присвистом наполняет дом. Она ступала очень осторожно: не приведи случай, скрипнет половица или зазвенят глиняные кадки, расставленные у окна. Но всё обошлось. Она бесшумно вышла на крыльцо, не забыв прикрыть дверь за собой.
Свобода!
Кларисса торжествующе вскинула голову и оглядела невзрачный дворик: мокрые рыбацкие сети, наброшенные на забор, перевёрнутая лодка, огород, усеянный чахлыми ростками. Вид до исступления знакомый и навевающий мысли о работе, хозяйственных заботах, необходимости кормить семью. А за плетёным забором — лес, поляны, горы и тёплая ночь, которая собирается завершиться, еле начавшись. Но нет, ещё не время рассвета!.. Есть, ещё есть шанс развлечься, стряхнуть паутину обыденности и получить свою долю задора и упоения. Кларисса не выдержала и побежала, подпрыгивая на каждом шагу. Будет утро — пора возвращения. А пока пусть дремучий лес станет её новым жилищем, убережёт от будней, наполненных солёным рабочим потом. Пусть будет так!
Под ногами хрустели ветки, но Кларисса находилась уже достаточно далеко от дома, чтобы не беспокоиться, что звук могут услышать. Свежий запах леса опьянил её. Она давно заметила, что ночью воздух пахнет не так, как днём. Ароматы более насыщенны и остры, отдают сладостью. Наверное, таковы они на самом деле, а днём жаркие солнечные лучи отбирают пряность, оставляя только сухой воздух. Кларисса сделала вдох в полную мощь здоровых лёгких, впитывая в себя это благоухание. Она могла с лёгкостью различать все составляющие. Вот мягкий, сочный запах — аромат молодых листьев, которым ещё расти и расти, пока осень не настигнет их. Запах едкий, приятно щекочущий ноздри — это хвоя. Пронзительный приторно-сладкий оттенок — смола, которая прилипла к стволам. Ягоды. Грибы. Травинки. Иссохшие ветки. Кларисса легко шла мимо них, краем сознания отмечая особенный запах каждого.
Прохладная сырость прорезалась в лёгком ветерке. Запах влаги быстро отбил всё остальное, и Кларисса увидела мелькнувшую змейку воды между стволами. Спустя минуту она уже стояла на травянистом берегу. Тумана над водой не было, так что видимость открывалась хорошая. Озеро, которое пряталось в гуще деревьев, было небольшим, но глубоким: если смотреть вдоль поверхности, можно увидеть клиновидные чёрные тени рыб, которые снуют внизу. Негромко квакали лягушки. Кларисса зачарованно смотрела, как на водной глади тут и там расходятся круги, поглощая друг друга. Нагнув голову, она увидела себя на тёмной колеблющейся поверхности — нечёткое белое пятно лица, обрамлённое ливнями рыжих волос. Она живо представила, как эти волосы будут пламенем развеваться на встречном ветру, когда она будет парить над спящим лесом.
«Я буду там, — подумала Кларисса с нарождающимся восторгом. — Как вольная птица, поднимусь до звёзд, до облаков, до той холодной темени, которая царит там, высоко-высоко… Я буду там!».
Вскрикнув от радостного предвкушения, она выпрямилась и увидела, что навстречу ей по озеру идёт женщина. Не идёт даже, а скользит; ступни плывут над водой, в подмышках соломенные мётлы, лицо сердито.
— Привет, Этель, — весело приветствовала Кларисса. Она едва удержалась от порыва шагнуть навстречу странной женщине, забыв, что стоит на кромке берега. Сделай она это, немедленно бултыхнулась бы в холодную воду, и Этель пришлось бы вытаскивать её.
— Слишком рано! — сухо воскликнула Этель. Её ноги коснулись травы. — Я тебе сколько раз говорила, Кларисса, не выходи в лес раньше времени!
— Такая прекрасная ночь, — мечтательно произнесла Кларисса. На её сияющем лице не было ни тени осознания своей вины. — Такая ночь, Этель! Мне захотелось прогуляться по лесу перед тем, как мы отправимся… Побыть одной, понимаешь?
— Не понимаю, — Этель покачала головой и кинула ей одну из мётел. — На, лови. Иногда я думаю, что мы тебя зря взяли в свои ряды. Почему ты не наслала сон на семью, прежде чем уйти из дома? А если кто-то проснётся и заметит твоё отсутствие?
— От усыпления у отца болит голова, и наутро у него бывает плохой настрой. Я не хочу, чтобы на меня завтра весь день орали. Они не проснутся, Этель. Отец с братьями рыбачили от рассвета до заката — усталость будет удерживать их в беспамятстве лучше всяких чар.
— Неслыханно! — возмутилась Этель. — Хорошо, что я заподозрила что-то подобное и сама наведалась в твой дом.
— Когда?
— Минуту назад. Потому и припозднилась.
Кларисса вздохнула:
— Ну, значит, беспокоиться не о чем. Полетим?
— Слушай сюда, дорогая, — Этель серьёзно смотрела на молодую девушку, чёрные глаза лучились негодованием. — Ты и раньше проявляла беспечность, но это — последняя капля. Я думаю, стоит на время отлучить тебя от наших собраний.
— Нет! — воскликнула поражённая Кларисса.
— Ты это заслужила. Пойми же, ты, дурочка, если кто-то из близлежащих селений — даже кто-то из твоих родных — узнает, кто мы такие и чем занимаемся, то нам конец. Святоши уже начали что-то подозревать — может, ты не слышала, но в округе в последнее время они зачастили с визитами. Говорят, даже замечали мантию Инквизиции…
— Не может быть!
— Небольшая отсидка тебе будет в самый раз. И ты в безопасности, и нам спокойнее. Так и надо.
Кларисса растерянно огляделась, выискивая себе поддержку. Но единственным новым звуком поблизости стало дробное постукивание дятла на подгнившем дереве: «Так-и-на-до, так-и-на-до»…
— А сегодня? — с надеждой спросила она. — Сегодня-то можно?.. Я так ждала, так ждала! Ну же, Этель! Ты не можешь быть так жестока!
Суровые глаза Этель потеплели.
— Ну, думаю, сегодня тебя уже ничто не сможет удержать.
— Ой, спасибо! — Кларисса чуть ли не бросилась подруге на шею. — Этель, ты лучшая на свете!
— Вовсе нет, — черноволосая женщина нахмурилась, принимая обычный хладнокровный вид, и оседлала метлу. — Пора лететь. Темнее уже не будет…
Кларисса с трепетом села на узкую рукоять, схватившись обеими ладонями за шершавое дерево. Вот он, миг высшего блаженства, когда ты готова оторваться от земли: вопреки тяжести, вопреки собственному весу, наперекор всему, что придавливает тебя к этой невыносимо пресной земле. Она окинула поспешным прощальным взором родные края и пробормотала заклинание. Метла под ней дёрнулась, вытягиваясь, становясь упругим, как змея. Она оживала: наливалась соками, раздавалась вширь и в длину, становилась её частью. Этель уже взлетала. Бесшумно, как дух, она поднималась над верхушками деревьев, становясь точкой в бездне неба. Кларисса заскользила вслед за ней, сначала неуверенно, потом всё быстрее и быстрее… быстрее, чувствуя, как страх остаётся внизу подпрыгивать и изрыгать вдогонку проклятья, а сама она становится невесомой и воздушной. Чего бояться? Она не упадёт, ведь метла сейчас — не просто кусок дерева, а полноценный орган её тела. Между всадником и верным скакуном не может быть более тесного взаимопонимания. Миг — ты над лесом, минута — над облаками, где гуляет свирепый ветер, и мёрзлая вода бьёт в лицо, но тебе всё нипочём!
— Кларисса! — кричала Этель, чувствуя, как отстаёт от молодой наездницы. — Только не надо сызнова улетать невесть куда!
Надо, надо: именно что невесть куда, в места, которые она ещё не видела. Кларисса направила метлу вверх почти вертикально, иглой пронизывая воздух. Оглянувшись, она увидела в полумгле поля, леса и цепь далёких гор. Какое блаженство — знать, что в твоих силах добраться до них, стоит только захотеть! А если глянуть вверх, там мерцают звёзды, которые проступают всё яснее. Расцветают, как ранние одуванчики. В своё время Кларисса думала, что их можно будет достать руками, стоит лишь проявить терпеливость и лететь дальше. Но она ошибалась, и поняла это, когда добралась до такой высоты, где пустота стала почти чёрной, а воздух — разреженным, мешая дышать, и холод мгновенно превратил бы её в сосульку, если бы не чары. А звёзды оставались такими же далёкими хрустальными игрушками. В тот раз Кларисса, вся дрожа, развернулась и устремилась вниз, к лету.
Но что это?.. Ярко-оранжевая звёздочка на востоке сорвалась с места и проторила путь по небосводу. Кларисса задорно рассмеялась и помчалась вслед за ней, хотя знала, что никогда не догонит падающую звезду. Она летела через кудрявые облака, которые мгновенно пропитали одежду сыростью (впрочем, стоило произнести заклинание, как одежда снова стала сухой). Спустившись ниже, разминулась с орлом, который вышел на ночную охоту и в великом удивлении шарахнулся от неё. А звезда тем временем исчезла на востоке, где маячил призрачный отблеск предстоящей зари. Сверкнула рубином, и была такова. Но Кларисса не стала сбрасывать скорость. Местность под ней менялась, деревушки сменились городами, города — непроходимыми лесами. Метла вибрировала от распирающей её колдовской мощи, и рыжеволосая девушка звонко смеялась, проносясь над дремлющей низменностью.
— Кларисса, чтоб тебя!
Этель. Конечно, ей ничего не стоит догнать её, разнести в пух и прах. Она стремительно вырвалась из-за спины Клариссы. Глаза метали молнии, волосы струились. Кларисса виновато остановилась и повисла в воздухе, готовая принять ругань.
— Ты неисправима, глупая девочка!
— Извини…
— Тебя могли засечь! Ты пролетела так низко, что наверняка какой-нибудь зоркий неспящий глаз заметил тебя!
— Но ведь город расположен за сотни миль от нашего дома, — возразила Кларисса. — Даже если они увидели, как узнают, кто я такая?
— Риск всегда есть. В последнее время святоши особо неистовствуют в охоте за нашим родом.
— Но ведь мы ничего плохого не делаем…
— Говори о себе! — зло прервала Этель. — Я обязательно сообщу остальным, что ты тут себе позволяешь.
— Этель…
— Достаточно! Теперь летим на место сбора. Вдвоём. Не торопясь и по возможности маскируясь. Понятно?
Кларисса печально кивнула.
Они снова летели над равнинами и озёрами, но уже на такой высоте, что их никто не мог разглядеть. Вокруг громоздились только горы облаков. В иных из них взрывался гром, сверкали молнии. Кларисса и Этель такие тучи облетали стороной. Они двигались, оставаясь в полосе глубокой ночи, чтобы просыпающееся из дремы солнце не могло их догнать.
Кларисса обиженно молчала. Всё всегда так: не успеваешь отхватить свою долю из чаши радостей, вдоволь наглотаться воздуха свободы, как кто-то обязательно догоняет и ставит тебя на место. И непременно приказывает поступать так, как он того пожелает. А ей не хотелось указаний. Криков и побоев хватало в обычной жизни. Неужели нельзя просто лететь выпущенной стрелой, ни на кого не оглядываясь? Ей хотелось порхать птицей не только ночной, но и дневной, под ослепительными голубыми небесами, но нет же: нужно вечно держаться в тени, чтобы не увидели посторонние глаза. А теперь у неё даже это отнимут: Этель, будь уверена, не забудет свою угрозу и пожалуется остальным, а они с удовольствием оставят её в плену земли. Как несправедливо!
Ей больше не доставляло удовольствия наблюдать за тихими лугами и лесами. Она смотрела прямо перед собой и никуда более. Но когда из темноты стали выплывать очертания большой горы сплющенной формы, Кларисса всё же удостоила её взором. Гора была местом сбора. Она ей не понравилась с первого раза, как она прилетела сюда. Каждый раз, когда девушка смотрела на гору, в голову приходил образ тяжело больного, сгорбившегося под смертельными недугами старика, который утопает в желчи своей злобы. Эти скрученные стволы деревьев на склонах, поляны, будто выжженные пожарами, и выступающие из-под земли глыбы камней… а более всего — уродливая проплешина на вершине, напоминающая лысую голову. Туда они с Этель держали путь, и Кларисса знала, что сегодня не только их метлы направляются к горе. Многие десятки, даже сотни женщин, влекомые жгучим зовом, который плещется в их нутре.
А вот и одна из них…
Мимо на умопомрачительной скорости пронеслась женщина. Каштановые волосы вытянулись в струну-проволоку, лицо окаменело, высекаемое ветром. После того, как она умчалась далеко, небрежно махнув в их сторону рукой, волна возмущённого её движением воздуха качнула Клариссу и Этель.
— Гоняет, как сумасшедшая, — процедила Этель.
— Ты её знаешь? — спросила Кларисса, решив, что более дуться на наставницу нет смысла.
— О да, как же. Краса и гордость западных краёв, Пожирательница Мужчин. По крайней мере, так она себя называет. А как по мне, — она состроила недовольную рожицу, — ничего в ней особенного нет. Разве что применяет чары направо и налево без оглядки на последствия.
— Очень хорошо летает, — заметила Кларисса, вспоминая, как Пожирательница прижималась к метле и мчалась в ночь, как чёрная молния. Вот ей бы так! Но куда там — во-первых, недостаточно навыка, во-вторых, Этель всегда рядом, а при ней особо не попрактикуешься.
— Не так хорошо, как это выглядит со стороны, — Этель презрительно усмехнулась. — Я в свои золотые годы и не такое проделывала.
Уразумев, что у подруги свои давние счёты с Пожирательницей, Кларисса благоразумно промолчала, тем более что нужно было снижаться. Каменистая вершина выглядела покинутой и неживой, и только спустившись до приемлемой высоты, они вошли в заколдованный круг и увидели пылающие костры. Кларисса поморщилась от неприятного холода на коже, когда она прошла через границу колдовства. Метла легонько дёрнулась, но Кларисса быстро выровнялась. Их заметили, замахали руками, встретили радостными возгласами. Женщин на горе было около сотни. Наверное, подумала Кларисса, через полчаса прибудет ещё столько же, и можно будет начинать обряд.
Они с Этель приземлились возле центрального костра, который обдавал кожу приятным жаром. Несмотря на чары, обе успели продрогнуть, пока летели, и костёр был очень кстати.
— Ну, наконец-то! Этель! Клэр! — к ним спешила низенькая полная женщина с мясистым лицом. — Вы обычно прилетаете первыми, а сегодня гляжу — всё нет и нет. Аж беспокоиться начала, не случилось ли чего.
— С нами всё хорошо, Лидия, — Этель немного рассеянно поцеловалась в щёку со встречающей. Кларисса последовала примеру подруги. Лидия была одной из немногих женщин на этой горе, которые ей нравились. Большинство других ведьм были озлобленными брюзгами или стервами, которым лишь бы покичиться злодеяниями перед остальными.
Поцеловавшись с Лидией, Кларисса огляделась вокруг в поисках своей лучшей подружки на этой вершине. Хелен была её ровней — всего семнадцать вёсен, поэтому они сдружились быстро. Лидия была наставницей Хелен. Старшая и младшая обычно ходили парой, чтобы не терять друг друга в толпе. Но сегодня Лидия была одна.
— А где Хелен?
Лидия, начавшая было что-то обсуждать с Этель, запнулась на полуслове и трагично хлопнула в ладоши:
— Вот ужас-то какой! А вы, значит, не слышали про бедняжку?
— Нет, — резко сказала Этель. — Что с ней?
— Пропала она, родимая наша. Взяли…
Жар от костра вдруг показался Клариссе чрезмерным.
— Церковь? — негромко спросила она.
— Кто же ещё! Святоши. Добрались до неё неделю назад. Я встречалась с ней за три дня до того, ну а бедная Хелен вся такая унылая, безрадостная… Говорила, что чувствует — случится с ней что-то плохое.
— У неё же в предках была великая прорицательница, — вспомнила Этель.
— Да, потому я и встревожилась. Но ничто ведь беды не предвещало! Я успокоила себя тем, что Хелен малость приболела, вот и дух у неё пал. Утешила девочку, как могла, сказала, что это пройдёт и всё будет хорошо. — Лидия вздохнула. — Получилось, что солгала…
— Где она теперь? — Кларисса слышала собственный голос словно через толстый слой ваты.
— В темнице, конечно. Говорят, созналась во всём. Будет суд. Хорошего ждать не приходится — после недавнего указа епископа приговор нашему роду один…
— Смертная казнь, — сухо сказала Этель. Угольные глаза сузились. — Но меня интересует другое…
Она сделала быстрый жест рукой. Кларисса не успела разглядеть, что она изображала, да если бы и увидела, то наверняка не поняла бы. Лидия в ответ кивнула — тоже едва заметно, и Этель заметно расслабилась. Кларисса хотела спросить, что означает этот обмен жестами, но, видимо, это было не принято обсуждать громко. Пусть Лидия отлучится, тогда можно будет спросить у Этель. Она не рассердится. В конце концов, Кларисса имеет право знать о судьбе подруги.
Бедная, бедная Хелен! Кларисса нервно сплела пальцы и отвернулась к костру, чтобы не выказать дрожь. Во влажных глазах заискрилось пламя. Как люди из церкви могли её поймать? Ведь Хелен не делала ничего плохого! Тем они с Клариссой отличались от остальных ведьм: упорным нежеланием понять, почему нужно творить всякие гадости, а не пользоваться своими способностями в целях более полезных. Их старшие «сёстры» посмеивались над ними и снисходительно качали головами. Всему своё время, говорили они. Когда-нибудь поймёте и вы. Но Клариссе и Хелен скоро должно было исполниться восемнадцать, а прозрение ещё не нашло.
Но это неважно. Значит, Хелен сейчас томится в темнице — первая из всех, хотя она заслуживала такой участи в последнюю очередь. А что дальше? Суд, приговор… костёр. Кларисса дёрнула плечами и отшатнулась от огня, почувствовав себя незащищённой перед скачущими языками пламени.
И наткнулась спиной на Этель.
— Да что с тобой такое? — раздражённо оттолкнула она её. Кларисса обернулась. Лидия успела уйти. — Ладно, пошли. Время начинать.
— Этель? — Кларисса всё ещё дрожала.
— Ну что ещё? — наставница явно была не в духе.
— Как это могло произойти? Я не понимаю, откуда они узнали, что Хелен одна из нас…
— О, как раз в этом нет никакой загадки, — Этель фыркнула. — Хелен была девочкой немногим более благоразумной, чем ты, дорогая моя. Это должно было рано или поздно произойти. Лидия как-то сказала мне, что она разбитое блюдце у себя дома пытается чинить с помощью чар, куда уж там… Жаль молодую, но, на худой конец, это урок тебе. Надеюсь, отныне ты будешь более сдержанной. Теперь-то понимаешь, какая опасность нам грозит?
Кларисса ничего не сказала в ответ: не нашлось слов. Смерив её строгим взглядом, Этель направилась к ближайшей группе женщин, и она понуро пошла следом. Наставница права, подумала она. Хелен действительно была неуёмна в применении колдовской мощи. Однажды прямо здесь, на вершине, ей захотелось удалить прыщ с лица Клариссы. Она еле уговорила подругу оставить эту затею. В предках у Хелен были могучие ведьмы и колдуны, но она сама владела чарами не ахти как. Клариссе не хотелось подпускать её шаловливость к своему лицу. А прыщ сошёл сам собой через пару дней.
Наверное, она просто применила пустяковое колдовство там, где не следует, и какой-то добрый сосед сообщил куда надо. И всё. Как просто!.. И слова Этель, мол, «Хелен была». Была… Неужели всё кончено, её не спасти?
Во внезапной вспышке надежды Кларисса ускорила шаги и догнала Этель.
— А о чём ты спросила Лидию, когда сделала вот так? — она повторила её жест так, как могла.
— Ах, это, — Этель пожала плечами. — Ничего особенного. Понимаешь, после тревожных признаков, какие увидела Лидия, она просто обязана была предпринять кое-какие меры.
— Что за меры? Они могут помочь Хелен? — Кларисса задержала дыхание.
— Хелен уже никто не поможет, — отрезала Этель. — Она в темнице Инквизиции, а туда, как ты знаешь, нашей силе дорога закрыта. Меры, о которых я говорила, касаются не Хелен, а нас. После того, как она рассказала о предчувствии, Лидия, прежде чем уйти, наложила на неё чары забвения. Так что после того, как её поймали, Хелен не могла выдать никого из нас. Если бы Лидия не сделала этого, мы с тобой сейчас составляли бы компанию твоей подружке в темнице… О, видимо, начинается.
Кларисса растерянно огляделась. Её мысли занимала Хелен, и смысл слов дошёл до неё не сразу. Костры разгорались ярче, дождь пикирующих с небес метел пошёл на спад. В воздухе повисло душное напряжение, ожидание предстоящего действа. Куда девались приятная прохлада и свежесть ночи? От жары на лицах выступил пот. Женщины спешно разоблачались — платья, платки, бельё мягким градом летели на землю. Кларисса последовала их примеру, стянув простое ситцевое платьице через голову. Обычно она чувствовала стыд, оставаясь голой, но сегодня была слишком подавлена, чтобы обращать внимание на это. Обнажённые тела заблестели маслом. Слышались довольные смешки и звуки похлопываний по бёдрам. Женщины скучились возле центрального костра, тайком разглядывая друг друга: обычай требовал, чтобы все предстали в этот момент в своём истинном облике, не пользуясь прихорашивающими чарами. Кларисса с отвращением увидела (не первый раз), что большую часть столпотворения составляют древние старухи со сморщенными, как засохший плод, телами. Молодых было мало, и она то и дело ловила на себе завидующие недобрые взгляды. От косых взоров становилось не по себе. Кларисса смотрела под ноги, не поднимая головы.
Костёр затрещал, выбросил пламя вверх. Кончики языков стали тёмно-синими. Искры яростно сыпались во все стороны, но ни одна из них не коснулась чьего-либо тела. Кларисса почувствовала, как Этель осторожно сжала её руку в своей, и сделала то же самое с соседкой слева, женщиной с длинными волосами цвета меди. Все взялись за руки, словно собрались водить хоровод вокруг взбесившегося огня, но оставались на месте, зачарованно глядя на фейерверк искр. Дыхания учащались, сердца бились синхронно, совпадая с ритмом вдохов и выдохов того, кто вставал из пламени. Кларисса чувствовала, как невидимая тяжёлая ладонь пригвождает её к земле, заставляя опускаться на колени, пасть ниц перед неизвестным величием. Она знала, что должна подчиниться этой противоестественной воле и выказать покорность, но каждый раз пыталась тщетно сопротивляться, выстоять. И каждый раз терпела поражение. Слишком уж неравным было это противостояние. Вот и сейчас — она отчаянно старалась выпрямиться, удержаться на слабеющих ногах, не сводя глаз с бушующей стихии, в центре которой мелькало что-то чёрное. Руки Этель и соседки слева выскользнули из ладоней, и Кларисса внезапно с удивлением осознала, что осталась стоять одна во всём круге. Раньше такого не было. Она почти сразу падала в вынужденном поклоне. Никто не замечал задержку в доли секунды.
Но сегодня почему-то она удержалась дольше. Коленный сустав хрустел от напряжения, солёный пот катился по шее, но девушка оставалась на ногах. Женщины увидели это. По кругу согнувшихся в поклоне пробежал шёпот, сначала удивлённый, потом возмущённый.
— Кларисса! — прошипела Этель снизу. — Что ты делаешь, девочка?
Стоило отвлечься, вслушаться в шёпот наставницы, как чужая воля взяла верх, и Кларисса, наконец, без сил упала на четвереньки. Колени больно врезались в каменистую землю. Но тяжёлая ладонь не ограничилась этим и продолжала лежать свинцом на её лопатках, прижимая к земле. Кларисса поняла, что разгневала своей выходкой существо, которое пряталось в костре, и если оно решит её прямо здесь убить, то ей никто не поможет; женщины в круге будут смотреть безучастно на её кончину. Она простонала и прекратила напрасное сопротивление. Тут же давление пропало. Она лежала на животе с закрытыми глазами и слышала нестройный хор голосов вокруг себя:
— … слава Тебе, наш повелитель… тому, в чьих руках находятся наши души и бренные тела, мы преподносим хвалу… слава Тебе…
«Слава Тебе», — прошептали губы против её воли. Одеревеневший язык ворочался сам собой, и вдруг она начала пронзительно кричать вместе с остальными:
— Слава, слава, слава! Мой повелитель…
Она хотела прекратить, но не могла. Кларисса чувствовала себя выброшенной из собственного тела, оттеснённой в пустошь, и руки, ноги, рот не принадлежали ей. Она слепо шарила руками в темноте, стараясь поймать потерянное тело и вновь надеть на свой разум, стать целой.
— … владыке, чьё могущество мы не в силах вообразить…
Кларисса открыла глаза. Ей позволили это сделать — чтобы она узрела смутную плечистую фигуру в центре костра.
— … тот, по чьей милости нам досталась доля Его силы…
Наконец, она сумела уцепиться за краешек собственного тела и заставить себя заткнуться, прекратить выкрикивать судорожные слова хвалы. Кларисса в последнем рывке прижала обмякшее тело к себе, коснулась холодеющего носа, дав завет, что никогда более не выпустит его, и потеряла сознание.
Очнулась она от грубых похлопываний по щекам. Лицо горело — должно быть, шлепки продолжались долго. Во рту был солоноватый привкус крови: она прокусила губу. Кларисса открыла глаза и увидела синеву ночного неба с поблескивающими остовами звёзд. Но гораздо ближе, чем звёзды, находилось встревоженное лицо Этель. Её волосы падали Клариссе на шею. Не успела она сказать хоть одно слово, как Этель с силой хлестнула её по лицу, заставив голову перекатиться на другую сторону.
— Я здесь, — слабо проговорила Кларисса. И не зря — ладонь Этель уже взмывала вверх, готовясь к очередному шлепку. Услышав её, она опустила руку и схватила лежащую девушку за плечи.
— Ты меня хорошо слышишь?
— Да…
— Помнишь своё имя, девочка?
— Конечно.
— Ну-ка, скажи.
— Кларисса.
— А моё имя? Помнишь?
— Что за вопросы, Этель? — Кларисса раздражённо стряхнула с плеч руки наставницы и приподнялась на локтях.
Оказывается, Этель возле неё была не одна. Над Клариссой собралась целая толпа. Любопытствующие лица, злорадные лица, испуганные лица — они сомкнули вокруг неё плотный круг. Ей стало трудно дышать при виде этих силков из голых человеческих тел. Она жадно втянула ртом воздух и снова откинулась на спину.
— С ней всё в порядке, — заключила Этель. Толпа одобрительно загудела; в общем гуле утонула пара-тройка разочарованных возгласов.
— Повезло девочке, — фыркнула одна из старух и заковыляла прочь. Другие тоже стали расходиться, но несколько женщин осталось, не переставая настороженно разглядывать девушку.
— Повелитель проявил милость, — Этель поднялась с корточек и подала лежащей руку. — Кларисса ещё молода и, конечно, делает ошибки. Он это понимает… и ты, девочка, должна быть за это Ему благодарна.
Подтянувшись за запястье Этель, Кларисса встала. Кружилась голова, но неприятное ощущение понемногу уходило. Кострища на вершине снова стали обычными очагами без подпитывавшей их потусторонней мощи. Яркие звёзды сместились на запад, чернильная темнота неба разбавилась.
Не успела Кларисса выпрямиться, как женщина сзади приглушённо охнула. Она оглянулась и встретилась с её округленными глазами, полными ужаса.
— Что случилось?
— Н-ничего, — женщина мотнула головой, но не смогла отвести взгляд. Вслед за ней запоздало вскрикнули её соседки. — У т-тебя там…
Кларисса до хруста в позвонках вывернула шею, чтобы посмотреть на свою спину. Живой круг опять смыкался — каждой хотелось увидеть, что там, на её лопатках. Она в панике повернулась к той единственной, которой доверяла:
— Этель…
— Ничего особенного, не волнуйся, — она поймала её за кисть. — А ну, расступись!
Не дожидаясь ответа, Этель решительно пошла вперёд, уволакивая за собой всхлипывающую Клариссу. Чёрные глаза гневно сощурились. Толпа расступалась — нехотя, но не смея мешать. Этель с лёгкостью вырвалась из казавшегося непробиваемым кольца и развернулась:
— Ну, что смотрите, почему встали? Время веселиться! Давайте, начинайте! Ночь коротка, а чего ради мы остались на вершине, как не ради этого?.. Пляски, песни, обряды! Не теряйте времени из-за происшествия. Клариссу я успокою сама, а вы, боюсь, сейчас ей не нужны. Давайте же!
В её тоне, несмотря на звонкое натужное веселье, было столько железа, что все подчинились безоговорочно. Женщины разбрелись. Этель молча шла вперёд, уводя Клариссу туда, куда свет костров не мог дотянуться, и ночь не распылялась мерцающими стайками искр.
— Сядь, — приказала она, указав на полусгнившее бревно. Кларисса села. Жёсткая кора врезалась в кожу. Она ждала слов наставницы, которая разглядывала её голую спину. Сама Кларисса чувствовала только саднящую боль под обеими лопатками.
— Скажи мне, — сухо произнесла Этель, — ну зачем ты всегда всё делаешь не так, как надо?
Кларисса виновато опустила голову, поскребывая ногтем кору бревна. Сейчас с Этель лучше не пререкаться. И потом, она и вправду виновата…
— Ты превзошла этой ночью все мыслимое. Сначала не захотела усыпить домочадцев. Затем в который раз отправилась в вольный полёт, хотя я предупреждала. Но то, что ты выкинула тут, не лезет ни в какие рамки. Ты понимаешь, какую глупость сделала, дурочка? Твоя глупенькая головка может переварить, что своей выходкой ты подставляла всех нас под огромную опасность? Наш Повелитель могуч, Он не терпит неповиновения. То, что Он пощадил тебя — редчайшее исключение. Он мог бы уничтожить всех нас в мгновенье ока за твою шалость.
Кларисса сама не понимала, что толкало её на то, что она делала. Все эти пляски и поклонения на горной вершине ей не нравились. Она была в диком восторге, когда три года назад — подумать, так целая вечность — ей сказали, что в ней есть тайные силы… что она может делать вещи, неподвластные остальным. Это было здорово, а главное, помогало скрашивать унылое существование. Но эти гнетущие обязанности — скрывать свой дар от всех, поклоняться какому-то Повелителю, о котором она не имела ни малейшего понятия, тайно творить пакости окружающим — раздражали и вызывали недоумение. Так же было с Хелен. И если прятаться было необходимо, чтобы не попасться, то к другим двум правилам Кларисса относилась с пренебрежением (а Хелен, поди, ко всем трём).
— Я больше не буду, — тихо сказала Кларисса, глядя мимо лица Этель. Возле костров опять собирались круги. Начинались игры, песни, танцы. И бесконечные бахвальные рассказы о собственных злодеяниях, от которых уши сворачивались в трубочку.
— Наш дар не от Бога, девочка, если ты этого ещё не поняла. Твой род давно ходит под чужим властителем. Ты, верно, слышала о своей прабабушке?
Кларисса кивнула. Разумеется, она наслышалась. Большинство ведьм до сих пор воспринимали её исключительно как правнучку Огненной Милены. Имя колдуньи произносили с трепетом.
— И правильно. Ты должна её знать и почитать. Милена была великой колдуньей, как и её прапрабабушка Марион. Поэтому на тебя тоже возлагают большие надежды. В тебе сила их обеих, которая передаётся в семье от старшей женщины к младшей. У некоторых сила не прорезается — у твоей матери, например. Но в тебе есть этот кочующий колдовской огонёк в жилах. И он был зажжён когда-то вовсе не покровителем святош, а вечным его противником, нашим Хозяином. Ты принадлежишь Ему, как бы ни пыталась извернуться. Твоя душа принадлежит Ему… а если Он захочет, то разум и тело тоже. Ты видела, как это бывает.
Кларисса содрогнулась от неприятного воспоминания. Прошлой осенью это произошло, здесь, в этом месте… Её потом две недели мучили кошмары, но она тогда и подумать не могла, что такое когда-то может произойти с ней. Иногда перед сном в душу закрадывалась холодящая мысль, что такое, видимо, проделывают с самыми молодыми, а они с Хелен после той девушки были младше всех… но нет, успокаивала она себя, этого не будет. Лучше не оживлять в памяти жуткие события, а накрыться одеялом, крепко сомкнуть веки и вслушиваться в шёпот леса за стенами хижины.
— Вот так, — устало закончила Этель и села на бревно рядом с Клариссой. — Так что свои детские шалости оставь при себе. В следующий раз миг, когда ты не захочешь покориться воле Повелителя, может стать для тебя последним.
— Я поняла, — сказала Кларисса, зябко поёживаясь. Жар прошёл, и вдали от костров без одежды стало холодно. Она с тоской подумала о платье, которое осталось лежать в ворохе облачений. Тело покрылось гусиной кожей, только область лопаток продолжала пылать, будто туда приложили тёплую монету. Она чуть не вскрикнула, когда почувствовала осторожное касание ладони Этель.
— Что там?
— Печать, — ответила Этель.
Кларисса нервно сглотнула:
— Печать?
Этель продемонстрировала ей кисть с растопыренными пальцами.
— Эта ладонь гораздо больше, чем моя. Он пометил тебя, но, мне кажется, это простой синяк. Через пару недель пройдёт. Тебе действительно повезло. Я сначала подумала — да и многие из нас подумали — что это несмываемая метка.
— У меня на спине… — Кларисса почувствовала, как горло свело сухой судорогой, — … следы ладоней?
— Я сказала тебе, это всего лишь синяки…
— Этель, я хочу уйти, — Кларисса вскочила с бревна. По щекам побежали слёзы. — Полетим домой. Я хочу обратно.
— Ещё не время.
— Нет, я хочу домой, — заявила она. — Я… ты… как же не понимаешь… оставьте меня в покое!
Отчаянный крик сотряс ветви близко растущих деревьев, но эхо заглохло, не пролетев и десяти метров. Заколдованный воздух невозмутимо поглотил отзвуки. На них никто не оглянулся. Пляски продолжались своим чередом.
Этель мягко, но настойчиво привлекла Клариссу к себе.
— Я хочу домой, — всхлипнула Кларисса. — Я не хочу больше сюда прилетать. Не хочу быть не такой, как все. Лучше я стану обычной, чем… чем…
— Успокойся, девочка, — шепнула Этель. — Скоро ночь закончится. Мы полетим домой… Надо немного подождать.
Опустив глаза, она увидела, что её кисти вновь лежат на багровых синяках в форме огромных ладоней, и поспешно отдёрнула руки.
Ей удалось уговорить Клариссу вернуться к остальным, потому что она чувствовала: их отсутствие начинает вызывать недоумение. Вернувшись, Этель первым делом разыскала на земле платье девушки. Ходить одетой было не принято, но, с другой стороны, иначе все вокруг глазели бы на синяки. Когда жуткие следы сокрылись от любопытствующих взоров, Клариссе стало значительно лучше. Она ещё оставалась очень бледной, того и гляди, упадёт в обморок, и говорила мало — но отчаяние оставляло её, и это было видно. Она молча стояла возле открытого огня и смотрела на других. Когда одна из женщин попыталась на спор перелететь через костёр без метлы, но, еле оторвавшись от земли, обожглась и грохнулась обратно, на губах Клариссы мелькнуло нечто вроде улыбки. Этель облегчённо вздохнула и позволила себе в кои-то веки отвести взгляд от девушки.
И тут же пожалела об этом. Стоило отвлечься от Клариссы, как она заметила пренеприятное зрелище под самым носом: высокая женщина с вьющимися каштановыми волосами находилась неподалёку и тоже не сводила глаз с её рыжеволосой подопечной. Кларисса ничего не замечала, отстранённо вглядываясь в толпу.
Этель несколькими гневными рывками оказалась рядом с Пожирательницей Мужчин.
— Что ты делаешь? — грубо спросила она.
Пожирательница повернула голову:
— Здравствуй, Этель. Как тебе ночка?
— Я спрашиваю, — Этель повысила голос, — зачем ты глазеешь на Клариссу?
— Разве не она главная героиня сегодняшней встречи? — на мраморно-белом лице появилась гадкая улыбка. — Вот и любуюсь, пока могу.
— Что значит «пока могу»? — она машинально бросила взгляд в сторону Клариссы. Та потерянно озиралась — может быть, старалась найти её. Посреди незнакомых женщин она выглядела такой юной и беспомощной… Волосы спутались, упали на лоб. Кларисса беспрестанно мяла ладони.
Пожирательница промолчала.
— Послушай, Мириам, — Этель с удовольствием заметила, как поморщилась женщина, услышав своё настоящее имя. — Я знаю, ты меня не любишь. И я тебя тоже не люблю. У нас на то свои причины… не думай, что я забыла о прошлом. Но эта девочка никакого отношения к нашей вражде не имеет. Я беспокоюсь за неё, а ты что-то в ней видишь. Скажи, что именно, и я больше тебя не побеспокою.
Она смотрела снизу вверх — Пожирательница была выше Этель на полголовы, — но та не спешила говорить: всё изучала гипнотическими глазами Клариссу, которая ни о чём не подозревала.
— Что ты видишь? — снова спросила Этель.
— Неужели, — медленно выговорила женщина, — неужели, Этель, я умею что-то, неподвластное тебе? В моей памяти ты всегда говорила обратное.
— Мириам, не время для глупого соревнования! — взорвалась Этель. — Но, если ты хочешь, то да! Я не умею заглядывать в будущее. Нет у меня этой способности. Ты — умеешь! Я признаю это. Теперь довольна? Скажи мне, что ты видишь в Клариссе!
— Я вижу, что её должны причастить на следующей встрече, — Пожирательница усмехнулась, обнажив ровный ряд зубов.
— Это я знаю, — хмуро заметила Этель. — Все знают, кроме неё самой. Смотри дальше… Ты видишь нечто иное, не так ли?
— Мои способности ограничены. Ты хорошо знаешь, что дар предвидения от поколения к поколению только слабеет, не усиливается.
— Да, но твоя мать могла заглядывать на многие годы вперёд, значит, и ты можешь. Не томи, Мириам. Она — особенная, разве не так? Ты просто не хочешь признавать это. Я всегда чувствовала в ней эту силу… но мне нужно подтверждение.
Пожирательница возмущённо тряхнула головой, разметав волосы по плечам:
— Она?.. Конечно, нет! Кто она такая? Обычная ведьмочка со средненькой родословной. Если уж на то пошло, в моём колене были колдуньи куда могущественнее, чем её прапрабабка…
— Не отвлекайся, — прошипела Этель, взяв Пожирательницу за локоть. Со стороны могло бы показаться, что женщины мирно беседуют, но лицо Пожирательницы на секунду исказилось от боли.
— Заглядывай в неё, смотри как можно дальше. Кем она станет? Какой путь выберет? И не посмей солгать мне!
Она отпустила локоть собеседницы. Покосившись на неё, Пожирательница снова уставилась немигающим взором на Клариссу, которая почёсывала запястья. Этель не хотелось, чтобы она увидела её и прибежала, пока Пожирательница не закончит своё дело. Она сделала шаг назад и в сторону, уходя за спину ведьмы.
«Ну же, смотри, Мириам. Посмеешь ли ты сказать мне правду, если увидишь? Или же твоя непомерная гордыня и самовлюблённость возьмут верх, и ты испугаешься сообщить во всеуслышание, что молоденькая девочка — та, рождения которой наше племя ждало столетиями?»
Спина Мириам дрогнула, словно от удара. Пожирательница испустила тихий удивлённый выдох, почти неслышный. Но Этель заметила.
— Что ты увидела?
Она вновь стала вровень с прорицательницей, чтобы видеть её лицо.
— Это ведь она, да?
— Нет, — Пожирательница мотнула головой. — Ничего… ничего в ней такого нет. Обыкновенная колдунья средней руки. Полёты… зелья… порчи…
— Одумайся, что ты говоришь! Какая колдунья средней руки? Её прабабкой была сама Огненная Милена!
— Я не собираюсь перед тобой…
— Скажи правду, разрази тебя гром!
Они стояли друг перед другом, прерывисто дыша, уничтожая глазами одна другую, но не находили слов. Женщины придвинулись к ним. Кучка любопытствующих мгновенно разбухла, и, наконец, Кларисса тоже увидела странное скопление недалеко от себя.
— Этель, вот где ты! А я тебя совсем потеряла…
Она проворно протиснулась в центр круга и остановилась, настороженно переводя взгляд с одной женщины на другую.
— Вы… поссорились?
В последний раз смерив Пожирательницу тяжёлым взором, Этель подошла к Клариссе.
— Поссорились? Ну что ты, Кларисса! Просто поговорили. Мы давно знакомы.
Кларисса кивнула и нерешительно улыбнулась Пожирательнице. В ответ на улыбку Клариссы та только едва заметно наклонила голову, потом развернулась и пошла прочь, рассекая толпу, как острое лезвие. Этель и Кларисса двинулись в противоположном направлении.
— Скоро рассвет, — сказала наставница. — Ещё полчаса, и можно будет улетать домой.
— Хорошо, — кивнула Кларисса.
— Ты помнишь, где оставила свою метлу?
— Да, рядом с тем валуном.
— Возьми её, а то ещё кто-то перепутает и захватит с собой.
Обрадованная тем, что скоро можно будет расходиться, Кларисса побежала за метлой. До валуна доскакала за пару секунд, но, видимо, метлу оказалось не так просто найти в ворохе одежды и чужих мётел: она медленно ходила вокруг камня, наклонившись вперёд, и сосредоточенно водила указательным пальцем перед собой. Этель улыбнулась, следя за своей подопечной.
— Я скажу тебе.
Она даже не обернулась — всё равно знала, кто дышит ей на затылок.
— Говори.
— Вряд ли это то, что ты хочешь услышать, Этель.
— Всё равно. Говори.
— Я действительно вижу, дорогая. Может, даже лучше, чем моя мамка, но это уже не проверить. Хотела знать о Клариссе? Изволь. Да, в ней есть могучие силы, и после причащения её мощь будет только возрастать. Но никогда, никогда она не сможет превзойти Милену. И уж тем более Марион. Она не хочет прислуживать Повелителю, Этель. Договор был заключен многие века назад, так чего же ожидать?.. В её венах новая кровь, в которой поклонение Ему занимает не самое важное место. Всё будет, как я сказала тебе — обычная ведьма, ни рыба ни мясо. Впрочем, умеющая при желании вытворять весьма неплохие вещи.
Этель ядовито улыбнулась:
— Неужели? Тогда почему ты так испугалась?
— Глупышка ты, Этель, — Пожирательница неслышно рассмеялась, обдав её душистым ароматом хвои. — Вам, лишенным способности узреть будущее, никогда не понять, что это такое. Думаешь, мне так важно одержать над тобой верх, что я буду упрямо врать ради этого? Да мне уже пять лет как всё равно, что будет с тобой. Или со мной, или со всеми. Наши дни сочтены, дорогая. То, что ты сейчас видишь — закат эпохи, когда ведьмы владычествовали в этих лесах. С каждым разом нас собирается всё меньше — некоторых ловят святоши, чтобы потом замучить в своих застенках, некоторые отрекаются сами. А новое поколение и вовсе безнадёжно, как мы видим на примере Клариссы. И знаешь, что я тебе скажу, Этель?.. Я не думаю, что Повелитель пощадил нашу рыжеволосую бестию. Он просто не мог наказать её. Не имел над ней власти.
Этель вздрогнула:
— Ты не можешь так говорить…
— О, ещё как могу, — Мириам рассмеялась вновь. — Боишься, что Он услышит? Пускай. Кажется мне, Ему теперь нужны новые рычаги влияния на этот меняющийся мир, чем изжившие свой век чернокнижники и глупые ведьмы.
И она ушла. Когда Этель не удержалась и посмотрела через плечо, земля была пуста, лишь оставшийся отпечаток ступней говорил, что только что здесь стояла женщина, нашёптывавшая ужасные, запретные откровения. Костры по всей вершине затухали, обессиленные после плясок и песен женщины отходили от них к своим одеждам.
— Нашла!.. А вот и твоя тоже!
Сияющая Кларисса протягивала ей метлу. Этель машинально взяла её и задумчиво покрутила в ладонях. Старая рухлядь. Хорошо бы свить новую к следующей встрече.
— Полетим? — Кларисса уже готовилась оседлать метлу.
— Погоди, — медленно сказала Этель. — Сначала нужно попрощаться со знакомыми. Кто знает, сколько из них не явятся на следующую встречу.
Через пятнадцать минут последний огонёк на горе сгинул, оставив вершину тускло отражать пепельные лучи рассвета. Женщины на мётлах взмыли стаей чёрных ворон, которые бесследно растворились в небесах.
Возвращение было нерадостным. Кларисса изо всех сил старалась вернуть себе былое упоение, глядя на предрассветную землю и розовеющий горизонт, но давящее чувство никуда не девалось. Словно этой ночью её облили чем-то грязным, и не отмыться теперь, не оттереться. Спина сильно болела при движении, и она мрачно думала о том, что ей ещё предстоит прятать синяки от домашних.
Этель угрюмо молчала. Кларисса чувствовала себя виноватой перед ней. Наверное, нужно было что-то сказать, извиниться за свои выходки, но не находилось слов. Ветер, бьющий в лицо, развеивал мысли, оставляя только чувства и нечёткие образы. Огонь… Повелитель… Лидия… Хелен…
Женщины спустились с неба на землю, когда краешек солнца озарил кроны деревьев. Чирикнули первые проснувшиеся птицы. Утром гладь озера выглядела не чёрной, а тёмно-синей. Слезая с метлы, Кларисса вздохнула. Обычно это бывал вздох огорчения, что всё кончилось, и ей предстоит ещё долго прозябать в рутине — но сегодня у неё получился вздох облегчения.
— Давай, — Этель протянула руку. Кларисса вручила ей свою метлу, и она привычно зажала её под боком.
— Когда будет следующая встреча?
— Не знаю, — туманно ответила Этель. — Видно будет…
— Ты запретишь мне туда лететь?
— Нет.
Кларисса грустно улыбнулась:
— Спасибо, Этель.
Черноволосая женщина подалась вперёд всем телом, и Кларисса застыла, увидев, какие у неё влажные и блестящие глаза:
— Но если ты не хочешь больше являться на вершину… я буду не против. Сообщу остальным, и все дела.
— Но Этель! — в страхе воскликнула девушка.
— Я хочу сказать… — она поморщилась и закрыла глаза. — Ты ещё молода, и у тебя есть силы противостоять своей судьбе… особенно сейчас… а я-то что, меня уже не изменить, да и злодеяний на моём счету предостаточно…
— Этель, о чём ты говоришь?!
— Так да или нет? Решайся, Кларисса. Больше я эту тему затрагивать не буду.
Кларисса тряхнула головой. В лучах рассвета ярко-рыжие волосы сверкнули огнём, и наставница поневоле залюбовалась ею. Говорили, что Огненная Милена делала точно так же, и её волосы превращались в полыхающее пламя…
— Конечно, я полечу, Этель. И в следующий раз, и ещё в следующий, и сколько угодно. Ты сама говорила мне сто раз, что этого всё равно не избежать. Только сегодня ночью я почему-то почувствовала, что это взаправду так. — Кларисса задумчиво закусила губу, на мгновение превратившись из молоденькой девочки во взрослую колдунью. — Я полечу, Этель.
— Но, милая…
— Нет, — она резко подняла открытую ладонь. — Если тебе известно что-то, о чём не знаю я, не стоит говорить. Я не хочу знать. Даже если ты скажешь что-то ужасное, я не передумаю, а буду только страдать из-за этого знания.
В напряжённом молчании запела певчая птица. Дятел опять начал стучать в чаще, выводя мерную успокаивающую дробь. Озеро всколыхнулось от шаловливых прыжков лягушек. Последние звёзды растворились в синеве; летнее утро вступало в права.
Наконец, наставница сухо сказала:
— Я сообщу тебе, когда следующая встреча. Как обычно.
— Спасибо, — Кларисса склонила голову. — Береги себя, Этель.
— И ты тоже.
Рыжеволосая девушка пошла в лес, ступая быстро и неровно, словно убегала от чего-то большого и страшного, несущегося по пятам. Одну минуту ещё можно было заметить огненную копь волос между серыми стволами, но уже на второй минуте Кларисса окончательно исчезла в этой гуще. Во всяком случае, сколько бы Этель ни всматривалась, она её не увидела.
2008 г.
Никого дома
Бросив монету в щель автомата, Андрей набрал номер. После пятого гудка мембрана щелкнула.
— Здравствуйте, вы позвонили в квартиру Ивана Вербицкого, — произнёс мужской голос. — К сожалению, сейчас дома никого нет, но вы можете оставить сообщение после звукового…
Повесив трубку на место, Андрей вышел из будки и бодро зашагал в сторону зелёной пятиэтажки на той стороне улицы.
Никого дома. Пока всё шло, как по маслу.
Он наблюдал за этой квартирой уже неделю — с тех пор, как приметил ежедневно проносящийся по тесной улице новенький красный «Мерседес». Андрей проследил за его маршрутом и увидел, как человек в дорогом сером костюме ставит машину в один из гаражей неподалёку и входит в пятиэтажку. Это показалось ему кощунством — ставить такую красавицу в хлипкий жестяной гаражик! Удивительно, что местные молодчики ещё не вышли на лакомый кусочек. Будет утро, и владелец застанет лишь покореженные дверцы гаража вместо своего «Мерседеса». Если бы Андрей был автомобильным вором, он сам был бы не прочь заняться — дело того стоило, — но он был домушником и надеялся, что квартира пижона в сером костюме преподнесёт ему немало приятных сюрпризов.
Он был осторожен — целую неделю разведывал пространство. И вот день настал. Двадцать минут назад «Мерседес» выехал из проулка и направился в центр города. Андрей на всякий случай позвонил в квартиру, выискав номер в справочнике — мало ли что, вдруг у жильца охрана или любовница — но квартира была пуста.
Зайдя в подъезд, Андрей торопливо поднялся на четвёртый этаж. Здесь, за дверью с номером 23, была обитель чудаковатого богача. Что ему стоило в таком-то костюме и с такой тачкой снять квартиру в центре или поселиться в пятизвёздочном отеле? Воистину, дурак дураком.
Попав на нужный этаж, Андрей действовал быстро. Залепил замазкой глазки на дверях соседей, натянул на руки перчатки и вытащил из кармана набор отмычек. Замок на двери был ничем не примечательным — из тех, что можно расковырять за пару минут. Он внимательно прислушивался к звукам, пока орудовал отмычкой, но в подъезд никто не зашёл. Вскоре язычок повернулся под нажимом отмычки, и дверь подалась в его сторону. Андрей отступил на шаг назад и внимательно изучил косяк. Каким бы простаком ни казался хозяин, недооценивать его не стоило. Такой денежный мешок мог позволить себе сигнализацию по последнему слову техники.
Но сигнализации не было. Ничего не было. Голая дверь. Чувствуя себя, как в волшебной сказке, Андрей переступил за порог и закрыл за собой дверь. В прихожей было темно. Он почти вслепую сделал несколько шагов вперёд и громко охнул, забыв об осторожности.
Под видом обычной «двушки» скрывалось царство чудес. Уличный свет пробивался сквозь полупрозрачные занавески и освещал персидский ковёр, разложенный на полу. Ноги Андрея утопали в ковре по щиколотки. Он потрясённо разглядывал гостиную, не смея дышать. Всю противоположную стену занимал огромный гарнитур из чёрного дерева; два зеркала на дверях переливались, как миражи. С потолка свисала роскошная хрустальная люстра с бессчётным количеством ламп. У окна уютно устроился широкий плазменный телевизор. По обе стороны от него, как верные стражи, высились два торшера с оранжевыми абажурами. Перед телевизором раскинулась софа, обитая красным бархатом. Стереосистема, цветомузыка… много других устройств, напичканных электроникой. Таких, небось, и за границей мало кто видел.
И всё это — в заурядной российской квартирке на две комнаты в спальном райончике.
— Мама родная, — пролепетал Андрей. — Куда я попал?
Мир роскоши молча следил за ним. Андрей зажмурился, тряхнул головой. Нужно действовать быстро, напомнил он себе. Всё это, конечно, райские кущи, но он ничего не сможет унести. Ему нужны деньги или драгоценности. Не позволяй себя опьянить.
Он посмотрел на секретер гарнитура. Может, там? Богатеи привыкши хранить сокровища в легкодоступных местах…
Он подошёл к секретеру, высоко поднимая ноги: ему становилось не по себе от прикосновения к ворсистой топи ковра. Открыв секретер, он опешил: внутри было пусто. Чёрный деревянный прямоугольник; ни одной полки, ни одной вещички. Андрей в смятении провёл рукой перед собой, но пальцы ни на что не наткнулись.
Он закрыл секретер и повернулся к окну. Может, в ящиках стола что-нибудь найдётся? Благо их там не перечесть…
Андрей сделал два шага и остановился. Наклонившись вперёд, он оглядел роскошный интерьер ещё раз. Не имел понятия, что случилось — но в мозгу зародился какой-то тревожный сигнал.
Что-то было не так. Что-то изменилось. Может, телевизор раньше стоял ближе к окну… или расстояние между торшерами было меньше… или софа располагалась немного правее. Андрей вымученно усмехнулся и протёр глаза рукой. Не нервничай. Всё это запредельное богатство убивало разум похлеще бутылки водки.
Деньги… Может, стоит порыться в спальне? В практике Андрея бывали случаи, и немало, когда сбережения хранили в конвертах под матрацами.
Он присел на корточки у стола и выдвинул первый ящик. Тоже пусто. Ни бумаг, ни канцелярских принадлежностей, ни мелочи. Андрей перешёл ко второму ящику, но там его ждала та же самая картина. Абсолютная пустота.
Он почувствовал, как по шее катится холодный пот. Нехороший признак. Андрей поднял руку, чтобы вытереться, но замер, уловив краем глаза еле заметное шевеление.
Медленно, считая секунды, Андрей повернулся направо, но там стоял только торшер с ярко-оранжевой шапкой. Стоял явно не там, где был раньше. Он сместился со своего положения, стал чуть ближе к нему.
Андрей вскочил. Только сейчас он осознал, что в квартире царит невыносимая духота. Взгляд его метался из стороны в сторону, чтобы изобличить тех, кто прикидывался неподвижным. Но все они покорно застывали, как только он поворачивался к ним, в то время как другие — те, к которым он стоял спиной, — втихаря подползали.
— Ты, — выдохнул полушёпотом Андрей, ткнув указательным пальцем на багровую софу. — Ты ведь раньше стояла не здесь! Я помню!
Что-то заскрипело у окна. Он обернулся так резко, что хрустнули шейные позвонки. Занавески колыхались, хотя окна были наглухо закрыты. Торшеры почти слились друг с другом в дружеских объятиях. Раньше они располагались по бокам телевизора, а теперь абажуры загораживали экран. Формы тоже изменились… не идеально гладкие, а идущие буграми, как чешуя. Вот именно, подумал Андрей, парализованный ужасом. Как чешуя…
Он попятился назад, сжимая и разжимая кулаки. Не сразу сообразил, где находится дверь, а когда, наконец, с криком побежал в сторону проёма, дверь захлопнулась сама собой, словно сработала невидимая пружина. Андрей ткнулся об неё плечом, забарабанил кулаками.
За спиной множилось копошение.
Этого не может быть, сказал он себе. Плохой сон, нужно проснуться…
Рявкнул телефон. Андрей заорал дурным голосом и упал на колени, подняв руки в защитном жесте. Телефон зазвенел ещё раз, и он осмелился открыть глаза. Чёрный аппарат с мерцающей кроваво-красной лампочкой. Звуки, которые он издавал, ничем не напоминали механическую трель звонка; в них слышался хищный звериный рев.
— Это всего лишь телефон, — прошептал Андрей, сжимая ладонями виски. — Господи, это всего лишь телефон, и ничего больше, только чёртов телефон…
— Здравствуйте, вы позвонили в квартиру Ивана Вербицкого, — мужской голос отражался от стен, болезненно бил по ушам. — К сожалению, сейчас дома никого…
Голос задумчиво умолк. В нависшей тишине Андрей услышал, что гостиная полна бормотаний, шорохов и тонкого попискивания.
— … но вы можете послушать стишок, — вкрадчиво продолжил голос. — Хороший стишок. Жили у бабуси два весёлых гуся, один белый, другой серый, и оба — воришки…
Он слабо вскрикнул и попытался встать на ноги. Ковёр подрагивал, как желе. Он становился мягче. Подошвы ботинок погрузились в вязкую тину. Он застонал и вцепился в ручку двери.
— Знаешь, что сделала бабуся с этими воришками? — красный огонёк перестал мерцать и расширился: ни дать ни взять злобный зрачок, который заглядывает ему в лицо. Голос отдалился; он исходил не из динамика, а из тёмного пространства под потолком.
— Знаешь?..
Андрей прислонился спиной к двери, не выпуская ручку. По щекам текли слёзы. Ему хотелось кричать, но лёгкие сморщились и превратились в смятые бумажные пакеты; он не мог выдавить из себя ни звука. «Не смотри, — умолял он себя. — Ради Бога, не открывай глаза!». Но когда в нос проник зловонный запах гнили и трупов, он не выдержал и поднял веки.
Гостиная стремительно преображалась. Вещи плавились, теряли формы, становились другими. Солнечный свет исчез, окно стало чёрным каменным монолитом. Андрей сначала видел только оранжевые шапочки торшеров: они приникли к земле, на них прорезались водянистые глаза. За тварями волочились длинные хвосты, ранее, наверное, бывшие ножками торшеров. Багровая слизь с подобием перекошенного лица громоздилась рядом с тварями; Андрей с трудом узнал в ней бывшую софу. Красная атласная подушка проворно спрыгнула с софы на ковёр. Ткань с треском разошлась по углам. Из подушки показались мохнатые паучьи лапки, покрытые колючей шерстью; она забегала на лапах по гостиной, потом уткнулась в софу и любовно приникла к ней.
Ковёр расплылся в бездонную болотную топь. Кое-где из болота выглядывала чахлая, уродливая растительность. Мелкие зубастые зверушки, взявшиеся из ниоткуда (пульты от телевизора? видеокассеты?) тут же принялись их пожирать. Едкие испарения клубились над болотом, всасываясь в своды пещеры.
Мужик основательно соврал, когда говорил, что никого дома, подумал Андрей, теряя сознание. Ручка двери оторвалась; он с размаху хлюпнулся в топь и тут же безнадёжно увяз.
По пещере пронеслось низкое утробное рычанье. Все твари, большие и малые, притихли и повернули головы вглубь пещеры, где сгустился мрак. Андрей тоже смотрел; волосы на его голове шевелились. Он понял, что это за голос. Вспомнил, как открывал секретер и залезал рукой в пасть этого безымянного чудовища, довлеющего над всеми… Желудок перевернулся.
Во мраке зажглись глаза. Белые, безумные, с плавающим мазутным зрачком. Чернота в углу пещеры шевельнулась, пошла волнами. Вместе с рычаньем до Андрея долетела волна запаха, и после одного вдоха он потерял способность обонять.
Рык прекратился. Глаза чудовища смотрели прямо на Андрея, и вдруг он понял, что все остальные звери тоже следят за ним.
— Нет! — закричал он. — Нет… не надо!..
Они шли к нему, кто медленно, кто быстро, но каждый с убийственной решимостью. Гигантские глаза сузились в усмешке.
Оно хохотало. Оно торжествовало.
Андрей забился, как рыба в сети, молотя руками и ногами. И в считанные секунды ушёл под болото по шею. Глаза разъедали солёные испарения. Твари шли. Паучок, полностью освободившийся от остатков атласа, подбежал первым и провёл лапкой по щеке Андрея, оставляя глубокую ссадину. Жижа дошла до подбородка, залила уши.
— Не-е-е… — захрипел Андрей и вскинул голову, пытаясь в последний раз вобрать воздуха в грудь. Но не успел — единственное, что он смог увидеть перед потерей сознания, была непомерно раздутая белесая голова червя, усеянная тысячей блестящих глазок. Исполинский червь вырастал из сводов пещеры и покачивался на тончайшем хвосте, набираясь сил перед броском.
Потом он рванулся вниз и заслонил собой всё.
Кто-то мягко похлопывал его по щекам.
— Как, очнулся?
Он не понимал, что происходит. Он думал, что умер. Не мог не умереть после всего, что видел. Если не от когтей тех тварей, то от разрыва сердца.
— Ну, раз жив, то вставай. Подъём!
Голос был мягким и доброжелательным. Тот самый голос, который оповестил его по телефону, что дома никого нет. Андрей счёл за благо подчиниться. Он открыл глаза и медленно сел. Голова раскалывалась от боли.
Иван Вербицкий сидел на корточках рядом с ним всё в том же изысканном костюме без малейшей складки. На губах играла полуулыбка.
— Как самочувствие? Жить сможешь?
— Д-да, — выдавил Андрей. Он смотрел поверх плеча собеседника. Чёрный гарнитур остался на месте. Торшеры по-прежнему сторожили телевизор, на подоконнике плясал солнечный зайчик.
— Не стоило тебе сюда заходить.
Андрей вздрогнул и посмотрел ему в лицо. На какой-то момент их взгляды пересеклись, и этот момент был худшим в его жизни. Словно в теле пробили большую дыру и стали высасывать через неё душу.
Потом он опустил глаза на ворсистый ковёр и стал ждать кары.
— Твоё счастье, что я не успел отъехать далеко, — изрёк Иван Вербицкий. — Почему вы вечно лезете не в свои дела? Всё, что было мне нужно — уладить свои дела в этом городишке и вернуться в свои края. Теперь опять придётся делать всё левой рукой за три дня.
Андрей молчал. Что он мог сказать?
Вербицкий отвернулся от него и оглядел свою квартиру.
— Перестарались вы, мои дорогие, — в голосе сквозили тёплые нотки. — Не такого я от вас ждал…
Андрею показалось, что он услышал виноватое щенячье скуление. Может, это был обман слуха. Он не стал думать. Он был уверен, что сейчас умрёт.
Но Вербицкий сказал, не оборачиваясь:
— Убирайся.
Андрей не стал ждать, когда он повторит. Он поспешно встал на ватные ноги и побрёл в сторону прихожей, обходя телефонный аппарат за полметра. В голову будто набили наждачной бумаги. Он ждал, что вот-вот Вербицкий прикажет ему остановиться.
Или, того проще, с потолка сорвётся молния и испепелит его на месте.
Но этого не случилось. Он беспрепятственно вышел в прихожую, оттуда — в подъезд. Было тихо: никто из соседей ничего не услышал.
Андрея затрясло. Он побежал вниз, не оглядываясь, и очутился на улице, под ясным голубым небом. Здесь ему пришлось остановиться: у входа в подъезд тихо урчал красный «Мерседес». Андрей на цыпочках прошёл мимо него, потом засунул трясущиеся руки в карманы и быстро зашагал прочь. Теперь он знал, почему никто до сих пор не угнал эту машину, но не был рад этому знанию. Единственное, что приносило ему радость — осознание того, что он был ещё жив.
2005 г.
Град мёртвый
Безлунными осенними ночами на нашу деревню налетает жаркий ветер со стороны громадной пустыни; он несёт с собой не прохладу, приятно щекочущую кровь, и не тучи, которые могут смыть грязь с кривых лачуг. Это мёртвый ветер мёртвых краёв. Он сух и обжигает кожу, и в его дыхании мерещится неуловимый запах — запах чего-то чуждого.
В одну из таких ночей привиделся мне тёмный город, расположенный в сердцевине песков, о котором я собираюсь рассказать.
Без сомнения, этот город был очень древним — основанным столетия, если не тысячелетия, назад. Об этом говорили и причудливые формы строений с обилием башен, куполов и зубчатых стен, и обветшалость панорамы, которая мне раскрылась. Подобно тому, как старые дома, в которых никто не живёт, со временем вязнут в тине своего возраста, сами начиная источать тьму, так и этот город выглядел мёртвым. Я понял это в первый же миг, едва глянул на его расплывчатый силуэт в вечерних сумерках.
Но вместе с тем город притягал. Такой привлекательностью обладают невиданные чудища для путешественника, исследующего далёкие закоулки планеты. Меня охватил такой восторг, что я, как увидел город, направился к нему: шаг за шагом, как кукла-марионетка по взмаху руки хозяина. Я бы шёл, углубляясь в пустыню, пока окончательно не затерялся в нём. Меня остановило то, что вскоре мгла сгустилась до такой степени, что очертания поселения стали неотличимы от обнимающего их южного небосвода.
Но пока остатки дневного света не угасли, я поглощал жадным взглядом то, что открылось моим глазам. Здания в том городе были высокими и мрачно-красивыми, они впивались в небо серебристыми иглами. Кажется, я мог различить на них провалы окон, расположенных по кругу — но, может, это только игра воображения, подстёгнутого полутьмой. Город был окружен сплошной стеной, которая матово светилась в темноте. В сравнении со зданиями стена выглядела низкой, но это было лишь из-за того, что строения имели воистину титаническую высоту. Говорят, есть в Америке громадные дома, раскалывающие пополам небо над головой. Но я почему-то уверен, что после города в пустыне их величие уже не сможет меня покорить.
Но не размеры были главной особенностью мёртвого города. Поражала красота селения, абсолютная симметричность без каких-то изъянов — словно город был не реальным, а нарисованным на бумаге самым придирчивым из чертёжников. Любое селение, где живут люди, со временем расползается в стороны, теряя свою первоначальную компактность и гармонию. Большие города таким образом превращаются в уродливые наросты на коже земли без отдалённого намёка на правильность линий и пропорций. Этот город, хоть и был очень крупным, как-то сумел сохранить геометрическую красоту. Я уверен: подойди я к нему ближе, чтобы различить детали, впечатление бы не рассеялось, а наоборот, только укрепилось.
Но увы — эта покоряющая красота была мертва. Ни одного огонька не горело в городе, ни одного тишайшего звука не доносил ветер с той стороны. И поэтому город, постепенно превращающийся в чёрное пятно в ночи, напоминал гигантский склеп. Кто знает — может быть, так оно и было?.. Я не знал и сейчас не знаю, что случилось с его жителями, ушли они или погибли из-за какого-то ужасного катаклизма. Но одно я почувствовал точно, вопреки переполнявшей меня в тот момент смеси восторга и преклонения — неявную угрозу, которую таили в себе высокие шпили и изящные купола. Запах, который приносил ветер, оставался смутным, как всегда, но что-то в нём изменилось с появлением города. Я не могу объяснить, на чём основывалось это ощущение, но запах тревожил разум, наводя на мысли об опасности, о тонкой грани между величием и катастрофой и неумолимо надвигающейся беде. Но запах слабел по мере исчезновения города с поля моего зрения, и в конце концов растворился в жарком воздухе осени — и тогда я остался стоять один посреди песков, с разочарованием глядя на зажёгшиеся надо мной звёзды.
Никто не поверил моим рассказам о древнем городе без людей, никто не принял всерьёз мои сбивчивые слова. С прошествием многих других ночей, которые прошли в бессильном наблюдении за пустыней в надежде снова узреть этот город, я сам стал сомневаться, не было ли это болезненным видением. Днём, когда на затылок щедро льёт лучи жёлтое солнце и всё вокруг находится в суетливом движении, я почти готов в это верить. Но когда на землю нисходит ночь без луны и вновь подкрадывается ветер, который катит песчинки из пустыни в деревню, я в очередной раз отчётливо осознаю — что бы ни говорили другие, та ночь была реальностью: где-то там, в вековой пустыне, есть древний град без единого жителя. Какова бы ни была его истинная природа, в какие незапамятные времена он бы ни существовал — он всё ещё там, забытый всеми, но всё ещё хранящий свои ужасные тайны за белыми стенами, испускающими бледное сияние.
2010 г.
Крыша
В последний день своей жизни я проснулся поздно. Когда я открыл глаза, меня ослепил солнечный свет, бьющий из окна. Спальня была наполнена бодрым жёлтым сиянием, но я не спешил вставать. Куда торопиться? Пока есть время, почему бы не насладиться маленькими радостями, которые предлагает жизнь? Вот, скажем — когда в последний раз, проснувшись, я изучал замысловатые закорючки обоев на стенах? А ведь в этом занятии есть какой-то глубинный смысл, который видят дети, но взрослым не понять…
Позже, водя щёткой по зубам в ванной комнате, я внимательно всмотрелся в своё лицо — молодое, гладкое, ещё не тронутое отпечатком невзгод жизни. Зелёный юнец, ни дать ни взять. Значит, таким я и останусь. Я усмехнулся своему отражению и сплюнул пасту в раковину.
Потом был завтрак, состоящий из недожаренного, как всегда, омлета и готовых кукурузных хлопьев. Я полагал, что есть мне не захочется, но на тебе — аппетит накатил, будто я не питался целую неделю. Странно это. Слишком обыденно для такого примечательного дня. С такими мыслями я слопал весь омлет.
Часы показывали половину одиннадцатого. Это означало, что у меня есть ещё час до того, как отправиться на экзамен. Гражданское право, моё любимое — за все семестры я не видал в зачётке по этому предмету ничего, кроме «отлично».
Остаток времени я провёл, с маниакальной аккуратностью занимаясь своей одеждой. Отутюжил выстиранные вчера вечером брюки так, что о складки можно было порезаться. Накинул на себя белоснежную льняную рубашку, застегнул все пуговицы на рукаве. Наверное, никогда ещё я не выглядел так презентабельно.
В автобусе людей было мало. Я кротко сидел на заднем ряду и смотрел на проплывающие мимо дома. Погода выдалась хорошая, небо сияло чистой лазурью. Как раз то, что я хотел. Не знаю, как вам, а по мне умереть при солнечном свете гораздо приятнее, чем под хмурыми небесами.
Самовольно уйти из жизни я решил месяц назад. Не спрашивайте, почему. Учился бы я на медика, я бы смог вам объяснить — мол, какие-то там органические процессы в мозгу, пагубно влияющие на психику, и т. д. Если бы я был студентом филфака, то наплёл бы с три короба про разочарование в жизни, нехватку любви и невыносимую скуку бытия. Но я всего-то скромный будущий юрист, и в моих силах лишь констатировать факт — я хочу умереть. Жизнь потеряла ко мне интерес, я ответил тем же. Вот и всё.
Месяц прошёл совершенно обыденно. Я ничем не изменил своим привычкам. Особо не волновался и не переживал по поводу того, что мне предстоит совершить. Ходил на учёбу, по воскресеньям звонил родителям, смотрел телевизор. После раздумий загодя выбрал день, когда порву с этим миром: день последнего экзамена. Все дела позади, можно отойти без тяжести в душе.
Больше времени у меня занял выбор способа умерщвления. Что ни говори, но сам момент смерти не представлялся мне сколько-либо привлекательным. Нужно было выбрать что-то максимально безболезненное и вместе с тем красивое, эффектное. Резать вены? Увольте — я никогда не выносил вида крови. Вешаться? Не думаю, что последние минуты покажутся мне мёдом, когда верёвка будет впиваться мне в шею. Застрелиться? Неплохой вариант, но откуда достать пистолет?
Я обдумал десятки сценариев, но в каждом находил недостатки. Забавно, думал я, мрачно глядя перед сном на тёмное окно. Дело кончится тем, что я брошу это дело за неимением хорошего способа.
Подходящая мысль пришла неделю назад. Как всегда, всё было близко, на расстоянии вытянутой руки…
— Привет, — бросил я немногочисленной кучке одногруппников у входа в аудиторию. Парни обернулись, загоготали. Вид моего костюма привёл всех в восторг.
— Ну ты и вырядился, Серёга! Праздник какой, что ли?
— «Экзамен для меня всегда праздник, профессор», — я рассмеялся. — Как настроение? Сдадите?
— Ты-то сдашь, — с непонятной обидой отозвалась Лена. Она красивая, ей двадцать два года — больше, чем у всех нас. Бессменная староста группы с первого курса. Я посмотрел на неё и улыбнулся.
— Не уверен.
— Всегда так говоришь, — она снова уставилась в свои конспекты, оставив меня со смутным чувством вины. Чтобы заглушить это ощущение, я вынул тетрадь и сделал вид, что увлечённо читаю.
«Почему всё так обыденно? — думал я. — Неужели нельзя сделать… что-нибудь… что-нибудь этакое напоследок?».
Провалить экзамен. Нагрубить преподавательнице. Облапать Лену. Затеять драку с кем-нибудь из парней прямо здесь, у аудитории. И потом с пьянящим чувством свободы осуществить задуманное.
— Серёж?
— Да? — вяло отозвался я. Мои неровные каракули прыгали перед глазами.
— Ты что, обиделся? — Лена внимательно смотрела на меня. — Не принимай близко к сердцу, хорошо?
— Да ладно, забыли, — я убрал тетрадь в портфель и улыбнулся ей. — Чур, я первый возьму билет. Это у меня традиция. Идёт?
— Идёт, — она облегчённо вздохнула.
Мне попался четырнадцатый билет — сосед чёртовой дюжины. Я накатал всё за полчаса — дальше просто сидел, наблюдая за игрой перистых облаков за окном. Отсюда, с пятого этажа, их нежные мазки были видны отчётливо. Красота пейзажа заворожила меня, мне на секунду даже стало жалко, что я больше никогда не смогу сидеть вот здесь, на привычном месте… смотреть в окно, в то время как очередной преподаватель мурлычет свою болтовню.
— Сергей?
Я вздрогнул и посмотрел на Людмилу Анатольевну.
— Я вижу, ты готов?
— Да, — я собрал все бумаги и пересел на стул рядом с ней. Рассказывал недолго. Когда едва добрался до трети записанного, она прервала меня:
— Достаточно. Давай зачётку.
Момент истины. Пока моя рука тянулась к книжке с синей обложкой, в голове успела выстроиться цельная панорама: я достаю зачётку, спокойно рву на куски и вразвалочку выхожу из аудитории. Или так: я вытаскиваю книжку и с силой запускаю Людмиле Анатольевне в лицо. Вспышка, боль, недоумение… безумие. Финальный аккорд — я всё так же не спеша покидаю место.
Много образов, прекрасных и манящих. Но в итоге — всего один. Я вручил ей книжку. Если что-то и выдало мои мысли, то только секундная дрожь в запястье.
Она вывела чёрными чернилами надпись «отл» и расписалась. Аудитория потемнела и сузилась, когда синяя ручка в её пальцах выводила последнюю кривую. Оценка поставлена. Теперь — только вверх, вверх…
На крышу.
— Молодец, Сергей, — Людмила Анатольевна вернула мне зачётку. — Продолжайте в таком духе, и вы многого достигнете.
— Спасибо, — мне пришлось приложить усилие, чтобы не рассмеяться. Что она сказала бы, если узнала, что через пять минут, максимум — десять, я действительно достигну ну весьма многого?..
— Сколько? — спросили девчонки на выходе, впрочем, без особого энтузиазма. Они уже знали ответ.
— Обманул Товарища Лектора, — ответил я, вытирая пот со лба; он там действительно проступил. — Ух, сложно было. Нижний киоск открыт? Пить захотелось…
— Иди на седьмой, — посоветовала Лена, всё ещё терзающая свои записи. — Там открыто, я видела. Опять же, прямо из холодильника.
Я снова посмотрел на неё и снова улыбнулся. Мне показалось, или её на мгновение передёрнуло?
— Спасибо, Леночка. Так и сделаю.
Вверх, вверх…
… потом — вниз с самого верха.
Лифт пришлось ждать недолго. Внутри стояли две девушки — блондинка и миниатюрная рыжая. Я без колебаний шагнул внутрь и нажал на кнопку с номером «7». Дальше лифт не ездил, так что последний, восьмой, этаж придётся преодолевать на своих двоих. Считалось, что выход на крышу с лестничной площадки восьмого этажа заперт, но это было не так. Замок было легко открыть. В этом я убедился на прошлой неделе. Восславим истинно российскую халатность.
— Как дела, красавицы? — приветливо спросил я. — На экзамен пришли?
Блондинка настороженно посмотрела на меня и промолчала. Рыжая — та вообще никак не отреагировала, продолжая молча глядеть в одну точку. Девушки не были настроены разговаривать. Это меня уязвило, и я твёрдо решил выбить из них хотя бы слово.
— Хотите, я вам обеим по банке колы куплю? Я только что «пятак» вырвал и хочу, чтобы люди радовались со мной.
— Не хочу, — вызывающе ответила блондинка, нетерпеливо следя за табло индикатора. Там загорелась кроваво-красная семёрка. Дверца раздвинулась с характерным шумом.
— Да ладно, девчонки… Ну ладно, не хотите — как хотите.
Я был обижен и сбит с толку. Это ж надо — последнее доброе дело идёт в тартарары столь нелепым образом! Блондинка вышла из лифта и зашагала прочь. Я тоже покинул кабину. Рыжая осталась внутри — кажется, ей нужно было вниз. Перед тем, как дверца закрылась за моей спиной, я услышал, как она пробормотала:
— Не делай этого.
Я обернулся, как ужаленный, и столкнулся нос к носу со сплошной металлической дверцей, которая отрезала нас друг от друга. Я отказывался верить тому, что услышал. Показалось… опять нервы шалят.
Я стоял, тупо глядя на закрытую дверцу, наверное, минуты три, потом вырвал себя из прострации и направился к лестничной площадке.
«Не делай этого». Слова, выплюнутые полушёпотом, преследовали меня невидимой паутиной. Я вспомнил рыжую, её коротко остриженные волосы, отсутствующий взгляд. Как она стояла, забившись в угол лифта. Странная девушка, что ни говори… Чёрт-те что!
На лестничной площадке никого не было. Мерный гул разговоров на нижних этажах накатывал волнами. Я увидел на стене знакомую табличку — зелёный человечек, бегущий вниз по лестнице. Пусть человечек бежит вниз, а мне нужно наверх. Я начал подниматься, чувствуя, как вскипает кровь. Сердце забилось учащённо, щёки загорелись. Я вдруг понял, что задыхаюсь, и яростно сорвал с себя пиджак. К чёрту. Меня теперь не остановить. Пиджак остался лежать на ступеньках, пялясь на меня блестящими пуговицами.
Над дверью на крышу была надпись «ВЫХОД». Обычно она не работала, но сейчас я увидел, что за табличкой горит красная лампочка, освещая буквы багровым сиянием. Стало быть, починили. Но раз сменили лампочку, то, может, и замок тоже…
Почувствовав прилив паники, я бросился вперёд. Неужели мой план сорвётся таким позорным образом?
Дверь скрипнула и подалась назад. Открыто.
Я перевёл дух, стоя у проёма. Всего несколько минут… Я спросил себя, чувствую ли я страх. Сложно было понять — голова так и разрывалась от наполняющих образов, мыслей, чувств. Я пришёл к мысли, что страха нет среди этого варева. Я смогу сделать этот последний шаг. В конце концов, я не первый и наверняка не последний, кто сбрасывается с этой крыши.
Друзья рассказали, что это было пять лет назад. Парень из института математики прыгнул с крыши здания, размазавшись в лепёшку. Я специально разыскал его фото в газетных подшивках тех лет. Обычный такой парень, таких вы встретите вагон и маленькую тележку, прогуливаясь по улице. Учился на тройку, посещал по субботам баскетбольную секцию. Зачем ему понадобилось прыгать с крыши, так никто и не узнал. Даже родственники — они клялись, что в жизни у него всё было хорошо.
Впрочем, поговаривали, что даже этот парень не был первенцем в этом деле…
С тех пор выход на крышу был закрыт. Но годы прошли, и все потихоньку забыли об этом случае. И сегодня я, прямой последователь героя пятилетней давности, беспрепятственно прошёл на крышу университета.
Поздняя весна, или раннее лето — кому как захочется. Во всяком случае, солнце уже припекало по-летнему. Я прищурился, оглядывая небо. Облака выглядят совсем иначе, чем из-за оконного стекла. Такие близкие и настоящие — только протяни руку, и можешь коснуться их края. Я опустил взор на пустую серую поверхность крыши. Пыль вилась под ногами при каждом шаге.
Как во сне, я подошёл к самому краю и заглянул за барьер. Вдоль улицы ползали машины, будто разноцветные жуки. Я прикинул, куда могу попасть после прыжка. Главное — не нанизаться на фонарный столб, это будет больно и некрасиво. И не ушибить прохожих, которые гуляют вдоль стен.
Я сделал пятнадцать шагов вправо. Теперь подо мной был пустой участок тротуара. Сюда люди ступали редко. Идеальный вариант.
Я пощупал свои щёки, губы, шею, словно желая убедиться, что всё происходит в действительности. Мысли стали текучими и плавными, отлитыми из олова. Вроде бы я думал обо всём сразу, но в то же время не думал ни о чём. Это было хорошо. Нужно ловить момент, иначе могу испугаться и отступить.
Я начал подниматься на барьер. Ноги слушались плохо, а в довершение всего брюки зацепились за выступ на цементе. Недолго думая, я рванул их вверх. Ждал, что ткань разойдётся, но из брюк всего лишь гневно выскочила тоненькая чёрная ниточка.
Солнце светило так ярко, что заливало всё вокруг, делая меня практически слепым. Было чуть ветрено — я чувствовал, как волосы лениво шевелятся под порывами воздуха. Медленно-медленно, как восьмидесятилетний старик, я выпрямился и почему-то вскинул руки вверх. Перехватило дыхание, и меня начало тошнить, но страха по-прежнему не было.
«Вниз с самого верха», — подумал я. Господи, в этом выражении был высший смысл жизни.
«Сегодня в 12.30 студент третьего курса юридического факультета Сергей К. сбросился с крыши восьмиэтажного здания городского университета. Он скончался мгновенно, и прибывшая на место бригада медицинских работников не смогла ничем помочь. Однокурсники сообщили, что за несколько минут до суицида Сергей сдал последний экзамен на отлично, и его поведение ничем не отличалось от обычного…»
… и тут я почувствовал, что я на барьере не один. Рядом со мной стоял…
Я повернул голову влево так резко, что шея отозвалась болью. Солнце по-прежнему запорашивало глаза, но с такого близкого расстояния не увидеть что-либо было мудрено. Справа, в пяти шагах, стоял человек.
Целую вечность я смотрел на него, в то время как мир вокруг застыл и потемнел. Человек не смотрел на меня — он глядел вниз, на землю. Я видел, как ветер приподнял полу его джинсовой куртки. Куртка так и застыла под неестественным углом. На ногах брюки, чуть великоватые для него, тоже джинсовые. Простые коричневые ботинки… Совсем молодой парень.
Мой взгляд поднялся до его лица, и я окончательно потерял дар речи. Я знал его. Именно его черно-белое фото я видел в прошивках пятилетней давности.
Словно почуяв мою догадку, призрак повернул голову в мою сторону. Мир, до этого стоявший как вкопанный, пришёл в движение — медленное и тягучее, но вполне ощутимое. Я почувствовал, как ноги у меня становятся ватными, и я вот-вот провалюсь вниз, в бездну.
Он посмотрел на меня, и вместо его лица был не череп, не сгнившая плоть, покрытая червями, а обычное худощавое лицо с глубоко впавшими чёрными глазами. Он посмотрел на меня, и я закричал. Может быть, этот визг был только в моей голове…
Снова обратив взор вниз, он сделал шаг вперёд. Тело стремительно полетело туда, где был разгорячённый на солнце асфальт, но так его и не достигло; оно пропало, растворилось в воздухе где-то на уровне пятого или четвёртого этажа. Я увидел, как очертания призрака стали зыбкими и прозрачными, потом он исчез. Мир вздрогнул, возвращаясь в обычный темп. На меня обрушился грохот проезжающих внизу машин. По небу полз реактивный самолёт, оставляя за собой белесый хвост, и далёкие отзвуки его мотора подействовали на меня, как хорошая оплеуха. Я сделал шаг назад и свалился с барьера. Вниз с самого верха. Полёт продолжался не более секунды — потом я больно ударился лопатками о поверхность крыши. Небо наклонилось надо мной, искрясь невинной синевой. Красиво, подумал я. Как красиво…
С тем и потерял сознание.
Я спустился вниз по лестнице. Меня шатало. Шатало основательно. Я мечтал добраться до кровати и завалиться спать. Но перед этим… одно дело.
«Надеюсь, они не заметят грязь на пиджаке, — думал я. — Нужно было хоть немного почистить…».
— Ого, вернулся, Одиссей, — поприветствовала меня Лена. Я увидел, что она больше не смотрит на свои записи. Неужели уже сдала и вышла? Судя по сияющему лицу, так оно и есть. — Что так долго-то? Весь запас газировки опустошил?
— Верхний киоск закрыт, — я едва узнал свой голос. — Просто посидел там… отдохнул.
— Вид у тебя не сильно отдохнувший, — Лена взялась за свою сумочку. Она собиралась уйти. — Ночью не спал?
— Да, — я прислонился к стене, почувствовав, что вот-вот упаду. — Да. Мне нужно отдохнуть.
Она кивнула:
— Ладно, а я домой. Поздравь меня с четвёркой, — она пошевелила пальчиками в сторону девушек. — Ещё встретимся.
— Лена? — выдавил я.
— Что?
— Слушай… Ты знаешь о том парне, который сбросился с крыши пять лет назад?
Все разговоры девчонок вдруг стихли, и на меня обратились десятки пар настороженных глаз. В том числе глаза Лены. По её лицу я увидел, что она знает.
— Зачем тебе это?
— Просто интересно, — я старался улыбнуться. — А это правда, что до него был ещё кто-то? Я слышал…
— Да фигня всё это, — она пожала плечами. Я умоляюще поднял руку:
— Лена, мне правда нужно знать. Кто был до него?
На этот раз в её голосе звучала злость:
— Была. Девушка. С медфака. Доволен?
— Такая, рыжая?
Опять молчание. За моей спиной хлопнула дверь — кто-то вышел из экзамена. Никто не бросился спрашивать у него, как он сдал. Я ждал ответа.
— Ну ты и урод, Сергей, — хмуро сказала Лена. — Кто тебе сказал?.. Даже если так, обязательно нужно было мне допрос устраивать? Да, я знала её. Да, рыжая. Окончила нашу школу, когда я перешла в шестой класс. Была старостой школы. Что тебе с того?
— Ничего, — сказал я и понял, что мне нужно отсюда поскорее убраться. — Извини, Лена. Ты права. Пойду, посплю.
И удалился под шушуканье девушек. На лифт я даже не посмотрел. Что, если я снова увижу внутри кабины рыжеволосую девушку, которая будет стоять в углу лифта и шептать мне: «Не делай этого»? Или парня в джинсовом костюме, который будет буравить меня своими бездонными глазами, в которых затаилась боль — невыразимая, бесконечная?..
Они спасли меня. Отговорили от ошибки, которую сделали сами, приговорив себя к вечному заключению в сводах старого университета. Но у меня не было гарантий, что они не передумают — и не решат взять меня к себе, чтобы я тоже испытал то, что чувствуют они. Я больше не мог смотреть на гладкую металлическую дверцу лифта. Не мог…
Я шёл по лестнице. Половину пути преодолел нарочито спокойно, засунув руки в карманы, потом сорвался и побежал. Охранники у входа проводили меня удивлёнными взглядами.
В первый день новой жизни я проснулся рано. Когда открыл глаза, спальня была ещё погружена в серый предрассветный полумрак. Я потянулся на постели и бросил безразличный взгляд на хитросплетение зелёных линий на обоях. Глупое занятие. Как я только мог видеть в нём смысл?
«Хорошо, что я не провалил экзамен», — подумал я и начал вставать. День обещал быть длинным и жарким, и мне предстояло многое сделать.
2006 г.
Терма
Терма означает смерть.
От востока и до севера, от юга и до далёкого запада, где на горизонте сереют очертания города, полыхают пески. Жёлтый цвет, цвет лихорадки и покойника, режет глаза. А если взглянуть на небо, дабы хоть на мгновение отдохнуть от этого ядовитого цвета, то увидишь солнце, пылающее посреди чистейшей синевы — та же жареная желтизна, щедро разлитая чьей-то рукой, не знающей пощады. Пощады нет и не может быть, ведь эта пустыня наречена Термой, что означает «смерть» и не обещает ничего хорошего смельчакам, которые настолько самонадеянны, что думают, будто могут её пересечь.
А вот и сегодняшний смельчак. Под знойными лучами проведён всего день, но ноги уже едва движутся, опалённые горячими песками, которые норовят уйти из-под подошв, разверзнуться ртом-бездной. Кожа, бывшая белой и гладкой, обрела желтоватый оттенок, перенимая цвет окружающей пустоты. Шаги, бывшие уверенными и смелыми, теперь даются с трудом. Драгоценная вода невидимыми потоками уходит из организма вместе с каплями пота и дыханием. И её не остановишь, не попросишь задержаться на минуту: вода уходит, а в песчаных дюнах всё яснее вырисовывается торжествующий оскал Термы.
Посмотрите на неё, нашего смельчака, пока она сидит на песке и отдыхает, делая осторожные глотки из прозрачной бутыли, в которой плещется тёплая вода. Это женщина лет тридцати, с густыми и длинными чёрными волосами, высокая и статная, но измотанная. Одета налегке, как и подобает в пустыне: тонкое голубоватое платье, на ногах — деревянные босоножки. Одна посреди раскалённых песков; за десятки миль, кроме неё, никого нет, даже животных и растений. Терма — край победившей смерти, единоличная вотчина песчаных крупинок.
Женщина не задерживается на месте привала. В условиях недостатка пищи и воды каждая секунда бездействия — пустая растрата сил. Поэтому она тяжело встаёт и снова начинает идти на восток. Солнце шаловливо скользит за её спину, выжигает голубую краску из ткани платья. Тень на песке неуловимо удлиняется, прыгая перед своей хозяйкой. Но женщина не обращает на тень внимания — взгляд чёрных глаз устремлён за горизонт, где, если включить воображение, за тысячи и тысячи миль можно угадать какую-то синеву. Может быть, это горы. Может, океан. А может, лес. Никто не знает и никогда не знал. Если она доберётся до этой таинственной синевы, то станет первой. Но шансы ничтожно малы. Терма это знает, поэтому не перестаёт ухмыляться, показывая ей свои зубы — в рисунках дюн, в перистых облаках на вышине, в молчании, которое накрыло землю.
Ева — так зовут женщину — не пытается гадать. Для неё в этой жизни существует только очередной шаг по песку, который, хоть и на малую толику, отдаляет её от города, который изгнал её в убивающую пустыню, и приближает к тому, что находится на другой стороне. Всё остальное слишком страшно, чтобы думать над этим. Лучше отдаться ритму шагов — очень медленно, но идти… идти… распарывать жёлтую ткань, двигаться к тончайшей линии, где она соприкасается с небесной бирюзой.
Сумасшедшая?
Самонадеянная?
И то, и другое! Как можно рассчитывать на то, что ей удастся сломить сопротивление этого края? Терма в одночасье высасывала соки из более маститых честолюбцев, которые старались её покорить — на конях ли, пешком ли, в одиночку ли, стаей ли. Выпив всю влагу, она принималась за их плоть, превращая лица в скелеты, а скелеты — в песочную пыль, белеющую под ветрами. Наверное, даже буйные ураганы выдохлись бы, добираясь до края песков.
Терма диктует правила. Захочет — напустит песчаную бурю, захочет — нашлёт смертельную болезнь, захочет — вызовет землетрясение и погребёт под тысячами тонн жёлтых частиц. Но обычно до этого не доходит. Солнце и изнурительная жара любят своё дело и вовсю прислуживают пескам.
Ева этого не знает. Честно говоря, не пожелала бы узнать, даже если кто-то вознамерился ей рассказать. Она делает шаг за шагом и к закату дня падает оземь, чтобы уснуть. Несколько глотков воды из тающих запасов, потом она уходит в беспамятство, не видя звёзд, которые одна за другой зажигаются над пустой землёй.
«Видишь?» — шепчет Регул.
«Вижу», — отвечает Денеб.
«Кто это?» — недоумевает Регул, подмигивая голубоватым огнём.
«Не знаю», — говорит Денеб, делая на небе неспешный круг.
«Она умерла», — утверждает Вега.
«Да нет, жива», — возражает Регул.
«Сколько продержится?».
«Завтра мы застанем её бездыханной».
«Это точно. У неё и воды-то почти не осталось».
«Бедняжка», — вздыхает Мира, но на голос молодой звезды никто из светил внимания не обращает.
Звёзды шепчутся, их шёпот теряется в просторах космоса. Наконец, солнце опять выглядывает из-за горизонта, окрашивая восток алым заревом. Песок, успевший охладиться за недолгую ночь, опять жадно впитывает жару. Терма потягивается после приятного сна. Знаком этого является обвал нескольких песчаных дюн вроде бы ни из-за чего.
Терма означает смерть.
Эти слова приходят в её разум, как только она открывает глаза. Отчаяние цепляется в неё кошачьими коготками, но Ева сонно стряхивает наваждение и протирает глаза. Веки сухие, глазные яблоки сморщились. Она встаёт на ноги и, покачиваясь, оборачивается назад, на запад, откуда пришла. Серое облако города почти не видно — так, крохотная туманная шапочка, накрывающая горизонт.
— Эдем, — шепчут потрескавшиеся губы, но она не осознаёт этого. Мысленно она опять в городе, который отторг её. Сказочный Эдем, город счастья и удовольствий, цельная система наслаждений, которая готова любовно прижать к своему лону всех, кроме тех, кого она не хочет видеть. Тех, кто отказывается жить по её правилам и кого она боится.
Вот и Ева попалась под эту молотилку. Конец сказки — болезненный и ошеломляющий процесс. Не успеваешь опомниться, как все достижения обращаются в пыль, привычные вещи теряют значение, и ты ловишь себя на том, что летишь вниз на негостеприимный песок, а за спиной навечно захлопываются под всеобщий хохот и улюлюканье врата города, который кормил тебя и лелеял с детских лет. Был Эдем, стала Терма.
И кто в этом виноват?
Должно быть, она сама.
Ева снова пьёт (оставшейся воды хватит на день, и то при строгой экономии), откусывает кусок хлеба и отправляется в дальнейший путь. Но «путь» — это сильно сказано. Во всяком пути есть начальная точка и конечная цель. А у неё — ничего. Дорога тянется в бесконечность, она не оторочена ничем, кроме песков.
А солнце уже в зените и отчаянно старается покончить с невольной странницей как можно скорее на радость Терме. Поток фотонов летит со скоростью света и обрушивается на её затылок. Радиация настолько мощна, что верхние слои атмосферы не успевают затормозить бомбардирующие планету частицы. Ева рассеянно поправляет ломкие волосы и делает шаг… два…
К полудню Эдем исчезает совсем. Теперь все стороны света равноправны. Куда ни глянь — песок до конца и края. А если кое-кому кажется, что на востоке мерцает спасительная голубизна, то мы не станем её в этом разубеждать. Каждый имеет право на галлюцинации.
Во время дневного привала, Ева, наконец, срывается. Вместо того, чтобы сделать аккуратный глоток из бутыли и завинтить крышку, она опрокидывает её вверх дном и пьёт, пьёт. Вода весело журчит, утекая в иссушённое горло. Маленькое счастье длится, пока течёт вода, и через прозрачное дно бутыли не проглядывает небо — голубое, как озеро, как река, но не дарящее ни капли влаги.
Ева приходит в себя. Она не отшвыривает бутыль и не кричит; лишь понуро поднимается и идёт дальше. Хотя теперь даже душевнобольной должно быть ясно, что игра окончена. На половине буханки хлеба не проживёшь. Теперь у неё только тот запас воды, который циркулирует в организме, течёт по венам и капиллярам. А уж Терма-то позаботится, чтобы поскорее выкурить из женщины всю жидкость. Где-то впереди она с помощью податливых вихрей радостно роет могилу, в которой упокоится та, кто бросила ей вызов, пусть и не по своему желанию.
Терма торжествует. Солнце опускается за горизонт, расплываясь в улыбке, и кроваво-красный закат — пламя его веселья.
Женщина уже и правда на пределе. Она просто валится на песок, не помогая себе руками, и смыкает веки, которые словно вырезаны из жёлтой бумаги. Платье потеряло свой первоначальный цвет. Икры и лодыжки ужасающе сдулись.
Регул вскакивает на ночное небо первым, как самый любопытный.
«Эгей! — кричит он удивлённо. — Вот сюрприз так сюрприз! Она жива!».
«Да», — удивлённо соглашается Альтаир.
Альдебаран выразительно хмыкает. Минуту-другую светила внимательно смотрят на женщину, спящую в позе эмбриона.
«Ну?» — наконец протягивает Регул.
«Кто за то, что мы завтра застанем её в живых?».
«Невозможно!».
«Фантастика!».
«А может…» — робко начинает Мира, но её перебивают старшие родичи. И вновь звёзды спорят между собой всю ночь. Их голоса разносятся по Вселенной электромагнитными волнами, но некому их понять и расшифровать. Даже Еве. Для неё это извечные перемигивания звёзд, и, приходя в сознание в самый тёмный час ночи, она ничего необычного вокруг себя не замечает. Во всяком случае, поначалу. Высокие дюны, лёгкий ветер, гуляющий по ним, безлунное небо. Но кто-то присутствует возле Евы, находящейся в полудреме. Если звёзды вдруг прекратили свои пересуды и замолкли, то только потому, что напряжённо следят за этим «кем-то», пытаясь угадать его действия. «Кто-то» подползает к женщине, неспешно вьётся вокруг её руки, взбирается на грудь и яростно шипит, высовывая тонкий красный язык. Ева видит его, но думает, что это ей снится. Откуда взяться ещё одному живому существу, кроме неё, в сердцевине пустыни? Но змея кажется вполне реальной. Её глаза-бусинки отражают синее звёздное сияние, когда она приникает к груди женщины, вслушиваясь в слабеющий стук сердца.
«Кто ты?» — спрашивает Ева. Слова вырываются хриплым лепетом, но змея хорошо их понимает.
«Ты меня не узнала?».
«Нет».
Змея трясётся в беззвучном смехе. Узорчатая спина выгибается.
«Конечно, откуда тебе меня знать. Но суть в том, что тебя знаю я. Очень давно. Знаю и ненавижу».
«Почему?» — удивлённо спрашивает женщина.
«Эдем, — отвечает змея, прекратив смеяться, — был воздвигнут для того, чтобы те, кто в нём живёт, получали вечные наслаждения. А ты не хотела предаваться радостям, которые были для тебя уготовлены. Поэтому я добился того, чтобы тебя вышвырнули из города. Если ты сентиментальна, можешь считать, что я убил тебя».
Ева с трудом поднимает руку, но змея с присвистом скользит прочь, убегая от её немощного захвата.
«Ты! — восклицает женщина. — Это был ты…».
Змея сворачивается клубком; только приплюснутая голова возвышается над остальным телом, и поза твари выдаёт невыразимое самодовольство.
«Да, я. Это я сорвал запрещённый плод и сделал так, чтобы все подумали на тебя. Это было нетрудно — хотя бы потому, что ты у всех давно вызывала нелюбовь».
Страшная догадка пронизывает Еву. Остатком сил она принимает сидячее положение и смотрит на врага. Дуэль горящими взглядами продолжается несколько мгновений — потом она очень тихо вопрошает:
«Значит, ты — хозяин Эдема?».
Змея качает головой.
«Многие думают, что да, и мне ни к чему развеивать их заблуждение. Но перед тобой мне нечего скрывать, потому что ты скоро станешь частью Термы, а она умеет хранить самые тёмные тайны. Нет, я не тот, кто воздвиг Эдем. Но какая тебе разница? Он всё равно не вмешался, когда тебя вытолкнули взашей за стены города».
Ева опять ложится на песок и смотрит на звёзды. Светила подмигивают ей. Особенно часто мерцает голубоватая звезда на востоке. Звезда носит имя Регул, но Ева, конечно, не знает об этом. Она чувствует облегчение оттого, что Эдемом владеет не существо, которое сейчас рядом с ним, хотя причину этого облегчения она вряд ли может назвать. В одном змея права: Эдем для неё ничего больше не значит, и ей вроде бы не должно быть разницы, как там обстоят дела.
«Приятного знакомства с Термой», — шипит змея и удаляется. Женщина не успевает заметить, куда она уходит. Может, уползла под пески, может, взяла и растворилась в воздухе. Как бы то ни было, змеи больше нет, да и была ли она вообще?.. Ева закрывает глаза и погружается в глубокий сон без видений, который больше напоминает смерть.
Терма означает смерть.
В который раз солнце поднимается над линией песков. Этот день по всем признакам должен стать последним, и звёзды, прежде чем затеряться в рассвете, тоскливо прощаются с Евой. Она вздрагивает и просыпается. Ей чудится, что она слышала голоса, которые говорили о ней — голоса откуда-то свыше, из небесного бездна. Повиснув в секундной тиши, галлюцинация исчезает.
Час, два, три часа идёт женщина на восток навстречу восходящему солнцу. Жара набирает обороты. На дюнах перекатываются песчинки. Тело сушится до последней ниточки, становится ломким, как кусок сухарей. Ткань платья с хрустом рвётся при каждом движении. И с приходом полудня наступает развязка: Ева спотыкается и падает — сначала на колени, потом на живот. Падает нехотя, и какое-то время кажется, что она сейчас встанет и продолжит путь.
Полдень. Тишина. Ничего не происходит, ничто не меняется. Горячий ветер по-прежнему играет песчинками и начинает шутя заметать скорчившееся тело. В Эдеме играет музыка, цветут сказочные растения, льются вина. Там находится всё то, что чуждо Терме.
Но что это? Женщина смутно ощущает, как на её губы льётся вода. Настоящая вода, хоть и тёплая, но живительная. Сначала она только ворочает языком, затем начинает спешно глотать напиток, кашляя и втягивая носом воздух. Сердце бьётся сильнее. Пульс восстанавливается. Кровь опять циркулирует в жилах, пусть донельзя густая.
— Ева, — говорит кто-то. Она открывает глаза. Человек сидит на корточках рядом с ней и осторожно поглаживает её руку. У него чёрные волосы и серые глаза. Впрочем, цвет волос начал выгорать на солнце. Мужчина выглядит не лучше её самой, но, по крайней мере, способен передвигаться. И у него есть вода.
— Кто ты? — спрашивает Ева.
— Я шёл следом за тобой, — мужчина почему-то говорит смущённо. — Меня изгнали сразу после тебя, тем же вечером, потому что я говорил, что мы поступили неправильно. К тому же кто-то донёс им, будто я знал, что ты сорвала яблоко, и скрыл это… Успел только захватить с собой пару фляг воды и пошёл на восток — туда же, куда и ты.
— Как ты меня нашёл?
— Не знаю, — отвечает он. — Наверное, просто мы оба шли строго на восток, не отклоняясь от направления. Такое возможно?
— Вряд ли, — она устало закрывает глаза. — Спать хочется…
— Нет, нельзя, — заявляет мужчина, легонько встряхивая её за плечи. — Нужно продолжать идти.
— Но куда? Эта пустыня нескончаема…
Мужчина проводит рукой по волосам.
— Знаешь, — говорит он, — когда я оказался в Терме, то едва не впал в отчаяние. Хотелось сесть на месте и умереть. Дождаться, когда пески обступят меня со всех сторон — слева, справа, снизу, сверху. Но потом я уразумел, что тебя нет поблизости. Значит, ты поступила иначе. Ты ушла. Ты ушла вперёд, и я подумал: возможно, ты знаешь что-то, чего не знаю я. Может, ты в курсе, что пустыня не так протяжённа, как кажется, или знаешь способ противостоять жаре и жажде. Потому я пошёл за тобой. Уверенность, что ты осведомлена больше, чем я, сохранялась где-то день, но в следующий вечер я понял, что это не так. Ты же ничего не знаешь, верно?
— Да, — горько отвечает Ева.
— Но я продолжал идти.
— Ты делал это, чтобы догнать меня и убедиться в своих предположениях.
— Нет. Я шёл просто потому, что знал — ты тоже идёшь. И если сейчас ты не сможешь подняться, значит, здесь останемся мы оба.
— Как тебя зовут? — внезапно спрашивает она; туман уползает из её глаз, возвращая им ясность. Женщина ждёт ответа с трепетом, будто от этого зависит всё дальнейшее. Мужчина продлевает охватившее её напряжение, растерянно оглядывая себя, будто видит в первый раз. Наконец, он отвечает, но очень неуверенно, как человек, который только что осознал важнейшую вещь:
— Адам.
— Адам, — повторяет она за ним.
Она улыбается, и он отвечает ей. Их улыбки прекрасны, хотя могли бы показаться жуткими на измождённых скелетообразных лицах.
— Сколько у тебя ещё осталось воды?
— Три четверти фляги, — виновато говорит Адам и встряхивает сосуд. Плеск жидкости сводит с ума, пробуждая в голове яркий образ свежего искрящегося озера. Оба оглядывают пустыню, которая их окружает, словно надеясь где-то там увидеть проблеск синей глади. Но в Терме нет миражей. Мёртвая земля не терпит даже иллюзию жизни.
Ева с помощью Адама поднимается. Деревянные босоножки за эти дни обрели чудовищный вес, но снимать их нельзя, чтобы уберечь ступни от прикосновения с горячим песком.
— Этого хватит нам на день, — задумчиво говорит Ева.
— На день, — кивает её спутник.
— На целый день!
— На целый день.
Больше они не обмениваются словами, ибо силы дороги: если хочешь пройти как можно дальше, то нет резона оставаться на месте и затевать бессмысленные препоны. Два человека сходят с места и медленно идут на восток, поддерживая друг друга, время от времени прикладываясь к фляге. Пустыня по имени Терма следит за упрямцами в глубочайшем потрясении, и в ней повисает жуткая тишина, владычица всего безмолвия, что может быть в этом мире: ничем не заполненная брешь в непрерывном хороводе звуков планеты. Ветер замирает на месте; химические процессы, которых здесь кот наплакал, перестают протекать. Атомы, электроны, кварки зависают на своих орбитах, энтропия падает до нулевой отметки, и только два хриплых дыхания — мужское и женское, — дают знать, что мир ещё жив.
И Терма взрывается яростью. Пески колыхаются, невидимая могучая сила выбрасывает их наверх, ветер визжит пилой, превращаясь в ураган. Раскалённый воздух подхватывает песчинки и крутит их в смертоносном ритме. Миллионы крошечных лезвий, готовых впиться в живую плоть, танцуют, двигаясь по кругу, распаляясь от собственной мощи. Песчаная буря встаёт чёрными столбами, закрывая небо. Поперхнувшееся солнце еле мелькает в промежи. Терма кричит, как раненое существо — её самолюбию нанесён непоправимый удар. Но она не собирается оставить неслыханную наглость безнаказанной, и делает ответный удар, нагоняя самую мощную бурю в своей истории на двух людей, которые ещё не знают, что к ним рвётся ярость Термы. Далеко-далеко можно увидеть серую проплешину, которая понемногу растёт ввысь и идёт вширь. Адам и Ева не видят эту угрозу; они всецело поглощены шагами по песку, и лишь когда буря подбирается к ним вплотную, разметая пыль, они поднимают взгляды навстречу тому, что можно назвать истинным лицом Термы: исполинская жёлто-чёрно-серо-красная воронка, на которой угадываются искажённые от злости человеческие черты. Миг — и воронка накрывает людей, скрывает от посторонних глаз, делает невидимыми. Пустыня ревёт в бешеном восторге, расшвыривая пески, извлекая из своих недр не увиденные никем сокровища — золото, серебро, алмазы, изумруды, рубины, красные как кровь, — и подбрасывает их на небо в знак своей победы.
Терма означает смерть.
До самого вечера длится этот неугомонный пляс. Когда солнце садится и на небосводе вспыхивают звёзды, они с разочарованием видят плотный занавес пыли, накрывший пустыню. Не увидеть, не разобрать в этом мельтешении маленькие человеческие фигуры, дабы узнать — живы ли? или умерли? продолжают ли брести, или сидят, накрыв головы обрывками одежд, или лежат под песками, задохнувшиеся, изрезанные песчинками-лезвиями?
«Она мертва, — холодно констатирует Альдебаран. — Никто не может пережить столь страшную бурю. Не припомню, чтобы Терма так гневалась».
«Может быть, они нашли укрытие», — Мира не соглашается с категоричностью старшего собрата.
«Они?» — удивлённый хор.
«Вы разве не видели мужчину, который всё это время шёл следом за ней?»
«Нет, — Регул досадливо вспыхивает. — Мы следили за женщиной. Почему ты не сказала нам? Наблюдать за двумя интереснее, чем за одной.»
Молодая звезда Мира не отвечает. Игнорируя всеобщее осуждение, она вглядывается в ночную пустыню, по которой бродит выдыхающаяся буря.
Вместе с первыми удалёнными проблесками солнечного света ярости Термы приходит конец. Вихри рассыпаются на отдельные частички, все извлечённые сокровища вновь находят надёжное укрытие глубоко под землёй. Большинство звёзд тонут в бледнеющем небе до того, как это происходит — лишь несколько светил, отчаянно желающих узнать, чем эта игра кончилась, продолжают сиять. Среди них Мира, которая не теряет надежды на чудо, скептический Альдебаран и Регул, которому безразличен исход, главное — интрига. Пустыня светлеет, очищается, но ещё рано… ещё чуть-чуть рано увидеть то, что на ней происходит.
«Невозможно», — ворчит Альдебаран, чтобы скоротать томительное ожидание.
«Такого азарта я не испытывал многие тысячи лет», — смеётся Регул.
А Мира, как и прежде, молчит.
И в последнее мгновение рассвета три звезды смотрят сверху вниз на Терму, дремлющую после буйства, которому предавалась всю долгую ночь.
2007 г.
Штемпель
Дорогой друг!
Пишет тебе твой давний приятель. Надеюсь, ты меня ещё помнишь? Не забыл лихие мальчишечьи годы, когда мы вместе творили пакости? Я уверен, что те солнечные дни не стёрлись из твоей памяти — у меня воспоминания как-то сохранились, а твоя голова варила гораздо лучше моей. Как подумаю, сколько лет минуло с той поры, становится прямо-таки страшно. Нам нужно встретиться, дружище — посидеть за столиком в хорошей пивной, погрустить по ушедшей молодости.
Но ты, конечно, не ждал моего письма. И ты удивишься, что заставило меня написать тебе письмо именно сейчас, не раньше и не позже. Что ж, у нас между собой раньше не было никаких тайн, пусть не будет и сейчас. Я расскажу тебе правду, как есть, не пытаясь витийствовать.
Дело в том, что мне на днях приснился сон. Да, всего лишь сон — но очень яркий и выразительный. Ты, должно быть, помнишь, что мне сны вообще снились редко. Наступающая старость не изменила расклад: они для меня до сих пор являются большим событием. Тем более тревожно мне стало, когда я увидел этот сон. Прямо скажу, приятного в нём мало, и я никому о нём не рассказывал. Не хочется писать о нём и сейчас, но я должен описать то, что чувствовал, чтобы ты мог понять мотивы, побудившие меня срочно выяснить твой нынешний адрес и взяться за перо.
Мне снилось, что я — это ты. Во снах такое бывает. Мне снилось, что у меня (или у тебя, тут как смотреть) есть черноволосая жена немного младше меня самого и две прекрасные дочери — одна совсем взрослая, другая только начала ходить в школу. Во сне я очень любил их.
Затем мне снилось, что я (или ты) сильно заболел. Меня поместили в больницу. Я лежал под капельницей, и всё вокруг было расплывчатым. Конечно, во сне окружение обычно бывает не очень чётким, но в тот раз всё было даже как-то более размазанным, чем в других снах. Я чувствовал, как приходит и уходит медсестра, как она ставит уколы и меняет судно. Меня навещали жена и дочери, приносили еду и книги, чтобы я не скучал. Я обещал им, что скоро поправлюсь.
А дальше произошло самое неприятное. Друг мой, когда ты будешь это читать, не воспринимай всё излишне близко к сердцу: в конце концов, это всего-то ночной кошмар старого человека. В общем, мне показалось, что настала ночь, и все огни в палате погасли. Я лежал на койке и спал (спал во сне, представь себе!). Потом раздался звон стекла. Я открыл глаза и увидел, что окно разбито, и в проём с улицы лезет человек. Поначалу я не испугался, но потом он выпрямился, и в свете уличного фонаря я увидел, что у него нет головы. Шея торчала над плечами, но над ней ничего не было. Тут мне стало очень страшно. Я начал кричать. Опять же, как это бывает во снах, крик не выходил из груди. Человек без головы медленно подошёл ко мне, наклонился над койкой, а я не был в силах даже пошевелить пальцами. Несмотря на полумрак, я увидел, как из обрубка шеи у него торчат вены и артерии, но кровь из них не шла. Он положил свою холодную, как лёд, руку мне на лоб, и этот холод проник в моё тело, замораживая его и делая неподвижным. Потом он ушёл — не в окно, а через дверь, а я так и остался лежать, не в состоянии шевельнуться или сделать вдох. Время шло, а странный паралич не проходил. Уже настало утро, пришла моя медсестра. Сначала она обратила внимание на разбитое окно, потом обнаружила, что я не дышу, и вызвала врача. Врач поставил мне какие-то уколы, делал массаж сердца, после чего сказал, что уже поздно, и меня повезли в морг.
Друг мой! Я и так написал больше, чем следовало, поэтому не буду расписывать дальнейшие мерзкие подробности ночного видения. Говоря кратко, в продолжение сна мне казалось, что я (или ты) лежу в холодильнике морга, мне делают вскрытие, и, наконец, везут домой. Там я пролежал ещё пару дней, слышал тихий плач своих родных, после чего меня положили в гроб, принесли цветы, организовали похороны и повезли — да, да, именно так — на кладбище. У меня по-прежнему не было возможности дать им знать, что я жив. Они закрыли крышку гроба, опустили в могилу, закидали землёй — и тут, наконец, ко мне вернулись силы! Я стал неистово царапать ногтями крышку гроба, кричать, но вокруг была только холодная темень: все ушли, закопав меня! Воздух в тесном гробу стал заканчиваться… Я пришёл в неописуемый ужас, и вполне мог бы сойти с ума, если бы в самый пронзительный миг своего кошмара не проснулся, обливаясь потом. Больше я в эту ночь спать не мог — думал о тебе, о том, где ты сейчас, всё ли с тобой в порядке. Сколько я ни убеждал себя, что это бред, полёт больной фантазии, уверенности в этом у меня не было — ни в ту страшную ночь, ни позже при свете дня. Меня не покидало ощущение, будто пережитое есть нечто большее, чем сон. Слишком острым был испытанный мной ужас, слишком яркими были ощущения.
Вот почему, мой добрый друг, я выяснил твой адрес, хотя это и стоило мне изрядных усилий, и написал тебе. С рациональностью и чувством юмора у тебя с молодости было всё в порядке. Поэтому, если у тебя всё хорошо, ты поймёшь меня и не станешь питать какую-либо неприязнь. И письмо будет отличным поводом снова выйти на связь друг с другом. Как получишь его, пожалуйста, тотчас черкни мне ответ — любой, сколь угодно короткий, чтобы успокоить глупого суеверного старика.
С нетерпением жду ответного послания.
Крепкого тебе здоровья и долгих лет жизни.
Твой N.Вернуть отправителю. Причина: Смерть адресата.
2009 г.
Пробуждение
Шум и грохот остались за стенами. В тесной комнате был слышен только неживой тихий гул. В темноте блестели красные зрачки ламп. Человек, лежащий на металлической койке, сомкнул веки, чтобы не видеть их ехидное перемигивание.
Молоток поднимается и опускается; чёрное железо сверкает на солнце. С каждым ударом серебристая шляпка гвоздя всё ближе к доске. Наконец, он последним ударом вгоняет гвоздь в доску и вынимает из банки следующий.
Он успевает забить его только наполовину. Его окликают сзади:
— Дорогой?
Он оборачивается, немного нервно. Но толика раздражения сходит на нет, едва он видит её, грациозно облокотившуюся о забор-палисадник. Он улыбается ей и опускает руку с молотком.
— Время обедать, — говорит она, и вдруг он осознаёт, что зверски голоден.
— Дети вернулись из школы? — спрашивает он.
— Пока нет. У них сегодня много уроков. Разве они тебе не говорили?
— Нет, — отвечает он. Он даже рад, что обед пройдёт без детей, в тесной компании мужа и жены. Говорят, брак разрушает всякую любовь: но он полагает, что их чета — живое тому опровержение. Июльское солнце палит нещадно, и он оборачивается на недостроенную беседку. После обеда он вернётся и закончит дело. А пока рубанок, молоток и банка с гвоздями остаются лежать на жёлтых деревянных досках…
Он идёт к ней, и она видит его намерения, улыбается и вскидывает тонкие руки. Он обнимает её; через забор это делать неудобно, но всё же есть в этом какая-то пикантность. Они целуются без слов, чувствуя вкус губ друг друга. Он понимает, что по-настоящему счастлив, глядя с такой близости в её зелёные глаза, в глубину её живых зрачков.
Счастлив.
А потом всё пропадает. Просто пропадает — без скрипа и визга. Он открывает глаза и видит красные огни, мигающие в темноте.
Человек лежал в прострации меньше секунды. В первый раз это длилось дольше, и разочарование разрывало грудь. Но привыкнуть можно ко всему, даже к такому страшному пробуждению. Он хладнокровно прогнал из груди щемящие останки чувств и встал с койки, отрывая клеммы с тела. У него не было жены. И беседки на заднем дворике он не строил. Дети не могли задержаться в школе — их у него никогда не было. Была только умная машина, рождающая сладкие грёзы и подмигивающая с явной издевкой. Призванная создать краткое фальшивое счастье в тяжёлое время, когда его — счастья — им всем не хватало…
Человек открыл дверь и вышел навстречу звукам канонады. На его место тут же зашёл другой. Комната никогда не пустовала.
2006 г.
Они идут
Дуглас Рейли проснулся в середине ночи из-за того, что кто-то настойчиво теребил край его подушки. Он пытался отмахнуться и сопеть носом дальше, но тот не прекращал попыток достучаться до него. В конце концов, Дугласу пришлось открыть глаза. На руке, держащей край подушки, поблескивало золотое кольцо на безымянном пальце. Луна окрашивала золото в серебро.
— Они идут, — сказал женский голос.
— Что? — Дуглас оторвал голову от подушки. Его жена Эмили, в ночной рубашке, с распущенными по плечам волосами, наклонилась над ним. На её лице играла улыбка.
— Они идут, Дуглас.
— Кто идёт? — он не мог оторвать взгляд от этой улыбки.
— Мне нужно идти.
— Что происходит, Эми?
Оставив вопрос без ответа, она выпрямилась и медленными шагами направилась к выходу из спальни — белесый призрак в царстве теней. Дуглас почувствовал, как остатки сна покидают разум: так исчезает роса под палящими лучами солнца. Он привстал на кровати:
— Эми! Ты куда?
Она переступила за порог и закрыла дверь. Дуглас вскочил на ноги и бросился следом. Второпях он болезненно ударился плечом о косяк, громко выругался и выскочил в коридор. Жена спускалась по лестнице. Дуглас догнал её и положил руку на плечо:
— Эми, послушай…
Она с лёгкостью ушла из-под его ладони. Он снова обнял её за плечо, на этот раз обеими руками, и развернул к себе. Дуглас предположил, что жена спит и не отдаёт себе отчёта в том, что делает.
— Идём в спальню, дорогая. Сейчас ночь, никуда идти не надо.
— Ты не понимаешь, — в голосе звучало удивление. — Они идут. Мне нужно идти.
— Эми…
— Отпусти её, — тихо сказали сзади.
Дуглас обернулся, покрываясь холодным потом. За спиной стояли двое — сын и дочь, оба в пижамах, с босыми ногами.
— Дай ей уйти.
— Вот ещё, — Дуглас собрал в кулак всю свою волю. — Лучше помогите отвести вашу мать обратно на кровать. Она не в себе.
— Дай — ей — уйти, — раздельно, по слогам, произнёс сын. У Дугласа никогда не было напряжённых отношений со своими отпрысками, но сейчас у него не возникло ни капли сомнений в том, что сын настроен серьёзно.
— Сделай это, — сказала дочь из-за спины сына. Она вообще не смотрела на него — глаза были устремлены куда-то наверх.
Дуглас опустил руки. Почувствовав свободу, Эмили продолжила спуск. Дочь и сын двинулись следом за ней. Дуглас остался стоять в стороне, прижавшись к лестничным перилам, глубоко и прерывисто дыша. Он не мог поверить в то, что происходит. Осознание реальности пришло, только когда троица уже пересекала холл первого этажа.
— Немедленно вернитесь! — закричал он, перегнувшись через перила. От злости к лицу прилила кровь; щеки начали гореть. — Что всё это означает? Я требую объяснений! Отец я вам или не отец, в конце концов?
Эмили и Келли проигнорировали его слова. Джим поднял спокойный взгляд на него, не замедляя шага. От его слов у Дугласа забегали холодные мурашки по шее:
— Они идут.
Дверь выхода негромко хлопнула.
Улица была полна людей.
Похоже, этой ночью из домов вышли все жители города. Ни одной машины не было на дорогах, не горели светофоры, окна домов зияли чернотой. Толпы людей в ночных рубашках, а то и вообще с голым торсом, лились живым потоком по улицам. Их движения не были случайными — во всём этом столпотворении усматривалась система. Люди шли в одну и ту же сторону, неторопливо и целеустремлённо. Ветер развевал их волосы. Луна иногда заходила за облака, чтобы через минуту выскользнуть снова. Земля попадала то в свет, то в тень.
Дуглас, сам того не желая, шёл вместе с остальными. Он был окончательно сбит с толку. И напуган. Его била крупная дрожь. Это, успокаивал он себя, из-за прохлады. Ведь он тоже был в одной пижаме. Но если остальные, судя по всему, в какой-то мере понимали, что происходит, он был абсолютным нулём. Замечая в толпе знакомые лица, он пытался разговориться то с одним, то с другим, но в ответ получал только одну короткую фразу, будь то его соседи, коллеги по цеху или просто знакомые (в маленьком городке половина жителей знала друг друга в лицо):
— Они идут.
— Кто? — кричал Дуглас. — Кто идёт? Что за чертовщину вы несёте?
На лицах на секунду появлялась мелькающая улыбка, потом затухала и она.
В конце концов, Дуглас тоже смирился с фактом. Он сорвал голос, пытаясь докричаться до шествующих, и был несколько раз сбит с ног, когда пытался остановить знакомых. Во время одного из падений он разодрал колено об асфальт. Кровь шла медленно. Он прихрамывал, накрыв рану рукой, и старался держаться поблизости от своей семьи.
И тут его окликнули:
— Мистер Рейли!
Он повернулся на голос. Один человек выбился из общей струи и бежал к нему. Женщина. Из-за темноты он узнал её, только когда она подбежала ближе. Это была Виктория — продавщица в лавке, где он каждый день покупал сигареты по пути на работу. Её муж был местным почтальоном, но умер год назад в автокатастрофе. Как ему раньше казалось, к её лицу навечно приклеилась дежурная улыбка — но сейчас она была вся в слезах, и её волосы цвета меди были спутаны. Она тоже была только в ночной рубашке.
— Что происходит?! — закричала она, когда между ними осталось несколько футов. — Куда они направляются? Мой Билли… Мистер Рейли, скажите…
— Тс-с, — сказал он; она затихлагромко всхлипнула. — Я знаю не больше вас, Виктория. Моя семья ночью вдруг встала, вышла на улицу и присоединилась к остальным. Мне ничего не остаётся, кроме как следовать за ними. А у вас что?
— У м-меня? — она растерянно огляделась. — Мой малыш Билли… Я его потеряла. Он просто встал и…
Она закрыла лицо руками. Дуглас посмотрел на кровь, которая продолжала идти из его колена, просачиваясь между пальцами.
— Послушайте, — сказал он наконец. — Я думаю, с вашим сыном ничего страшного пока не произошло. Вы же видите — они ничего не делают, просто идут. Билли где-то там, среди них.
— Но где? — Виктория отняла ладони от лица. Веки опухли и покраснели от слёз. Они оба продолжали медленно идти за остальными, увлекаемые общим течением.
— Их тут слишком много, — Дуглас покачал головой. — Искать сейчас бесполезно. Но скоро, — поспешно добавил он, видя, что собеседница готова вновь разрыдаться, — что-нибудь да прояснится. Понятия не имею, что с ними творится, но, куда бы они ни шли, скоро они придут к цели. Тогда можно попробовать отыскать вашего сына. Может быть, люди там очнутся.
Он старался говорить спокойно и рассудительно. Его слова, похоже, возымели эффект — Виктория заметно успокоилась. В глазах появилась искра надежды. Она принялась вытирать слёзы с размокшего лица; тем временем Дуглас огляделся и увидел, что процессия достигает окольных кварталов города. Было похоже на то, что люди шли за черту города. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии.
— Почему так случилось? — Виктория смотрела на него, как на верховного жреца, способного объяснить всё на свете. — Мистер Рейли… Ведь должна же быть какая-то причина…
— Не знаю, — честно ответил он. — Какой-то массовый психоз… словно все спят или находятся под гипнозом. Напоминает плохой сон…
— Они что-нибудь говорили вам? — Виктория понизила голос.
Дуглас зажмурился. Почему-то начала болеть голова.
— «Они идут», — сказал он. Фраза прозвучала, как приговор. Дугласу пришло в голову, что она как нельзя лучше описывает то галлюцинаторное безумие, которое их окружает. Действительно, что они делают? Они идут. Вот и всё. Он провёл рукой по лицу, чтобы убедиться ещё раз в реальности происходящего — эта ночь, люди, потерявшие способность мыслить, слабый запах сирени в летнем воздухе, он сам. Они шли на самом деле.
Виктория что-то спросила ещё, но Дуглас пропустил вопрос мимо ушей. Наверное, она хотела узнать, что означают эти два слова. Он покачал головой в знак того, что больше не желает отвечать на вопросы. Она говорила с минуту, потом умолкла. Луна в который раз зашла за тучу, сделав людей безликими силуэтами в ночной мгле.
Час спустя они пришли на место.
Это была поляна в лесу, спрятавшаяся в полумиле от опушки. Люди пробирались через чащу, не отклоняясь в сторону, не спотыкаясь. Дуглас упал дважды, зацепившись ногой за молодые кусты, Виктория — один раз. Из остальных никто не потерял равновесие. На какое-то время лес наполнился громким хрустом веток. Потом, когда жители города пришли на поляну, звуки прекратились, и вновь стало тихо.
Люди встали на поляне, сомкнув плотное кольцо. Дуглас хотел вклиниться между ними — но ему не нашлось места в странном кольце, он оказался вне его, как Виктория и несколько других людей, которые испуганно озирались, вытесненные из общей массы. Дуглас понял, что они находятся в сознании и тоже пришли следом за родными. Мальчика Билли среди отщепенцев не оказалось. Мать лихорадочно скользила взглядом по толпе, пытаясь увидеть его среди других, но не нашла. Она выкрикнула имя своего сына несколько раз, с каждым разом всё отчаяннее. Безрезультатно.
Дуглас стоял рядом со своей женой и смотрел на её серебрящиеся на луне волосы, растеряв все мысли. По обе стороны от Эмили ждали Джим и Келли. Дыхание людей было ровным и синхронным — казалось, вся поляна вздыхает, как живая. Дуглас провёл языком по нёбу, ощутил горький вкус соли. И закрыл глаза. Он готов был ждать вечно в этом странном умиротворении… лишь бы ничего не произошло. Пусть они простоят так всю ночь. Утром встанет солнце, и кошмар закончится.
Кто-то судорожно схватил его за запястье. Дуглас едва не вскрикнул.
— Мистер Рейли… — голос Виктории был необычно тонким. — Смотрите…
Он понял, что его глупому желанию не суждено сбыться. И обречённо открыл глаза.
— Там…
Люди вскинули головы. Сотни пар глаз уставились на ночное небо, где плыла луна и резвились стаи рваных облаков. Звёзды слабо мерцали, как ответный взгляд тех, кто на небе. И между ними стремительно плыла яркая звёздочка, становясь крупнее. Дуглас затаил дыхание. Звезда не мерцала, как другие. Она имела молочно-белый цвет и летела абсолютно бесшумно. Она направлялась к поляне. И люди следили за ней в трепетном ожидании.
Они идут, отрешённо подумал Дуглас. Они идут за ними.
Искрящийся белый шар заскользил по воздуху над лесом, заставляя деревья отбрасывать синие тени. Луна и звёзды утонули в этом сиянии, стали невидимы. Когда шар достиг поляны и завис над ней на высоте ста футов, люди возвели к нему руки. По-прежнему стояла полная тишина.
— Мистер Рей… — Виктория запнулась. Дуглас вдруг почувствовал, что она вполне может сломать ему руку, если не ослабит хватку, но ничего не сказал. Прикрыв свободной рукой глаза, он зачарованно наблюдал за ослепительной белизной шара, который вращался над их головами.
Мощная струя невесомого света хлынула из шара, озарив поляну. Лица людей стали в этом свете белыми, как мел. Чёрные зрачки, бескровные губы, едва заметная линия носа — Дуглас дрогнул, не узнав в этих лицах своих давнишних знакомых. И никто не узнал бы…
Кольцо пришло в движение. Люди шли вперёд, в центр поляны, взявшись за руки. Эмили, Келли и Джим двинулись вместе со всеми. Дуглас на негнущихся ногах сделал два шага и упал на колени. Силы покинули его. Те, кто были там, наверху, дали понять — он им не нужен. Виктория дошла дальше него, стремясь дойти до уходящего сына, но через три шага она тоже свалилась без сил на полёгшую траву.
Свет бил ключом в центре поляны, вибрировал, как туго натянутая струна. И те, кто касался этой совершенной белизны, исчезали бесследно. На их месте оставался лишь серый силуэт, а через секунду пропадал и он. Люди уходили внутрь шара. Они покидали их. Покидали этот мир.
Нечеловеческим усилием подняв голову, Дуглас в последний момент увидел свою семью, которая подходила к белизне. Словно почувствовав его взор, они обернулись. Все трое умиротворённо улыбались. Так могут улыбаться путники, которые после долгого пребывания на чужбине возвращаются домой. Эмили послала ему воздушный поцелуй. Келли помахала рукой. Джим коротко кивнул. Он никогда не любил сантименты.
Потом они сделали шаг вперёд.
— Не-е-ет! — закричал Дуглас, глядя на тающие силуэты. Его голова упала на грудь. Он сидел долго, чувствуя на плечах жар от белого огня. Может быть, прошёл час. Где-то кричала Виктория. Кричали другие люди. Он слышал всё, как во сне.
Затем это кончилось. Погас свет, льющийся с неба. Дуглас ощутил, что ничто его больше не придавливает к земле, и осторожно поднял взгляд. Успел увидеть, как белый шар срывается с места и мчится вдаль на огромной скорости; превращается сначала в сияющий мотылёк, потом в далёкую звезду, и теряется в чёрной ткани небосвода.
Оставшиеся люди плакали. Они оплакивали своих родных, унесённых неведомо куда небесными похитителями. Неужели никто из них не видел того, что я, удивился Дуглас. Их не забрали. Они сами ушли — зов крови, влечение на родную землю. Может быть, их миссия на этой планете подошла к концу. Может, где-то на далёких просторах Галактики кончилась затяжная война, и отпала надобность охранять планетку в окольном уголке Вселенной.
Маленький лесной городок, где все были друг другу друзьями. Многие века он оставался отрезанным от большого мира. Чужаков здесь всегда было мало. На весь город — всего горстка. Такие приезжие, как Дуглас, Виктория и все те, кто сейчас вытирают слёзы, глядя на пустое ночное небо.
Он встал с колен. Кружилась голова, но он полагал, что до утра это пройдёт. Услышав громкие всхлипы Виктории, Дуглас отыскал её взглядом и подошёл к ней.
— Они забрали Билли, — сообщила она ему сквозь рыдания. — Забрали моего малыша… Почему?
Потому что он тоже был одним из них. В нём текла их кровь… кровь из далёкой звезды.
— Я не знаю, — просто сказал Дуглас и бережно обнял несчастную мать. Он посмотрел вокруг ещё раз — на холодное подмигивание звёзд на ночном небе и выжженный круглый след на траве — и добавил, так тихо, что мог услышать только он сам:
— Они ушли.
2007 г.
Вершина
Джек Эванс умер в четыре часа пополудни. Убрать его оказалось легко. Я подкараулил его на выходе из дома и пустил пулю в затылок. Он рухнул, как подкошенный. Через минуту я уже был далеко от места преступления.
Четыре человека из пяти были мертвы. Всё шло без сучка без задоринки. Я набрал номер Старика на портативном видеотелефоне. Его морщинистое лицо появилось на миниатюрном экранчике сразу после первого гудка.
— Слушаю тебя, Янг, — отозвался он скрипучим голосом.
— Эванс мёртв, — ответил я.
— Замечательно, — Старик удовлетворённо кивнул. — Значит, остался только один человек из списка. Никаких проблем?
— Всё в порядке.
— Замечательно, — снова сказал он.
Экран потух. Раздался сигнал входящего сообщения. Я открыл послание от Старика и пробежался по строкам глазами. Лиза Паркер, Джером-стрит, дом 235, квартира 2017. К адресу была приложена её фотография и приписка: «Возвращается с работы в шесть вечера». Значит, у меня ещё было время.
Поймав такси, я велел водителю отвезти меня на нужную улицу. Солнце клонилось к западу, но до заката было ещё далеко. Добсон-тауэр сверкал огнём, как большая стеклянная игрушка. Башня была видна из любого места в Полисе, даже из крайних кварталов. Здание впечатляло — три сотни этажей, поглотивших немыслимое варево из банков, магазинов, отелей, межпланетных туристических агентств, управляющих компаний и бог знает чего ещё. Все вместе они образовывали сердце гигантского конгломерата компаний Добсона. На вершине этого циклопического сооружения восседал сам Старик — Рейнгард Добсон. Я представил его немощное худосочное тело на роскошном кресле и жадный взгляд, которым он сейчас смотрит сверху вниз. От моего успеха зависело очень многое не только для «Добсон-групп», но и лично для него самого — так он мне сам сказал, поручая задание.
Паркер оказалась весьма пунктуальной. Женщина с рыжими волосами до плеч появилась в семнадцать пятьдесят два. Она выскочила из такси и вошла в дом, шагая легко и непринуждённо. Видимо, никаких подозрений у неё не было. Я вышел из магазина фильмов, где коротал время, и последовал за ней.
К моему удивлению, оказалось, что Лиза Паркер не направилась к лифту, а беседует по телефону, разглядывая заголовки газет в неработающем автомате в холле. Я размеренным шагом прошёл мимо неё.
— Конечно, заказывай, дорогой! — щебетала она. — Я лишь немного приведу себя в порядок и тут же поеду. Знаешь, у меня на работе такое… Это нужно хорошо отметить. Небывалый успех!
Вся сияя, она положила телефон в сумочку и подошла к лифту. Я нащупал пистолет в кармане пальто, но тут двери лифта раздвинулись, и в холл вышли два человека. Пришлось вместе с Паркер войти в лифт.
— Вам на какой этаж? — спросила она, не оборачиваясь, и нажала на кнопку двадцатого этажа. Лифт начал движение.
— Двадцать седьмой, — сказал я.
Её рука замерла на полпути к кнопке с цифрой «27». Она обернулась так резко, что уложенные волосы разметались.
— Вы! — сказала она удивлённо.
Я среагировал моментально. Это был почти провал. Цель раскрыла меня. Нужно убивать её немедленно. Я не мог быть уверен, что на выходе из лифта не столкнусь с людьми, но иного пути не было.
Мгновение — и пистолет с глушителем оказался у меня в руке. Взгляд Лизы Паркер метнулся к пистолету, наставленному на неё, потом обратно к моему лицу.
— Это же вы, — она говорила очень тихо. — Зачем?
Нужно было нажимать на курок, но я медлил.
— Кто вы? Откуда меня знаете? — спросил я отрывисто.
Она опять смотрела на пистолет:
— Это же оружие? Что вы хотите сделать?
Пискнуло табло, двери лифта открылись. Времени не оставалось — я выстрелил. Лиза Паркер рухнула на пол. Я вытолкнул тело в пустой холл и хлопнул ладонью по кнопке первого этажа. Лифт быстро заскользил вниз. На первом этаже было пусто. Я беспрепятственно вышел на улицу и слился с толпой.
— Такси! — отойдя на безопасное расстояние, я вскинул руку. — Довезите меня до Добсон-тауэра.
По дороге я никак не мог взять себя в руки. Как Лиза Паркер узнала меня? Старик ничего не говорил о том, кто все эти люди и почему их нужно убить, а я не спрашивал.
Нужно было поговорить со Стариком. Я вышел из такси у подножия гигантской башни. Ступив на широкую мраморную лестницу, я позвонил Старику. Как обычно, он отозвался сразу.
— Слушаю, Янг. Как успехи?
— Паркер мертва, — ответил я. — Но у меня есть к вам вопросы.
— Замечательно.
Я уставился на морщинистое, дряхлое лицо.
— Сэр, вы не расслышали? Мне кажется, вы что-то утаиваете от меня.
— Что ж, задание выполнено, — продолжал он, не слушая меня. — Иного я от тебя и не ожидал, Янг. Ты справился просто превосходно.
— Сэр, она узнала меня в лицо!
— Я хочу с тобой встретиться, — Старик продолжал меня игнорировать. — Приходи ко мне в кабинет. Пройди через охрану внизу. Они должны тебя пропустить.
— Сэр!
Отбой.
Скрипнув зубами, я набрал номер снова. На этот раз Старик не ответил.
Значит, ему нужно встретиться со мной…
Я вошёл в Добсон-тауэр и уверенно направился к пропускному пункту, где дежурила целая рота людей в униформах. Охранник окинул меня тяжёлым взглядом:
— Пожалуйста, приложите палец к сенсору для идентификации.
Я сделал то, что он просил. Под подушечкой пальца пробежала красная полоска сканера. Скучающее лицо охранника, который смотрел на монитор, вытянулось. Он воззрился на меня, как на какую-то диковинку:
— Мистер Коултон?
Имя было мне абсолютно незнакомо.
— Он самый, — спокойно сказал я. — Могу я идти?
— Да, конечно, — засуетился охранник. — Проходите, пожалуйста…
Я шёл по длинному коридору, окончательно перестав что-либо понимать. Никакого Коултона я знать не знал. Меня звали Филип Янг.
Мне пришлось немного поплутать, прежде чем я нашёл служебный лифт. Войдя внутрь, я увидел панель без малого с сотней кнопок. Я нажал на круглую кнопку на самом верху ряда, и тут же лифт заполнил механический женский голос:
— Доступ на этот этаж ограничен. Пожалуйста, приложите палец к сенсору для дополнительной идентификации.
Чертыхнувшись, я с силой прижал палец к чёрному прямоугольнику.
— Идентифицировано: Бернард Коултон, — произнёс тот же голос. — Доступ подтверждён.
Лифт устремился наверх, на вершину башни. Я стоял неподвижно. Старик должен был дать ответ на всё. На всякий случай я держал руку на пистолете в кармане. Не исключён вариант, что Старик просто пытается убрать меня, как опасного свидетеля. Если это так, то ему придётся очень постараться.
Двери лифта открылись. Я увидел просторную белую комнату с длинным овальным столом и дверью на противоположной стене. За столом сидели люди в костюмах. Судя по всему, тут был конференц-зал для совещаний высшего руководства. А дверь наверняка вела в личный кабинет Добсона. Удобно для старого человека, не желающего тратить силы на пробежки туда-сюда.
Увидев меня, все, кто был здесь, повскакивали с мест.
— Мистер Коултон?
Я важно кивнул, не убирая руку со скрытого пистолета.
— Нам доложили, что вы поднимаетесь к нам. Мы рады, что вы прибыли, — лысый коротыш в дорогом сером костюме выступил вперёд и протянул мне руку. — Меня зовут Фредерик Джонс, я второй вице-директор «Добсон-групп». Сожалею, что мы не познакомились при лучших обстоятельствах…
— Вы о чём?
Джонс посмотрел на меня с удивлением.
— Но вы ведь в курсе печального известия? Мистер Добсон умер сегодня утром.
Я почувствовал, как всё вокруг поплыло.
— Да… разумеется, — выдавил я из себя. — Очень большая потеря. Очень.
Все согласно закивали. Я заметил, что они смотрят на меня с каким-то отвратительным подобострастием. Потом Джонс жестом пригласил меня отойти в сторону и тихо сказал:
— Полагаю, вы понимаете, какая большая ответственность возлагается на вас. Вы были близким другом мистера Добсона, и наверняка прекрасно осведомлены обо всём, но совет директоров надеется, что их мнение тоже будет учитываться при принятии решений.
— Естественно, — ответил я, чтобы не молчать.
Джонс вздохнул с облегчением:
— Мистер Добсон всё предусмотрел. Завтра утром будут готовы бумаги. Вы вступите в должность директора «Добсон-групп» с исключительными полномочиями. Вашу должность первого вице-директора пока займу я.
— Понятно, — сказал я. — Простите за вопрос, но мне любопытно. Как умер мистер Добсон?
Джонс покачал головой:
— Ужасный случай. Он полетел на личном космолёте на Марс, чтобы участвовать в ежегодном благотворительном саммите. Видимо, при взлёте произошла поломка системы подачи топлива, и космолёт взорвался в верхних слоях атмосферы. Только обломки и остались…
— Да уж, — протянул я совершенно искренне.
Джонс замолчал. Воспользовавшись этим, я спросил:
— Вы не пробовали зайти в кабинет мистера Добсона?
— Нет, конечно. Туда имеет доступ только сам мистер Добсон… имел.
— Я хочу пройти в кабинет, — заявил я, подходя к широкой белой двери со знакомым контактным сенсором. За спиной зашушукались.
— Но зачем вам это? — спросил кто-то.
— Просто не люблю терять время попусту, — отрезал я. — Если завтра утром я становлюсь главой «Добсон-групп», то не вижу причин, почему бы сегодня мне не начать знакомиться с документами, которые были у мистера Добсона.
— Но…
Не слушая их, я коснулся сенсора.
— Идентифицировано: Бернард Коултон, — провозгласил голос. Шёпот за спиной утих. Я вошёл в кабинет и обернулся:
— До встречи следующим утром, господа.
Дверь закрылась медленно, но плотно. Я остался один в святая святых.
Кабинет Старика оказался таким, как я себе его представлял — просторная комната со спартанской обстановкой, зато вместо западной стены было одно большое пуленепробиваемое окно. Вид на Полис открывался потрясающий: весь город с высоты птичьего полёта. Лучи заходящего солнца окрашивали комнату в золотые оттенки. Пустующее кресло у дубового стола выглядело осиротевшим. На столе разместились кипы бумаг, разложенные в стопки, видеотелефон и один ноутбук с широким экраном.
Я чувствовал себя потерянным. Хотя перед советом директоров роль я сыграл неплохо, на самом деле я ни черта ни понимал в том, что происходит: начиная с того, каким образом Лиза Паркер узнала меня, и кончая своим головокружительным взлётом до поста руководителя крупнейшего межпланетного финансово-промышленного конгломерата. Более-менее я был уверен лишь в одном: Старик не умер. Обстоятельства его смерти были будто специально предназначены для сокрытия простого факта: Добсона на борту взорвавшегося космолёта не было. И потом, всего несколько минут назад я разговаривал с живым Стариком. И тогда он сидел как раз на этом кресле…
Над экраном ноутбука зажегся красный огонёк. Компьютер стоял в режиме ожидания, и я понял, что от меня требуется. Подойдя к ноутбуку, я нажал кнопку включения. Экран вспыхнул, на нём возникло лицо Старика — такое же старое и сморщенное, с тем же проницательным и жадным огнём в глазах.
— Привет, Янг. Если ты это смотришь, значит, ты сейчас в моём кабинете и скоро станешь главой «Добсон-групп». Ну а что касается твоего покорного слуги, — Старик сухо улыбнулся, — то меня больше нет.
Я молча слушал.
— Ты уже понял, что Бернард Коултон — вымышленный персонаж. Такого человека никогда не существовало. Тем не менее, последние шесть лет он занимал крайне важный пост первого вице-директора моей компании. Он подал множество прекрасных бизнес-идей, которые существенно упрочили позиции компании, и обеспечил их прекрасную реализацию. Поэтому в компании его имя пользуется авторитетом. Многие даже говорят, что старик Добсон в последнее время неспособен вести дела, и компания держится только на Коултоне, — на лице пожилого человека опять мелькнула улыбка. — Все знают, что я и Бернард являемся лучшими друзьями. Я должен был быть уверен, что когда меня не станет, совет директоров примет Коултона. Конечно, никто его никогда не видел в лицо, но на то были причины — Коултон живёт на Нептуне, а слабое сердце не позволяет ему совершать долгие космические перелёты. Тем не менее, в последние месяцы пошли слухи, что Коултон после череды операций сумел избавиться от своего недуга и вот-вот приступит к своим обязанностям на Земле.
Старик натужно кашлянул и наклонился вперёд, ближе к камере.
— Ты спросишь, к чему эти фокусы? Дело в том, Янг, что я, к сожалению, не вечен. Мой разум остаётся всё таким же ясным и острым, как во времена молодости, но тело с возрастом сильно сдало. Я понял, что конец близится, очень давно — и запустил двадцать пять лет назад секретный проект, щедро финансируя его из своих личных средств. Лучшие умы человечества на мои деньги работали над задачей, которую люди не могли решить тысячелетиями. Я говорю о достижении бессмертия. Признаюсь, в первую пору я сам не верил, что это возможно, и заставлял учёных продолжать работу из чистого упрямства. Но с приходом Лизы Паркер, одной из самых гениальных выпускниц Гарварда в двадцать втором столетии, дело сдвинулось с мёртвой точки.
Невозможное вдруг стало реальностью, поразив меня самого до глубины души. Проект «Бессмертие» добился беспрецедентного успеха. Но ему не суждено было стать достоянием общественности. Сегодня проект перестал существовать — твоими усилиями пять ключевых учёных, которые были хорошо осведомлены о проекте, были ликвидированы. Все документы по итогам исследований надёжно спрятаны в личном сейфе Коултона в одном из банков. После моего ухода ты — единственный, кто знает рецепт бессмертия.
Старик сделал паузу. Я ощутил, как по моим вискам стекают капли пота.
— Я уверен, что ты справился со своим заданием великолепно, — продолжал Добсон. — Твой высокий профессионализм знаком мне не понаслышке. Видишь ли, Янг… сейчас, когда я на вершине мира уже пять десятилетий, людям кажется, что Рейнгард Добсон уже в родильном доме обладал своим могуществом. Но это не так. Я родился в нищей семье и рос на улицах Полиса. Но мне хотелось вырваться из той грязи, в которой я жил — поэтому я стал менять самого себя. Годам к тридцати я стал самым удачливым наёмным убийцей города, и, накопив на этом поприще необходимый капитал, отошёл от убийств, изменив свою внешность и биографию. Я стал строить собственную финансовую империю, воссоздав себя заново — уже под именем Рейнгарда Добсона.
Капля пота сорвалась со щеки и упала на поверхность стола. Я сделал шаг назад, не осмеливаясь верить откровению.
— Именно так, друг, — кивнул старик. — Филип Янг — так нарекли меня при рождении, и под этим именем я стал лучшим наёмным убийцей Полиса. Мисс Паркер удалось создать технологию бессмертия через омолаживание: весь человеческий организм, включая мозг, ускоренно проходит через процесс, обратный старению. Я не умер, Янг. Я — это ты, а ты — это я в расцвете сил. Точно такой же, каким я был пятьдесят лет назад. Я внёс лишь минимальные изменения в свой разум — базовые знания о переменах, которые мир претерпел за эти пятьдесят лет, и изначальную осведомлённость о Рейнгарде Добсоне, чтобы ты подчинился моим указаниям и выполнил задание. Я оставил сообщения на автоответчике, они демонстрировались при звонке с твоего телефона на мой. Кроме того, все системы безопасности были перенастроены таким образом, что биометрические данные Добсона отныне распознаются как принадлежащие Коултону.
Я перевёл взгляд на видеотелефон в углу стола, потом вспомнил чёрные прямоугольники сенсоров и противный механический голос: «Доступ подтверждён».
— Разумеется, тебя ждут большие сложности. Коултон — новая личность в компании, и тебе придётся доказать своё право на лидерство, обхитрить этих лисов и волков, которые тебя окружают. Тебе придётся заново обучиться всем премудростям бизнеса, причём за короткие сроки. Но я верю, что ты сможешь это сделать, — старик опять улыбнулся. — Верю, потому что я сам смог бы это сделать. Под твоим управлением «Добсон-групп» превратит свой намечающийся упадок в эпоху расцвета. Удачи, мистер Коултон… ну а мне пора наведаться к прекрасной мисс Паркер на очень важную операцию.
Добсон откинулся назад, и монитор погас. «Запись стёрта», — прошелестел голос из динамика.
Я долго стоял, не шевелясь, и смотрел на ставший пустым экран монитора. Потом почувствовал, что мне нужно присесть. Ноги подогнулись; я плюхнулся на кресло, где раньше сидел Добсон. Закрыв глаза, я приводил в порядок мечущиеся мысли.
Постепенно волнение проходило, и я почувствовал нарастающую уверенность в себе. Смятение в душе пока не исчезло — я знал, что на то, чтобы побороть его, потребуется много времени, но я был уверен, что смогу в итоге справиться и с этим. В конце концов, это мне было не впервой. Если молодой Филип Янг когда-то смог превратить себя в Рейнгарда Добсона, то и личина Коултона не была непосильной задачей.
Повернувшись к окну вместе с креслом, я залюбовался Полисом, озарённым золотом заката. Чёрт возьми, мне начинало нравиться чувствовать себя на вершине мира.
2011 г.
Солнце
Поляна затихла. Конец света, грохотавший на ней всю долгую апрельскую ночь, завершился, и на неё напала звенящая пустота, нарушаемая только испуганным щебетом птиц. Они сидели на высоких ветвях деревьев и недоумевали, вдыхая неизвестный горький запах, растворённый в чистом воздухе. Запах обжигал им лёгкие, и очень скоро они начали улетать одна за другой прочь от этого мёртвого места, израненного глубокими воронками. Постепенно так не понравившийся им пороховой дым развеялся, но птицы не вернулись.
Мертвецы лежали друг на друге, оскалившие зубы и выпучившие глаза в последние мгновения агонии. Около них сиротливо блестели сломанные штыки, запачканные в крови, но целых штыков или ружей было не сыскать — их забрали те, кто остался в живых. Их забрали победители. Погибшим же остались поношенные гимнастерки, пропахшие потом, и эта поляна, на которой кое-где робко пробивались первые ростки травы.
Ночной холод уже заставил окоченеть бездыханные тела. С тех пор, как улетели птицы, ничто не тревожило покой этого места. Замолчал даже ветер. Но потом, когда на горизонте едва видно забрезжил рассвет, солдат в форме рядового на южной оконечности поляны зашевелился и застонал. Он был ещё жив.
— Помогите… — прошептал он, мучительно искривив рот. Сухие и белые, как бумага, губы лопнули в нескольких местах, на них выступила кровь. У солдата не было ног: их оторвало снарядом. Он сделал попытку отползти в сторону, но тут же закричал от страшной боли. Подумал, что закричал; на самом деле он издал лишь тихий стон. На глазах выступила единственная куцая слезинка. Он думал, что плачет, плачет навзрыд. Каска свалилась с головы при неловком движении. У солдата были светлые вьющиеся волосы, которые слиплись в комки. Он дёргался и нечленораздельно мычал ещё минут пять. Всё тише и тише — пока, наконец, не затих окончательно, запрокинув голову назад. Последнее живое существо на поляне умерло. И всё стало, как прежде.
Затем на поляну пришло солнце. Оно поднималось над лесом, как былинный богатырь, покровительствуя и благоденствуя. Большое и жёлтое, солнце не знало преград. Оно прогнало ночь прочь, вдыхая жизнь в поляну и растапливая последние остовы залежалого снега. Молодые травы радостно потянулись к светилу. Выглянули из нор мелкие лесные зверьки, радостные, что они ещё живы, и ночь большого шума подошла к концу. Небо окрасилось в нежно-голубой цвет, тот его чистейший лазурный оттенок, который бывает только в апреле. Всё ожило и затрепетало, зашагало в триумфальном марше жизни, и даже мёртвые солдаты, казалось, подрагивают ресницами, когда золотистые стрелы солнечных лучей проникают им под веки. Никто из них, конечно, так и не встал, но солнце не сдавалось — оно поднималось всё выше, щедро наливая апельсиновый сок в серые воронки от снарядов…
2006 г.
Заброшенный дом
Забава была нехитрой, но увлекательной: зайти в заброшенный дом, повернувшись спиной к его пугающему полумраку, и стоять, зажмурившись, пока приятели смотрят на тебя, затаив дыхание от восторга. Потом, конечно, кто-то всё равно вскрикивал, якобы заметив шевеление в окне, и все бросались с воплями бежать прочь от покинутого дома и его почерневших стен. Но это тоже была часть игры. Смельчак потом несколько дней ходил в героях, и слава его была тем выше, чем больше шагов он сделал вглубь дома. Среди мальчишек ходила легенда о Витьке-Атамане, который когда-то заглянул во все комнаты заброшенного дома, выглянул из всех окон и махал рукой, нисколько не страшась чудовищ, которые могли таиться в просторах дома. Но Витька такой был один — повторить его подвиг пока никому не удавалось.
Дом находился в одном из старых крайних кварталов города, где деревянные строения преобладали над бетонными. Самый обычный домишко с крышей из шифера и покосившимся дымоходом; он был необитаем уже много лет. Окна зияли пустотой — стёкла выбиты, ставни держатся чудом, на двери и стенах неприличные надписи. Жители города предпочитали делать вид, что дома не существует, и ждали, когда его пустят под снос. Но пока заброшенный дом стоял. В его комнатах копилась нежилая пыль, затемняющая воздух. В отличие от мальчишек, взрослые знали, почему в доме никто не живёт, но вести разговоры об этом было не принято. Вот дети и строили разные фантастичные предположения по поводу того, откуда дом взялся в их городе, кто его построил.
А настоящая причина была простой и жуткой. Туберкулёз. Болезнь стала причиной того, что когда-то семья, жившая здесь, перестала существовать — буквально за пару лет, один за другим, хозяева особняка умирали, пока дом не остался без владельцев. Маленьких детей, оставшихся после них, забрали в детдом. Первые несколько лет после трагедии люди обходили пустой дом стороной, боясь подхватить заразу. Потом печальная история стала забываться, и вот уже выросло поколение ребятишек, которым был нипочём ужас, произошедший в доме, и они с удовольствием щекотали себе нервы в прихожей или даже в гостиной. Никто из них туберкулёзом не заболел.
Днём мимо дома проносились машины, люди ходили на работу, но ночью движение угасало. Место трагедии выглядело достаточно зловеще в лунном свете, и ни у кого не было желания оказаться близко к этим окнам и отсыревшей кладке, когда царит ночь. Иногда жены шёпотом пересказывали друг другу истории о том, как кто-то из знакомых во время ночной поездки увидел мелькающий в окне заброшенного дома огонёк. Ночью в это поверить было несложно, но утром, когда светлело, все в очередной раз понимали: дом — всего лишь старая развалина, памятник печальной участи своих хозяев, и когда мир сделает ещё один шаг вперёд, он пойдёт под снос. Потому что памятники не вечны, а быстрый мир не терпит нашествия прошлого.
А пока дом стоял. И толпы навещающих его мальчишек не редели.
Сегодня в роли бесстрашного героя, отправляющегося на покорение дома, выступал новичок в бравой компании. Парень недавно приехал из деревни. Он с честью прошёл все уготованные для него испытания: отчуждение ровесников, насмешки и поддразнивания в школе, ежедневные драки. Постепенно новенький всё же влился в ряды местных мальчишек, но для полного признания «своим» оставалось преодолеть последнюю веху, которая требовала незаурядного мужества.
Они собрались возле заброшенного дома на закате, когда свет почти угас, и сумрак стал пугающим. Обычно ходили днём — и даже тогда действо было захватывающим — но для испытания новичка, безусловно, требовались особые условия. Побледневший мальчик смотрел на дом, громоздящийся чёрным монолитом на сливовом фоне неба, но ни словом, ни жестом не выдавал своего страха. Остальные тоже были немногословны.
— Заходишь, — небрежно втолковывал атаман новичку. — Идёшь в гостиную. Видишь вон то окно? Появляешься там, машешь нам рукой, потом можешь выметаться. Всё понял?
Новенький кивнул и нервно сплюнул на землю. Наверное, хотел этим показать своё бесстрашие, но добился прямо противоположного результата: все поняли, что он не в своей тарелке. Впрочем, это было к лучшему — какой смысл в этой игре, если входящий в дом не знает страха? Атаман покровительственно положил руку ему на плечо и подтолкнул в спину: мол, иди. Другие стояли очень тихо, чтобы не нарушить дух таинства, который должен был чувствовать испытуемый.
Мальчик шёл в сторону двери медленно, переставляя ноги с осторожностью. Засыхающая трава у лестницы издавала громкий неприятный хруст. Дверь была распахнута настежь, будто приглашала незваного гостя зайти. Он, сжав кулаки, смотрел на черноту, которая простиралась за порогом: всё ли спокойно? не движется ли что?.. Темнота внутри была обманчиво неподвижной и безмолвной. Мальчик чувствовал, как из-за порога веет холодным воздухом, но на его лбу выступил горячий пот.
Он хотел оглянуться, посмотреть на товарищей, которые следили за каждым его движением, стоя у забора. Это бы придало уверенности. Но такое непростительное проявление слабости резко уронит его в их глазах. Нет, подумал мальчик, лучше не оглядываться. И вообще ни о чём не думать… просто зайти и найти это чёртово окно. В конце концов, это всего лишь дом — четыре стены.
Наконец, порог. Мальчик вобрал в грудь воздуха и ступил внутрь.
— Он сделал это, — восхищённо прошептал один из парней.
— Погоди, — усмехнулся другой. — Даю зуб, сейчас заорёт и выскочит, как Сенька в тот раз.
— Замолчите, — велел атаман, прислушивающийся к звукам внутри дома. Стало тихо. Те, у кого слух был острее, могли различить поскрипывание старых половиц. Шаги внутри становились реже и короче. Окно гостиной с полуприкрытыми ставнями оставалось тёмным, в нём никто не появлялся, не махал рукой.
Потом шаги прекратились вовсе.
— Что он там делает? — недовольно буркнул атаман. — Чай, что ли, пьёт?
— Парализовало, наверное, — предположил кто-то. — От страха.
Несколько мальчишек прыснули.
— А ну-ка, Гера, — атаман повернулся к низкорослому белобрысому мальчику, который на свою беду оказался рядом с ним. — Прошвырнись, проверь, что у него там?
Гера широко раскрыл глаза:
— Я?!
— Ты, — кивнул атаман.
Бедняга весь побелел, но не посмел перечить грозному владыке. Сцепив трясущиеся руки перед собой, он стал повторять путь новенького — но, в отличие от него, Гера не проходил испытание, так что мог свободно оглядываться на «своих». Коим правом он с готовностью пользовался каждую секунду.
— Ну что ты ползёшь, как черепаха? — недовольно прикрикнул один из товарищей.
— Иди, Гера!
— Посмотри, что там!
Когда до страшного порога оставалась пара шагов, удача улыбнулась Гере: прикрытые ставни распахнулись, и в окне, наконец, мелькнул силуэт посланника и резво помахал рукой. Мальчишки вздохнули с облегчением. Гера резиновым мячиком бросился обратно. Никто на него не пшикнул.
Губы атамана тронула презрительная ухмылка. Конечно, он тоже был рад, но не должен был подавать виду — звание обязывало.
— Всё-таки молодец новенький, — прошептал он.
Новый мальчик вышел из дома спотыкаясь, весь какой-то поникший. Впрочем, в первую секунду это не заметили: его встречали приветственными криками и улюлюканьем. Смотрели на хмурое лицо посланника с любопытством — ведь соприкосновение с необъяснимым, страшным и таинственным всегда вызывает интерес.
— Ну, молодца, — одобрительно сказал атаман и протянул ему руку. Новенький должен был по достоинству оценить этот жест и с готовностью схватиться за его ладонь, но вместо этого смотрел на атамана с замешательством и обидой. Губы что-то прошептали, но только атаман услышал эти два слова: «Хорош издеваться».
— Ты чего? — подозрительно спросил он, почуяв неладное, и новенький сорвался:
— Чего, чего!.. Хороши насмехаться! Сами бы туда ходили, к тому же в темноте! Да все повыскакивали бы ещё в прихожей! А я что — я ещё дошёл до входа в гостиную… Не смог я, испугался — ну и что? Дурацкое испытание! Каждый бы на моём месте…
— Ты… — атаман непроизвольно сделал шаг назад, прочь от новичка, что выглядело совсем уже непотребно, но на его трусость никто из поражённой ужасом «банды» не обратил внимания. — Ты не дошёл… до окна гостиной? Ты не махал рукой?
— Нет, — насупился новичок, не отошедший от своей злости.
Все, как один, перевели взгляд на заброшенный дом, который начал растворяться в чернилах ночи. Окно гостиной было пусто — лишь шевелились на лёгком ветру открытые ставни, издавая тонкий скрип, как чьё-то насмешливое хихиканье.
2008 г.
Тёмные Сады
Розы увядают, этот сад погиб.
Стивен Кинг, «Мобильник»Впервые я увидел цветок, когда вышел из дома выбросить пакет с мусором. Возвращаясь к лестнице, я заметил, что под фундаментом дома появился тоненький зелёный стебелёк с алой головкой. Цветок пробился через узкую щель в бетоне и тянулся к солнечной стороне, опираясь худосочными листьями о серую поверхность. Мне он напомнил розу, но, во-первых, в наших краях розы не росли, а во-вторых, у цветка не было шипов. Да и лепестки были не такие, как у розы. Я испытал мимолётную жалость к растению, обречённому на бесславную гибель. На дворе была осень — первые же сибирские морозы высосут из цветка всю жизнь. Даже если он каким-то чудом устоит во время заморозков, то какой-нибудь шалопай из тех, что слоняются по дворам, увидит красивый цветок и не устоит перед искушением сорвать его. Мысленно пожелав мужественному ростку удачи, я зашёл в подъезд и забыл о нём.
Я вспомнил о нём вновь по прошествии пяти дней. Когда вечером я вошёл во двор, «Волга», припаркованная возле дома, собралась выехать на улицу. Машина медленно проползла мимо меня, и я услышал, как в салоне на полную громкость играют бессмертные «Белые розы». Крикливый голос Юры Шатунова напомнил мне о растении, увиденном пять дней назад. Наверное, его уже нет, с грустью подумал я. Иначе я замечал бы его в предыдущие дни.
Взявшись за перила лестницы, я с надеждой наклонился вперёд, разглядывая пространство под домом. Ничего. Цветок пропал.
Я уже собрался выпрямиться и пойти дальше, когда взгляд зацепился за зелёную ниточку, которая произрастала из щели асфальта. Другой конец нити прятался за одной из массивных колонн, на которых покоился дом. В вечном полумраке под фундаментом нить легко было увидеть. Если бы я не знал, что тут раньше рос цветок, то ни в жизнь не нашёл бы стебель.
Заинтригованный, я полез под дом. Судя по тому, как безвольно лежал стебелёк на бетоне, цветок уже замёрз, но мне почему-то хотелось ещё раз посмотреть на его алую головку, пусть сморщенную и неживую. Может быть, я надеялся на чудо — в таком случае надежды оправдались сполна. Заглянув за колонну, я еле удержался от возгласа удивления.
Цветок не умер. Более того — неизвестно, как он нашёл столько питательных соков в холодной бесплодной почве, но из ростка за эти пять дней он превратился в большущее растение, достигшее зрелости. Алые лепестки потемнели; теперь цвет был близок к багровому. Вместо жалких трубочек, которые я видел в прошлый раз, растение обзавелось роскошными листьями, гордо поднятыми вверх. Ниточка, которую я принял за стебель, оказалась всего-то продолжением корня. Она постепенно переходила в собственно стебель, толстый, влажный и упругий. Цветок стоял вертикально, прислонившись к колонне. На вид никто не сказал бы, что корень у него находится тридцатью сантиметрами левее. Создавалось впечатление, что он растёт прямо из бетона.
Я потрясённо цокнул языком. Да уж, живучий оказался упрямец. Цветку повезло, что стебель скрыл алую головку за колонной, иначе его бы кто-либо давно вырвал с корнем. Я снова подумал о грядущих холодах и о том, как хорошо было бы иметь зимой в собственной квартире такой изумительный клочок лета. Почва для размышлений была благодатной, и я в задумчивости покинул пространство под домом, мысленно пообещав цветку вернуться.
Следующим вечером, когда я шагнул за знакомую колонну, в моих руках была небольшая садовая лопаточка. Я плохо представлял себе, как выковырять стебель из узкой щёлки на асфальте, не повредив при этом корень, но намеревался разобраться по ходу дела. Этого мне делать не пришлось, потому что цветок уже ничто не связывало с почвой. За прошедшую ночь стебель оторвался от корня и теперь сиротливо валялся на асфальте, изогнутый в конце. Зрелище напоминало руку падающего в пропасть, который последним отчаянным жестом пытается ухватиться за выступ. Головка цветка ещё сохраняла прежнюю живость, но мне показалось, что её красота померкла. Нежные лепестки раскинулись шире, листья безвольно поникли.
С содроганием я взял погибший цветок в руку. Стебель оставался свежим и упругим, и во мне родилась надежда: если пересадить растение прямо сейчас на плошку с плодородной почвой, то цветок, может, вернётся к жизни. Садоводы, возможно, посмеялись бы над моей надеждой, но мне было жаль умирающую красоту позднего цветка.
Я отнёс покалеченное растение в квартиру и отправился в магазин цветов за плошкой с землёй. Обильно полив почву водой, я вырыл не очень глубокую ямку и вставил нижнюю часть стебля туда. Цветок держался по-прежнему вертикально, но не как прежде — гордо, самоуверенно, со знанием собственного изящества, — а напоминал слабого, больного человека, который пытается заново учиться ходить после автокатастрофы. Мне оставалось только наблюдать за тем, как он цепляется за жизнь. Исход этой борьбы зависел не от меня.
Следующим утром на вид ничего не изменилось. Цветок стоял на подоконнике, листья опущены вниз, головка едва заметно склонилась набок. По крайней мере, он не собрался увять окончательно. Я наспех позавтракал и поехал в офис. День был тяжёлый и загруженный, и к возвращению домой я был совершенно измотан. О растении, которое дожидалось меня в кухне, я, конечно, не думал. Зайдя в квартиру, первым делом принял душ, сменил одежду, и только потом вошёл в кухню, чтобы состряпать себе ужин. Тут-то меня и настигло удивление.
Он вырос. Я мог бы поклясться чем угодно — утром цветок был гораздо меньше. Лепестки выпрямились и стали крупнее на вид. В миг изумления мне казалось, что цветок растёт прямо сейчас, на моих глазах, поскрипывая и удлиняя стебель, но это, конечно, было не так. Меня охватила радость.
«Он поправляется, — подумал я. — Зализывает раны, как и всё живое».
Ту же картину я наблюдал и следующим вечером, и следующим, и ещё… пока увеличение размеров цветка не стало видно невооружённым глазом. Но размеры были не единственным, что стремительно менялось у него за эти дни — куда более впечатляла другая форма совершенствования цветка, превращающая его из чахлого подобия розы в растение невиданной красоты.
Краска приливала к тонким лепесткам, окрашивая их в тёмно-красный цвет. Я мог видеть сквозь лепестки — тогда мир казался разбавленным кровью, и вещи причудливо менялись. Сердцевина коронки была ослепительно жёлтой, как бы полированной. Я полагал, что кто-то другой, у кого зрение острее, мог бы разглядеть на гладкой поверхности собственное отражение — крохотное, но со всеми деталями. Листья и стебель наливались соком и тоже выглядели едва ли не прозрачными. Каждая прожилка внутри отчётливо вырисовывалась в них зелёным узором. Листьев стало так много, что в середине стебля они образовывали миниатюрные джунгли. И всё это за какие-то пять или шесть дней.
А благоухание!.. Росток, который я принёс в дом, не источал никакого запаха. То, во что он превратился в плошке, испускало тонкий душистый аромат, который проникал прямиком в сердце, заставляя вдыхать и вдыхать его, не желая остановиться. Знаменитые французские духи, по которым сходит с ума весь свет? Куда там — этот аромат был лучше всех их, вместе взятых. Он мог превратить любого человека в заядлого токсикомана, способного провести целые часы, втягивая носом запах подрагивающих лепестков.
Я радовался как мальчишка, гордый собственной находкой. С одной стороны, мне не терпелось рассказать своим знакомым о том, какое сокровище у меня на подоконнике, но, как только я открывал рот в компании, чтобы похвастаться необычайным цветком, на меня тут же накатывала странная, пронизывающая мозг костей ревность. Если я проболтаюсь им о цветке, то им захочется глянуть на такое чудо. Как я могу отказать им без того, чтобы прослыть бессовестным вруном и хвастуном? Значит, они тоже будут здесь; моё единоличное соприкосновение с этим таинством подойдёт к концу. Я отдавал себе отчёт, что моя необъяснимая ревность глупа и бессмысленна, но упорно хранил известие о моём новом сожителе внутри себя.
Так что цветок рос и развивался, не виденный и не тронутый никем, кроме меня. Я купил для него другую плошку, объёмнее и красивее. Вечерами любовался им, вдыхал его аромат, а утром перед уходом на работу его запах заменял мне поцелуй любимой женщины, каковой у меня никогда не было. Такое положение вещей меня более чем устраивало.
Как оказалось, зато оно не устраивало кое-кого другого. Кое-кто хотел большего.
На исходе второй недели мной вдруг овладело недомогание. Я стал просыпаться с головной болью; иногда меня мучила бессонница, а иногда, напротив, я спал по двенадцать часов без продыху, опаздывая на работу. Будильник надрывал глотку, пытаясь докричаться до меня, а я продолжал сопеть носом. Желудок стал устраивать периодические бунты. То и дело без всякой причины у меня подскакивала температура и пересыхало горло. Я сходил к врачу, забеспокоившись, что заразился экстравагантной формой гриппа или чего похуже (на работе мне приходилось пожимать руки многим незнакомым людям, так что это вполне могло произойти). Но после обследования выяснилось, что я здоров, как бык. Не поверив врачу (дешёвая клиника, раздражённо думал я, что с неё возьмёшь), я сходил в другую клинику, более престижную. Но и там диагноз был тот же: абсолютно здоров.
Вот тогда-то я и подумал о цветке.
Это было настоящим безумием — подозревать в своём недуге растение, тихо-мирно растущее в своей плошке у окна. Но я стал замечать, что непонятная болезнь обостряется в дни, когда я провожу возле цветка особенно много времени. Я устроил проверку: в первый день старательно обходил чудо-цветок стороной (хотя меня неотвратимо тянуло снова вдохнуть полной грудью тот неземной аромат), а в следующий наверстал упущенное, почти весь вечер проводя в компании своего дружка. Как я и думал, в первый день болезнь отдала назад, вернув мне радость жизни, зато во второй на меня напала лихорадка, сопровождающаяся обильной рвотой и смазанными сновидениями. Так я окончательно уверился, что причиной моих несчастий выступает именно цветок.
Первая мысль была: выбросить. К чёрту. Или сдать в ботанический сад, пускай поохают и поисследуют, как он попал в наши края. Зрелище, конечно, интересное и очень красивое, но не стоит разрушенного здоровья. Кто знает, может, этот запах, в котором я души не чаю — на самом деле отравленный газ, и прикосновение к этим сочным лепесткам действует не хуже, чем если бы я взял в руки стержень из урана.
На том я и решил. Зашёл в кухню, предусмотрительно надев перчатки, и резким жестом поднял плошку на уровень глаз. Цветок колыхнулся, словно в испуге. Высота его теперь была не меньше тридцати сантиметров. Волшебный запах снова ударил в нос. Я собирался задержать дыхание, но не смог. Этому аромату нельзя было не покориться. Я стал жадно вдыхать, забыв про свои рациональные измышления. В последний раз, твердил я себе, только в последний раз. Нанюхавшись до одури, я сделал два шага в сторону выхода. Ноги подкашивались. В ушах гудело, и вдруг кухня вся сморщилась, как хрустящая фольга для шоколадок; я почувствовал, что падаю, и плошка выскальзывает из моих пальцев.
Здесь, лёжа на жёлтом линолеуме кухни, перемазанный в высыпавшейся из плошки почве, я в первый раз увидел сон про большой сад. Ничего не запомнил из того сна — в миг пробуждения в голове отпечаталась лишь заключительная картина, яркая до рези: небо с тёмными громадами туч и красноватый отблеск, который пробивается сквозь них. Больше ничего, кроме главного: это было прекрасно, и сон стоил того, чтобы увидеть его.
Было ещё кое-что: я знал, что больше болеть я не буду. То, что было ранее, было недоразумением. Каким-то образом цветок смог понять, что делает мне нехорошо, и теперь я мог не беспокоиться. Как любил говорить вождь прошлых лет, по этому вопросу мы пришли к консенсусу.
И правда, когда я встал и начал убираться в кухне, то чувствовал себя гораздо лучше. Головокружение и резь в животе прошли. Во всём теле, от пяток до макушки, ощущалась какая-то лёгкость и невесомость, словно я только вернулся из бани. Я выбросил в мусор осколки плошки, собрал землю в маленькое ведёрко и до поры до времени поставил цветок туда. Корень цветка напоминал комок жёлтого пластилина, небрежно раскатанный в ладони.
В следующий день я снова посетил цветочный магазин, чтобы купить новую плошку. Но когда плошку мне принесли, я подумал, что она, возможно, будет мала для растения, которое развивается столь бурно. Может, именно ограниченные размеры прежней плошки и удерживали её от дальнейшего совершенствования?.. Я вернул плошку продавцу и попросил новую, побольше. Мой выбор пал на широкую кадку, доходящую мне до груди. Пришлось воспользоваться помощью грузчиков, чтобы дотащить её до дома. Они не увидели цветок, потому что он стоял в кухне, а кадку я велел поставить в угол гостиной. Пока грузчики пыхтели, устанавливая её, я ещё раз обдумал принятое решение и кивнул сам себе. Решение было верным. Другого и быть не могло.
Так для цветка началась новая жизнь. Как я и ожидал, в новом месте он развернул куда более бурную жизнедеятельность, дойдя вскоре до половины метра в высоту. Его уже трудно было назвать цветком — скорее, маленькое деревце. Под лепестками вырос второй слой, очень тонкий и нежный, имеющий светло-розовый цвет. Сердцевина коронки зияла, как маленькое солнце, и по-прежнему радовала глаз зеркальной гладью. Я поливал цветок водой и сыпал в почву удобрения. А в благодарность за это он показывал мне сны. Сны, после которых я просыпался счастливый и измождённый, весь в горячем поту, с остекленевшими глазами. Первые сны я так и не запомнил, но потом мозг стал как-то приспосабливаться. Возможно, память отказывала, потому что виденное мной изначально не предназначалось для человека. Но я видел. И с каждым разом всё больше.
Я видел те же тёмные небеса с теми же грозными тучами, которые налезали друг на друга. Я видел красные лучи светила, которое пряталось за ними. Это было самое лёгкое, что запоминалось. А вот для восприятия того, что находилось под этой панорамой — места, которое я назвал «большим садом», — требовались силы гораздо больше.
Поле багровых цветов не имело конца и края. Оно было везде, от одного горизонта до другого. Да и был ли горизонт вообще, или красные головки уходили прямиком в бесконечность? Я не знал. Цветы располагались в совершенном порядке, образуя решето. Я видел их отовсюду — сверху, снизу, сбоку, — но нигде мне не удалось заметить ни малейшего отклонения от всеобщей гармонии. Багровый сад под багровыми небесами, изливающий багровое сияние. Каждый цветок был похож на маленькую лампу. Мерцающий ореол окутывал их, и в этом размеренном сиянии цветки тянулись вверх, ещё выше, к небу с тяжёлыми, никогда не рассеивающимися тучами. Я мучительно ждал, когда же пойдёт долгожданный дождь, но его не было. Его, похоже, и не могло быть в этом странном месте, который не мог существовать в нашем банальном мире.
Находиться там было ужасно и прекрасно одновременно. Я чувствовал, как касаюсь своим разумом чего-то непостижимого, не могущего быть реальным, но тем не менее реального. И лучшим доказательством тому была частица того грандиозного сада, которая приютилась в углу гостиной. После всех видений стало понятно: мой цветок — ещё лишь дитя, которому расти и расти до подлинной зрелости. Тем не менее, он уже начал размножаться, и по четыре стороны от него развернули чаши его миниатюрные копии.
По иным ночам цветок светился. То же мглисто-бархатное сияние, которое я видел во снах. Сначала сияние было видно очень редко — раз или два в неделю, но частота увеличивалась, и вскоре цветок стал создавать тени в гостиной почти каждую ночь. Маленькие цветки подхватывали это сияние, стараясь не отставать от родителя, но они были не соперники ему. В священном восторге я касался лепестка, окружённого ореолом, и кончики моих пальцев окутывал тот же свет. Он не угасал до самого утра, когда под напором солнечных лучей багровое сияние медленно затухало.
«Мой цветок, — думал я, глядя на потолок квартиры с блаженной улыбкой. — Он мой».
Я почти перестал ходить на работу и не выходил на улицу. Квартиру покидал только по самым насущным потребностям, как-то: сходить за едой, вынести мусор, оплатить счета. Мне не хотелось ни на минуту отдаляться от прекрасного пришельца из иного мира. И я с нетерпением ждал каждой ночи, зная, что мне предстоит очередной визит в иную реальность, несомненно лучшую, чем наша.
А сны продолжались, становясь ярче и глубже. Поле цветов более не представлялось чем-то монолитным, раз и навсегда застывшим. Я видел, как ветер колышет их головки, заставляя наклониться. Иногда какой-нибудь цветок валился в сторону, поражённый болезнью или иной напастью, и тогда растения усиливали своё мерцание, помогая сородичу. Не проходило и часа, как погнувшийся стебель вновь выпрямлялся, и гармония восстанавливалась.
Безымянный «большой сад» теперь имел название. Об этом мне сообщил тихий голос, говорящий баритоном прямо над ухом — он появился примерно тогда, когда мой цветок стал испускать лучи каждую ночь. Я полагал, что это именно его голос. Значит, нынче я мог общаться со своим другом. Но обычно он на вопросы отвечать не был склонен, и говорил только тогда, когда сам хотел.
Тёмные Сады, сообщил он мне, когда я в задумчивости глядел на бескрайнее поле. Они называли это место Тёмными Садами.
Кто? — откликнулся я (конечно, мысленно). — Здесь раньше кто-то бывал?
Но голос лишь едва слышно засмеялся и больше не говорил. Я продолжил изучение сада и увидел, что земля под цветами рыхлая, сбившаяся в плотные комки. Подобную почву я видел не впервые: у меня дома, в кадке, земля тоже посерела и слиплась в сухие куски. Должно быть, в процессе развития цветы высасывали из неё всё, что только можно. Это мне чем-то не нравилось, но моё мнение в Тёмных Садах вряд ли кого-либо интересовало.
«Нужно будет поменять почву в кадке, — рассеянно подумал я, чувствуя, как выплываю из сна. — Сделать очередную пересадку…».
Но, проснувшись, понял, что этого не требуется. Понял сам по себе, без всякого там вкрадчивого шёпота над ухом. И мне только льстило, что мы с другом нашли способ общаться без помощи слов.
Проходили дни и недели. С работы много раз звонили, потом сообщили, что я уволен. Я сказал, что сожалею об этом, и спокойно повесил трубку. Один раз позвонила моя мать, обеспокоенная тем, что я долго не даю о себе знать. Я успокоил её, сказав, что со мной всё в полном порядке (и провалиться мне на месте, если я соврал). С друзьями и подружками, которые докапывались до моих дел, я был проще и прямо просил их не беспокоить до поры до времени. Я абсолютно здоров, дела у меня идут просто прекрасно, и скоро я обязательно с ними свяжусь.
И правда, нельзя сказать, что всё было так уж ненормально. С работы-то меня уволили, но при нынешнем образе жизни сбережений у меня хватило бы на пять с лишним лет безоблачной жизни. Я не оброс щетиной, регулярно убирался по дому, принимал ванну и менял одежду. Готовил и с аппетитом ел три раза в день, как обычно. Регулярно совершал обход магазинов. Днём иногда смотрел развлекательные передачи. Только вот вечера и ночи всецело принадлежали моему другу и Тёмным Садам, где он родился.
Во время одного из визитов в Тёмные Сады он рассказал, что здесь раньше были люди. Люди и цветы сосуществовали бок о бок, но потом сошлись на том, что каждому полагается свой мир. И они ушли в поисках нового мира.
Когда это было? — спросил я. Как обычно, ответ пришёл не сразу.
Ты не поймёшь. В вашем языке нет такого понятия. Это не связано с тем временем, к которому ты привык. Но можно сказать, что это было очень давно… больше, чем ты можешь себе представить.
Как ты попал в наш мир? — спросил я в другой раз. — Каким образом оказался под нашим домом? Ты же мог умереть. Ты… заблудился?
Цветы покачивались под ветром на рыхлой земле. Красное солнце, так и не увиденное мной, окрашивало края туч в торжественный оранжевый оттенок.
Нет. Я пришёл в ваш мир осознанно. Мы хотим знать, в какой мир попало человечество. Я выслан сюда, чтобы сказать вам одно…
Да? — нетерпеливо спросил я, но пауза опять затянулась. Пелена сна размыла картину. Моё сердце забилось учащённо. Ответ казался мне очень важным. Я должен был услышать его, прежде чем проснусь. Изо всех сил я цеплялся за осколки сновидения, пока не услышал тихий голос вдалеке.
Чтобы сказать… Розы всё ещё цветут в Тёмных Садах, покинутых вами.
И я проснулся. Полумрак рассвета делал воздух вязким, как сметана, но я нашёл в себе силы выскочить в гостиную, даже не надев тапочки. Как раз вовремя, чтобы заметить, как гаснет сияние цветка. Внезапно меня стало тошнить, я опрометью кинулся в туалет, где меня вывернуло наизнанку.
В тот день я почему-то не желал близко подходить к цветку. Не знаю, что меня так напугало. Сон не отличался от череды других — я наслаждался пребыванием в Тёмных Садах, мой друг нехотя отвечал на мои вопросы. Что изменилось? Может, настало пресыщение, и всё это таинство мне надоело? Я решил, что, скорее всего, дело именно в этом. Но почему тогда я боялся даже взглянуть на эти благоухающие лепестки, которые недавно дарили мне столько радости? Только ли из-за того, что запах приелся?
Всё, хватит, внезапно подумал я за обедом. Наигрался. Нужно завязывать. Найти новую работу, возобновить походы во внешний мир… может, даже избавиться от цветка.
Я пришёл в ужас от такой мысли. Избавиться?! Просто так выкинуть пришельца из иного загадочного мира, который столько мне рассказал и с которым я успел подружиться? Что за дикость! Ну уж нет. Да, последней ночью его слова меня напугали, но это дело поправимое. Сегодня всё будет как раньше, и я снова пойму, как много значат в моей жизни походы в загадочное место под названием Тёмные Сады.
Настал вечер. Я по привычке оросил в кадке почву, которая потихоньку каменела. Но цветок этого как будто не замечал — стоял, раскинувшись во всю красу, и по нежно-алой ткани медленно растекалось изумительное сияние. Запах был острым и приятным, как никогда раньше. Маленькие цветы тоже выросли будь здоров — глядишь, скоро тоже заимеют голос.
Так ты всё-таки роза, — отрешённо подумал я, любуясь этой маленькой семейкой. — Роза, цветущая в Тёмных Садах. Что тебе нужно в нашем мире? Зачем ты пришёл?
Я провёл пальцами по большому лепестку. Подушка мизинца тут же загорелась багровым огнём. Задумчиво глядя на палец, я отправился в постель. Долго не мог заснуть. Странная нега, которая уносила меня в иной мир, не спешила заключать меня в объятия. Лишь к полуночи мне удалось погрузиться во власть сна и снова увидеть бурное небо и мирную землю с красными цветами. Цветы, которые росли в Тёмных Садах, были сегодня ночью красивы, как никогда. Их сияние доходило до самого неба и сливалось с лучами солнца.
Сегодня особенный день, раздался шёпот возле уха. Обычная ничего не выражающая интонация пропала — голос лучился радостью.
Да? — осторожно отозвался я. Всё это мне не нравилось. Не было ощущения умиротворения, не было ничего хорошего под мрачными небесами. Мне стало зябко и одиноко.
Твои родичи назвали бы это днём рождения. Хотя нет… думаю, на вашем языке «возрождение» — более верное слово. Ничто не пропадает бесследно в Тёмных Садах.
Да? — снова сказал я. Ничего другого в голову не приходило. Я хотел проснуться. Уж тогда-то точно выкину к чертям странный цветок…
Я рад, что мне довелось с тобой общаться. Мне было действительно приятно. Я многое узнал о вас, людях. Но я должен выполнять своё предназначение. Более нельзя медлить… уже можно возрождаться.
Вот тут-то я сорвался.
— О чём ты говоришь? — громко закричал я. Ветер подхватил крик и унёс высоко к тучам, где оно многократно повторилось, превратившись в нечёткое эхо. Словно этого и ждали, все растения в Тёмных Садах дрогнули в едином порыве. Головки качнулись, земля под толстыми стеблями вздыбилась. Сухие комки почвы с шуршанием покатились в стороны. В мгновенье ока этот звук захватил весь мир, напоминая шорох армии крыс, которая ползёт под покровом ночи.
«Что происходит?».
Сад рушился. Упал один цветок, за ним второй. Сияние потухло, превратив чаши цветов в жухлое тряпьё. Везде земля переворачивалась, словно из-под её глубин вверх рвалось нечто… тысяча, миллион, миллиард этих «нечто», заполоняя Вселенную от начальной точки до конечной. Я закричал, с превеликим облегчением чувствуя, как пробуждение утягивает меня назад. Но за мгновение до того, как оказаться в своей постели с криком, рвущимся из пересохшего горла, я услышал ужасающий визг, который издавали существа, лезущие из-под земли.
Сон, попытался я успокоить себя, стуча зубами. До рассвета было ещё далеко. На потолке застыл отсвет уличного фонаря. Я проснулся. Всё хорошо, всё в порядке. Всё в по…
Шуршание в гостиной дало мне понять, что ничего не в порядке. Я встал, как сомнамбула. И пошёл вперёд, в темноту гостиной, где с моим цветком происходило то же, что с миллиардами ему подобными в ином мире.
Цветы упали. Два выпали из кадки на пол, другие лежали, переломанные и растерявшие своё великолепие, на истощённой почве. Ноги несли меня сами; я подошёл к кадке и заглянул в неё, уже догадываясь, что происходит. В конце концов, я ведь видел тот странный клубень, когда пересаживал цветок — да только откуда мне было знать, во что он вырастет?
Более нельзя медлить… уже можно возрождаться.
Жёлтое слизистое существо силилось вылезти из земли, отталкиваясь студенистыми руками от краёв кадки. Тело тряслось и подрагивало, формы менялись, не останавливаясь ни на секунду. Что оставалось неизменным — это две руки, две ноги, раздутое туловище и нечто вроде головы: щелки глаз, крошечные отверстия на месте ушей, провал носа и беззубый широкий рот, в котором тоже была жёлтая слизь, напоминающая желчь. Я застыл, парализованный. Наконец, оно освободилось от корней цветов, которые вылезали из его рта (вот кого я подкармливал все эти месяцы, отстранённо подумал я, глядя на него, неудивительно, что почва так быстро обеднела). Его лицо обратилось ко мне: уродливое, лыбящееся, истекающее отвратительной слизью. Он протянул ручки ко мне, и я покорно нагнулся, полностью потеряв контроль над собой. Я только видел его лицо, приближающееся ко мне, и слышал своё хриплое дыхание. Оно раздвинуло мягкими руками-щупальцами мои челюсти и напоследок снова улыбнулось мне. Мне показалось, что оно мне что-то сказало — что-то вроде: «Розы всё ещё цветут», и стало вливаться горячей массой в мой рот, проникая в горло, оттуда — в желудок, оттуда — во все жилки тела, расплавляя внутренности, как горячий свинец. Стало трудно дышать. Я закрыл глаза, а открыть уже не смог.
Ранним утром, когда солнце только вставало над спящим городом, из подъезда девятиэтажки на окраине города вышел человек. Он стоял, схватившись за перила лестницы, словно боялся упасть, и удивлённо оглядывал пустую улицу с жёлтым мигающим глазом светофора на перекрёстке. Он остановил свой изумлённый взор на дворнике, который подметал сухие листья у подъезда. Увидев человека, пристально следящего за ним, дворник недовольно пробурчал:
— Ну, что уставился? С утра пораньше делать нечего?
— А? — человек растерянно мигнул. — Нет… я просто… осматриваюсь.
Он сделал шаг вниз по лестнице и едва не упал, споткнувшись одной ногой о другую.
— Ходить, что ли, не умеешь? — дворник всё ещё хмурился. — Ну давай, осматривайся, это у нас не запрещено. Только поосторожней, а то держишься, как новорожденный.
— Ново… что? — человек с огромным интересом подался вперёд, не выпуская перила.
— Ну, ты даёшь, сынок, — усмехнулся дворник. — Новорожденный, говорю. Только-только родился. Так-то понимаешь?
— Да, — кивнул человек и вдруг заулыбался. — Понимаю… Новорожденный. Только-только родился. Да, думаю, это правильное слово.
Не обращая внимания на ворчания дворника, он выпустил перила из рук и сделал первый самостоятельный шаг вперёд. Получилось неплохо. А там, где один шаг, будет и второй. Человек продолжал идти вперёд, пока не вышел из двора. Он задержался всего на секунду, восхищённо глядя на синее небо и белые облака, плывущие в нём — и ушёл изучать новый, неизведанный для него мир.
2006 г.
Хрустальное кольцо
Кольцо начало своё путешествие с крутого горного склона, по которому скатилось, весело перепрыгивая с камня на камень. Никто не знал, кто пустил кольцо с вершины горы (и пускал ли кто-то вообще). Кольцо неслось вниз, сделанное из чистейшего хрусталя, в котором попеременно отражались небо и камни. В то время как одна половина обретала лазурное свечение, другая часть окрашивалась в серую пелену. Кольцо с одинаковым вдохновением отражало оба цвета, пока склон не кончился, и оно не выкатилось на зелёную лужайку у подножия, заблестев изумрудным оттенком.
— Останови-останови, — тут же прозвенел чей-то голос. — Видишь, там что-то блеснуло?
Через минуту хрустальное кольцо покоилось на ладони молодой девушки, блистая в солнечном свете. Телега катилась по просёлочной дороге, и кольцо подпрыгивало, заставляя девушку смеяться. Она попыталась надеть его на палец, но кольцо не было предназначено для того, чтобы служить символом супружеской верности. Оно просто отражало, не отдыхая ни на минуту, белые перья облаков, золотые колосья пшеницы, счастливые искорки в глазах своей обладательницы.
— Я оставлю его у себя, — уверенно заявила девушка, опуская кольцо в карман платья. Там оно приняло цвет чернее сентябрьской ночи. — Какая прелесть!
Так хрустальное кольцо поселилось на груди девушки. Она надела его на золотую шейную цепочку и носила с собой, не снимала, даже когда ложилась спать. Кольцо подрагивало с ударами её сильного, энергичного сердца. Оно впитывало в себя теплоту её тела, мягкость белья и нежность упругих белых холмиков. Вместе с хозяйкой оно наблюдало лунное небо через завесу тюли и считало яркие летние звёзды. Кольцо узнало имя её возлюбленного — и вместе с ней томно вздрагивало, произнося это имя.
Перемены настали, когда летние дни стали холодными и короткими, и осень начала заявлять о своих правах. Тонкая цепочка оборвалась, когда хозяйка предавалась любви на берегу реки со своим возлюбленным — и кольцо покатилось по желтеющей траве, не замеченное никем, навстречу заходящему солнцу. На водах озера солнечный свет создавал золотую дугу моста, ведущего вдаль, на противоположный берег. Кольцо ступило на этот мост, погрузившись в воду. Течение подхватило его, наполнив прозрачной синевой. Кольцо поплыло по реке, погружаясь в глубину и выплывая обратно. Ни на миг оно не переставало усердно отражать окружающий мир. Проплыла рыба — её удивлённые глаза отпечатались на глади хрусталя. Зацепился водоросль — его хваткие щупальца тоже находили отклик в кольце. В те мгновения, когда кольцо выскакивало на поверхность, оно жадно ловило лучи замёрзшего солнца и скрывало их внутри себя крохотными жилками одуванчика.
Кольцо плыло долго, пока не попало в сети старого рыбака, который целый час протирал найденное сокровище, вычищая грани до чистоты алмаза. На миг показалось рыбаку, что между гранями кольца где-то глубоко мелькнуло лето, и цветы качнули чашами, и послышался счастливый девичий смех. Рыбак поднёс кольцо к уху, но ничего больше не услышал.
Зиму кольцо пережило в хижине рыбака, лёжа на деревянной полке, из которой кое-где выглядывали гвозди. Одна шляпка торчала как раз возле кольца — так что наполовину хрусталь выглядела как ржавая сталь. Другая половина отражала черные деревянные доски и вечерний свет керосиновой лампы. Кольцо узнало запахи солёной рыбы и горького вина, слышало тяжёлые вздохи и плач нового хозяина. Иногда, воскресными вечерами, рыбак поднимал кольцо, сжимал его в ладони и пересказывал пьяным заплетающимся языком безрадостную историю своей жизни. Ему казалось, что в ответ на откровения кольцо начинает пропитывать ладонь теплом…
Весной хижина сгорела. Рыбака не было дома, когда окончательно подгнившая полка провалилась, и керосин из лампы разлился по сухому полу. Солнечный зайчик на полу игриво вспыхнул. Кольцо зачарованно отражало разгорающиеся оранжевые языки. Потом огонь добрался до него, погрузив в полыхающую пучину. Когда обрушился потолок хижины, одна из балок защемила опалённое хрустальное кольцо, заставив его вылететь на обугленную траву рядом с домом. Больше кольцо не отражало небо и землю: копоть покрыла его зеркальную гладь. Но оно недолго лежало на земле — им заинтересовалась пробегающая мимо бездомная кошка. Кошка попыталась вцепиться в кольцо зубами, но быстро уразумела, что оно несъедобно. Она поиграла с кольцом, дотащив до опушки леса, и скрылась между деревьями, оставив его лежать в трещине земли чёрным глазом, уставившимся на небо.
Два долгих года провело кольцо в новой обители, терпеливо выжидая очередного поворота своей судьбы. От копоти оно давно избавилось и снова сияло красками окружения: тоскливой серостью пыли, ободряющей розовостью рассвета, корицей панциря жуков. Оно запомнило в своих бесчисленных гранях неуёмную стужу зимы и крики улетающих на юг птиц. Кольцо впитало капли летнего дождя и прохладный поцелуй первых снежинок, вот только рук, которые коснулись бы его, не находилось. Никто не видел кольцо, которое было надёжно скрыто от посторонних взоров.
Но детские глаза способны на всё. И на втором году над кольцом радостно вскрикнул мальчишка, который бежал мимо с корзинкой для ягод. Он сел на корточки и вытащил кольцо из трещины, восхищённо открыв рот. Тем вечером он вдохновенно рассказывал скептическим родителям, как увидел внутри хрусталя свечение, вобравшее в себя гудение мощного огня и крики чаек.
— Это просто кольцо, — отец мальчика похлопал его по спине. — И очень красивое. Наверное, кто-то выронил, когда собирал ягоды. Нужно будет дать объявление…
Но по объявлению никто не явился, так что кольцо осталось в доме у мальчика. Оно видело, лёжа на столике, как мальчик растёт и мужает. Когда настал день войны и молодой мужчина был вынужден покинуть свой дом, он без раздумий взял с собой кольцо.
На войне кольцо встретилось с тем, с чем до сих пор не сталкивалось: предсмертными криками и пороховым дымом, стелющимся над утренним лесом, свистом пуль и сдержанными мужскими слезами. Оно исправно поглощало отчаяние своего владельца, его злобу, надежду и любовь, всему находя место среди искр хрусталя. Хрустальное кольцо соприкоснулось со смертью, когда однажды гремящим утром холодеющие пальцы хозяина забрались к нему и сжали в кулаке, прежде чем замереть навечно. И дыхание смерти стало частью калейдоскопа. Скоро кольцо подобрал другой человек; вены на его руке вздулись в тот миг, когда он впервые тронул холодный синий хрусталь, в котором колыхалась ткань гимнастерки.
На войне кольцо меняло владельца много раз. Когда война кончилась, оно пересекло границу страны на тёмном дне рюкзака с награбленными вещами, и ушло за много лесов и морей, где жили другие люди с другими обычаями. Но они тоже непременно восхищались кольцом и находили в своём доме приют для него. У одних кольцо задерживалось всего на несколько дней, зато другие хранили его десятилетиями, прежде чем жизнь их заканчивалась. Кольцо ещё не раз встречалось с огнём, водой, страстью и смертью; но, несмотря на плотный груз, который заключался в нём, оно не утратило первозданной чистоты и оставалось похожим на каплю летней росы — как в тот день, когда впервые скатилось с вершины горы, вбирая в себя краски мироздания.
Человек был молод. Затаив дыхание, он смотрел на голубую бездну над головой, в то время как остальные уже разбрелись по полуразрушенным улицам. Он сделал вдох, и его грудь наполнилась необычным запахом, так отличающимся от привычного воздуха с идеально сбалансированными составляющими на его родной планете. Прищурившись, человек смотрел на солнце — единственное солнце на небе, не два и не три. Всё было странно в этом мире, ставшем многие тысячи лет назад колыбелью человечества. Сейчас мир был покинут и наслаждался заслуженным отдыхом. Даже туристы, которым не терпелось глянуть на древние строения и безмолвные города, старались не шуметь, чтобы не нарушить сон планеты-прародительницы.
Человек опомнился и сделал шаг по потрескавшемуся тротуару. Рядом с ним на рыхлой земле возле тротуара что-то ослепительно сверкнуло, заставив его на секунду прикрыть глаза. Человек подошёл и присел, вглядываясь в находку. Это было крохотное кольцо, ясное и прозрачное, глядевшее на него спокойным хрустальным зрачком. Что оно тут делало? Человек с опаской протянул кисть и взял кольцо. Ему показалось, что кольцо дёрнулось в его напряжённых пальцах, словно живое; что оно тёплое, горячее, холодное и морозное одновременно, и в голову хлынули мириады незнакомых красочных образов: девушка, смеющаяся у воды, жадный огонь, рвущийся к хилому потолку, громогласные звуки выстрелов, чей-то безумный смех, плач, крики боли и фиолетовое пламя, выплескивающееся из сопла старомодной ракеты (таких давно не делают); звёздные просторы и багряная солнечная поверхность. Человек сидел, сжимая хрустальное кольцо, постигая в одночасье тысячелетнюю мудрость и память хрусталя, которые складывались в простые, такие знакомые слова…
Пальцы сомкнулись, укрывая кольцо от взоров. Всё ещё потрясённый, он положил кольцо в карман.
2007 г.
Улыбающееся Лицо
Улыбающееся Лицо находилось на потолке детской комнаты в нашем доме, аккурат над моей кроватью. Каждый вечер, стоило мне надеть пижамку и опустить голову на подушку, я видел его — безобразно кривое, рассечённое морщинами, и вроде бы игриво подмигивающее. А уж улыбка у него была шире некуда. Мне не хотелось смотреть на лицо, поэтому я приучился спать на животе или на боку. Привычка эта сохранилась на всю жизнь.
Взрослые слышать не хотели моё нытьё о том, что на потолке нашего дома таилось чудище. «Это просто трещины на потолочной балке, — твердила мать. — Понимаешь, потолок дома тяжёлый, он давит на балку, и по ней идут трещины. Да и непохоже нисколько на лицо. Будь смелым — ты же мальчик, в конце концов». И действительно, днём, когда я смотрел на чёрные зазоры, они не казались похожими на человеческое лицо. Но стоило воцариться в комнате полумраку, они тут же будто оживали, и Улыбающееся Лицо снова заглядывало в мои глаза. Я всхлипывал и ложился на живот.
Для меня Улыбающееся Лицо в комнате было не просто ночным пугалом. Детям свойственно живо придумывать своё объяснение всему вокруг, а воображением я обделён не был. Хотя родители мне никогда об этом не говорили, я знал, что Дед Мороз успевает разносить подарки всем детям за одну ночь по той причине, что время для него замирает, пока он не отдаст последний подарок — и поэтому мне было его немного жалко: попробуй всю долгую-долгую зимнюю ночь скитаться по земле с огроменным мешком. Кроме того, я был твёрдо убеждён, что детей делают на специальной фабрике — штампуют их на длинном конвейере, как конфеты (а всё из-за того, что мне довелось увидеть конфетный конвейер однажды по телевизору).
Вот и у Улыбающегося Лица была целая история. Я знал, что на самом деле это злой дух, который не любит детей — похищает их, уносит в ночь, и больше никто никогда их не видит. А улыбается он, чтобы обмануть своих жертв фальшивой добротой. Дух натворил так много плохих вещей, что другие духи не выдержали и навечно заточили его в дереве далеко в лесу. Потом из этого дерева люди сделали потолочную балку для нашего дома — так он попал на мой потолок. Важно было долго не смотреть в его чёрные глаза-провалы в древесине — иначе он мог околдовать тебя и вырваться из своего плена.
Чудище пугало меня с малых лет до третьего класса, потом родители развелись, и мне пришлось переехать в другой дом вместе с матерью. Впрочем, к тому времени я начал подрастать, и замысловатые трещины, образующие лицо, больше не казались живыми. Больше я его не видел — до тридцати пяти лет. Это случилось месяц назад, когда я вернулся в дом отца.
Обычно мы с отцом встречались три или четыре раза в год, но непременно в доме матери, а когда я вырос — в моём собственном доме. Но в тот раз отец пригласил меня к себе, и я не смог отказать, тем более что мне не чужда была ностальгия по родному гнёздышку. Дом остался почти таким же, как раньше: отец так и не женился во второй раз, поэтому больших перестановок не было. Но было видно, что он ветшает — ведь ещё когда мои родители покупали его несколько десятилетий назад, он уже считался старым. Я с удовольствием прошёлся по комнатам. То, что в памяти отпечаталось как огромное, оказалось до смешного маленьким. Зайдя в пыльную детскую, я вспомнил свой былой страх, не удержался и посмотрел на потолок. Трещины были на месте. Я даже залез с ногами на осиротевшую детскую кроватку (та жалобно заскрипела под моим весом), чтобы рассмотреть своего давнего врага. Нет — ничего отдалённо похожего на лицо, хотя в комнате уже было сумеречно. Похоже, в отсутствие испуганного малыша, наблюдающего за его ужимками, у Улыбающегося Лица иссякли силы, и оно развеялось.
— Видать, дружище, ты навечно там и останешься, — торжествующе сказал я и стукнул кулаком по трещинам. Последовала острая боль, вспышка — и я потерял сознание.
Пришёл в себя уже в больнице, весь в гипсе. Оказалось, чёртова балка прогнила изнутри, и сотрясение от моего удара стало для неё роковым. Потолок обвалился, и бревно ударило меня по затылку. Мне сказали, что мне очень и очень повезло — в девяти случаях из десяти я гарантированно сломал бы себе шею, а так отделался сломанной при падении ногой и лёгким сотрясением мозга. Меня выписали через три недели.
Я заново учусь ходить. Знаете, это чертовски нудно. Сейчас стою с костылями перед зеркалом в комнате и смотрю на своё отражение. Там видно Улыбающееся Лицо. После травмы у меня часто бывают неконтролируемые приступы улыбчивости. Не думаю, что о них стоит сообщать врачам, тем более что улыбка получается такая приветливая, добрая, обезоруживающая. Я раньше не умел так хорошо улыбаться.
Только бы быстрее вылечить ногу. Ох, детишки, держитесь.
2011 г.
Роковая любовь
Она была счастлива. Он — нет.
Весь долгий летний день они посвятили развлечениям. С утра они отправились в парк и терпеливо простояли в длинной очереди за билетами. Он переминался с ноги на ногу, следя за тем, как медленно очередь уходит вперёд. Она, казалось, была только рада задержке, и щебетала без умолку. Она говорила о птицах и облаках, о синем небе и воде, которая его отражает. С детской наивностью она восхищалась устройством мира и спрашивала, видит ли он вокруг те чудеса, которые открываются ей. Он отвечал, что видит. Она, смеясь, говорила: значит, он тоже влюблен. На минутку его мрачное лицо просветлело; он тепло улыбнулся ей. Да, он был влюблён.
Получив заветные разноцветные бумажки, они прошли в райский мирок. Он не был особо расположен к бесконечным взлётам-вращениям-падениям, но поневоле заразился её радостью и упоением. Они посетили все карусели и чёртовы колёса, пока она не призналась, что больше не может стоять на ногах из-за головокружения. Он взял её под руку и отвёл в кафе. Она любила ванильное мороженое, поэтому он купил именно такое. Три штуки. Просто он очень хотел видеть её радостной.
Покончив с парком, они отправились на озеро, чтобы поплавать на лодке. Он выбрал лучшую лодку и заказал целый час прогулки. Боялся, что ей надоест однообразное скольжение по водной глади, но она была вне себя от счастья. Она выгибалась за борт лодки, чтобы строить рожицы своему отражению, потом набирала воды в ладонь и брызгала ему в лицо. Он отвечал тем же. Водные войны успели превратиться в крупномасштабную кампанию, когда лодочник сердито окликнул их.
Они побывали в кинотеатре, где она прослезилась над несчастьем влюблённой парочки, которую разлучила жестокая жизнь; он и сам едва не всхлипнул, видя на белом экране жуткую насмешку над собственной судьбой. Когда кино подходило к концу, она вдруг прижалась к нему, обвила руками за шею и поцеловала. Губы её были жаркими и влажными — когда он, наконец, вышел из эйфории и огляделся, то заметил, что последние посетители выходят из зала.
Они пообедали в маленьком ресторанчике, потом гуляли по городу, взявшись за руки. Она вдохновенно говорила об их любви; о том, что она будет вечной и самой-самой крепкой. Он соглашался. Он соглашался с ней во всём, и взор его постепенно затухал.
А вечером она предложила прогуляться за городом вдоль опушки леса. Он остановился, как вкопанный — словно не прогуляться она предложила, а расстаться навеки. Красный шар солнца едва касался линии горизонта. Она обеспокоенно спросила его, что случилось. Он улыбнулся через силу и сказал, что остолбенел от счастья. В вечернем сумраке она не заметила слезинку, блеснувшую на его щеке.
Лес тянулся ровно, уходя зелёной полосой куда-то далеко. Не отпуская рук друг друга, они шли вперёд, удаляясь от городских огней. Справа от них раскинулось безбрежное поле, где колыхалась сирень, слева начиналась дремучая тайга. За спиной гремел вечерний город. Солнце зашло. Воздух растерял душистый летний аромат, готовясь к ночи.
И она по-прежнему была счастлива, а он — нет.
Шаги прекратились. Они были одни у молчаливой опушки. Он повернулся к ней, тяжело дыша, взглянул на её лицо, излучающее сияние, в её зелёные глаза. Она ждала его действий. Она хотела любви, она хотела блаженства, хотела быть с ним… и он тоже так хотел этого. Но не мог. Он всегда нёс с собой только одно… смерть.
Осознав неизбежность грядущего, он поднял глаза к небу, где одна за другой зажигались звёзды, и горестно завыл.
Сколько жизней он оборвал такими безлунными ночами?.. Сколько мечт он превратил в дымящийся прах? Сколько крови он пролил, лишь затем, чтобы удовлетворить свой голод — выплатить дань своей звериной натуре? Он давно потерял счёт. Но никогда, никогда он не был влюблён. Никогда раньше он не видел те сверкающие краски мира, что видела она, не знал, что такое страсть.
Человеческий вой превратился в волчий. Он почувствовал, как истинная его природа рвётся наружу — спина выгибается, глаза загораются красным пламенем, клыки ощериваются. Он по-прежнему смотрел на небо, не смея глянуть в глаза возлюбленной. Она испуганно вскрикнула. Звёзды, казалось, злорадно усмехнулись.
Прости меня, подумал он, зная, что она не простит.
И выпрямился, намереваясь всё сделать быстро.
Она стояла, подняв руки в защитном жесте. Так обычно и бывало — ноги им отказывали, предоставляя зверю полную власть. Но её лицо… что-то было странное в нём. Не страх, не ужас, а восторг и умиление, которые весь день сводили его с ума. Он нахмурился, но упрямо сделал шаг вперёд, к ней.
Она засмеялась, звонко и заливисто.
— О, дорогой, — услышал он, — как я только сама не догадалась? Ты такой же, как я!
Он растерянно заморгал, видя, как она преображается, лицо кривится и покрывается чёрной шерстью, и в глубине зрачков вспыхивает красный огонь. Он попятился. Желание рвать и убивать затихло.
— Ты… — он не верил глазам. — Ты?..
— Я, — сказала она, и алые зрачки дёрнулись в беззаботном смехе. — Мне было так плохо из-за того, что мне придётся тебя убить…
— А мне — тебя, — сказал он, и им тоже овладел истерический хохот.
Ничто не помешает нам любить друг друга, подумали оба, медленно приходя к осознанию собственного счастья. Миром владеет рок, случайный бросок игральной кости, и на этот раз он пожелал, чтобы мы были счастливы.
В сгущающейся темноте они приникли друг к другу и долго стояли, не шевелясь, пока город пытался забыться сном.
2007 г.
Мёртвый
Часы, тикающие над кроватью, не давали спать. Лидия раньше не замечала, что они ходят так громко. Она попыталась вспомнить, когда купила часы. Год назад? Два года? Кажется, их кто-то ей подарил на день рождения.
Кто-то.
Ну конечно, это был Ваня, кто же ещё. На задней стороне металлического циферблата, помнится, даже была надпись: «Самой лучшей маме на свете от любящего сына». Ваня всегда приезжал на день её рождения и приносил с собой подарок — очередную вещичку, которая, как ему казалось, облегчала ей жизнь.
Слёзы нахлынули с новой силой. Подушка пропиталась солёной влагой до того, что стала мокрой на ощупь. Лидия проплакала полчаса, прежде чем полегчало в душе. Тогда она встала и распахнула окно, впуская в комнату ночной воздух. Ветерок охлаждал лицо женщины, осушая слёзы на лице.
Сегодняшней ночью луна была огромной. Она сверкала на небе, как алмазный самородок, и неторопливо изливала голубоватый свет на лес у домика. Свет был прозрачным и невесомым — создавалось впечатление, что все вокруг подрагивает и мерцает в этом серебристом мареве. В какой-то момент Лидии невыносимо остро показалось, что Ваня где-то рядом, прячется на опушке и сейчас следит за ней. Но сколько она ни старалась углядеть своего сына среди деревьев, под окном лишь убаюкивающе шумел спящий летний лес.
Надгробие резко выделялось своей сверкающей новизной среди других. И поэтому человеку, который пришёл ночью на кладбище, не пришлось долго блуждать среди могил, выискивая нужную.
Человек остановился перед надгробием, у подножия которого ещё не увяли оставленные родственниками цветы. Он не приходился покойному близким — его не было ни на похоронах, которые прошли вчера, ни на поминках. Не был он и бродягой, который пришел за едой, оставленной у могилы, потому что ничем не напоминал бездомного. И он не был жителем этого городка — сегодня ночью он явился сюда в первый и последний раз.
Человек всмотрелся в золотистые буквы, высеченные на надгробии. В лунном свечении они сливались в короткую надпись:
ИВАН СКВОРЦОВ
1948–1978
Человек протянул руку и коснулся надгробия. Несколько секунд он стоял, наклонив голову, словно к чему-то прислушиваясь. На его лице постепенно появилась довольная улыбка.
Яркий блик от лобового стекла приближающегося автомобиля слепит глаза. Автомобиль — белая «Чайка», она странно виляет из стороны в сторону. Он с тревогой смотрит на встречную машину, но не сбавляет скорость, потому что «Чайка», несмотря на виляние, всё же едет по другой стороне дороги. Но всё же, всё же… Нужно побыстрее разминуться, пока этот придурок ещё держится на полосе. Сам того не сознавая, он вдавливает газ, чтобы скорее проскочить мимо «Чайки». Когда капот уже в каких-то пяти метрах от автомобиля, тот выезжает на встречную полосу. Уже понимая, что столкновение неизбежно, он жмёт на тормоз со всей силы и поворачивает руль направо, пытаясь направить машину к обочине. Кажется, он кричит. Блик увеличивается, заслоняя всё на свете, и через секунду автомобили с хрустом впечатываются друг в друга. Его бросает на руль, острые обломки впиваются в грудь, дробя кости. Теперь он кричит уже по-настоящему, теряя сознание, и продолжает кричать, проваливаясь в вязкую тьму…
Сознание вернулось мгновенно, словно в голове полыхнула белая молния.
Только что его не было. Через секунду он СТАЛ.
Какое-то время он не мог ничего соображать. Он просто лежал и смотрел в темноту. А темнота была везде, она окружала его со всех сторон. Он пытался найти в ней ответы на какие-то ещё не заданные вопросы, но безуспешно.
Потом, как вода, прорвавшая плотину, в память хлынули воспоминания, яркие, будто знойное солнце лета. Он вспомнил блик на лобовом стекле «Чайки». Вспомнил, как выворачивал руль. И наконец, он вспомнил сокрушительный удар и то, как он растворился в липкой темноте.
А ещё он вспомнил своё имя — Иван Скворцов. Вспомнил свою мать, на день рождения которой ехал. На заднем сидении его автомобиля лежал в подарочной обертке коробок с пылесосом — подарок к её пятидесятишестилетию.
Но где он теперь?
Он осторожно попытался сдвинуться с места. Ну вот, хотя бы влево. Это ему удалось, но тут же он ткнулся боком во что-то мягкое, не дающее возможности двигаться дальше. Он попробовал проползти в обратную сторону. Там всё повторилось.
Тогда он попытался пощупать преграду негнущимися пальцами. Ногти впились в ткань, за которой находился жёсткий каркас.
Ничего не понятно.
Он попытался подняться с места, но голова стукнулась о дерево. Больно не было, но он почувствовал, как его охватывает паника.
Где он?
Ткань. Дерево. Темнота. Тесная каморка.
Всё это что-то жутко напоминало.
Ответ на вопрос пришёл опять же неожиданно, как вспышка молнии. Гроб.
Это был гроб.
Его похоронили!
ПОХОРОНИЛИ?
Он снова попытался сесть и снова ткнулся головой в крышку гроба. Этого не может быть, подумал он, не веря ужасной догадке. Не может быть!
Но всё-таки его похоронили.
Он попал в аварию. Наверное, сильно стукнулся, впал в кому или что-то подобное… Его похоронили, не зная, что он ещё жив. Такие случаи бывают, он читал об этом.
Но, может… Может, ещё нет? Может, его просто положили в гроб, но ещё не…
Он поднял руки и толкнул крышку гроба. Сначала слабо, потом сильнее. Наконец, он надавил на неё изо всех сил. Крышка не поддавалась.
Кричать! Орать во всю глотку, сколько есть сил! Может, кто услышит…
Он открыл рот, чтобы сделать это, но не смог издать ни звука. Горло отказывалось ему служить.
Он снова забарабанил ладонями по крышке. Потом начал пинать её ногами, размахиваясь, насколько позволяло тесное пространство. Неконтролируемый первобытный ужас охватил его, и он уже не соображал, что делает.
Сейчас воздух кончится, и он задохнётся…
В паническом ожидании неотвратимого конца прошла минута. Но воздух не заканчивался, удушья не было.
Он немного успокоился. Ещё не всё. Ещё не всё… Нужно разбить проклятую крышку и попытаться пробраться наверх. Такое, помнится, тоже бывало… Главное, нужно действовать, и быстро…
Но он не успел даже шевельнуться.
ВСТАВАЙ.
Голос заполнил пространство, пронизал каждую жилку его тела. Некоторое время он был оглушён и не мог ни о чём складно думать.
ВСТАВАЙ.
На этот раз потише, но голос всё равно долго прокатывался эхом по внутренней стороне черепа. Он замотал головой, чтобы заставить умолкнуть непрекращающийся звон.
Хорошо. Хорошо. Я встану.
Он забыл, что лежит в гробу и не может встать при всём желании. Но тут крышка гроба скрипнула — негромко, но вполне отчётливо. Не веря своим ушам, он толкнул её рукой. Крышка легко поддалась. Тяжёлый слой сырой почвы, который давил на гроб, исчез. Куда-то подевались и гвозди, которыми была приколочена крышка.
ВСТАВАЙ.
Голова снова взорвалась хрустальным звоном, от которого сводило скулы. Если бы он мог кричать, он бы, наверное, закричал. Но на этот раз он понял причину, почему эти слова причиняли ему такую боль.
Голос не звучал, слова не были произнесены. Источник слов располагался непосредственно внутри его головы, поэтому слышать это было сродни удару кувалдой по мозгам.
Он откинул крышку гроба и сел. Увидел, что могила (ЕГО могила!) опустела, хотя кучи вырытой земли не было видно. Увидел высоко на небе россыпь звёзд. Увидел полную луну, нависающую над кладбищем.
И увидел человека, который стоял у края могилы. Человек смотрел на него сверху вниз, но он не мог разглядеть его лица. Отсюда он выглядел чёрным силуэтом.
— Вылезай.
На этот раз человек произнёс слово обычным образом. И поэтому оно не вызвало того отвратительного ощущения, что раньше. Но он всё равно поспешил выйти из могилы. Взглянув вниз, он увидел гроб, обитый красным атласом. Атлас в ночи казался тёмно-синим.
Он поднял взгляд и посмотрел на человека рядом с могилой. Лицо у того было невыразительное, бледное и какое-то застывшее, словно поражённое неизлечимой болезнью. Луна делала его светлые глаза совсем прозрачными.
Незнакомец снял со своих рук толстые перчатки. Кожа его рук была сухой и сморщённой, как бывает у пожилых людей. Но сам он никак не производил впечатления древнего старика.
На губах человека мелькнула улыбка.
Он по-прежнему не мог говорить, он мог только думать. И он откуда-то знал, что его поймут без слов.
Кто ты?
— Тот, кто пришёл тебя спасать, — улыбка стала шире, обнажив при свете луны кривые неровные зубы незнакомца. Его передёрнуло от отвращения.
Но он не мог ничего возразить. Только что он лежал в сырой земле в гробу, похороненный заживо, а этот незнакомец его вытащил. Чёрт его знает, каким образом, но вытащил. Он его действительно спас.
Вот только он не чувствовал никакой благодарности своему спасителю.
Он с тревогой заметил, что улыбка на лице человека начала меркнуть, словно месяц, зашедший за тучи.
Он должен был задать этот вопрос.
Чего… чего вы от меня хотите?
Человек снова улыбнулся. У него чуть полегчало на душе. По крайней мере, не стало этого ледяного взгляда, будто изучающего тебя под стеклом микроскопа.
— Немногого, — сказал незнакомец. — Ты должен кое-что узнать. Слушай меня очень внимательно…
Порыв ночного ветра зашевелил листья деревьев.
Час спустя тот, кого недавно звали Иваном Скворцовым, вышел из ворот кладбищенской ограды. Ноги повиновались плохо, шагал он неуклюже, то и дело спотыкаясь о кочки, которые раньше и не заметил бы. Холодные пальцы шевелились с трудом. Глазные яблоки ворочались медленно, как проржавевшие шестерёнки. В венах окончательно остывала остановившаяся кровь. Сердце не билось, лёгкие не вбирали воздух. Он был мёртв.
Он был отвратителен самому себе. Нос его тоже бездействовал, как и всё остальное, но он был уверен, что от него разит разлагающейся плотью и могильной землёй. Он видел собственную посеревшую кожу, которая стала хрупкой, как обгоревшая ткань — стоило надавить на неё пальцами, и она расходилась, обнажая мясо. Само мясо выглядело не лучше кожи, сухое и чёрно-красное. Раны, образовавшиеся на месте разрыва кожи, не болели.
Долго так нельзя было протянуть. Человек, вытащивший его из могилы, сказал, что, хотя он в сознании и может двигаться, трупные процессы в теле продолжаются даже быстрее обычного, потому что он расходует остатки энергии в теле. Скорее всего, сказал он, до первых лучей рассвета он умрёт, и на этот раз безвозвратно.
Когда смысл этих слов дошёл до него окончательно, ему захотелось вцепиться в горло незнакомцу. И, наверное, он вцепился бы, если бы не властный взгляд, обезоруживающий и приковывающий к земле. Он остался на месте.
Зачем вы меня оживили?
— Ты хочешь отомстить убийце за свою смерть. И я собираюсь тебе в этом помочь.
Но я не хочу… начал он, но осёкся. Если бы не тот пьяный ублюдок за рулём, он сейчас сидел бы с матерью на веранде и пил чай (обычно они беседовали там до поздней ночи). А вместо этого он стоит у отрытой могилы и чувствует, как гниёт тело.
— Он жив, — сказал незнакомец. — Он жив и прекрасно себя чувствует. Успел выпрыгнуть до столкновения. Сумел представить всё так, будто авария произошла по твоей вине. Ему даже штраф выплачивать не придётся. Сейчас спокойно спит у себя дома.
И что я должен сделать, чтобы отомстить ему?
Незнакомец сцепил пальцы:
— Убить его.
Ответ он знал до того, как услышал. Равновесие можно восстановить только аналогичным действием. Мысль манила своей очевидностью. До чего всё просто. Ворваться в дом своего убийцы посреди ночи и заплатить ему сполна. И за это ему ничего не будет. Потому что он уже мёртв.
Он мысленно ответил:
Я не могу.
— Подумай хорошенько, — сухо посоветовал незнакомец. Он взглянул на него и обомлел. Человек стоял в точно такой же позе, как и до этого, и выражение его лица не изменилось… но это уже не был тот человек, которого он видел, когда вылезал из чёрного прямоугольника могилы. Это уже был почти не человек; во всей его сущности угадывалось нечто звериное. Словно перед ним стоял большой волк в человеческой одежде.
— Подумай, тебе не повредит. Воля твоя. Но если откажешься, я вынужден буду вернуть тебя в твою могилу, а уж чем ты там займёшься — дело твоё. А если проявишь благоразумие и согласишься, то тебе же будет лучше. Я могу кое-что для тебя сделать…
Последние слова незнакомца он не слышал. Уже первые слова ударили стальным молотом, расплющили разум в лепёшку и взорвали на мельчайшие осколки, которые исчезли во мгле. Вернуться в гроб?.. Снова в бессильной ярости стучать по глухонемой крышке? Только на этот раз спасителя не будет, и он медленно умрёт в деревянной коробке. Человек, который сейчас стоял перед ним, мог вернуть его туда. Он знал это.
— Я могу оживить тебя по-настоящему.
Что?
— Я могу оживить тебя по-настоящему.
Как?
— Это не твоё дело. Но ты сможешь жить дальше, будто ничего не случилось.
Надежда вспыхнула, как ярко освещённая дверь в полной темноте. Он сможет вернуть всё обратно, всё, что потерял… И для этого всего лишь нужно воздать убийце. Восстановить справедливость.
Выбор был простой — слишком простой. У него было две пути — вверх, к жизни, или же вниз, в холодную могилу.
Я согласен.
— Хорошо, — голос потеплел. — Помни, что тебе нужно справиться быстро, пока у тебя остаются силы.
Незнакомец кратко сообщил ему, где живёт водитель «Чайки». Улица Калинина, дом три. Места были знакомые. В детстве он часто бывал на этой улице, воровал огурцы в расположенных там теплицах.
Кроме адреса незнакомец дал ему ещё кое-что.
Он опустил взгляд и посмотрел на хоккейную маску, которую держал в руках. Человек вручил её ему в последнюю минуту. Он знал эту маску, она когда-то висела над его кроватью, как почётная реликвия. Знак вратаря хоккейной команды школы. С тех пор много лет прошло, и теперь он, наверное, не смог бы даже попасть клюшкой по шайбе. И маска давным-давно где-то затерялась, он о ней забыл…
И вот она вернулась к нему вновь на ночном пустынном кладбище. Чтобы помочь ему сыграть самую важную игру.
Он приложил маску к лицу. Железо не показалось ему холодным, так как температура его тела была немногим выше. Несколько минут он пытался негнущимися пальцами затянуть на затылке ремень. Наконец, это ему удалось, и через прорези маски взглянули неподвижные водянистые глаза.
Он не сразу направился к нужному месту. Ему нужно было сначала увидеть свой дом, свою мать. Он не знал, почему это так необходимо, и не знал, одобрит ли затею незнакомец из кладбища. Но ему было всё равно.
Лес, обступивший дом с востока, был одновременно ему знаком и незнаком. Знаком, потому что в детстве он часто бегал среди здешних деревьев, играя с друзьями в войнушку. Незнаком, потому что в последний раз он это делал лет восемнадцать тому назад. С тех пор здесь многое изменилось, но кое-что оставалось прежним. Например, этот искривленный дуб, у подножия которого он не раз прятался во время «битв». Или вот небольшой холмик, поросший мхом, за которым можно было устраивать хорошую засаду. Он удивился, почему ни разу не прогулялся по этим местам во время визитов к маме. В следующий раз, если этот самый «раз» будет, он обязательно пройдётся по лесу, потрогает старые корявые стволы. Но обязательно днём, когда лес будет не таким тихим и зловещим.
А вот его родной домик, выцветший за прошедшие годы, но всё ещё держащийся молодцом. Он едва не прошёл через ограду, как делал каждый раз, когда сюда приезжал, но вовремя вспомнил, кто он сейчас, и скрылся в тени дерева у опушки. Не хватало ещё, чтобы мать его увидела. Своего сына, которого похоронила пару дней назад, сына, который стремительно сгнивал и прятал свой нелицеприятный облик за железной маской.
Она там. Наверное, спит. А может, просто лежит и думает о нём. Может, она плачет. И никогда не получит чёртов пылесос в подарочной упаковке. А он не может пройти оставшиеся десять метров и заключить её в объятия.
Он поднял глаза к окну спальни. Чёрные окна, внутри нет света. Хотя было бы странно, если свет горел.
Он выждал минуту в надежде, что окна откроются, и он сможет увидеть свою мать. Но этого не произошло. Он бы заплакал, если мог. Но слёзные железы не сжались, чтобы выдавить хотя бы капельку влаги.
Он не заслужил такого к себе отношения. Всю свою сознательную жизнь он пытался быть нравственным. Если нарушал их, то только сдуру или по неведению. Никому не желал зла. Лелеял наивную, но искреннюю мечту о всеобщем счастье на земле. И вот что получил в итоге.
Это было неправильно. С ним не имели права так поступить и лишить его хотя бы этой последней встречи.
Живой мертвец повернулся и исчез в серебристой темноте, окутавшей лес. Через минуту после его ухода на окне второго этажа скрипнули открываемые ставни.
Роме приснился кошмар. Уже третью ночь подряд, начиная с того дня, когда папа пришёл с работы очень поздно и с белой повязкой на голове. С того дня всё изменилось. Мама стала плакать очень часто — по два-три раза за день. Рома не видел каких-либо причин для этого — разве что папа заболел. Рома не знал, болен он или нет, но папа сказал ему, что повязку ему сделали врачи, а Рома знал: если человек ходит к врачам, то у него что-то болит. Из-за этого мама и могла плакать. Но если ей жаль папу, то почему они стали ссориться каждый день? Рома не понимал. Он спросил у мамы, но она ему не ответила, а начала плакать в очередной раз. Больше Рома не спрашивал. Он не хотел, чтобы мама плакала.
Эти кошмары. Они были серые и бесформенные, как паутина на бабушкином чердаке. Рома проснулся в холодном поту, но не закричал, как было вчера. Страшные видения тут же начали меркнуть и стираться из его памяти. Через полминуты Рома уже не мог сказать, что же ему такое приснилось. Страх исчез вместе с воспоминаниями о плохом сне. Чувствовал он только одно — нестерпимое желание сходить в туалет. Рома подумал, что если бы он проснулся чуть позже, то обязательно обмочился бы в постель, как маленький. Он был рад, что проснулся вовремя.
Рома откинул одеяло, поставил ступни на пол и пошарил руками под кроватью. Горшок находился здесь, покрытый пылью: Рома редко справлял нужду по ночам и втайне этим гордился. Это была ещё одна ступень, приближающая его к взрослым, ведь ему всё-таки было уже семь лет. Но теперь горшок был ему нужен, и срочно.
Спуская штанишки с изображёнными на них весёлыми мышатами, Рома прошлёпал к окну. Здесь на полу сверкал лунный зайчик, и было меньше шансов попасть струёй мимо горшка. Если он сделает это на пол, то потом придётся вытирать тряпкой, чтобы мама не наругала утром. Поэтому Рома целился тщательно. Закончив дела, он подтянул штанишки и положил горшок у окна. Утром он выльет его, куда надо. Раньше это вместо него делала мама, но теперь он может и сам.
Перед тем, как вернуться в постель, Рома посмотрел на двор через окно. Отсюда была видна только часть забора, где была калитка. Остальное загромождала кирпичная стена гаража. Сейчас гараж был пуст, хотя раньше в нём стояла машина папы. Машина исчезла тогда же, когда у папы появилась повязка. Папа сказал Роме, что она сломалась и к ним больше не приедет.
— Я попал с ней в большой переплёт, — грустно сказал он ему. Рома не понял, что это за слово «переплёт», но спросить не успел, потому что папа встал и вышел на улицу покурить. Когда он вошёл обратно, Рома уже забыл об этом.
Негромко скрипнула калитка. Рома увидел, что какой-то человек стоит у калитки и пытается снять дверь калитки с крючка. Роме показалось это странным. Люди к ним по ночам не приходили (хотя, может, и приходили, но он не знал об этом, потому что спал ночью). Мама с папой иногда даже телефон отключали ночью, чтобы их не тревожили. Рома попытался представить, как пойдёт разговор, если этот человек войдет в дом, в то время как мама с папой будут спать. Не получилось.
Папа поговорит с ним, подумал Рома, зевнул и лёг обратно на кровать.
Направляясь к двери дома, он вдруг понял, что у него нет с собой никакого оружия. Он остановился в нерешительности — не подыскать ли сначала что-нибудь?.. Но потом он взглянул на дверь гаража. Отсюда три дня назад выезжала белая «Чайка». Внутри что-то всколыхнулось, и он со злостью подумал: «Если понадобится, я разорву его глотку своими собственными руками». И ступил на лестницу.
Внезапный грохот вытащил Галину из сладких объятий сна, окатив её ливнем холодной воды. Первой мыслью было: Этот недоумок опять напился. Но муж лежал на кровати у противоположной стены и громко храпел. Обычно они спали вместе, но с тех пор, как муж стал убийцей, Галина отказывалась лежать с ним на одной кровати. Муж бурчал, что это всего лишь несчастный случай и он не виноват в смерти того водителя. Как же, не виноват.
— Твой дружок Волоухин всё устроил так, чтобы ты оказался чистеньким! — кричала Галина, швыряя тарелки в мужа. — Твой дружок, вместе с которым ты нажираешься каждую субботу, иначе ты бы уже был за решёткой! Ублюдок!
— Я был трезв! — кричал навстречу Антон, уворачиваясь от летящих в него предметов. — Я пил в тот вечер только пиво, только лишь чёртово ПИВО! Он был сам виноват в аварии, как ты не можешь понять!
И так далее. Это повторялось каждый вечер, и одному Богу известно, во что это обходилось маленькому Роме. С него хватало и вечеров, когда отец возвращался домой мертвецки пьяный и принимался ломать всё подряд. Такие вечера повторялись с учащающейся регулярностью, и что-то этакое рано или поздно должно было случиться.
Но сейчас муж спал. Эти три дня он не прикасался к бутылке вообще. А в прихожей кто-то жутко грохотал, и похоже было на то, что этот «кто-то» выламывает дверь.
— Господи, — прошептала Галина и бросилась к мужу.
Антону снилась машина — белая «Чайка», за рулём которой он видел самого себя. Пьяного вдрызг, напевающего под носом. Он играл с удивительно послушной баранкой, с удовольствием наблюдая, как белая пунктирная линия на асфальте то приближается, то отдаляется. Он вырисовывал идеальную волну на узкой полосе дороги и гордился своим мастерством.
Наблюдая за этим, он вдруг с ужасающей ясностью понял, что будет дальше. Всё будет, как и три дня назад: он увидит автомобиль, несущийся навстречу, и его осенит гениальная мысль — попугать водителя, вплотную прижавшись к пунктирной линии и разминувшись на миллиметр с бортом автомобиля. Это ли не высший пилотаж? Он повернёт руль в сторону, его машина с лёгкостью выскочит на встречную полосу, и…
Но этого не произошло. Встречной машины не было, зато на остывающей пригородной дороге возник человек. У него была пробита грудь остовом руля, голова разбита, обнажая кое-где кости черепа, и он улыбался. Между губами сочилась кровь. Антон вдавил в тормоз, но «Чайка» неслась всё быстрее… Человек заслонил собой всё на свете и вдруг отчётливо сказал:
— Проснись, в прихожей кто-то есть!
Голос эхом прокатился в голове, и Антона выбросило в реальный мир — в тёмную спальню, где над ним склонилась жена в ночной рубашке. Он вспомнил, как вечером опять разругался с ней.
Галина была напугана. Губы её дрожали, и она шёпотом повторяла:
— Проснись же! У нас кто-то в прихожей…
Антон проснулся окончательно.
— Как это? — спросил он и откинул одеяло.
— Не знаю, — жена положила руку ему на плечо. — Выламывает дверь…
У Антона засосало под ложечкой. Он услышал грохот в прихожей.
— Рома… — прошептала Галина одними губами.
Рома? Чёрт побери, там же Рома!
— Пойдём к малышу, — отрывисто сказал он.
Медлить было нельзя. В любую минуту грабитель, вор или кто бы там ни был, мог ворваться в дом, а из прихожей рукой подать до спальни сына…
Антон выскочил из спальни и побежал по коридору. Слава Богу, дверь пока держалась. Галина следовала за ним, не отставая ни на шаг.
Рома, оказывается, успел встать (наверное, услышал шум) и смотрел на них огромными испуганными глазками.
— Мама? — спросил он. — Что происходит?
— Ничего, дорогой, — ответила Галина срывающимся голосом и сгребла его в охапку. — Ничего…
— Это тот человек, которого я видел из окна?
Антон обвёл взглядом комнату. Но в детской не было ничего такого, что можно было использовать как оружие. Он вспомнил о массивной палке, которая стояла за шкафом как раз для таких случаев. Удивительно, как ему это сразу в голову не пришло.
— Идите в комнату, — сказал он, не оглядываясь. — Не выпускай Рому. Звони ноль два. Попробуй разбить окно, если что. А я пойду разберусь.
— Антон… — она схватила его за рукав.
— Иди! — прорычал он, и она выскочила из комнаты, заходясь в рыданиях. Услышав, как она забежала в спальню, Антон тоже вышел из детской, прошёл в залу и пошарил руками за шкафом. Мозг работал лихорадочно — быстро, чётко, но как-то всё урывками. Палка была тут, большая, деревянная, надёжная. Он сжал её в руке и вытащил из щели между стеной и задней панелью.
Он остановился в нерешительности. Пойти навстречу? Или ждать здесь, затаившись у стены? Ясно было одно — тот, кто ломал дверь, не был вором, иначе он не стал бы создавать шум. Или же он не знает, что дом не пустует?.. А может, это вооружённые грабители или — того хуже — вооружённые хулиганы? Какой-то подлый голосок в голове выдвинул версию о жаждущих мести родственниках мужика, которого он сбил (хотя у него из близких вроде была только мать). Антон поднял палку и встал возле входа в залу.
Дверь рассыпалась в щепки. Кто-то вступил в дом. Антон не мог его отсюда видеть, но шаги были на редкость тяжёлыми. Стараясь не шуметь, он глотнул слюну, крепче сжал палку и подготовился к броску. В спальне хныкал Рома, Галина выкрикивала в трубку адрес их дома.
Ломая дверь, он слышал три голоса — мужчины, женщины и маленького ребёнка. В первую секунду едва не передумал, но потом принялся кидаться на тонкую дверь c удвоенной силой. Раз уж он решился, значит, так тому и быть. И никакие дети и женщины его не остановят. Он пришёл сюда с вполне определенной целью.
Изнутри дом был обставлен недорогой мебелью. Семья среднего достатка, подумал он. Жена — аккуратная женщина, иначе тут был бы бардак, как у него дома… Как было у него дома.
Они, кажется, скрылись в спальне. Он услышал сдавленные причитания женщины — она звонила в милицию. Ничего. Дружки в милиции им на этот раз не помогут.
Он пошёл дальше по коридору, приближаясь к спальне.
Это не был грабитель, потому что он ничего выискивать не стал. Худшие опасения Антона оправдывались, и он почувствовал, как вспотели ладони и похолодело на спине. Одно обнадёживало — человек был один, и численно силы были равны. А вот качественно… Антон сомневался. Нужно бить на неожиданность. Он идёт в спальню, и сразу его не заметит. Если обрушить сзади хороший удар…
Раз-два. Шаги стучали парами, не ровно, как обычно ходят люди, а по два. Словно человек останавливался и прислушивался через каждые два шага. Раз-два. Раз-два. Ближе. Раз-два. Уже совсем близко. Ещё разок, и…
Раз-два.
Несмотря на напряжённое ожидание, человек появился в проёме слишком неожиданно. Антон даже немного опешил, но потом наспех сориентировался и ухнул палкой сверху вниз, целясь в голову злоумышленника.
Удар был хороший, он должен был наверняка отправить противника в отключку. Но не отправил. Антон услышал не глухой стук, какой должен был быть, а мягкое чавканье, словно кожа без сопротивления разошлась под палкой. Он почувствовал вонь, которая исходила от человека. Вонь была такой резкой и отвратительной, что почти парализовала его. Он выронил бесполезную палку и подался назад, прикрывшись руками от этого срама.
Человек отреагировал на удар не сразу. Сначала он медленно повернул голову, и Антон при свете луны увидел тускло блестящую хоккейную маску на его лице, за которым прятались глаза. Глаза он не смог разглядеть как следует, но сознание зафиксировало, что в них что-то неправильно.
Потом человек повернулся всем корпусом, представив его взору искалеченную, вдавленную внутрь грудь, которую прикрывали серые лохмотья одежды. Ему показывали фото его жертвы… и у того была точно такая же зияющая рана. Это был он! Он!!!
Антон закричал.
Убийца, съёжившийся в углу перед ним, закричал. Он узнал его — человека, которого отправил отдыхать в могилу.
Настал момент истины.
Он двинулся вперёд, по одному переставляя ноги. Человек поднял руки и прикрыл лицо, пытаясь от него защититься. Но оба они знали, что это бесполезно. Я схвачу его за горло и подниму, подумал он. И сомкну пальцы. Неделей раньше это показалось бы фантастикой, но теперь он мог это сделать. Мёртвым он был много сильнее, чем живым.
А потом, когда мерзавец умрёт, он будет стоять и смотреть, как вытекает кровь из раздавленного горла. Долго смотреть. После этого пусть будет что угодно. Пусть будет смерть, пусть будет боль, пусть будет запах сырой земли и девять кругов ада. Ему всё равно.
Он нарочито медленно протянул руки к человеку. Тот в последнем порыве попытался схватить его за руку и оттолкнуть, но не сумел. Силы уже покинули его, и он был беспомощен.
Убийца закрыл глаза и завизжал совсем по-поросячьи, когда мёртвые пальцы коснулись его подбородка.
И вдруг он снова почувствовал удар. Не такой сильный, как первый, но весомый, прямо в затылок. Боли, конечно, не было, но голову тряхнуло. Он оглянулся. Женщина с палкой замахивалась снова, что-то кричала, рот её был искривлен в боевом кличе. Он не успел среагировать, и новый удар пришёлся по левой щеке. Палка скользнула по маске. Ещё один удар женщина сделать не успела. Он размахнулся и ударил её по голове — вроде бы не сильно. Видимо, не рассчитал — она пролетела в центр зала, упала и осталась там лежать. У него не было намерения её убивать, он пришёл за её мужем, но не был уверен, что не сломал ей шею.
Впрочем, плевать.
Он снова развернулся к мужчине. Тот скрючился на полу с закрытыми глазами, с первого взгляда могло показаться, что он в беспамятстве. Но он был в сознании, дрожал, как осиновый лист. Но дрожь стремительно прекращалась.
Как же так произошло, подумал Антон почти спокойно. Он нёсся всё дальше на какой-то приятной волне, его дом с возвратившимся живым мертвецом остался позади. Как так произошло… Мысль оборвалась, не успев сформироваться, и Антон с удивлением понял, что ничего страшного не случилось. Всё было в полном порядке.
— Мама!
Крик ребёнка заставил его вздрогнуть и в очередной раз отложить расправу. Он оглянулся снова, чтобы увидеть малыша, который подбегал к матери.
— Мама! Что с тобой?
Мама не отвечала. Мальчик ожесточённо дёргал её за воротник ночной рубашки и плакал. Он увидел, как слёзы капают с его лица ей на шею.
— Мамочка!
… а она лежала безмолвная, с вывернутой влево головой. А перед ним лежал его отец, которому почти уже не требовалось его вмешательство — он и так умирал со страху.
— Ну, мам!
Мальчик не замечал разлагающийся труп, который наблюдал за ним, в отчаянном желании вырвать любимую маму из лап смерти.
— Мама…
Она шевельнулась. Жива…
Мальчик кинулся ей на грудь, прижался к ней и обнял за шею изо всех сил, чтобы не допустить снова её ухода. Наверняка повреждённая шея у неё вспыхнула болью, но она не дёрнулась, а просто положила руку сыну на плечи.
Он стоял и смотрел на них. Она наверняка решила, что чудовище уже успело прикончить её мужа и теперь займётся ими. В глазах появилась злость. Она не хотела сдаться, как её муж. Пыталась отползти дальше, оттолкнуть от себя малыша, чтобы он убежал и спасся… но мальчик лишь прижался к ней крепче.
— Рома… — прошептала женщина. — Иди. Беги, Рома. Беги… Рома…
Рома не убегал, и она теряла последнюю надежду. Она отвела взгляд от трупа в хоккейной маске и посмотрела на своего сына — с бессилием, болью и любовью.
Точно так же его мать смотрела на него в тот день, когда он лежал, схватив жесточайший грипп, с температурой под сорок два градуса. Она сидела рядом и смотрела на него, взяв за руку. Сквозь пышущее красное марево жара он не различал почти ничего, но этот взгляд запомнился ему на всю жизнь. Его мать думала, что это последний день его жизни. Но до последнего дня оставалось ещё больше двадцати лет.
Грипп ушёл — так же резко, как появился. Лекарства и старания врачей сыграли свою роль. Свою роль сыграли и глаза матери. Может, не такую большую, но, безусловно, без этих грустных и любящих глаз он бы выздоравливал гораздо дольше.
Тогда это было красное марево, меняющее окружающий мир до неузнаваемости, скручивающее его самого так, что он мог лишь бессвязно бормотать безумные вещи и кружиться в тошнотворном хороводе. И это же марево покрывало разум сейчас. И оно снова упало — снова внезапно, без предупреждений.
Он увидел всю отвратительность своих намерений. Он пришёл сюда по науськиванию мелкого кладбищенского демона. Пришёл якобы отомстить за свою смерть. И вот теперь перед ним лежат мать и сын, напуганные до полусмерти, и глава семейства. Он собирается их всех убить (а разве не так, не за этим его послал сюда тот незнакомец?), поддавшись уловке демона. Он, который кичился тем, что не желал никому зла за всю свою жизнь.
Грипп прошёл. Проходит и жизнь, не всегда так, как хотелось бы, и это не повод, чтобы стать тем, кем он едва не стал.
— Уходи! — закричала Галина в лицо своему сыну. — Убирайся!
— Мама-а-а… — Рома зарыдал. Но остался на месте. Мертвец стоял и выжидающе смотрел на них, словно развлекаясь увиденным. Антон, вечный пьяница, плохой шутник и его муж, лежит мёртвый у его ног. Галина почувствовала острую резь глубоко внутри головы.
— Рома-а-а, милый… — взмолилась она.
Дальше произошло нечто непонятное. Мертвец сорвал с лица свою маску, она со стуком упала на пол и покатилась куда-то в угол. Галина зажмурилась, чтобы не видеть лица этого отвратительного создания… Но долго она не могла терпеть, представляя, как он приближается к ней и её сыну, протягивая свои почерневшие пальцы. Она открыла глаза.
Чудовище уходило. Оно медленно (раз-два) шло по коридору, удаляясь от них. Галина увидела его пупырчатый затылок, смятый из-за удара палкой, и быстро отвела взгляд.
— Ых… — простонала она, пытаясь встать на четвереньки.
— Мама, что с папой? — спросил Рома, больно сдавливая ручками её шею.
Мертвец добрался до входной двери и исчез в проёме. Галине, наконец, удалось подняться на колени. Она высвободилась от рук сына, сказала ему, чтобы остался на месте и не шумел, и проползла к мужу, сгибая и разгибая одеревеневшие ноги. Путь длиной в три метра занял три минуты. Наконец, она коснулась его руки. Рука была тёплой, внутри еле заметно пульсировала вена.
— Живой, — сказала она и засмеялась в потолок.
— Мам? — осторожно спросил Рома, обеспокоенно следя за ней.
— Всё в порядке, сынок, — Галина перестала смеяться и легла на пол рядом с Антоном. Она чувствовала непомерную усталость во всём теле. — Всё в порядке. Иди ко мне…
Человек, который всё ещё стоял у могилы Ивана Скворцова, и который вовсе не был человеком, шевельнулся первый раз за последние два часа.
Не получилось, равнодушно сказал он себе. На этот раз — не получилось. Время потрачено зря. Но ничего… есть много таких, как Иван Скворцов, но которые более слабы.
Если не здесь, то в другом месте.
Человек исчез из провинциального городка, чтобы никогда больше не возвращаться. Только что он стоял у могилы, а спустя секунду в том месте остались лишь отпечатки его подошв, которые быстро сравнялись с землёй.
Он не знал, куда ему идти. Возвращаться на кладбище не хотелось: если демон захочет, то сам найдёт его. Но шагать становилось труднее, как и обещал демон. Плоть стекала с рук и ног, глазные яблоки норовили выскочить из глазниц. Он направился к чернеющей вдали кромке леса. Когда он дошёл до широкой открытой поляны перед лесом, всё вокруг начал обволакивать белый туман. Туман разъедал и без того разрушающиеся на глазах части тела, и вскоре он понял, что до леса ему не дотянуть. Тогда он остановился и кулем упал на кочковатую землю. Лежал и смотрел на яркие звёзды, свет которых ещё пробивался через туман. Ему было хорошо, несмотря на то, что он умирал. То подобие сознания, которое наполняло мёртвое тело, постепенно начало стало меркнуть, поток мыслей слабел, будто кто-то медленно поворачивал ручку крана, снижая напор. Перед тем, как исчезнуть насовсем, он увидел на небе очень яркую падающую звезду и загадал желание — никогда больше не просыпаться.
2005 г.
Баллада о листьях
В большом городе на перекрёстке двух улиц стоял вековой дуб. Он рос здесь так давно, что жители города не знали, что старше — дуб или город. А на самой высокой ветке дуба висел маленький сморщенный Жёлтый Листок.
Жёлтый Листок не знал, почему он здесь висит, чего ждёт. Он помнил своё детство — жаркое лето, когда его цвет был изумрудно-зелёным. Помнил, как целыми днями болтал с соседями о вещах, которые казались очень важными. Помнил вереницу ярких знойных дней. Но теперь всё изменилось. Дни стали короткими и тёмными, а от летнего зноя не осталось и следа. Иногда бывали такие холодные ночи, что Жёлтый Листок думал: всё, я замёрзну, не доживу до утра. Но ночные звёзды угасали, и едва живой Жёлтый Листок встречал рассвет нового дня.
Холод ещё можно было терпеть. Гораздо хуже становилось, когда начинался дождь. Летом тоже бывали дожди и грозы, но они быстро заканчивались, потому что стада чёрных туч куда-то спешили. А теперь нескончаемый поток лился с неба целыми днями, сводя листья с ума. Некоторые не выдерживали тяжесть низвергающейся воды и отрывались от веток. Внизу их ждал серый асфальт, мокрый от дождя. По асфальту бегали машины. Рано или поздно их колёса проезжали по опавшим листьям, превращая их в пыль. Некоторым везло — их относило ветром к тротуару, и листья могли жить ещё несколько дней. Но Жёлтый Листок не был уверен, что они рады этим дням — он видел их медленное увядание, смотрел, как из них мутной жижей вытекают жизненные силы.
Иногда на улице поднимался ветер. Вот это было страшнее всего. Жёлтый Листок с ужасом наблюдал, как он срывает его друзей с мест и игриво кидает вниз. Некоторые из листьев что-то кричали на прощание собратьям, а иные не успевали сделать даже этого. Когда из-за поворота выруливала очередная машина, листья начинали кричать. Их крики были слышны даже на высокой ветке… Жёлтый Листок с содроганием осознавал, что рано или поздно его ждёт та же участь.
Одного он никак не мог понять.
Почему? — размышлял он ночами, продрогнув до белизны. — Какой смысл? Мы жили-то всего одно лето… и теперь должны просто умереть?
Это было неправильно. Листья ничего не успели совершить за минувшее лето, и если этой осенью все они умрут, то их жизнь окажется совершенно бессмысленной. Жёлтый Листок не мог понять, зачем кому-то создавать их, если они так ни на что не пригодились.
Между тем осень наступала. Солнце угрюмо желтело за свинцовыми тучами. Теперь оно совсем не грело, даже в те редкие дни, когда стояла ясная погода. От некогда роскошного одеяния дуба остался голый остов, с которого ветер лениво сметал последние листья. Очередным утром Жёлтый Листок с недоумением увидел на себе коросту инея.
У него кончались силы. Всё труднее становилось уклоняться от капель дождя и сопротивляться порывам ледяного ветра. Близился день, когда он должен был отправиться в свой первый и последний полёт. Когда Жёлтый Листок думал об этом, им овладевала невыносимая тоска.
Однажды днём, когда стояло затишье, и он дремал, кто-то окликнул его:
— Эй!
Жёлтый Листок удивлённо огляделся и увидел, что аршином ниже на самом краю ветки висит одинокий Красный Листок.
— Как дела? — спросил Красный Листок.
— Плохо, — ответил Жёлтый Листок без энтузиазма. Ему не хотелось разговаривать. В последние дни его постоянно клонило ко сну.
— Вижу, ты собрался спать? — сказал Красный. — Учти, скоро опять поднимется ветер.
— Хорошо, буду иметь в виду.
— Ты-то выглядишь ещё ничего, продержишься. А вот для меня этот ветер точно будет последним.
— Не говори так, — отозвался Жёлтый Листок. — Покуда есть силы, нужно сопротивляться…
— А смысл? — Красный всколыхнулся. — Для чего упираться, если рано или поздно окажешься там?
Он всколыхнулся и показал на мёрзлый асфальт.
Жёлтый Листок проснулся окончательно. Он давно ни с кем не беседовал, и ему хотелось обсудить наболевшее, выплеснуть накопившуюся в душе обиду.
— Какой тогда смысл во всём? — спросил он. — Вот провисели мы здесь четыре месяца будь здоров — и ничего не сделали. А теперь умираем по одному. В этом ты видишь смысл?
Красный усмехнулся:
— Знаешь, я предпочитаю думать, что всяко лучше хоть сколько-то прожить, чем совсем ничего.
— Но зачем? — воскликнул Жёлтый Листок. — Зачем?
Он посмотрел вниз и похолодел. Красный говорил, что скоро будет ветер, и это время уже настало. Ветер был совсем близко и начинал ласково раскачивать ветки.
Красный Листок ответил не сразу:
— Может быть, и незачем. Но посмотри… Ты никогда не думал над тем, почему мы целой армией висим на этих ветках? Должно быть, мы своим существованием делаем что-то важное, но незаметное для нас самих.
— Важное, говоришь? А что именно?
— Тебе стало бы легче, если бы ты это знал?
Жёлтый Листок удивлённо посмотрел на Красного:
— Думаю, что да.
— Тогда вот что я тебе скажу, — Красный чуть затрепетал; обрывок газеты, который лежал на асфальте под ним, заскользил прочь. — Мы нужны этому дереву, дружок, понимаешь? Без нас он наверняка умер бы этим же летом. Но мир вокруг меняется, и зимой мы ему уже не нужны — вот и должны сорваться, чтобы не висеть лишним грузом. Как, похоже на правду?
— Я тебе не верю, — сказал Жёлтый Листок. — Ты не можешь этого знать.
— Конечно, не могу, — грустно сказал Красный. — Это просто мои догадки.
Какое-то время они молчали. Жёлтый Листок пытался обмозговать только что услышанное, ощущая на себе усиливающееся дуновение ветра. Наконец он покрепче вцепился в ветку и сказал:
— Даже если так, то это несправедливо. Почему дерево нас сбрасывает с себя? Мы делали ему благо, а оно…
— Успокойся, дружище. Кто мы? Всего лишь маленькие листья. А оно небось не одно столетие живёт. Оно гораздо важнее, чем ты и я — важнее, чем все мы.
— Но я не хочу умирать, — сказал Жёлтый Листок, и первая капля дождя скатилась по его поверхности.
— Что плохого в смерти? — голос Красного звучал гулко, как из далёкого тоннеля. — Всё равно дальше будет зима, не выжить… Если честно, я считаю, что лучше принять свою судьбу, чем глупо противиться неизбежному.
— Но ведь это НЕПРАВИЛЬНО! — закричал Жёлтый Листок. Красный не ответил. Ветер заревел и бросился в атаку.
— Ну что же, прощай, дружище, — сказал Красный и оторвался от ветки. Жёлтый Листок увидел, как его подхватило мощное течение воздуха и увлекло вниз, туда, где кружился хоровод из тысячи других листьев. Пару секунд ему казалось, что он различает среди них Красного, но потом всё слилось в единый калейдоскоп.
Жёлтый Листок боялся себе в этом признаться, но почему-то ему вдруг захотелось последовать примеру Красного.
Но это НЕПРАВИЛЬНО!
Он думал: что будет в конце, если он добьётся своего и останется один на дереве?
Жёлтый Листок вспомнил пустые дни, убивающие бездействием; вспомнил часы пик, толпу проезжающих мимо машин и удушающий дым, который вырывался из их выхлопных труб; вспомнил предрассветный туман, который глушил все звуки, и приходящую с ним жуткую тишину.
А ещё он вспомнил о длинных бесформенных тенях, которые пролегали на улице после заката. Он не знал, откуда они берутся, но они появлялись всегда. Тени всю ночь сновали туда-сюда по перекрёстку. Никто из проходящих мимо людей их не видел. На Жёлтого Листка тени не обращали никакого внимания, но он всё равно их боялся.
Потому что однажды ночью он увидел, как тени схватили человека и утащили его в ночь.
Весь этот ужас он переносил, потому что знал: рядом есть листья, которые видят и чувствуют то же самое, что и он. Знание того, что он не один, помогало ему находить в себе силы.
Жёлтый Листок боялся даже представить, как всё изменится, когда он останется один.
Я не хочу умирать.
Он так до конца и не понял, как оторвался от ветки — то ли сильный порыв ветра застал его врасплох, то ли он сам ослабил хватку, поддаваясь ему. Листок ощутил только, как титаническая сила выбила его с насиженного места, подбросила вверх, поймала, закружила, безжалостно скомкала и отпустила. Странно, но этот момент высшего ужаса, который столько раз представал в кошмарных снах, оказался не таким страшным, как ожидал Жёлтый Листок. Он падал на асфальт, видел чёрные провалы трещин на его поверхности, а в мыслях царила пустота, смешанная с тоской и необычным ощущением, похожим на восторг. Страха не было. Может, на него повлияли слова Красного — а может, он сам в эти мгновения что-то понял, что было недоступно ему ранее…
Он спикировал прямо на проезжую часть. Асфальт был влажным и холодным. Желтый Листок приподнялся и огляделся, чтобы найти Красного. Листьев было много — кто-то кричал о помощи, кто-то тихо плакал. Были и те, кто просто лежали и молчали, глядя на небо, обтянутое грязной марлей. Жёлтый Листок так и не смог разглядеть среди них Красного.
Из-за поворота послышался нарастающий рокот, и по толпе листьев пробежало настороженное перешептывание. Рокот набирал громкость, пока не превратился в хищный рёв двигателя, и на дороге показался автомобиль. Он был большим, сверкающим, ярко-красным. Листья охнули, закричали, прижались к асфальту. Жёлтый Листок отрешённо смотрел на крахмальный свет фар. Он почувствовал горячее дыхание резины, яростно вминающей дорогу под себя. Дальше была ослепительно яркая вспышка, запах дёгтя и темнота. Жёлтый Листок перестал существовать. Автомобиль же унёсся дальше — он направлялся за город, в бескрайний лес, над которым плакал осенний ветер, срывая с веток мириады пожелтевших листьев.
2002 г.
Редкостная женщина
Тонка и неосязаема грань, что проходит между любовью — светлым даром, воспетым многими поколениями поэтов — и слепой животной страстью, способной привнести в жизнь одержимого неисчислимые страдания и разрушения. Внезапная пылкая влюблённость сродни ходьбе по тонкому льду: человек идёт по границе лучезарного сияния и сумеречных земель. Каждый шаг может стать решающим в выборе направления; в эти мгновения разум скорее безумен, нежели здоров. В большинстве случаев помрачение вскоре проходит без особых последствий, но страшно вообразить, что может сотворить с такой лакомой игрушкой демонический ум, сотканный из чистого зла.
Мои слова — не пустые философствования отшельника, упивающегося собственным аскетизмом в глухой чаще. Я видел собственными глазами, что способно натворить низменное влечение, переходящее в помешательство — я единственный, кто был свидетелем того кровавого заката на каменистом побережье и остался в живых. То, что я сохранил свою жизнь и теперь могу поведать о тех событиях, не моя заслуга, а мелкое досадное недоразумение, которому есть место даже в самых дьявольских замыслах.
Она пришла в наш маленький городок из дремучих лесов, которые высились плотными кручами с южной стороны. Она назвалась Анной — полагаю, большинство из нас понимали, что это бесцветное имя она носит как сменную маску, не более. Первым с ней повстречался сын пастуха, который пас свиней у въезда в город — и сразу же отправился в город вслед за ней, только чтобы иметь шанс видеть её. Горячая кровь со страшной силой ударила в голову юноши — он влюбился в загадочную темноволосую странницу внезапно и окончательно. Он не был одинок во вспышке жгучей страсти, которую вызывала женщина, с гордо поднятой головой шествовавшая по главной улице города весенним утром. Прохожие, завидев её, замирали на месте; дети бросали свои игрушки и пускались бегом за ней; почтенные старцы роняли трости и понимали, что не хотят нагибаться за этими проклятыми деревяшками, а единственное их желание — видеть её, быть с ней, отныне и всегда, забыв о годах и болячках. Даже женщины попадали под влияние сверхъестественной красоты незнакомки: их глаза были полны восхищения и преклонения, разве только к ним подмешивалась толика зависти. Она шла, и за ней тихо и почтительно росла толпа, боящаяся вздохнуть, дабы ненароком не развеять прекрасный мираж, сошедший на грешную землю.
И я там был, в этой толпе — совсем ещё мальчик, у которого месяц назад начали расти усы. Я тогда был мальчиком на побегушках у торговца в бакалейной лавке, но в тот день самовольно покинул смену, когда дивная незнакомка прошла мимо нашей лавочки. Я помню анемичную бледность её кожи — такая белая, что напоминала отборный мрамор. Казалось, во всём её теле не было ни кровинки. Лицо испускало сияние, как небесное светило. Без сомнения, она была иноземкой. Об этом говорили утонченные, неуловимо восточные черты её лица. Глаза женщины были чёрными в самом верном понимании — не тёмно-карие и не коричневые, а чёрные: как уголь секунду назад потухшего костра, как омут в полночь, как смоль. Когда она смотрела на тебя, сердце замирало. Оно вновь начинало биться, когда она отводила взгляд на другого счастливца, опьяненного вином любви с высшим градусом крепости.
Кажется, никто с ней даже не пытался заговорить. Мне самому такое в голову не приходило — это было бы сродни попытке побеседовать с античной скульптурой или призрачным видением. Так или иначе, не дождавшись слов от нас, незнакомка завела речь сама, обращаясь сразу ко всем. Её голос был под стать ей — низкий, бархатистый, с завлекающей хрипотцой, в которой каждому мерещилось многозначительное обещание лично ему. Она сказала, что долго путешествовала, прежде чем добралась до нашего городка. Она глубоко сожалела о том, что не могла задержаться надолго в таком прекрасном месте — уже этой ночью ей предстояло морское путешествие. Толпа издала единый разочарованный выдох. Она улыбнулась и сказала, что до ночи ещё далеко — так что у гостеприимных хозяев много времени, чтобы познакомить странницу с родным городом. Полагаю, все приняли эту просьбу на свой счёт. Восторженные возгласы сотрясли воздух. Женщина сошла с места, и толпа плавно потекла за ней, как вода, льющаяся в воронку. Солнце поднялось высоко на небо, жара поздней весны сковала край, и лишь прохладный ветер немного остужал наши охваченные пожаром головы.
Как прошёл день, я помню смутно. Я будто находился под хмельными парами. Женщина гуляла по улочкам и площадям, и мы везде поспевали за ней. Со временем в это невообразимое шествие влились все без исключения жители города: от едва умеющих ходить малышей до поражённых смертельной болезнью несчастных. Дела встали, дома опустели, в загонах тоскливо блеяли голодные овцы. И никто из нас в дурмане набирающего обороты влечения не заподозрил неладное: реальным для нас был лишь манящий образ незнакомки, улыбающейся с обманчивой кротостью. Эта неуверенная улыбка затмевала всё, что мы когда-либо знали. Полупрозрачные белые одежды женщины развевались на ветру. Каждое движение лёгкой ткани подхватывалось сотнями вожделеющих взглядов. Женщина переходила с улицы на улицу, что-то говорила, чем-то восторгалась, осуждала и смеялась — а нам было всё равно. Нам не нужны были её слова: нам хотелось её саму. Это желание сквозило в каждом нашем вдохе и выдохе, неважно, кто это был — ребёнок или взрослый, мужчина или женщина, донжуан или книжный червь. Желание возрастало по мере того, как солнце клонилось к западу и к его свету подмешивалась всё большая доза меди. Наверное, странница обошла каждый уголок нашего селения. Наконец, она направилась на окраину, где невозмутимо плескалось море. Мы сжали челюсти: неужели это конец? Она сядет на корабль и уплывёт, и никто из нас её больше не увидит, она растворится в морской дали, как утренний туман… Напряжение немного развеялось, когда все увидели, что берег пуст. Никакой корабль не собирался отчалить в дальнее плавание. Может быть, подумалось нам, прекрасная чужестранка задержится у нас подольше? Мы бы предоставили ей кров и хлеб, и не только — один её жест, взмах ресниц, улыбка, и весь город пал бы к её точёным ногам.
Но она ни о чём не просила. Сбросив лёгкие сандалии, она уверенно ступила в воду и остановилась в трёх шагах от границы воды и земли. Теперь я уйду, сказала она с печалью в голосе. Ей нельзя оставаться надолго в одном месте — таковы суровые законы, она только и могла, что подчиняться им. Наш город покорил её своим радушием, но… ей нужно уходить.
Тяжкий стон прокатился по берегу. Мы все вскинули руки в беззвучной мольбе: «Нет! Не надо!.. Оставайся!». Она посмотрела на нас и снова улыбнулась — вот только эта улыбка чем-то отличалась от прежней её кроткой улыбки, и это был, пожалуй, первый зримый признак её демонической натуры. Может быть, это почувствовал только я. Не переставая улыбаться, она спросила, неужели мы так сильно любим её. «Да!» — ответствовали мы, нарушая тишину. Испуганные чайки взметнулись вверх и улетели прочь, в сторону краешка солнечного диска, который еле выглядывал из-за поверхности моря. И тогда женщина сбросила с себя одежды.
То, что потом творилось на пляже, не укладывается в рамки человеческих понятий. Мы будто растеряли всё, что веками прививалось эволюцией и цивилизацией — вновь вернулись к тёмным временам неандертальцев, движимых голыми звериными инстинктами. Чудовищный восторг охватил нас при видё её нагого естества, и мы больше не могли себя сдерживать — все ринулись к ней, к своей новоявленной богине, единственной во Вселенной, средоточию всего, что имело хоть какую-то ценность в этом дряхлом мире. Люди дрались, толкали друг друга, впивались зубами в плоть своего соседа, рвали одежды, топтали упавших. Я, к великому своему отчаянию, оказался в числе потерявших равновесие. Надо мной носились безумцы, ступая без разбору на мою грудь и живот. Я встал на четвереньки, когда кто-то с силой налетел на меня, ударив коленом в висок — и я исчез в мгновенной чёрной вспышке, которая в итоге спасла мне жизнь. Мой обморок продолжался недолго, всего пару минут. Придя в себя, я оторвал раскалывающуюся от боли голову от песка и увидел фантасмагорическую картину: нагая женщина с развевающимися длинными волосами уходила в море, а за ней тянулся людской косяк, издающий странные, неестественные звуки, которые будто бы исходили не из горла человека. Но только женщина не погружалась в воду, а шла лёгкой изящной походкой навстречу багряному закатному сиянию, а люди… они уходили на дно, покорно и со счастливыми лицами, не помня себя от экстатического наслаждения. Незнакомка покидала наш город. Она была так же загадочна и прекрасна, как недавним весенним утром, когда пришла из лесов, и я взвыл от тоски, поняв, что не смогу уйти с ней, а останусь лежать на пустом берегу, хватая ртом сырой воздух. В тот миг, будь у меня силы, я и вправду без колебаний прошествовал бы за всеми, чтобы утопиться в морской пучине — так велика была сила притяжения к этой женщине. Но по мере того, как она удалялась от берега, влечение теряло силу — мозг стал выбираться на ощупь из отравленного состояния, внушённого ею; и внезапно я отчётливо расслышал, что за слово шепчут меркнущие голоса утопленников — её имя, настоящее имя, древнейшее и почти непроизносимое, покрытое мхами склепов и тёмных нехоженых троп — и закричал, закричал от ужаса и горя. Крик рвался наружу из груди, не замеченный никем, и орды горожан по-прежнему упрямо шествовали навстречу страшной смерти, на последнем вдохе повторяя: Яглахотинвоа, Яглахотинвоа, Яглахотинвоа!
2010 г.
Письмо
Жарким летним днём, когда раскалённый воздух поднимался над сухой землёй колыхающейся дымкой, у большого валуна неподалеку от большой дороги появилась женщина. Немолодая, но ещё и не старая, одетая просто, с блестящими на лбу каплями пота. Она стояла у камня, изучая его долгим внимательным взглядом, затем осторожно обошла его. Трава у подножия камня не росла, здесь была только прелая земля. Женщина присела, провела ладонью по ней и сжала руку в кулак, вбирая пригоршню шершавой почвы. Потирая её меж пальцев, она рассеянно вглядывалась в трещины на красном камне, сплетение которых гипнотизировало её, уносило в прошлое.
На десять лет назад.
Дорога тогда была куда как более оживлённой; грохот машин не стихал ни на минуту. И солнце тогда светило ярче. Единственное, что не изменилось за эти годы (может, не менялось сотню лет) — этот валун, создавший вокруг себя особое маленькое царство, выпавшее из плена времени. Наверное, они понимали это в свои юные годы, раз выбрали для послания в будущее этот камень. Вернее, землю под ним.
Жестяная коробка из-под сардин, невероятно вкусных сардин — опять же, сейчас такое не найдёшь… Женщина помнила, как они, взявшись за руки, положили в коробку свёрнутые в трубочки бумажки: два исписанных листа, хранящие их мечты и надежды. Коробка легла в неглубокую яму, и двое с улыбками забросали её землёй.
— Десять лет, хорошо? Десять лет… Договорились?
— Да, любимый. Десять лет.
В те дни десять лет казались вечностью. Много дней и много ночей, почти бесконечное их число. И где они теперь — срок неумолимо истёк, изгоняя молодость из тела и души. Женщина снова набрала в ладонь землю и в нерешительности высыпала обратно.
«Что я писала? — подумала она. — Что там было, в моём письме к будущему себе?».
Она не помнила. Сложно помнить несколько строк, написанных за пять минут в промежутке между поцелуями и весёлым смехом… Впрочем, в том и прелесть. Какой толк, если ты заранее знаешь слова, которые тебя ждут на тонком листке, наспех вырванном из блокнота?
А может, и нет никакого письма? Время убивает всё: чернила выцветают, бумага истлевает, жесть обращается в ржавчину. Что, если откопав сокровище, она увидит вместо него лишь жалкие останки?
Если бы он пришёл. Если бы он тоже сегодня вернулся в родные края, чтобы исполнить давнее обещание. Тогда они без колебаний извлекли бы послание, чтобы здесь же, вместе, прочитать его и замкнуть круг.
Но его не было. И она знала, что он не придёт. Она не знала, где он теперь, чем живёт и ради кого… но чувствовала, что его не будет. Она зря пришла сюда.
По дороге мимо проехала машина, поднимая за собой серое облако дорожной пыли. Женщина приподняла голову. Губы тронула робкая улыбка.
— Десять лет, — сообщила она пустоши за валуном. — Хорошо? Десять лет. Договорились?
И ответила сама себе с трепетом:
— Да, любимый. Десять лет.
И пошла прочь от камня, не оглядываясь, не замедляя шаг, не позволяя себе раздумывать над тем, что всё-таки было написано в письме из прошлого.
«Какой я стану через десять лет? — размышляла она. — Смогу ли я ещё раз вернуться сюда? А может, он к тому времени тоже вспомнит о нашем уговоре и придёт?».
Хотя женщина знала, что это самообман, ей стало легче. Она вышла на асфальтированную дорогу и устало выставила вперёд руку, защищаясь другой рукой от палящих солнечных лучей.
2006 г.
Треугольники
Телефон зазвонил глубокой ночью.
— Алло? — сонный женский голос.
— Алло! Алло! — взволнованный мужской. — Куда я попал?
— А куда вы звоните?
— Ох… неважно. Главное, что вы ещё живы.
— Что-что?
— Вы ещё живы. Я уже отчаялся найти кого-либо…
— Спокойной ночи, урод.
Короткие гудки.
Через минуту аппарат опять взорвался трелью. На этот раз он звонил дольше.
— Алло?
— Слушайте, это опять я. Ради Бога, не кладите трубку! Я… я просто хочу вас предупредить.
— Вы хоть представляете, который час?! Может, мне в милицию позво…
— Нет-нет, не надо в милицию. Хотя нет — звоните. Ну да, звоните. Я перезвоню через три минуты. Может, тогда вы мне поверите. Ага?
Короткие гудки.
Прошло три минуты. Звонок.
— … нимите трубку! Ну, поднимите же!
— Я слушаю.
— Слава Богу! Вы здесь. Уже звонили в милицию?
— Нет.
— Почему?
— А с чего бы мне это делать?
— Но вы же обещали!
— Ничего я не обещала. Я отключаю телефон. Прощайте.
— Нет! Постойте! Не на…
В динамике — звенящая тишина.
Спустя некоторое время телефон заревел опять.
— Алло?
— Это вы?
— Да, это я.
— Вы сказали, что отключите телефон…
— Отключила, подождала и включила. Не знала, какой вы настырный тип.
— Хорошо. Это очень хорошо. Слушайте… мне сложно держать себя сейчас в руках. Наверное, я кажусь пьяным или сумасшедшим. Да?
— В яблочко.
— Но это не так! Я абсолютно нормален! Просто… напуган… до смерти…
— И что вас так напугало?
— Вы живёте одна?
— Что?
— Вы одна в квартире? Сейчас, в этот самый момент.
— До свиданья.
— Нет! Нет! Ну… ну девушка, Господом Богом прошу! Я просто за вас беспокоюсь, понимаете?
— Нет.
— А вы выслушаете меня, если я попытаюсь объяснить? Обещаете дослушать?
— Нет.
— Ох… Хорошо. Но хотя бы скажите — у вас включён телевизор?
— К чему вам это знать?
— Просто ответьте, умоляю!
— Нет, не включён.
— Отлично. А компьютер?
— У меня нет компьютера.
— А окно? Закрыты все окна?
— Ещё бы, сейчас ведь ночь… придурок.
— Отлично. Просто отлично! Но это ещё не гарантия безопасности…
— Вы скажете что-нибудь толковое, или мне пойти ложиться?
— Не уходите! Я объясню. Я всё-всё объясню. Просто сначала скажите, как мне обращаться к вам. Меня зовут Сергей.
— Ну, скажем… Ирина.
— Ирина. Красивое имя… Вы слушаете?
— Пока терплю.
— Спасибо. Понимаете, Ирина, я, когда вечером ложился спать, тоже ничего не знал, как и вы. Я инженер, работаю в алюминиевом заводе. Знаете такой в нашем городе?
— Угу.
— Пришёл с работы, поужинал, посмотрел телевизор и лёг спать. Я всегда выключаю телевизор перед сном. И окна закрываю. Наверное, потому и жив остался…
— Что?
— Жив. Вас это удивляет?
— С чего вам умирать?
— Треугольники.
— Не поняла.
— Обо всём по порядку. Ради Бога, не перебивайте меня. Мне и без того трудно. Договорились?
— …
— В общем, я лёг, потом проснулся где-то в полночь. У меня есть сосед, жуткий пьяница, иногда буянит ночи напролёт. Я услышал какие-то шумы и крики в его квартире, это мешало спать. Поэтому я поднялся, вышел в подъезд. Хотел дать понять пьянчужке, что, кроме него, в этом доме тоже люди живут… Вы здесь?
— Да.
— В общем… стоя в подъезде, я понял, что шумы исходят не только из соседней квартиры, но и из других тоже. Наверное, из всех квартир. Такой звук, как будто манная каша варится — чавк, чавк. И крики, как под подушкой.
— …
— Но я всё-таки постучался к соседу. Он мне не открыл, и я перешёл к следующей квартире.
— Разумно.
— Там тоже не открыли. Я начал побаиваться, но пошёл к третьей квартире. Вот у них было открыто. Настежь.
— И?
— И! Хорошо вам говорить об этом, когда вы ничего не видели!
— …
— Погодите! Извините. Я сорвался. Но поймите, мне страшно вспоминать об этом.
— Что там было?
— Треугольники.
— Какие треугольники?
— Такие, красные. Как будто из транспаранта вырезанные. Мне показалось, они не очень большие. Размером с ладонь. Но их было очень много.
— …
— Да, их было много! Они были повсюду. Влетали в окно, струились целыми потоками из монитора и из экрана телевизора. И ещё реют, как на ветру…
— …
— Если видят человека — вот так подлетают и проникают ему в нос, в рот, даже в уши. Как вода. Я сам видел. Там был мужчина… и жена, и дети… они все лежали на полу, задохнувшиеся. У них были синие-синие лица…
— Что за чушь вы несёте?!
— Не чушь! Не верите, сами подойдите к окну и посмотрите. Их там, должно быть, миллионы в воздухе.
— …
— Нет! Не подходите к окну! Господи, к чему я вас толкаю!.. Не подходите, слышите? Они вас увидят! Ирина, вы там?
— Я стою на месте…
— Умница! Молодчина. Не приближайтесь ни к окну, ни к телевизору. Мало ли что. А я пока буду рассказывать. Я как увидел весь этот кошмар — у меня волосы на голове дыбом встали. Не помню, как вернулся в свою квартиру. Помню только, как запирал дверь входа, и там успел просочиться через щель один треугольник. Из особо крупных. Кроваво-красный. Но он был один, я с ним справился. Он попытался залезть в мой нос, а я его поймал рукой, вот так схватил с двух сторон — и разорвал. Кровь у него серая. Да, у них есть кровь, хотя они совершенно плоские. Ума не приложу, как может такое быть.
— Знаете, мне надоело слушать этот бред. Пожалуй, мне действительно стоило звонить в милицию. Или в психушку.
— Ну так звоните! Я же вам с самого начала предлагал! Звоните и убедитесь, что никто не берёт, там все мертвы! Все в городе мертвы, может быть, только мы с вами и остались! Думаете, я не звонил? Думаете, я не кричал в эту треклятую трубку?.. Да я всех знакомых обзвонил! Никто не отвечает! Тогда я стал просто набирать случайные номера, лишь бы на кого-то наткнуться. И попал к вам. Я не могу даже выйти на улицу, потому что вижу, что их там, на улице, целая туча. Если подойдёте к окну, то наверняка увидите их, но я ещё раз говорю: не стоит этого делать.
— Если вы не подходили к окну, то как узнали, что они там?
— Я подходил. Один раз, сдуру, когда был не в себе. Повезло, что они меня не заметили. Если бы увидели… брр, не хочу думать.
— Ну, и что это тогда такое? Эти треугольники?
— Откуда я знаю! Теперь вы знаете всё, что знаю я. Может, они прилетели из другой галактики. Или из другого измерения. Я же говорил, что они выходят из экранов телевизоров. Знаете, Ирина, что мне это напомнило? Такой мультик с черепашками — вы, наверное, смотрели его в детстве, — там плохиши появляются из какого-то экрана, а говорят, что из «Измерения Икс». Очень похоже было.
— Да, я уверена, что так оно и было. Прощайте.
— Нет! Ирина, вы же обещали! Обещали не бросать трубку! Я не хочу оставаться один! Они здесь, они уже слышат меня! Ириноч…
Короткие гудки. Мгновением позже шнур выдернули из розетки, и в мембране вновь стало тихо.
Она повернулась к окну, скрытому за плёнкой занавески, и немного постояла в раздумье. Желание спать пропало. Медленно-медленно, крадущимися шагами она подошла к занавескам и раздвинула их. Внизу были огни города. Обычная мирная картина. Небо было в тучах, поэтому луны и звёзд сегодня не было видно.
… или их не видно, потому что небо загораживают сотни, миллионы, миллиарды крошечных треугольников? Вот оно, вот: если задержать глаза на тучах, то как будто они шевелятся, рассыпаются на отдельные частички, потом собираются вновь…
Треугольники. Красные треугольники, несущие смерть.
Она прислушалась. В доме было тихо. Как-то слишком тихо. Во всех квартирах — оглушительная тишина.
Стараясь не ускорять шаг, она подошла к телефону, подключила его и быстро набрала знакомый номер. Длинные гудки. После десятого гудка она нажала на кнопку сброса и набрала другой номер. Вызов. Вызов. Нет ответа. Её затрясло.
Третий номер, четвёртый… Молчание. Ну конечно, успокаивала она себя, ведь на дворе самый тихий час ночи, кто будет вставать…
Но вот, наконец, трубку взяли. Она едва не рассмеялась от радости.
— Алло? — сонный женский голос.
— Алло! — закричала она. — Настюша, ты? Господи, как я рада! Это я.
— М-м… слушай, подружка, на часы давно смотрела?
— Да. То есть нет. Мне просто нужно было тебе позвонить позарез.
— И по какому делу, интересно?
— Понимаешь… треугольники.
— Какие треугольники?
2008 г.
Торобоан
Однажды беззаботный дух Торобоан после очередного сытного пира в небесном чертоге обратился к мрачному богу войны, который сидел рядом с ним:
— Сколько я себя помню, все вокруг поносят род человеческий и смеются над его глупостью. Но я тоже наблюдал за ними в течение многих тысяч лет и никак не пойму, за что они заслужили такое презрение с нашей стороны. Я видел, как они возникли из ниоткуда и стремительно преобразились из согнутых образин-дикарей в разумных существ. Я видел, как быстро они воздвигали чудесные города в пустых долинах, как всего за пару поколений размножались и населяли огромные пустоши. Я видел их безудержное стремление к прекрасному и светлому: с каким жаром они собирались вместе и создавали изысканные произведения искусства, как трогательно заботились о своей родной планете, постепенно превращая её в цветущий рай. А если случалось кому-то из одарённых небесным талантом людей оказаться в беде, все сообща бросались его выручать и возносили на самые верхи общества. Хоть убей, я не могу испытывать к этим замечательным существам презрения!
И засмеялся бог войны, глядя на недоумевающее лицо молодого духа:
— Ох, Торобоан, всё правильно ты видел, и именно так оно и было. Но ты забыл о способности, отличающей тебя от других небесных обитателей — о даре жить обратно во времени!
2011 г.
Лёд
Горы, которые высятся к западу от долины, носят название Ледяных. У всякого, кто хоть раз посмотрит на высокие хребты, поблескивающие хладным огнём даже в свете июльского солнца, не возникнет вопросов, почему они так именованы. Не удивит никого и то, что Ледяные горы считаются проклятым местом. В долине распространены старинные легенды о незавидной участи тех смельчаков, кто задался целью покорить эти высокие пики, докуда не долетает самый отчаянный орёл. В зависимости от рассказчика судьба несчастных разнится — кого по возвращении домой подкосит неизвестная болезнь, кто бесследно исчезнет среди льдистых камней, а кто сорвётся и разобьётся у подножия той громадины, на которую пытался взобраться.
Меня, человека, который большую часть жизни посвятил исследованию тех самых «проклятых» гор, эти страшилки только забавляли. Уж кто-кто, а я навидался снежных склонов за свою жизнь: приходилось порой неделями блуждать посреди голых камней и ночевать в огромных пещерах, где воздух неприятно пах солью. И если в годы молодости мне иногда становилось не по себе в Ледяных горах, то со временем я так свыкся с этими пустынными местами, что воспринимал их как свой второй дом. Я сторонился людей, из-за чего меня с детства считали угрюмым и нелюдимым типом, поэтому на изломанных просторах горных хребтов мне было уютно.
Мои исследования большей частью представляли интерес чисто научный: как правило, я отправлялся под небеса Ледяных гор в составе геологических экспедиций от различных университетов, благо интерес к этим природным монументам не спадал. Со временем я стал считаться лучшим проводником в этих краях. Впрочем, не только экспедиции занимали моё время в горах; иногда я предпринимал собственные вылазки в труднодоступные районы гор из спортивного интереса, испытывая себя на прочность. Бывали случаи, когда я висел на волоске от смерти — рвались ремни, крюки соскальзывали, два раза я чуть было не попал под оползни, встречались опасные хищники вроде горных рысей, а однажды на меня напали два разъяренных орла. Если бы я не вернулся с очередного похода, под местные байки о проклятых горах была бы подведена надёжная опора — но я выживал (иной раз действительно чудом), и чем страшней была грозившая опасность, тем большей привлекательностью обладали для меня Ледяные горы.
Но и горы тоже награждали меня не только возможностью испытать себя, но и другими дарами: так, однажды на вершине уродливо изогнутого хребта я наткнулся на целую россыпь камней глубокого красного цвета, которые напоминали капли крови. Я взял камни с собой и впоследствии неплохо заработал на их перепродаже.
Со временем, однако, возраст давал о себе знать: мои походы в горы становились всё реже, я ловил себя на том, что чрезмерно устаю во время подъемов, а ловкость, без которой альпинизм в Ледяных горах был делом чрезвычайно рискованным, начала меня подводить. Я стал задумываться о том, чтобы завязать со своим увлечением. Несмотря на любовь к Ледяным горам, мне не хотелось упокоиться среди них навечно после одной непростительной ошибки. К тому времени у меня родились сын и дочь, и жена относилась к моим походам с возрастающим раздражением. И, наконец, я решился. Но перед тем как навсегда отложить альпеншток, мне хотелось совершить последний поход в горы — самый головокружительный и, возможно, самый опасный.
Этот пик высился среди остальных вершин Ледяных гор непокорным острием, в пасмурные дни скрываясь за грядой облаков. Немногие пики Ледяных гор заслужили собственные названия. У этой вершины название имелось — наверное, самое колоритное из всех: Палец Мертвеца. Считалось, что те, кто лезут на неё, тем самым подписывают себе смертный приговор, ибо если они не сорвутся по пути вверх, то при достижении заветной цели их душа тут же взовьётся на небеса, так как пик расположен слишком далеко от грешной земли и слишком близко к тому, другому миру, расположенному над облаками. Я не слышал, чтобы в наши дни кто-то предпринимал попытки залезть на Палец Мертвеца. В годы молодости дерзкая мысль вонзить альпеншток на эту вершину не раз завлекала меня, но я так и не собрался с силами. Возможно, подсознательно я понимал, не желая себе в этом признаваться, что ещё слишком юн и неопытен, и такая бравурная смелость неизбежно обернётся трагедией. Теперь у меня был богатый опыт прожитых лет. Я чувствовал, что могу осуществить задуманное. Покорение Пальца Мертвеца стало бы достойным завершением моей карьеры альпиниста.
Следовало, конечно, достойно подготовиться к опасной затее, и я отвёл на это три месяца — обновлял и проверял снаряжение, ежедневно тренировался и закалял себя. Жена, поначалу принявшая мой замысел в штыки, постепенно смирилась с тем, что я не отступлюсь, и стала по мере сил помогать мне в приготовлениях. Я планировал совершить восхождение один, поэтому провианта и экипировки требовалось немного. И в назначенный день, напоследок поцеловав жену и детей, я выехал из селения и направился в горы, которые выглядели на фоне утреннего розоватого неба особенно грандиозными и мрачными.
Неделю я добирался до основания Пальца Мертвеца. Это было спокойное время: большая часть дороги была мне хорошо известна с прошлых походов, и я чувствовал себя уверенно. Попотеть пришлось только в последней трети пути, когда проторенные тропы остались позади. У подножия Пальца Мертвеца горы были будто расколоты взрывом: гигантские накрененные каменные плиты и бесформенные глыбы громоздились одна на другую, затрудняя прохождение. Будь я обычным альпинистом-любителем, спасовал бы уже на этом этапе.
Заночевав в палатке на голых камнях возле Пальца Мертвеца, я приступил к самой трудной части похода — к восхождению. При ближайшем рассмотрении пик оказался изрытым провалами пещер, как человек с больной кожей. Снизу на это неприятно было смотреть, но во время восхождения это должно было сослужить мне добрую службу. Мысленно перекрестившись, я ступил на пока ещё пологий склон.
Моё снаряжение понадобилось мне очень скоро: склон круто шёл вверх, становясь почти вертикальным. К счастью, он не был монолитной скалой, поэтому неровности попадались в избытке. Цепляясь за них, я методично взбирался вверх. Солнце светило с боковой стороны, поэтому мне не было жарко. Время от времени я делал привалы, глотая воду из бутылочек и принимая скудную пищу. Небо над головой по-прежнему было идеально чистым, дул лёгкий ветерок, который нисколько не мешал подъему. Но я не питал иллюзий — сильные ветра должны были начаться ближе к вершине, и там уж мало не покажется.
За первый день я преодолел больше половины пути. Самая трудная и интересная часть путешествия была впереди. Я нашёл уютную пещерку, напоминающую по размерам туалетную комнату, поставил внутри палатку и устроился на ночлег. Были слышны завывания ветра, трущегося о скалы наверху. Солнце зашло, в темноте далеко внизу роем светлячков сияли городские огни. С каждым выдохом изо рта вырывался пар, но я был одет тепло, к тому же на ночь принял пару глотков крепкого горячительного напитка.
Утром я обнаружил, что холод всё-таки сумел проникнуть через слои одежды: примороженные суставы двигались вяло и ныли при движении. Я тут же устроил полный цикл разминки, полагающийся в таких случаях, и через полчаса вновь почувствовал себя готовым к подъему. Сегодня я должен был достичь самой неприступной вершины Ледяных гор.
По сравнению со вчерашним днём сложность восхождения возросла многократно. Теперь склон почти всегда шёл отвесно. Я с трудом находил зацепки, в которые можно вонзить крюк. Иногда я смотрел вниз и видел крошечные леса и поляны, залитые солнечным светом. Так высоко я никогда не взбирался. Впрочем, страха и волнения не было. Я преодолевал метр за метром, становясь ближе к заветному пику. Пополудни мне удалось так высоко подняться, что ветер стал представлять собой серьёзную помеху. Меня, висящего на ремнях, иногда относило под его напором далеко в сторону; приходилось тратить много сил, чтобы противостоять ветру. Холод стоял просто собачий — если бы не специальная одежда, удерживающая тепло, я бы превратился в сосульку. В довершение всего скалы возле вершины были покрыты льдами, и нужно было действовать с величайшей осторожностью, чтобы не поскользнуться. Я делал привалы всё чаще, в минуты покоя жадно всматриваясь в высшую точку горы, которая нависала надо мной и казалась такой близкой, что до неё можно достать рукой.
Часы у меня на запястье показывали девять вечера, когда я, наконец, оказался на вершине Пальца Мертвеца. Я полагал, что увижу сплошной лысый камень, но ошибся — здесь оказалось широкое пространство, покрытое заледеневшим снегом. Сама вершина действительно выглядела как обломанный палец, возвышаясь вверх метров на семь. В принципе, подниматься туда нужды не было — наверху не было достаточно места, чтобы поставить ногу, — но я решил, что после короткого отдыха залезу и туда, дабы выполнить задачу на все сто.
Сидя на собственном рюкзаке, брошенном на снег, я залюбовался закатом. Солнце в горах выглядело крупнее и багровее, чем внизу. Красноватые отблески играли на льдах, из-за чего вся вершина поблескивала озорными алыми огнями. Почему-то вспомнились замороженные конфеты, которыми баловались дети в селении под Новый год. Если бы не круглый провал небольшой пещерки, место действительно было бы похоже на карамель: мёрзлая скала, покрытая слоем льда.
Меня разобрало любопытство. Пещера была небольшой, но выглядела интригующе. Драгоценные камни я обнаружил в таком же месте на вершине безымянного пика. Кто знает, может, здесь первопроходца тоже ожидает достойная награда?
Вытряхнув из рюкзака мощный электрический фонарь, я вошёл в пещеру. Куда бы я ни направлял луч света, везде вяло искрился лёд, до того мутный и плотный, что невозможно было разобрать, где заканчивается ледяной нарост и начинается камень. Пещера была крохотной по меркам Ледяных гор, и я с разочарованием увидел, что её своды совершенно голые — никаких признаков драгоценностей.
Было ясно, что мои надежды не оправдались, но я почему-то продолжал водить лучом фонаря по сводам. Краем сознания я замечал нечто необычное в этом маленьком ледяном царстве, но никак не мог понять, что именно. Я сделал несколько шагов вперёд, чтобы приглядеться. Тёмный лёд шёл буграми, и при мимолётном взгляде за его толщей будто бы угадывались какие-то черты. Я сощурился, направив луч прямо перед собой. Вот же оно — жёлтый свет выхватывает из глубины льда совершенно отчётливые формы. Глаза, бесцветные и водянистые… Нос с горбинкой… Рот, разинутый в беззвучном крике… Я выругался и непроизвольно отскочил назад. Подо льдом угадывалось человеческое лицо, искажённое гримасой ужаса. И оно было не одно… Я повернулся влево и наугад ткнул фонарём в ледяной свод. И тоже увидел сразу — лицо, белое и бескровное. Волосы, абсолютно седые, разметались по сторонам. На этом лице тоже застыло выражение страха. Луч скакнул влево. Ещё одно лицо…
Трясясь от страха и возбуждения, я выскочил из пещеры на свет. Солнце уже почти село — долину внизу начали окутывать мглистые сумерки. На вершине было светло, но я понял, что не пройдёт и часа, как я останусь в темноте, один на один с этими жуткими лицами во льдах.
Но что я мог сделать? Спускаться вниз, когда тьма уже начала наступать, было безумием. Ночь я должен был провести здесь, на вершине. Когда я понял это, мне почему-то стало спокойнее. Я снова засмотрелся на багровое солнце, чувствуя, как животный ужас покидает меня. В конце концов, мне ничего не угрожает. Это всего лишь лица во льду — может, мёртвые люди, замурованные здесь давным-давно, а может, всего лишь искусные образы, нанесённые когда-то сумасшедшим живописцем.
Но разве до этого места когда-либо добирались люди?
С тоской посмотрев на крошечные огни, зажигающиеся в долине, я вновь повернулся к пещере, из которой не так давно выскочил с проклятиями. Если уж суждено всю ночь дрожать от холода на этом пике, то можно попытаться провести время с пользой и узнать, что за лица скрываются подо льдом. Я решительно шагнул в пещеру, сжимая фонарь в руке. Сердце гулко билось под одеждой.
Лица были на месте. Я попытался отстраниться от своих чувств и изучить их как можно более беспристрастно. Присмотревшись, я с облегчением понял, что о мёртвых телах речь не идёт — во льду были именно только лица, никаких других частей тела. И большей частью лица были изображены довольно топорно, с элементами гротеска: угловатые черты, низкий лоб, выпученные глаза. В тот раз из-за нахлынувшего ужаса я это не заметил. Было похоже на то, что эти лица были высечены на льду достаточно давно, а потом новый слой льда покрыл их сверху. Поняв это, я заметно расслабился, хотя даже так вся эта живопись выглядела зловеще.
Я насчитал в пещере около пятидесяти лиц. Большая часть — мужские лица. Женские попадались всего раз или два. Не все лица были изображены в естественном положении, некоторые лежали на боку или вовсе были перевёрнуты. Моё внимание привлёк ансамбль из пяти лиц, изображённый наподобие цветочных лепестков: подбородки касаются друг друга, и создаётся нехорошее ощущение, что у этих страдальцев общая шея. Лица были нанесены довольно равномерно, начиная от входа до самых глубин.
Несомненно, отличительной характеристикой этих лиц было то, что все они изображались в момент высшего ужаса, заходясь в крике — словно эти несчастные не хотели, чтобы кто-то замуровал их в лёд. Горе-скульптор умел показывать эмоции на ледяных физиономиях — ужас на одном лице не был похож на другой, хотя приёмы, в принципе, оставались одними и теми же: выпученные глаза, морщины на лбу, искривленный рот, вздыбившиеся волосы.
Кончилось дело тем, что меня начало подташнивать от вида этих спрятанных во льду лиц. Я не понимал, как они тут оказались, когда это случилось, а главное — с какой целью. Мне представился сумасшедший средневековый альпинист, который впервые покорил Палец Мертвеца и хохотал, глядя на багровый закат, потом решил не тратить ночь зазря и увековечить свой подвиг таким эксцентричным образом.
В качестве эксперимента я попытался расколоть лёд над одним из лиц: мне хотелось узнать, насколько глубоко находятся эти скульптуры. Но сколько бы я ни бил, мне не удалось отколоть хотя бы кусочек от превратившегося в камень льда. Осталось лишь завидовать усердию и силе неизвестного скульптора, который, невзирая ни на что, смог подчинить древние льды своей воле. Когда я понял, что одной ночью тут дело не обошлось, и эта титаническая работа наверняка потребовала месяцы, а может, годы, мне стало не по себе. Я поспешил покинуть пещеру и выйти в сумрак под открытым небом.
Ночь была жутковатой. Вокруг меня ревел ветер, пещера с лицами чернела овалом раскрытого рта, а холод едва не доконал меня. Время от времени я вскакивал и принимался неистово делать зарядку. Когда я закрывал глаза, то видел перед собой выпученные белесые глаза и развевающиеся волосы.
Наконец, первые лучи солнца пробились из-за мрачных хребтов и осветили вершину Пальца Мертвеца. Я вздохнул с облегчением и отпил большой глоток из термоса с горячим чаем. Мне не терпелось спуститься вниз и покинуть горы. Отчасти — из-за раздирающего меня желания рассказать всем о странной находке. Отчасти — из-за гнетущей тревоги, сдавливающей грудь. Я клятвенно обещал себе, что, спустившись вниз, больше никогда не пойду в Ледяные горы ни за какую награду. Если учёные мужи захотят исследовать пещеру с лицами, я буду рад указать им место и помочь советами, но проводника пусть берут другого.
Спускаться всегда легче, чем подниматься в горы. Во-первых, места уже знакомы, и каждая скала кажется родной. Во-вторых, не нужно выискивать зацепки, на которые нужно накинуть крюк: знай себе цепляй и скользи вниз на ремне. Я был уверен, что ещё до наступления сумерек окажусь у подножия. Так и вышло: спуск прошёл без сучка без задоринки, и я провёл ночь у основания Пальца Мертвеца. Пещера с лицами на следующее утро казалась мне каким-то невероятным сном, и я даже подумал о том, стоит ли вообще рассказывать о нём в долине: может случиться, что мне не поверят и сочтут окончательно спятившим. Нет, твёрдо сказал я себе. Я точно помню, что было — значит, люди тоже обязаны знать.
Два дня я спокойно продвигался к границе гор. Непоправимое случилось на третий день на трудном участке, когда мне пришлось перелезать через гигантскую цельную глыбу высотой метров в десять. Я быстро взобрался на неё, прикрепил ремни и стал спускаться. Но не успел преодолеть и метра, как правый ремень внезапно сорвался. Меня отбросило в сторону; я замахал руками, пытаясь нащупать под ногами поверхность глыбы. Ситуация была опасная, но не катастрофическая. Такое со мной уже бывало. Но я не мог понять, почему ремень сорвался именно сейчас, ведь я прикреплял его надёжно…
Понимание пришло внезапно, яркой вспышкой, когда левый ремень тоже сорвался и повис безвольным тряпьем. У меня остался только тонкий страховочный ремень, и я со всей доступной мне скоростью стал спускаться вниз, умоляя дать мне немного времени.
Но времени мне не дали. Страховочный ремень с треском оторвался, и я оказался без всякой поддержки на высоте семи метров над острыми скалами. Я попытался зацепиться за камень, но он, проклятый, был гладким, как стекло. Я почувствовал, как теряю опору и падаю спиной вперёд. У меня не осталось надежды — я знал, что нахожусь слишком высоко, и падение это станет для меня последним. Я закричал. Какая изощренная издевка — все эти годы считать, что в Ледяных горах нет никакого проклятия, и лишь в последний свой поход, за мгновения до смерти, узнать, что это не так; чувствовать близость безумного скульптора и так и не увидеть его лица; знать, что этой ночью там, на вершине, напоминающей мёртвый палец, появится моё лицо в этот вечный миг, миг откровения — выпученные глаза, раскрытый в вопле рот, вставшие дыбом волосы — и ведь никто, никто так и узнает никогда о существовании той пещеры (а если и узнает, то эта тайна быстро уйдет в небытие вместе с ним), лишь только странные, тревожные, страшные легенды будут слагаться о Ледяных горах — о тех несчастных, что пытались покорить эти вершины и не вернулись, найдя упокоение среди голых скал, среди тысячелетнего льда, который навечно запоминает их лица, чтобы не забыть…
2011 г.
Механическое Чудовище С Человеческой Головой
Механическое Чудовище С Человеческой Головой появилось на пригородном поле субботним вечером, когда луна вышла из-за горизонта.
Чудовище выглядело неописуемо — тысячи, если не миллионы, проводков и деталей сплетались, отливая золотом в свете месяца. Туловище представляло собой раздутый шар, сплошь состоящий из различных рычажков, стержней и реле. Тут и там вспыхивали и гасли огни электронных ламп, издавая низкое гудение. Когда Чудовище двигалось, металлические суставы жужжали; поворачивались шестерёнки, а поршни накачивали масло в стальные трубочки. Конечности Чудовища напоминали ножки паука — так много у него было рук и ног, каждая имела чуть ли не по сто суставов и свободно изгибалась в любую сторону. Одни конечности заканчивались железными пальцами, другие имели присоски, а третьи просто болтались, как щупальца осьминога. На конечности, выступающей прямо из шеи, почему-то был дисплей с таймером, красные цифры на котором отсчитывали время.
А голова у Чудовища была человеческая.
Механическое Чудовище С Человеческой Головой двинулось в сторону шоссе, вращая головой. Поле было пусто, здесь его никто не мог видеть. Но на шоссе были машины — выйдя туда, оно уже не могло оставаться незамеченным. Впрочем, Чудовище не пыталось скрываться. Оно шло прямо к машинам, свет фар которых изредка скользил по его туловищу, заставляя его ослепительно блестеть.
Вскоре раздались первые крики ужаса. Механическое Чудовище ускорило шаги; оно бежало к людям, и отрезанная человеческая голова на вершине аляповатой конструкции широко разевало рот, пуская слюни. Когда Чудовище достигло шоссе, луна скрылась за облаком, погружая землю во мрак.
Водитель красного автомобиля в панике вдавил на педаль тормоза, но машина, которая ехала вслед за ним, врезалась в задний бампер и заставила красный автомобиль ехать дальше, навстречу Механическому Чудовищу, которое стояло на пути. Столкновение было неизбежно. Водитель попытался повернуть руль в сторону, но Чудовище юрко прыгнуло следом, не давая увильнуть. Водитель вжался в кресло, зажмурился и закричал.
Лобовое стекло осыпалось дождём осколков. Рука Чудовища в виде щупальца скользнула внутрь, обвилась вокруг торса человека и выдернула его из машины, как пробку. Человек кричал. Кричали окружающие люди, некоторые залились истерическим смехом.
Суставы натужно заскрипели. Откуда ни возьмись, на свет выпрыгнула ещё одна конечность, напоминающая хобот: шланг из эластичной резины, поддерживаемый проволочным каркасом. К шлангу прильнула третья конечность с бешено вращающимся сверлом.
— Оно убьёт его! — завизжала какая-то женщина. — Сделайте что-нибудь!
Никто ничего не сделал, и Чудовище с ужасающей быстротой совершило то, чего хотело: одним махом просверлило отверстие на черепе несчастного водителя и воткнуло туда хобот. Заработал небольшой мотор, скрытый в металлических недрах; через резиновый шланг к Чудовищу потекла склизкая масса под дружный вопль толпы. Голова Чудовища, опутанная проводами-продолжениями вен, блаженно улыбнулась.
И тут раздался выстрел.
Выстрелил человек в жёлтой соломенной шляпе, который держал в руках дымящуюся двустволку. В отличие от других, он не кричал, а хмуро смотрел на Чудовище, которое вздрогнуло и открыло глаза. В его зрачках плавало удивление. Пуля вгрызлась в сплетение проводов, на асфальт выплеснулось горячее масло. Мотор захлебнулся на миг, но восстановил работу.
— Все назад! — приказал человек в соломенной шляпе, и его послушались. Толпа попятилась от Чудовища, которое в сумасшедшем ритме завертело головой, насаженной на сервомотор. Лампы вспыхнули красным. Тело водителя выскользнуло из механического щупальца и шлёпнулось о землю. Какая-то женщина снова истошно закричала.
Человек выстрелил снова, на этот раз целясь в голову. Но промахнулся: Чудовище подалось влево, и пуля лишь задела то место, где у живых существ могло бы быть плечо. Голова остановила вращение и уставилась на стрелка. Жужжание стало угрожающим.
Человек перезаряжал ружьё. Спокойно, не торопясь, он засовывал патроны в ствол дробовика, вынимая их из патронташа, который лежал в открытом багажнике. Соломенная шляпа скрывала его лицо, так что никто не узнал, что отражено на нём — страх или сосредоточенность.
Механическое Чудовище С Человеческой Головой наступало на стрелка. Масло по-прежнему плескалось из перебитой трубы, несколько конечностей безвольно повисли вниз, мешая ему ходить, но оно двигалось быстро и решительно. Когда человек защелкнул дробовик, оно схватило стрелка и подняло в воздух. Шляпа слетела. Металлические суставы впились в рёбра; послышался явственный хруст. Дробовик качнулся в ладони стрелка, и голова Чудовища ухмыльнулась. Сальные волосы, облегающие полное лицо головы, словно стали длиннее. К стрелку потянулись две конечности — сверло и шланг, из которого всё ещё капала серая жижа.
Человек развернул дробовик в сторону Чудовища и выстрелил. Многим показалось, что он выстрелил в припадке отчаяния, не целясь. Но почему тогда он попал ровнехонько в лоб, осталось неясным.
Ухмылка так и осталась приклеенной к разнесённому лицу Чудовища. Кровь брызнула на стальные детали. Голова замерла, будто над чем-то раздумывая, потом запрокинулась назад. Сервомоторы поперхнулись и затихли.
Все ждали, затаив дыхание, что будет дальше.
Чудовище стояло, окружённое людьми, держа на весу раненого стрелка, который всё-таки выпустил ружьё. Затем стрелок полетел вслед за своим оружием вниз, где распластался на асфальте. Механическое Чудовище сделало шаг к нему, потом прочь от него, потом снова к нему. Повторив этот цикл около трёх раз, оно вдруг заревело во всю мощь своих моторов и ринулось бежать. Люди с криками расступались перед ним. Когда ноги Чудовища ступили на обочину, шум всей машинерии, заключённой в его недрах, вдруг прервался, и оно навзничь упало на землю. В темноте сверкнули синие электрические разряды. Дисплей с красными цифрами потух. Голова соскочила с оси и улетела в траву.
Механическое Чудовище С Человеческой Головой умерло.
Люди несколько секунд боялись двинуться, не веря, что опасность миновала. Потом толпа словно взорвалась. Люди побежали — некоторые к своим машинам, чтобы уехать как можно дальше и забыть эту ночь, другие к мёртвому Чудовищу, чтобы хорошо разглядеть его с почтительного расстояния. Были и те, кто прибежали к своему раненому спасителю, чтобы помочь.
— Спасибо… спасибо… — рассеянно бормотал он, когда они уложили его на импровизированные носилки из автомобильных кресел и понесли в фургон, который направлялся в больницу. — Пусть только попробуют сказать мне после этого, что носить ружьё в багажнике незаконно…
— А вы не умрёте? — озадаченно спросила девушка, кладя на носилки шляпу стрелка, подобранную с земли.
— Я? Конечно, нет, — улыбнулся он, превозмогая боль. — Бывало и похуже, милая.
— А что это, вообще, было за существо? — над ним склонился молодой человек в чёрной куртке. Видно было, что его пробирает крупная дрожь.
Стрелка уже расположили внутри фургона и собрались закрыть дверцу, когда он увидел, что молодой человек ещё стоит рядом и ждёт ответа. Он приподнял голову и поморщился.
— Ты спрашиваешь меня? — сказал он. — Да чёрт его знает, сынок.
— Ну хорошо, — проговорил Алексей после продолжительного молчания. — Допустим, я представлю себе какое-нибудь Механическое Чудовище С Человеческой Головой, смысл существования которого заключается в том, чтобы пожирать у людей мозги. Но это же не делает его реальным, так? Я могу представить всё, что угодно, хоть даже Чёрного Коня-убийцу, который прячется в…
Иван нетерпеливо взмахнул рукой:
— А кто сказал, что всё, придуманное тобой, будет воплощаться именно в нашем мире?
— В каком ещё? — улыбнулся Алексей, глядя на луну, плывущую за окном.
— Ты знаешь, за что сожгли Джордано Бруно?
— Вроде бы он говорил, что Земля вертится вокруг Солнца.
— Это сильно упрощённое представление его идеи из совковых учебников. Бруно утверждал другое. Он говорил, что миры множественны. Что каждая звезда может представлять собой отдельный обитаемый мир. И что таких миров может быть бесконечное количество. Понимаешь?
— Так что же получается, — Алексей перевернулся на живот и посмотрел на Ивана, который лежал на кровати напротив. — По твоим словам, если я воображу Механическое Чудовище С Человеческой Головой, то оно появится не в нашем мире, а в одном из других миров?
— Необязательно. Все миры равноправны друг перед другом, и поэтому продукт твоего сознания в каком-то случае может появиться и в нашем мире.
— Ну, это класс, — мечтательно сказал Андрей. — Значит, если я буду достаточно часто… ну, скажем, по три раза в день… представлять себе, что Ленка Анисимова согласилась со мной поужинать, тем самым я буду повышать шанс того, что это сбудется именно в нашем мире, а не в каком-то другом… не правда ли?
Иван усмехнулся:
— Чисто по теории вероятностей — да. Вообще, есть в народе поверье, что если слишком сильно хотеть чего-то, то это может сбыться. Накликаешь беду, накаркаешь, ну и так далее… Короче, что я тебе говорил: всё, что можно вообразить — реально, и ты это вынужден признать.
— Ни фига, — Алексей потянулся. — Ты начитался фантастики, друг. Тебе нужно сходить гульнуть, чтобы очистить голову от подобного кала. Впрочем, если Ленка вдруг в ближайшие дни согласится пойти ко мне домой, то я, так и быть, присвою твоей теории статус научного. А пока я посплю, завтра вставать рано… Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — отозвался Иван, переворачиваясь на правый бок.
Алексей устроился поудобнее на постели и мгновенно уснул. День был долгий, он устал…
А где-то очень далеко в горном ущелье, куда годами не проникает солнечный свет, Чёрный Конь-убийца открыл налитые кровью глаза и хищно заржал в темноту.
2007 г.
Месть
Есть поверье, что зло, однажды сотворённое, не может исчезнуть — оно скитается по земле, подобно духу без плоти, чтобы однажды вернуться к своему творцу, как блудный сын, в ненастный день стучащийся в двери родного дома. Молодые люди, кровь в чьих венах ещё горяча, смеются над этим убеждением, как над глупым суеверием. Но с прошествием годов, когда ум обретает мудрость прожитых лет, а тени грехов, взваленных на плечи, накапливаются — тогда люди, подрастеряв юношеский пыл, начинают поневоле задумываться о расплате за свои деяния. И иными безлунными ночами, когда в наши окна заглядывают только жуткие зрачки немигающих звёзд, на нас находит ужас: в вязкой тьме за стеклом вдруг чудятся формы и образы, тянущиеся к нам из прошлого; они безмолвны и холодны, жаждут мщения и с каждым мигом становятся неотвратимо ближе к нам.
Юность моя тоже была не безгрешна, как у всякого человека. Но над всеми мелкими грешками, вызванных простой слабостью человеческой природы, в моём прошлом мрачной горой высится один тяжкий грех, совершённый ночью под бесстрастным взором луны. То была холодная осенняя ночь в лесу, и до сих пор, когда я закрываю глаза, перед внутренним взором предстают отпечатавшиеся в памяти образы: равнодушное покачивание веток на деревьях, протяжные крики, переходящие в жалобные стоны, голое девичье тело, распростёртое на траве, как изломанная кукла — и ощущение безумного, сладострастного восторга во всём теле, охваченного ядом тёмной страсти. С той поры минуло двадцать пять лет. И с каждым годом я всё явственнее чувствовал, что этот грех, в отличие от остальных, прощён не будет; что демон зла, которого породил я в ту ночь, ещё жив и следит за мной горящими безумными глазами. И во мне крепла странная, пугающая уверенность: расплата настигнет меня ещё до того, как мой дух покинет бренное тело.
Двадцать пять лет — срок долгий в человеческой жизни. Порой мне удавалась почти убедить себя в том, что ничего не было, и это всё неверная фантазия, помутнение рассудка. Но когда я встречал ту, над которой я в осеннюю ночь учинил насилие — а она всегда была рядом, никуда не ушла из нашего городка, и каждый раз, когда мы с ней случайно сталкивались на улицах, она отворачивалась, пряча от меня лицо, — и вот когда я видел её, то мой ум накрывала волна отчаяния: всё было, было, не воротить и не изменить: когда-нибудь, в такую же страшную и холодную ночь, мне придётся держать ответ за свой грех.
Одно приносило мне какое-никакое успокоение: хоть я и знал, что демон где-то там, я не мог представить, в какой миг я столкнусь с ним лицом к лицу. И потому я мог убеждать себя в том, что этот день ещё невыразимо далёк, сокрыт за туманами. Но с прохождением времени даже эта отдушина слабела. Всё чаще я просыпался посреди ночи с криками, промокший до корней волос; всё более угрюмым становился я, и когда в толпе издали замечал ту женщину, которую я боялся как огня, то приходил в неистовую панику и бросался прочь, расталкивая прохожих. Мой страх перед местью за свой грех стал патологичным, высасывающим из меня все соки. Я хирел, жизнь потеряла привлекательность, всё существование превратилось в напряжённое ожидание дня суда.
В последнюю осень в наш сонный городок заехал бродячий карнавал, разорвав тишину вечеров музыкой из шатров, грохотом хлопушек и шипящими огнями, прорезывающими тёмное небо. Я не интересовался подобными развлечениями — однако вскоре после прибытия карнавала моих ушей достигла весть об удивительном гадальщике, который сидел в шатре у самого входа. Говорили, что он знает всё обо всех, о прошлом и будущем; что стоит ему разложить свои карты со странными символами, и те рассказывают ему любые тайны. Многие были в восторге от того, как точно гадальщик рассказывал об их прошлом и как уверенно пророчил будущее. Одному мальчишке с окраины города он сказал, чтобы тот остерегался бродячих собак; но, видимо, юнец не придал значения его словам, и через три дня попал в больницу с укусами голени. Другому человеку он предсказал встречу с любовью всей его жизни в тот же день. И что же — тем вечером вечный одиночка встретил на карнавале женщину, от которой совершенно потерял голову, и не прошло и четырёх дней, как он сделал ей предложение руки и сердца.
Мне эти истории показались занимательными; поневоле приходили мысли о том, что этот удивительный человек мог бы рассказать обо мне, о том, что меня ждёт впереди. Может, он смог бы избавить меня от моих страхов, сказав, что я зря страшусь мести демона?.. Конечно, он узнает о моём ужасном грехе, если он так хорош, как о нём идёт молва — но я готов пойти на это, если он искренне расскажет мне о будущем. За эти годы гадальщик наверняка знавал истории много хуже. Даже если месть неизбежна — тогда я спрошу его, когда мне её ожидать, и буду спокоен до рокового мига. Я смертельно устал нервно оглядываться каждый вечер, выходя на тёмную улицу; мне претило выискивание расплывчатых силуэтов в зернистой мгле за окном.
С такими мыслями я пришёл ранним утром в шатёр гадальщика. К моему удивлению, меня внутри встретил не седовласый старец и не знойный чужестранец южных кровей. Гадальщик был молод и черноволос, превосходно изъяснялся на нашем языке. Лишь глаза его были не такими, как у всех людей — пронзительно-голубые, как арктические ледышки, они смотрели в глубины твоего разума, и от этого взгляда я поежился, будто от холода. Гадальщик жестом пригласил меня сесть и, не говоря ничего, стал раскладывать карты. Колода у него была старая, потрепанная, он обращался с ней с искусом истинного факира. Я молчал; слов не требовалось. Наконец, он разложил карты и погрузился в их изучение. Он смотрел на рисунки на картах так долго, что я стал испытывать беспокойство. Что он там видел? Какой рок, какая судьба мечом нависли надо мной? Гадальщик молчал, и в масляном свете жёлтых свеч, которые освещали шатёр, он выглядел восковым истуканом, чем-то неживым и пугающим.
Я вышел из шатра через двадцать минут после того, как вошёл, с бешено бьющимся сердцем, не видя ничего вокруг себя. Всё стало зыбким, всё расплывалось, и я чувствовал, что мой разум балансирует на грани полного сумасшествия. Причиной тому было слово, всего одно слово, произнесённое гадальщиком. «Когда?» — таков был мой вопрос, когда он закончил смотреть на карты и поднял на меня свой устрашающий взор. «Сегодня», — сказал он бесцветно и мертво, и я едва подавил крик, зародившийся в груди. Как я нашёл выход из шатра, не помню. В голове стучало лишь одно слово, как приговор, как удар по голове — сегодня, сегодня, сегодня. Гадальщик до сей поры ни разу не ошибся — значит, это было правдой, и расплата, которую я так боялся и от которой пытался укрыться, должна была случиться сегодня.
Весь день я метался, как в горячке, но к вечеру мне удалось взять себя в руки. Я не собирался ложиться спать. Во мне проснулся дух сопротивления — вместе со страхом пришла злость. Пусть мой грех и вызвал эту кару, но жажда жизни во мне ещё теплилась. Я вооружился револьвером, зажёг все лампы в доме, задёрнул шторы на окнах и сел в кресло. За стенами шумел ветер, гоняющий тучи по небу. Вечер был самый обычный, каких прошло тысячи, и карнавал на другом конце города зажигал свои извечные огни. Я напряжённо вслушивался в малейшие звуки, но ничего не было заметно. Так я просидел до полуночи. Потом усталость и нервное перенапряжение стали брать верх, и веки сомкнулись сами собой: я засыпал, сколь бы ни пытался сопротивляться истоме — погружался в бессознательное состояние, и сладкая тьма накрыла меня.
Однако мои чувства заглохли не полностью: даже во сне я продолжал слышать. До поры до времени единственным звуком, что ловил мой слух, был непрекращающийся свист ветра под ночными небесами. Но потом к нему стал примешиваться другой звук — будто грохот далёких барабанов, бьющих в такт. Что это? Дождь? Я не был уверен — слишком ровным и гулким был шум. Я представил себе неведомое африканское племя, проводящее свой кровавый ритуал под неумолкающий бой барабанов из человеческой кожи, и оттого по телу пробежал холодок. Однако же, проснуться я не мог, и глаза оставались закрытыми. Вот ещё один посторонний звук — на этот раз не вызывающий никаких сомнений в своём происхождении: чьи-то шаги возле моего дома, ровные и задумчивые, без чувств, без спешки. Внезапно все огни в доме погасли, и тут я проснулся, вскочил с криком. Но было поздно: в доме царила кромешная тьма, бой барабанов у горизонта продолжался, и неизвестный пришелец уже был в моём доме — под его весом поскрипывали половицы на нижнем этаже. Это был тот самый демон, которого я боялся до смерти, демон, рождённый моим грехом, той адской страстью, что бурлила в моей крови тогда, в ночь ущербной луны. Я с придыханием вскинул руку с револьвером и выпустил все шесть пуль, когда дверь моей комнаты распахнулась и из проёма потянуло ледяным воздухом. Но демон не умер. Он был бессмертен, а я не мог видеть в темноте. Оружие со стуком упало на пол. Тёмный силуэт подошёл ко мне без слов, и, будто по мановению руки, ставни на окнах распахнулись, впуская внутрь мутно-жёлтый лунный свет, совсем как в ту проклятую ночь.
Я хотел зажмуриться, но это было выше моих сил. Я увидел его — увидел худое лицо, бледное и с правильными чертами, обрамлённое чёрными волосами. Молодое лицо, красивое лицо, лицо без печати страстей, как воск, и лишь глаза чисто-голубые, цвета льда и океанских вод, без малой искорки теплоты. Я закричал, но крик умер в зародыше — я узнал его, узнал эти голубые глаза, так похожие на мои собственные, только чище и глубже, эти безжалостно-чёрные волосы, чуть вьющиеся. Не в эти волосы ли я зарывался лицом под той грешной луной, не их ли тонкий аромат я вдыхал, пьянея от собственной власти над немощным телом, тщетно бьющимся подо мной? Плод нежеланного союза, дитё насилия, демон — это был он, тот, кто неотвратимо шёл ко мне все эти годы. Он узнал меня уже тогда, когда я раздвинул шторки шатра. Он сказал мне: «Сегодня», — и это действительно было так.
Где он был всё это время? Где она его прятала — а может, бросила в тот же день, когда он вышел из её чрева, в отвращении глядя в его голубые глаза, похожие на мои? Как он провёл детские годы? Что за дьявольский замысел или цепь роковых случайностей привели к этой встрече?.. Все эти вопросы стали неважными в этот миг, когда мы — отец и сын — смотрели друг на друга. Грохот барабанов стал невыносимым, он бил раскалённым молотом прямо в мозг, минуя уши, и я понял, что месть уже началась. О нет, не банальное убиение, не боль, не душевные муки — эти бесстрастные, нечеловеческие глаза обещали мне нечто более изощрённое и ужасное. Я содрогнулся в последний раз, прежде чем моё тело рухнуло на пол бездыханным, где его нашли утром и констатировали сердечный приступ. А я сам тем временем ещё мог мыслить, видеть, слышать… чувствовать.
Вокруг была тьма, и над тьмой вспыхнули два голубых глаза, как звёзды. Появилась луна — такая же запрокинутая и ущербная, как мне она помнилась. Жёлтое сияние лилось сверху. Ветер пронёсся по чёрному пространству, вырисовывая силуэты деревьев. Я упал на колени, потом на четвереньки. Я узнал этот лес, этот холод, эту осень: та точка пространства и времени, когда я стал проклят. Но теперь подо мной извивалось не беззащитное хрупкое тело, а нечто холодное, отдающее мертвечиной, теряющее формы. В безмерном омерзении я попытался встать, оторваться от этого существа, но это мне не удавалось — противоестественное соитие продолжалось, оно высасывало из меня все силы, всю жизнь, остатки моей души. Это был даже не демон, не призрак, не дух; что-то, вызванное из тех областей мироздания, где нет понятий «время», «свет» и «тепло». Я не знал, в какой дьявольской школе обучался мой отпрыск, чем пожертвовал, чтобы мочь обрести возможность вызывать это неименуемое. Голубые глаза наблюдали за моими рваными содроганиями сверху, без усмешки и неприязни, а между тем это продолжалось, продолжалось… продолжалось, и я уже догадывался, что в этой изнанке Вселенной отсутствует понятие длительности, и это будет продолжаться вечно — убийственный экстаз, леденящая жара, отвращающий восторг — невыносимо, чудовищно, бесконечно, превосходя все двадцатипятилетние кошмары. Рассудок уже покидал меня, и меня душил хохот сквозь слёзы, а голубые глаза… они всё смотрели… и хоть бы призрак какой-то эмоции, знак удовлетворения… но нет же — ледяная пустота… в то время как над карнавалом взрывается очередной огонь… а существо подо мной всё теснее сливается с телом… это месть, это ад, это грех… в громадной пустоте, где обитают вселенские тени… они вечны, они превосходят все знакомые людям размеры… но уж это знание точно не для меня. Я вновь с наслаждением и ужасом ринулся в бездну холодного тела своего мучителя — и навсегда потерял себя в нём.
2011 г.
Сердце матери
Эту сказку поведал мне старик, когда мы сидели вместе на берегу реки и ловили рыбу. Клёва не было, ночь выдалась холодной, и мы разговорились. Он оказался очень мудрым, этот старый рыбак. Несмотря на безрыбье, я не жалел о том, что пришёл на этот пустынный берег. Он рассказал мне много историй, странных и смешных, пугающих и жизнеутверждающих. Короткую сказку про сердце матери рыбак рассказал мне за полночь, когда ковш на небе сместился на восток. Почему-то именно её я запомнил больше всего, и хочу сейчас пересказать вам в таком виде, в каком услышал.
В неизвестное время в неизвестном месте жил-был король. Король был очень стар и мучим многими болезнями. Тем не менее, он мужественно противостоял недугам и продолжал заправлять делами своего королевства, как мог. Но ясно было всем, что смерть скоро накроет старого короля своим чёрным крылом. Королевство не осталось бы беспризорным — трон должен был перейти наследнику, единственному сыну короля, которого в народе называли не иначе как Красный Принц. Красный — потому что с малых лет принц проявил себя кровожадным и жестокосердным тираном. К достижению совершеннолетия его руки уже были по локоть обагрены кровью. Он любил убивать людей, наслаждался их страданиями. Но пока у него не было королевской власти, он не мог развернуться в полную мощь. Народ с ужасом ждал кончины старого короля, зная: этот миг знаменует начало суровых перемен. Принц же ожидал смерти отца с предвкушением. Когда все бразды правления будут в его руках, он-то наведёт порядок в стране. Единственным залогом порядка был страх, а страх могла порождать только жестокость. А жестоким быть он умел и любил. Так думал принц.
И настал день, когда король не смог подняться утром с постели. Его тело сотрясалось в жестоком кашле, и каждому взглянувшему на него, даже если он не был лекарем, становилось ясно, что грядёт скорая смена власти. Принц торжествовал в своих покоях, примеряя свежесшитую алую мантию. Придворные ходили по дворцу на цыпочках, страшась навлечь на себя гнев будущего властителя. Страх и покорность овладели королевством до окраин.
Но всякое зло рождает новое зло, направленное против него — нашлись люди, которые восстали против Красного Принца, желая раздавить хищного птенца в гнёздышке — до того, как он расправит крылья. Во дворце короля организовался заговор, целью которого было убийство принца, пока он не взошёл на трон. Но принц был подозрителен и мнителен, он круглосуточно находился под надёжной охраной, отбираемой им самим, и вкушал только пищу, которую готовили в закрытой королевской столовой. Добраться до него было почти невозможно. Посовещавшись, верхушка заговора решила использовать единственный шанс. Придворные пошли с поклоном к королеве, славящейся своей добротой и тихо оплакивающей умирающего мужа. Она выслушала их страшную просьбу спокойно, лишь плотно сжала губы. Кому, как не ей, не знать черствость души своего сына… Она долго думала. Заговорщики ждали ответа с трепетом. Ведь если королева откажет, они обречены на провал, и страна захлебнётся в собственной крови. Даже маятник часов, казалось, перестал раскачиваться в те долгие полчаса, что старая королева сидела, погружённая в тягостные раздумья. Наконец, она заговорила. Она сказала, что понимает, какой грех берёт на душу. Она сказала, что за это она будет вечно гореть в аду. Но она сказала также, что в ней течёт королевская кровь, а долг всех членов королевской семьи — заботиться о судьбе королевства. Тяжёлые слова слетели с губ: «Я согласна». Заговорщики вздохнули с облегчением.
План был прост. С детских лет повелось так, что принц каждый вечер перед сном пил напиток, подносимый матерью. Сначала это было тёплое молоко, потом — варево из сладких ягод, потом — бокал красного вина. Несмотря на всю свою подозрительность, принц полностью доверял матери, которая вырастила его на своих руках. Всё должно было пройти гладко. Заговорщики дали королеве бурый порошок, чтобы в ближайший вечер она высыпала его в бокал вина. Как только принц выпьет вино, его участь будет решена, и грозовые тучи, сгустившиеся над страной, рассеются. Королева согласно кивнула и спрятала пакетик в рукаве. Когда заговорщики ушли, она долго сидела у окна, глядя на серые облака.
Наступил вечер. Над городом кружил ветер, вдалеке гремел гром, то и дело озаряющий окна дворца синими вспышками. Часы пробили одиннадцать раз. Принц в своих покоях поднялся навстречу матери, которая шла, крепко сжимая руками бокал. В бокале искрилось красное вино, отливающее кровью в оранжевом свете камина. Принц взял бокал из рук матери, но не спешил пить: он с удивлением смотрел на её побледневшее лицо и дрожащие губы. Такой он никогда мать не видел…
«В чём дело? — спросил принц. — Тебе нездоровится?».
Королева не отвечала, потом заплакала. Её слёзы тоже имели красноватый оттенок в пылающем свете огня.
«Твой отец умирает, — сказала она. — Я прожила с ним долгую жизнь, теперь он уходит. Разве я могу не грустить?».
Принц улыбнулся — холодно и презрительно. От его улыбки веяло льдом.
«Это всё сопли, — сказал он. — Уверен, никто в королевстве не будет плакать из-за этого старого пня. И ты тоже не должна, потому что я приказываю тебе. Не как твой сын, но как нарождающийся король».
Королева сжала губы, но слёзы не прекратили течь по щекам.
«Хорошо, — тихо сказала она. — Я не буду грустить».
Принц кивнул и поднёс бокал к губам — как раз в этот момент двери покоев распахнулись, и страж доложил срывающимся голосом:
«Это случилось! Только что… сказали лекари… король мёртв, его больше нет!».
Принц закинул голову назад и расхохотался в потолок. Вино чуть расплескалось на алый ковёр.
«Да! — прокричал он. — Свершилось! Наконец-то начинается новое время — век моего правления!».
С этими словами он опрокинул бокал, выпив всё вино до дна, а сам бокал швырнул в камин, где он жалобно звякнул, разлетевшись на осколки. Что касается королевы, она убежала в свою комнату, рыдая и прикрывая лицо ладонями. Принц не обратил никакого внимания на неё — он пошёл к себе надевать мантию, которую мог теперь носить по праву. Здоровье его было отменно и таким оставалось, и неудивительно: вино в бокале было приправлено только горькими слезами матери, больше ничем.
На следующее утро во дворце прошла коронация, где Красный Принц стал Красным Королём, и на его голову возложили корону. Королева стояла рядом со своим сыном, на которого все взирали со страхом и трепетом, и сохраняла каменное лицо. Новый король был жесток, коварен, не знал жалости — его дурная слава за годы правления разошлась по всему миру, и в стране с тех пор владычествовали лишь насилие, голод и разруха. Когда короля, наконец, не стало, страна уже умирала, и вдохнуть новую жизнь в разлагающийся труп оказалось невозможно. Враги нагрянули со всех сторон и растащили земли короля по кусочкам. Так исчезло славное королевство, существовавшее многие века.
«Но почему? — вскричал я, когда рассказчик умолк. Рыба зацепилась за крючок, натянув леску, но я не дёрнул удочку. — Почему она не положила яд в бокал? Ведь она знала, что поставлено на кон! В чём причина?».
Старый рыбак посмотрел на меня строго и печально.
«Сердце матери», — ответил он на мой вопрос.
2006 г.
Миг темноты
Вечер. Со всех концов города в дом, стоящий на окраине поселения, съезжаются люди. Их встречает оранжевая лампа, зажжённая на веранде. Солнце зашло, но на краю неба — там, где оно сливается с землёй — ещё видна синяя полоска, тонкая, как лезвие бритвы. Шумные толпы детей и взрослых прибывают и заходят в дом, смеясь и перешучиваясь. Сегодня Джен исполняется восемнадцать лет.
Сама Джен в это время сидела в своей комнате перед большим зеркалом, облачившись в голубое платье, сшитое мамой специально для праздника. Она слышала смех и разговоры в гостиной, а ещё — воистину чудный звук лимонада, наливаемого в стаканы, и позвякивание фарфоровых тарелок. Когда она делала вдох, в нос били ароматы индейки, апельсинов и выпечки. Мой праздник, подумала Джен. Сегодня мой праздник.
Мама снова зашла в комнату — с раскрасневшимся от волнения лицом, ступая на цыпочках. На губах мягкая улыбка, на платье наброшен передник с изображением красных грибов.
— Готова, милая?
— Да, — сказала Джен, поправляя рукав платья. — Когда я смогу выйти?
— Не сейчас, — она с деланной строгостью качнула пальцем. — До того, как ты выйдешь задувать свечи, никто не должен видеть именинницу. Маленькая интрига не помешает вечеру, ага?.. Потом всё равно наговоришься за вечер.
— Хорошо, мам.
— Жди, осталось немного…
Мама вышла, затворив дверь за собой. Джен от нечего делать снова уставилась в зеркало. Больше не было нужды подёргивать платье и наносить румяна на щёку; всё готово, ей осталось только любоваться собой и упиваться волшебным ощущением вступления в пору совершеннолетия. Возможно, этот день станет линией, отделяющей детство от взрослой жизни, но Джен особых беспокойств по этому поводу не испытывала. Всё затмевало приятное ожидание праздника и подарков, которые сейчас лежат горой на специально приготовленном столе. Джен не терпелось сорвать разноцветные обёртки и заглянуть внутрь коробок. Она с детства любила это таинство и не испытывала дискомфорта из-за своего ребячества. Особенно в этот вечер — её вечер. Интересно, что ей подарят подруги? А мама с папой?.. А парни из класса?
Голоса в гостиной стали гуще. Щебет девичьих голосов приумножился.
— Ой, я чуть было не опоздала…
— Представляешь, не могла целый час выбрать подарок…
— Говорят, Джен будет в новом платье, интересно…
— А я…
Кто-то из гостей остановил машину под окном у Джен и не выключил фары; они прорезывали темноту за окном и были отчётливо видны сквозь тонкую тюлевую занавеску. Джен видела в зеркале отражения этих жёлтых кругов, напоминающие глаза неведомой зверушки, что наблюдает за ней. Она улыбнулась. Что ж, по крайней мере для одного существа её новый наряд уже не будет сюрпризом.
— Приготовьте торт, поставьте свечи…
— Ладно, сейчас начнём. Никто никуда не уходит!
Голос мамы. Стало быть, ей осталось сидеть в заточении недолго. Джен встала с кресла и подошла к окну, чтобы посмотреть, сколько машин съехалось. Перед домом собрался целый автопарк. Некоторые машины она узнала: например, синий «бьюик» кузена Гарри или «форд-универсал» Чарли, который сидит за первой партой. Много машин стоит под фонарным столбом перед домом, как рой жуков — и только одна застряла в сторонке и неотрывно смотрит фарами в окно. Джен прищурилась, но так и не смогла определить, какой марки экстравагантный автомобиль: слишком темно.
В гостиной с громким треском лопнул воздушный шарик. Кто-то вскрикнул. На мгновение воцарилась тишина, потом раздались ахи-вздохи и смешки.
— Ну ты растяпа, Рэй!
— Не мог, что ли, половче…
— Ладно, ладно, замяли. А где Джен? Когда мы её увидим?
— Сейчас, только зажгут все свечи…
Джен захотелось немедленно выйти из комнаты с раскинутыми руками и криком: «А вот и я!». Эффект был бы тот ещё, но она не хотела огорчать мать. Нужно перетерпеть минутку-другую. Она вздохнула и снова повернулась к окну — может, та машина, наконец, выключила свои огни? А то она прямо-таки чувствовала, как луч фар впивается в спину.
Автомобиль был на прежнем месте и пялился глазищами в сторону дома. Более того: теперь рядом с ней появилась другая машина, с виду точно такая же, и светящая фарами ровнехонько в окно Джен. Она нахмурилась. Что за дела? Конечно, можно представить, что подъехал ещё один гость и решил оставить машину рядом с уже припаркованной. Но… не выключать фары? Это-то зачем? Только из солидарности с первым водителем?
— Ой, мы забыли положить салат на тот конец стола…
Звенят вилки, хрустит скатерть. Судя по кисло-сладкому запаху, который разносится в воздухе, вино уже налито в бокалы. Джен отвернулась от окна к зеркалу и откинула за спину прядь русых волос, выбившуюся из общей струи. Ждала с замиранием, когда мама позовет её. И украдкой косилась на окно, где две пары глаз не сводили с неё взгляда.
Господи, ну что за глупости! Не сходи с ума.
Будь у неё свобода — Джен бы выпорхнула птицей на улицу, подошла к автомобилям и убедилась, что никакие это не звери, а лишь жестянки на колёсах, урчащие мотором. Или даже проще — спросила бы, кто владельцы тех машин и зачем они их туда поставили. И всё встало бы на место. Но она не могла выйти из комнаты, не могла спрятаться от этих немигающих ок.
— Так, все расселись и приготовились…
Автомобили — это звери, да? Они следят за ней, именинницей. Может, хотят поздравить с восемнадцатилетием? Джен фыркнула. У тварей с такими глазами может быть только одна цель. Это знает каждая девочка, читавшая в детстве страшилки на ночь — схватить, утащить в своё логово и там разорвать на куски. Значит, они выжидают, зная, что Джен, даже если догадается об их сущности, никуда не денется — благодаря игре, затеянной её мамой.
Хм, интересно. Но тут есть одно слабое место, удовлетворённо подумала Джен. Через минуту я так и так отсюда выйду, а они останутся глазеть на пустую комнату. Вот так-то.
— Всё готово? Хорошо, гасите свет!
Вот оно. Вот оно что. Джен прошиб холодный пот. Мама не устоит перед соблазном выключить всё освещение в доме ради пущего эффекта. Как это романтично: малышка Джен появляется из царства теней, шествует к своему именинному торту и задувает свечи, погружая комнату во мрак. Всего один миг темноты. Потом, конечно, свет включат, и начнётся веселье.
Фары не двигались, но Джен увидела в их отражении издевательскую ухмылку. Догадалась? А теперь попробуй что-нибудь сделать.
Дверь комнаты распахнулась, впуская торжество вечеринки.
— Час пробил, Джен! Давай, выходи!
Мама. Она у порога, счастливая и умилённая тем, что ей предстоит сейчас увидеть триумф дочери. Не чувствуя ног, Джен встала со стула и подошла к ней. Так и есть — весь дом утопает в вечернем сумраке, лишь пламя свеч на торте даёт скудный свет. Вокруг толпятся люди, радостные и улыбающиеся. Слышатся восхищённые возгласы, все взгляды прикованы к ней, виновнице торжества. Джен попыталась улыбнуться, но губы застыли воском. Единственное, что чувствовала — колкий взгляд машин на своей спине.
Мама азартно хлопнула по выключателю, и свет в спальне померк. Джен едва не вскрикнула, но вовремя закусила губу.
— Давай, Джен, задувай свечи! Чтобы ни одна не осталась гореть, тогда будешь счастлива всю оставшуюся жизнь!
Вопрос в том, сколько её осталось, подумала она, делая шаг вперёд. Лица людей стали ближе, все такие родные и знакомые. Что за бредни она взяла в голову?.. Нет никаких машин-чудовищ, просто она от скуки навоображала себе всякую жуть. Джен вскинула голову, отбрасывая страх, но вдруг поняла, что взгляд, упирающийся в спину, стал тяжелее…
… как будто не две пары глаз следили за ней, а все три. Или четыре.
Джен продолжала идти к торту. Свечи ярко пылали, плавя разноцветный воск. Восемнадцать штук, расположенных по кругу. Единственные источники света — и ей полагается сейчас их задуть. Она подняла глаза на маму, которая расположилась у стола, обнявшись с отцом. Рядом с ними был Джимми. И Эйприл. И Роза. Все её подруги и знакомые. Но за ними, у тёмного угла… кто это? Дядя Ричард? Почему ей на мгновение показалось, что это вовсе не дядя, а кто-то другой, взирающий на неё с холодным любопытством и нетерпением? Будто чего-то ждёт, какого-то события…
Мига, когда всё скроется во тьме, и он сможет унести тебя в ночь.
Торт был у неё перед лицом, и все начали дружно скандировать — сначала тихо, потом громче, распаляясь друг от друга:
— Задувай, задувай, задувай!
Джен наклонилась над тортом, увидела мягкий банановый крем, который сплетался, выводя её имя. Пламя на свечах колыхалось. Она произнесла одно слово, выплюнув его едва шевелящимися губами, но никто не расслышал её мольбу:
— Пожалуйста…
— Задувай, задувай, задувай! — так громко, что, кажется, сейчас обвалится потолок. Хихиканье, повизгивания, толчки под бок. А взгляды, исследующие её спину, подползают, готовясь к броску, первому и последнему… Нет. Это бред. Нелепая иллюзия, выдуманная ей самой. Джен зажмурилась, решительно вобрала воздух в лёгкие и со всей силы дунула на торт, сметая островки пламени.
И стало темно.
2007 г.
Вспышка
Явление, именованное впоследствии вспышкой, произошло в пять часов пятнадцать минут утра в маленьком городке Бетраун в штате Орегон. Поэтому оно осталось незамеченным большинством жителей, которые спали глубоким утренним сном. Небо полыхнуло беззвучным белым огнём, которое в миллиардные доли секунды поглотило вещи, проникло во все мельчайшие щели, забралось в каждый атом и что-то там поменяло. Вспышка погасла очень быстро, не оставив никаких следов. Разве что иные особо чуткие люди лениво почесали ногу во сне и перевернулись на другой бок.
Единственным человеком на весь Бетраун, который бодрствовал во время вспышки, был Ленни Карнович, инженер местного завода по производству целлюлозы. Поэтому он смог увидеть, как на мгновение неистовый белый свет захватил всё, что его окружало. Ленни в страхе зажмурился. Он был уверен, что сейчас умрёт. В голове крутились зловещие заголовки газет из пятидесятых, когда он был подростком. Слова, набранные жирным шрифтом, кричали об угрозе ядерной бомбардировки.
«Всё-таки докатились», — думал Ленни и готовился к смерти.
Смерть не наступала. Он открыл глаза и увидел, что всё осталось по-прежнему. Жизнь продолжалась. Ленни довольно улыбнулся, но быстро посерьезнел. Пусть не русская бомба, но что-то ведь было, не так ли? Вспышка, такая мощная, что он едва не ослеп.
Он присел на кровати и посмотрел на жену, которая мирно сопела рядом. Пятнадцатилетняя дочь, Криста, спала комнатой дальше.
Ленни встал и подошёл к окну. На горизонте всходило солнце. Деревья в его лучах казались розовыми. Улицы были пусты.
У Ленни Карновича начали стучать зубы.
— Что-то не так, — прошептал он, ломая пальцы. — Что-то случилось!
Он сказал это жене за завтраком, когда она наливала ему утренний кефир.
— Марша, ты не замечаешь, что… — Ленни задумался, подбирая слова. — … что вокруг кое-что выглядит не так, как раньше?
Марша пожала плечами, поставила кефир в холодильник и вынула апельсиновый сок.
— Странный вопрос, Ленни.
— Ну а ты, Криста? — Ленни повернулся к дочери, которая уткнулась носом в глянцевый журнал, дожёвывая гамбургер.
— Не понимаю, о чём ты, папа.
— По-моему, что-то не так, — сказал Ленни и широким жестом обвёл кухню. — Да вы посмотрите внимательнее, может, тогда поймёте. Глаза-то мои видят непорядок, несоответствие, но тупая башка не может взять в толк, в чём дело.
Марша и Криста посмотрели по сторонам. Стояло обычное утро, солнце светило сквозь жалюзи. Холодильник гудел, часы тикали, птицы чирикали.
— Ничего, — сказали они.
Ленни Карнович раздражённо допил кефир и встал с места.
— Вы не понимаете. Вы даже не видели это. Дрыхли без задних ног.
— Что не видели? — полюбопытствовала Криста.
— Вспышку, — сказал Ленни и уехал на работу.
По пути с ним приключилось нечто совсем уж невероятное. Его оштрафовал полицейский. Ленни зашёл в магазинчик на половине пути, чтобы купить сигареты. Когда он вышел, на лобовом стекле блестела штрафная квитанция. Ленни недоумённо огляделся, но полицейская машина уже отъехала. Дорога была пуста.
— Что за чёрт! — взорвался Карнович. — Какое правило я нарушил? Я уже лет двадцать езжу по этой дороге, и ни разу, слышите, ни разу не было, чтобы меня оштрафовали! Это вопиющая несправедливость! Я буду жаловаться!
Прохожие сочувственно кивали, но не останавливались. Ленни скомкал квитанцию в ладони и засунул в карман. Вновь ему показалось — на этот раз очень остро — что мир вокруг изменился, но он опять не смог понять, в чём конкретно заключается это изменение. Но одно он знал точно.
— Это всё та проклятая вспышка, — ворчал Ленни, усаживаясь на место. — Что бы ни случилось, виновата она. До неё всё было в полном порядке.
Его ждало очередное потрясение. Приехав на работу, он обнаружил вместо привычных заводских труб и железного ограждения маленький пруд с будкой у побережья. Ленни посидел, почесал в затылке, потом вышел из машины.
— Куда делся завод? — спросил он себя. — И что делает тут пруд Бартоломью?
Из будки вышел человек, доброжелательно посмотрел на Карновича.
— Приехали любоваться природой, мистер Карнович? Оно и правильно. Не всё же лёгкие прожигать в этом вашем адском заводе.
— Мистер Белуш… — Ленни схватился за голову. — Нет, пожалуй, мне надо уехать. Спасибо за гостеприимство.
Он сел в машину и нажал газ до упора. Машина сорвалась с места и понеслась обратно, расшвыривая камни. Мистер Белуш помахал ему рукой на прощанье, но Ленни ему не ответил.
Вскоре Ленни доехал до развилки. И тут его едва не убил грузовик, который мчался по встречной полосе и отчаянно сигналил. Карнович сначала ждал, когда он свернёт, потом почувствовал неладное и вывернул руль. Грузовик проехал на полной скорости мимо ошарашенного человека. Водитель высунулся из кабины, показал Ленни средний палец и крикнул: «Псих!».
— Но за что? — только и смог пролепетать Ленни. Никто ему не ответил. Дорога опять была пуста, летнее утро благоухало ароматами цветов.
Взгляд Ленни зацепился за дорожный указатель, который стоял на развилке с незапамятных времён — так давно, что на него никто уже даже не смотрел. Если бы Ленни не сделал вынужденную остановку у развилки, он тоже вряд ли стал бы читать надписи.
Однако Карнович прочитать надписи не смог при всём желании. Это была какая-то абракадабра. Прошло пять минут, прежде чем Ленни, наконец, смог расшифровать надписи на указателе, поняв нехитрую шифровку.
В животе что-то перевернулось. К горлу подкатила отвратительная сладость.
— Бог ты мой Иисус, — прошептал Ленни и снова вдавил педаль газа.
Он ворвался в свой кабинет, где вёлся контроль за качеством выпускаемой продукции, как умалишённый.
— Вспышка! — проорал он в лицо первому встречному. Первым встречным оказался его начальник Эдгар Макферсон.
— Ну-ну, спокойно, Ленни, — озадаченно ответил Макферсон. — Во-первых, здравствуй.
И тут Карнович совершил нечто совершенно невероятное. Он схватил своего начальника за пухлые щёки — за левую и за правую, сощурился, вплотную поднёс своё лицо к лицу Макферсона. Потом отпустил и отскочил от него, как от прокажённого:
— И вы тоже!
— Ленни! — прошептал охрипшим голосом Макферсон.
— Да, да, да! — Карнович повернулся к коллегам, которые взирали на него в немом изумлении. — И вы, вы все! Да посмотрите на себя, вы, глупые отражёныши! Теперь я всё понял. Та вспышка поменяла местами левое и правое. Вот почему мне казалось, что всё неправильно!
— О чём вы говорите, мистер Карнович? — осторожно поинтересовался юный помощник заведующего отделом Энди, с лица которого ещё не сошли юношеские прыщи.
Вместо ответа Карнович наставил палец на его лицо. Точнее, на левую щеку.
— Этот прыщ! Он раньше был у тебя на другой щеке. Я помню!
Энди растерянно пощупал маленький бугорок на лице.
— Нет, мистер Карнович. Он и раньше был у меня тут. Я его вторую неделю пытаюсь вывести. Лосьоном «Клерасил». Не помогает.
Издав нечленораздельное мычание, Ленни Карнович выбежал из кабинета и ринулся вниз по лестнице.
— Всё изменилось, — втолковывал он через час притихшей жене. — Левое стало правым, правое — левым! Это ужасно! Меня оштрафовали за то, что я ехал по встречной полосе. Я свернул не в ту сторону на развилке и доехал аж до пруда Бартоломью. В довершение всего я едва не попал в аварию, потому что эти отражёныши пребывают в святой уверенности, что нужно ехать не по той стороне дороги! Хорошо ещё, что в нашем городке по утрам на дорогах почти нет машин, иначе я мог вообще умереть.
— Но Ленни, — спросила Марша, — из-за чего это могло произойти?
— Из-за вспышки, вот из-за чего, — Карнович устало сел на стул. — Я видел её утром. Наверное, она всё и перевернула, а мы не заметили…
Марша присела перед ним и взяла за руку.
— Ленни, если всё так, как ты говоришь, то почему остальные не заметили этого? Почему только ты один помнишь, как всё обстояло раньше?
— Не знаю, — сказал Ленни и вдруг встрепенулся. — Хотя нет, знаю! Когда это произошло… ну, вспышка… в Бетрауне почти все спали, а я бодрствовал. Наверное, те, кто не спал, сохранили свою память, в отличие от…
Он с ужасом уставился на свою жену.
— Марша… Криста… Вы тоже спали! Значит, и вы тоже! Боже!
Не вставая со стула, он схватил жену за ворот блузки и разорвал одним рывком. Марша успела только ойкнуть. Ленни безумными глазами смотрел на крючковатую родинку под левой ключицей жены… раньше она была под правой.
Он вскочил.
— Нет, чёрт возьми! Не верю! Не верю!
На холодильнике лежала кулинарная книга с рецептами. Отражённые буквы на обложке узнавались с трудом. Карнович раскрыл книгу на первой попавшейся странице и подсунул жене, которая подбирала пуговицы блузки с пола.
— Читай!
— Ленни!
— Марша, ради всего святого!
— «Для приготовления пиццы с абрикосами возьмите три стакана муки…». Ленни, да что с тобой?
Глухо простонав, её муж выронил книгу.
— Разве ты не понимаешь, Марша? Ты можешь без запинки читать эту вязь, которая идёт справа налево. Я — нет. Вы с Кристой уже другие. Вы отразились. Обе — такие же, как остальные. Я остался совсем один.
— Ленни, — жена мягко сжала его пальцы, — даже если так, что тут такого страшного? Ну, была вспышка, ну, всё поменялось местами. Какими мы были, такими и остались. Подумаешь, родинка. Это же пустяк. Просто выучишь заново правила дорожного движения, научишься читать по-новому. Ты же у меня умница.
Ленни отбросил руку Марши.
— Да что ты говоришь, Марша?! Жить в мире, где владычествуют левши, часовые стрелки идут против часовой стрелки, а вместо букв какая-то арабская чертовщина? Чёрт возьми, наверное, даже боксёры, которых показывают в ящике по воскресеньям, теперь ведут бой по-другому!.. Нет уж, я не желаю оставаться тут даже на минуту. Я уезжаю.
Он уехал. Но убежать не смог.
Феномен вспышки, как оказалось, был явлением не единичным. И он продолжал шествие по планете, отражая реальность слева направо… или наоборот. Невада, Нью-Джерси, Вайоминг, Мичиган… Куда бы ни приезжал Ленни Карнович, в течение недели или двух на рассвете небо взрывалось тихим молочно-белым сиянием, и замершая было секундная стрелка начинала крутиться в обратную сторону. Сам Ленни сбросил десяток фунтов из-за нервного истощения — он боялся, что окажется спящим в момент очередной вспышки, поэтому спал днём, а бодрствовал ночью (как показывал опыт, вспышки случались именно ночью — точнее, ранним утром, в момент восхода солнца). Уже сформировывались религиозные секты, связанные со вспышками, философские течения, научные теории. Но ничто из них не могло облегчить страдания бывшего инженера, чьим единственным желанием в жизни стало увидеть нормальные книги, нормальные часы и нормальную Маршу.
Вскоре на свете не осталось места, где не было вспышки. Ленни Карнович вернулся в свой дом, заперся в комнате, откуда предварительно вынес все книги и часы, занавесил окна. Зато он вносил в комнату много зелёных бутылок. Ленни оброс волосами, разжирел, но не обращал внимания на слезные уговоры Марши выйти из комнаты и начать нормальную жизнь. Нормальной жизни теперь быть не могло — от неё остались только воспоминания. Ленни захлёбом погружался в эти воспоминания, и в этом ему верным помощником была хмель.
Облачным мартовским утром он по-прежнему лежал на своей кровати и пил вино, вяло прислушиваясь к разговору домашних за стеной. И вдруг вскочил с кровати, как подброшенный, распахнул дверь комнаты пинком и выбежал в гостиную.
— Что ты сказала? — прокричал он.
— Ты о чём, пап? — растерялась Криста, которая вслух зачитывала матери заголовки утренних газет.
— Что ты читала только что? Ну же, давай сюда газету!
Дрожащими руками он выхватил газету из рук дочери и прочитал заголовок: «В Остине, штат Техас, впервые отмечен случай повторной вспышки».
— Ура! — закричал Ленни Карнович и на радостях подпрыгнул на месте. — Ура!.. Всё возвращается на свои места! Я еду сей же час в Остин! У меня там живёт дядюшка Билл!
Всю долгую дорогу в Остин он буквально светился от счастья. Он был до того рад, что разговаривал сам с собой.
— Значит, всё-таки случилась повторная вспышка! Я знал, что в конце концов так и будет, это было моей единственной надеждой за последние месяцы. Была вспышка, щелк — левое и правое поменялись местами, потом ещё одна, щелк-щелк — и двойной минус даёт плюс! Понимаешь, народ, о чём я?
Он подмигнул своему отражению в зеркале.
Следующим вечером он приехал в Остин — точнее, въехал в территорию города. Доезжать до городских кварталов нужды не было, дядюшка Билл жил в своём ранчо в трёх милях от города. Съехав с шоссе, Карнович подкатил автомобиль к подъездной дорожке дома. За спиной простирались бескрайние техасские степи.
— Вот я и… — Ленни вдруг схватился за лицо. — Чёрт, голова закружилась. Наверное, из-за длительного пребывания в пути. Поскорее войду в дом и буду наслаждаться общением с нормальными людьми!
Но пока Ленни подходил к двери, головокружение не прошло. Наоборот, самочувствие становилось только хуже. В ушах загудело, мысли путались, голова стала горячей и тяжёлой. Он почти навалился всем весом на дверной звонок. В доме мелодично зазвонили колокольчики, и дядин густой бас отозвался: «Иду-иду!».
— Что-то опять не так, — пролепетал Ленни, едва не теряя сознание от головокружения. — Что-то… я чувствую…
Степь, автомобиль, даже небо. Что-то с ними было неправильно, и это «что-то» было значительнее, чем простой горизонтальный оборот. Ленни не покидало настойчивое ощущение, что он находится в некой нелепой позе и взирает на окружение тоже как-то… странно.
Дверь открылась. Ленни Карнович выпрямился из последних сил, деловито протянул дяде руку… и едва не завыл от ужаса и отчаяния. Он всё понял.
— Племянничек! — восторженно пророкотал дядя Билл. — Сколько лет, сколько зим! Рад, что наконец заглянул ко мне. А это мода у вас такая в Орегоне — приветствовать, стоя на голове?
2008 г.
Ангел
Город объят вечерним пожаром. Тьма бессильно отступает от полыхающих неоном улиц, от домов, стены которых лижет электрическое пламя. Город этим вечером наряжается в свои лучшие одежды — сверху он напоминает искрящийся всеми цветами радуги кристалл, лежащий на чёрном полотне.
Город многолюден. Кварталы полны искушений и сладостных удовольствий. Этим вечером у каждого есть своё наслаждение — и поэтому никто не видит, как на один из немногих тёмных тротуаров Города с неба спускается нечёткий сгусток света, тут же обретающий форму человека. Это — Ангел, и его появление в Городе не обещает последнему ничего хорошего.
Ангел, как и подобает высшим существам, может принять любой облик, который пожелает. Сейчас он выглядит как красивый юноша с ярко-синими глазами. Он озирается, смотрит на мигающие вывески, но их сияющие обещания не в силах его обмануть. Когда Ангел выходит из проулка и шагает по хорошо освещённой улице, слыша смех и песни вразнобой, он остаётся бесстрастным. Очарование этого волшебного вечера — ничто для небесного посланника.
Дойдя до пересечения улиц, Ангел останавливается. Взгляд скользит по целующимся парам и проезжающим мимо автомобилям. Заметив вблизи двух молодых людей, припавших друг к другу, Ангел подходит к ним и кладёт руку парню на плечо.
Парень оборачивается. Он ошарашен, разозлён таким вмешательством. Он хочет снова коснуться возлюбленной своими губами, ощутить мягкость её языка. Но что-то в глазах Ангела заставляет его оцепенеть. Девушка с удивлением взирает на обоих.
— Скажи, — тихо говорит Ангел, — зачем ты это делаешь?
— Делаю что? — спрашивает парень. Рядом проносится ещё один автомобиль, на мгновение окатив их дождём холодного жёлтого света.
— Целуешь её, — отвечает Ангел. Парень снова удивлён, он близок к злости, но наваждение не отпускает его.
— Потому что она мне нравится, — отвечает парень.
— Ты её любишь? — вопрошает Ангел. Девушка в ярости. Она берёт парня под локоть, чтобы увести его, но тот остаётся на месте.
— Да, — говорит парень. — Я делаю это, потому что я её люблю.
— Когда ты познакомился с ней?
— Полчаса назад.
Ангел смотрит на парня, на его красивом лице нет ни тени каких-то эмоций:
— Ты думаешь…
— Да! — восклицает парень, не дав ему договорить, и Ангел отпускает его. Девушка быстро ведёт парня прочь от Ангела, что-то возмущённо нашептывая ему в ухо.
Ангел идёт дальше. Город продолжает тщетные попытки ослепить его и завлечь в свой сумасшедший хмельной вихрь.
У следующего перекрёстка под красным навесом стоит седовласый проповедник. Он продаёт золотые украшения в виде крестов, иконы, выполненные в пастельных тонах, карманные Библии, отпечатанные на дешёвой бумаге. Торговля идёт не очень бойко. Ангел рассматривает разложенные на лавке товары, потом поднимает один из крестов. В его руке он начинает светиться чистым голубым сиянием. Раз глянув на такое чудо, проповедник замирает. Крест на его груди поблескивает золотом в лучах фонаря, но голубой свет из него не исходит.
— Скажи, — тихо говорит Ангел, — зачем ты это делаешь?
— Делаю что? — бормочет проповедник.
— Продаёшь свою веру.
— Я считаю, — говорит седовласый человек с некоторым вызовом, — что вера тоже должна сослужить мне кой-какую службу, раз я служил ей в течение всей моей жизни.
— Ты не боишься гнева Всевышнего?
— Я боюсь, — грустно отвечает проповедник. — Но есть и другой страх — страх, что моя семья останется сегодня без ужина, если я не продам хоть что-то.
— Где твоя паства? — спрашивает Ангел. Крест ложится обратно на лавку. Сияние меркнет, теперь это снова просто кусок золочёной стали. Проповедник отводит взгляд:
— У меня нет паствы. Давно уже нет. Только покупатели.
Оставив проповедника, Ангел углубляется в дебри Города. Вечер переходит в ночь. Температура воздуха понижается, но Город лишь набирает жар. Скоро, совсем скоро он настигнет экстаза. Плакаты, бегущие строки, перемигивающиеся узоры быстро сменяют друг друга. Они все могут обратиться в прах по одному желанию Ангела. Ибо он — тот, кто встал на вершину разноцветной башни, рвущейся на небеса. В следующий миг Ангел уже стоял среди развалин. Он — тот, кто вступил на нежащуюся в растлении землю Атлантиды. И тут же земля начала погружаться в бушующее море под крики ужаса.
Внезапно Ангел сворачивает с улицы и заходит в один из мраморных домов. Там, в конце белой залы, уставленной сотнями исписанных полотен, сидит на корточках женщина и рисует. Она рисует небо, рисует землю, которую пожирает огонь, рисует толпу, спасающуюся от злого джинна, кидающего в неё молнии. На нарисованных лицах людей смертельный страх. Ангел смотрит на картину. Ощутив его присутствие, женщина оборачивается и застывает. Кисть выпадает из ослабевшей руки, пачкая краской белый пол.
— Скажи, — тихо говорит Ангел, — зачем ты это делаешь?
— Делаю что? — спрашивает женщина.
— Творишь мир, ещё более уродливый, чем существующий, вместо того, чтобы созидать лучшие миры.
С этими словами он оглядывается. На всех картинах — разрушения, войны, реки крови и чудовища без названия. Некоторые из этих тварей заинтересовывают Ангела. Он думает о том, чтобы использовать некоторых из них в грядущем конце этого мира.
— Потому что я так вижу мир, — говорит женщина слабым донельзя голосом.
— По-твоему, таков мир, в котором ты живёшь?
— Не знаю. Но я так вижу. Я знаю, что должна творить, и это не был мой выбор, как не было моим выбором и то, что мне должно творить.
— Кто наделил тебя твоим даром? — спрашивает Ангел. — Может, это был сам Дьявол? Или ты в него не веришь?
— Не верю, — говорит она.
— А во Всевышнего, в чьих руках твоя жизнь и жизни тех, кто тебя окружает…
— Не верю, — перебивает женщина. Второй раз за вечер житель Города не даёт Ангелу договорить. Иные посланники впали бы в ярость, но Ангел спокоен.
— В кого ты тогда веришь, Созидательница? Кто призвал тебя творить?
— Я не знаю, — в смятении отвечает она. — Творить не значит искать ответы на вопросы. Творить — значит, лишь множить вопросы без ответа.
Ангел выходит из мраморного дома, оставив художницу стоять на коленях. Компания мертвецки пьяных людей рядом начинают колотить друг друга. Глухие стуки их ударов — малая частичка пульса ночного Города. Пульс быстр и аритмичен, больше напоминает судороги. Ангел наблюдает за пьяными, оставаясь для них невидимым — потом идёт в поле, расположенное за Городом. Обычный человек вряд ли покинет пределы Города за час, но Ангел оказывается там через пять минут. Отсюда город виден, как на ладони. Розовый и синий лучи рвутся на чёрное небо, перед их великолепием меркнут даже звёзды. Ангел более не выглядит как красивый молодой мужчина. Скорее он похож на печального старого человека, погружённого в глубокую думу. Он стоит долго, не сводя взгляда с Города, пока над кварталами не встаёт заря, и небо начинает голубеть. Город утихомиривается до следующего вечера — но даже на открытом поле ощутимы хмельные пары, нагоняемые ветром с пригорода.
Потом Ангел исчезает.
Одно его желание — и беспечному существованию Города пришёл бы конец. Желание чуть более сильное — тогда, может, конец наступил бы не только для города, но и для всего мира, его породившего. Силы Ангела велики. Именно он прекратил эру неразумных громоздких ящеров. Он стоял среди огня и наблюдал, как астероид стирает их с лица земли. Много раз до и после этого он был самым суровым из посланников Тех, Кто Выше; служил карающей рукой, о существовании которого подозревали многие, но точно не знал никто. Ибо поселения, которые он навещал, вскоре прекращали быть…
Но сейчас он ничего не делает. Тело Ангела теряет форму, становится колеблющейся дымкой. Дымка рассеивается в утреннем воздухе. Самый зоркий глаз не смог бы понять, что мельчайшие частицы этой дымки с умопомрачительной скоростью возносятся ввысь. Секунда — и частицы, которые недавно были Ангелом, очень далеко от планеты. Здесь время и пространство теряют привычный смысл — остаются только образы и явления, которых можно констатировать с какой-то долей уверенности. Есть высокий трон, на котором восседает Некто. У него нет имени, нет внешности, и нет имени и внешности у Ангела, который склоняется перед ним в почтительном поклоне. Ангел чувствует недовольство своего повелителя, который восседает на троне. Но у того тоже есть свои повелители, у тех — свои. Ангел не знает, есть ли вершина у этой пирамиды, но подозревает, что есть: кому, как не ему, не знать, что конец есть у любой сущности.
— Ты не выполнил моё поручение, — говорит Некто.
— Покорнейше прошу прощения, — смиренно отвечает Ангел. — Но позвольте мне объяснить, по какой причине я осмелился нарушить ваше слово.
— Позволяю, — говорит Некто. — Объясняй.
— Взглянув на Город, который мне надлежало разрушить, я понял, что время для того ещё не настало. У этого поселения, пускай оно и кажется погрязшим в безверии, ещё есть возможность искупить себя.
— Город — средоточие греховности в том мире, — отрезает Некто. — Его уничтожение пойдёт на пользу всему.
— Когда-то я разрушил Большую Башню, — отвечает Ангел, — ибо люди возомнили себя равными Всевышнему; по вашему велению я вызвал потоп, когда в мире не осталось добродетели. Я уничтожал тупиковые ветви созидания, которые растеряли тягу к совершенствованию. Но Город — случай особый. Как это ни странно, в нём веры больше, чем в оставшейся части мира.
Некто молчит.
— Не Город причина отравы, которая пожирает этот мир. Мир разлагается сам по себе, а Город — прибежище тех, в ком ещё сохранилась частичка веры. Люди скрываются в толпе, они на первый взгляд почти не отличимы от тех, кто заслуживает конца. Я видел юнца, которого можно было бы обвинить в прилюдном разврате, но нашёл в его глазах лишь страстное желание любить, какой бы фальшивой и мимолетной ни была эта любовь. Я видел пастыря, который предал свой храм, но иначе он не смог бы сохранить в себе ту толику чистой веры, которую обнаружил в нём я. Я видел созидательницу с поражённой тяжелой болезнью душой — но даже в ней, чьими руками в моменты творения как будто движет нечто зловонное и опасное, тлеет уголёк веры в Тех, Кто Выше. Город — цитадель, осаждённая крепость, которая за чёрным лаком низости пытается скрыть свою истинную сущность. Уничтожь я его, мир не стал бы лучше — напротив, он бы окончательно скатился в ту пропасть, к которой пятится сейчас.
Некто продолжает хранить молчание. Громадный трон возвышается над Ангелом, который добавляет:
— Разумеется, если вы прикажете, я вернусь, чтобы уничтожить Город…
— Да, — произносит Некто. Гнева в его голосе не слышно, лишь мёртвый холод. — Ты ослушался меня, Ангел, и будешь наказан. Но перед этим я повелеваю тебе исправить свою ошибку. Не я пожелал, чтобы Город лежал в руинах; не мне отменять это веление. Те, кто хочет уничтожить Город, лучше нас с тобой разбираются в мироздании, и их слово священно. Но ты так и не уразумел этого, Ангел, хотя я не сомневался в тебе после стольких лет верной службы. Я позволил тебе объясниться, чтобы узнать причину твоего неповиновения — и она неприятно удивила меня наивностью и самоуверенностью. Выполняй, что тебе велено. Твоё наказание будет ждать тебя по возвращении.
— Да, повелитель, — отзывается Ангел. Он расстроен, но хладнокровен по-прежнему. Он — лучший из ныне существующих ангелов, и потому не выказывает перед своим повелителем недовольства. Он покидает исполинский трон и летит обратно во власть пространства и времени. Ему по-прежнему не хочется уничтожать Город, и в нём впервые за его почти вечное существование зарождается сомнение в своих повелителях. Ангел втайне от всех (даже от Тех, Кто Выше) даёт себе слово подумать над этим в течение следующего долгого отдыха. И он летит в Город, над которым снова висит вечер, и розовый и синий лучи схлестываются в бессмысленном поединке равных.
2006 г.
Потомок
Озеро было затхлым и неподвижным — лишь изредка, вместе с особенно сильным порывом ветра, свинцовая гладь возмущалась тяжёлыми волнами, которые нехотя лизали песчаный берег. Я заглушил мотор, не доехав до пустынного пляжа самую малость. В салоне автомобиля было тепло и уютно, но сквозь тонкое стекло я чувствовал пробирающий до костей холод, накрывший здешние места.
— Здесь? — недоверчиво спросила Катя, осматривая голые стволы деревьев, подступающих к озеру.
— Здесь, — ответил я. — Именно здесь.
По её глазам я увидел, что она не поверила. Ну и пусть. Набросив на себя жёлтую демисезонную куртку, валяющуюся на заднем сиденье, я вышел из автомобиля.
Природа притихла. Я увидел у кромки берега зеленоватую воду с густым налётом пены. Где-то в лесу каркнула ворона.
Увидев, что Катя продолжает сидеть внутри, я раздражённо прикрикнул:
— Ну, ты идёшь?
Она начала вылезать из машины, по-прежнему затравленно озираясь в поисках обещанной хижины. Хижины не было, потому что я соврал. Катя всегда была страстной поклонницей ночей под звёздами и свеч, тающих на фоне рассвета. Так что сыграть на её романтических чувствах не составляло труда. Я нарисовал в её воображении одинокую хижину в живописном природном уголке, где будем только мы одни — и никого больше. В своей святой наивности она до сих пор не поняла, что её провели.
— Где хижина?
Я взглянул в её глаза. Обида, недоумение и испуг. Ещё не угас огонёк надежды, но он стремительно таял.
— Там, — я указал рукой на еле различимую тропинку, ведущую вглубь леса. — Всего сотня метров, но машина проехать не может.
Не дожидаясь ответа, я пошёл по тропинке. Услышал, как она облегчённо вздохнула у меня за спиной, но в то же время чувствовал на затылке её настороженный взгляд. Она жалела, что приехала сюда, но сейчас ей ничего не оставалось, кроме как следовать за мной. Не могла же она остаться одна на этом зловещем берегу.
Под ногами хлюпали почерневшие листья. То и дело приходилось хвататься за стволы деревьев, чтобы не поскользнуться на них. Катя ойкнула, споткнувшись о тонкий сук, незаметный под пожухшей листвой. Я не остановился, не подал ей руки.
— Эй! — крикнула она. — Ты мне не поможешь?
Я бросил через плечо:
— Не отставай. Идём дальше.
— Нет, — упрямо сказала она.
Я развернулся. Катя стояла на четвереньках в той же позе, в какой упала — даже не пыталась отряхнуться. Чёрные волосы рассыпались и беспорядочно падали на лицо, делая её невероятно красивой.
— Послушай, — сказал я, — тебе нужно встать и…
— Нет, это ты послушай! — закричала Катя и поднялась. Глаза буравили меня, взрываясь ненавистью. — Что это за место? Какого чёрта мы здесь делаем? Ты обещал мне хижину…
— Идём, — снова сказал я. Она осеклась и опустила взгляд на свою голубую куртку. На груди расплывалось тёмное пятно, к которому прилипли обрывки мёртвых листьев.
— Смотри, — зло сказала она. — Смотри, что стало с моей курткой. Ты доволен?
Я пошёл дальше. Кажется, она что-то кричала, но я не стал вслушиваться.
Расчёт оказался правильным. Через полминуты за спиной снова послышались шаркающие шаги. Но на этот раз к ним примешивались приглушённые всхлипы. Катя плакала часто — так же, как смеялась. Вообще, в ней ещё оставалось слишком много от беспечной девочки-подростка.
Поляна приближалась, и свидетельством тому стал редеющий лес. Голые стволы расступались, открывая поседевшие травы, приникшие к земле. Я вышел на опушку, посмотрел на матовый диск солнца, нависающий над деревьями, и стал ждать Катю.
Шаги приближались.
— Ты, мразь… Мама родная, что это?
Все обидные слова мигом вылетели из её головы, когда Катя увидела поляну, на которую мы пришли. Глаза её расширились; она непроизвольно сделала шаг назад.
Могильные камни лежали на земле через каждые два шага — с первого взгляда абсолютно беспорядочно, но если задержать на них взгляд, то в их расположении начинала вырисовываться какая-то внутренняя гармония, безупречный порядок. Всего их было около тридцати штук. В самом центре поляны высился большой чёрный камень, напоминая мрачного кладбищенского сторожа.
— Что за?.. — прошептала Катя, не глядя на меня.
Я взял её за плечи. Она с усилием перевела взгляд на моё лицо.
— То, куда мы шли с самого начала.
— Но…
Я чуть сжал ладони, заставив её поморщиться, и толкнул вперёд, к камню, который стоял в центре.
— Иди.
Она мотнула головой. Я усилил хватку.
— Иди, я говорю.
— Почему? — спросила она. Голос дрожал.
— Узнаешь.
Катя сделала шаг вперёд. Ближайшая могила была от неё теперь совсем близко. Она покосилась на серый валун могильного камня и прошептала:
— Пожалуйста…
Но я непреклонно толкал её дальше.
На пятом шагу она попыталась вывернуться из моих рук и убежать. Но я был готов к этому и с лёгкостью пресёк попытку побега, схватив её за запястье и притянув к себе.
Катя пронзительно завизжала, забила ногами. Её крик эхом пролетел над оголённым лесом. У меня заложило уши.
— Успокойся, — шептал я ей на ухо. — Да успокойся же!
Мне пришлось встряхнуть её несколько раз, пока она не притихла. Если уж сейчас она так себя ведёт, как она вынесет то, что предстоит?
— Ну, как? — спросил я, ослабляя хватку. Ноги Кати больше не держали её, она начала сползать из моих объятий на колени. — Пришла в себя?..
Катя смотрела на меня снизу вверх, и в её бездонных глазах я увидел нечто, что меня сильно обрадовало. Это было желание убить. Давно бы так, а не сопли распускать.
— Чувствуешь? — улыбнулся я.
— Ублюдок, — выплюнула она. — Будь уверен…
— Да-да, уверен, что ты найдёшь способ мне отомстить. Но пока главный тут я — договорились?
Теперь на её прекрасном личике я не видел ничего, кроме ненависти и безотчётного ужаса. Убойные ингредиенты.
Так как ходить Катя сейчас вряд ли могла, я просто взял её в охапку и отнёс к камню. Она слабо брыкалась, но особых проблем это не вызвало.
Я положил поникшее тело на камень. Катя была в сознании, она смотрела на меня своими глазами цвета спелой черники, но не двигалась. Наверное, шок от столь неожиданного поворота событий. А может, действие камня уже давало о себе знать.
Я нагнулся и поцеловал её в лоб. Слова были лишними, но я в очередной раз позволил себе слабость:
— Не бойся.
Я отошёл от центра поляны и присел на красноватый могильный камень. Целую минуту пытался вытащить из кармана пачку сигарет. Пальцы дрожали. Я уверял себя, что это из-за здешнего собачьего холода.
Наконец, я ощутил во рту аромат табачного дыма. Вдохнув полной грудью отраву, я бросил последний взгляд на камень. Катя по-прежнему лежала и смотрела на низкое хмурое небо. Грудь вздымалась и опадала, в дыхании появились хриплые нотки. Процесс пошёл; теперь его не обратить.
Я отвернулся. Видеть то, что будет дальше, мне не хотелось. Однажды я уже прошёл через это. Мне не понравилось.
Я вспомнил о тёплом летнем вечере, когда стоял у чёрного камня, приложив ладонь к нему с такой силой, что кисть потом ныла ещё неделю. Деревья тогда были облачены в летние одеяния, но оставались глухими и немыми к мольбам, как и сейчас.
— На помощь… — прохрипела Катя сзади.
Свитер на моей спине пропитался потом. Волнение? Или камень начинает нагреваться, подпитываясь неведомой энергией?
— На помощь…
Сгоревшая дотла сигарета обожгла мне палец. Я отдёрнул руку, выпустив окурок из рук. Особой пользы эта сигарета мне не дала. Затянулся-то всего пару раз.
Катя попыталась закричать, но из груди вырвался лишь тихий мучительный стон. Кажется, она начала что-то понимать. Я хорошо представлял себе, каково ей. Нет ничего страшнее, чем заглянуть внутрь себя и найти там чудовище.
Ровно год назад, в прекрасное воскресное утро, я проснулся с ощущением: что-то не так. Я заподозрил, что болен, и с утра напичкал себя таблетками, но мерзкое чувство не уходило. Оно становилось всё сильнее, накатывало волнами, призывало куда-то идти.
Это был первый день. Дальше было хуже. Я потерял аппетит, спал плохо, и весь день, от зари до зари, меня преследовал настойчивый голос в голове — иди, иди, ты должен идти, ты должен.
Вечером в четверг мучение достигло апогея. Я сел в свою «Волгу» и выехал за город. Лицо было красным и разгорячённым. Я со всей силы давил на педаль газа, выжимая из тачанки всё мыслимое и немыслимое. Увидь меня какой-нибудь гаишник, у него появился бы повод хорошенько на мне нажиться.
Мне показалось, или действительно задрожала земля? Я огляделся. Леса остались пустыми, но меж деревьев я уловил нарастающий тревожный хор, в котором сплелись десятки голосов. Мужских, женских и детских. Они шли сюда.
Я опустил голову и обхватил её руками. Действо предназначалось для Кати, я своё уже получил. Но даже быть рядовым свидетелем — удовольствие ниже среднего…
Тогда я тоже слышал хор, гудящий над лесом, как огромный рой пчёл. Хор становился громче. Я стоял, обливаясь потом, не в силах отлепиться от проклятого камня, и видел, как вздыбилась земля на поляне. Могильные камни зашевелились. Мертвецы, покоившиеся под ними, проснулись и рвались наружу. Они пробивали путь наверх, чтобы приветствовать потомка.
Катя, наконец, закричала, но только потому, что ОНИ дали ей возможность это сделать. Кричала она совершенно бессмысленно:
— Ааааааа…
Кричал ли тогда я? Или мне не подарили даже эту отдушину? Я не помнил. Помнил только, что в какой-то момент поляна, камень, ночной ветер, ласкающий щёку — всё это исчезло. Я остался один. Запертый в своём собственном разуме.
Мой род был проклят. Проклятие было наложено в те давно стёршиеся в пыль времена, когда балом на Руси правили мрачные божества, имена которых ныне забыты навечно. Осознавать это было мучительно больно, особенно когда воспоминание пихали в мозг вопреки моей воле. Я видел, как красные искры костра взметаются вверх и исчезают во мгле. Рядом с костром стоял человек. Он смотрел на меня и улыбался. Улыбка была не улыбкой, а дьявольским торжествующим оскалом. Я не мог отвести взгляд от лица, которое так напоминало моё собственное. В какой-то момент мне показалось, что это и есть я, но я ошибся. Человек у костра был не мной — но он имел со мной родственную связь. Прапрапрапрапрапрадед? Сотый прадед? Неважно. Важно было то, что он содеял.
Человек смотрел на меня любящими глазами, в которых отражалось пламя огня. Когда-то таким же любящим взглядом он одаривал свою сестру. Но его любовь была запретна, она перечила самой природе человека, всем писаным и неписаным законам. Ему оставалось только одно: утопить тёмную страсть в пучинах своей души, забыть о нём.
Но он выбрал иной путь. Путь, обагренный кровью.
Я решился снова поднять голову. Крики Кати утихли, они сменились странным клокотом. Хорошо.
Со всех сторон на поляну надвинулись длинные чёрные тени. Их не могло быть, потому что солнца на небе не было… но они были. Там, где на траву падала тень, трава становилась совершенно чёрной и вмиг сворачивалась в обугленную трубочку. Тени стояли и наблюдали за тем, как причащается очередной потомок проклятого рода.
Этот человек… Он это сделал. Он получил то, что хотел, невзирая на то, что для этого ему пришлось убить сестру. И напоследок — себя.
Это было здесь, на этой поляне.
Наказание было сурово. За тягчайший грех присудили расплачиваться всему роду. Жестокие старцы положили начало вечному проклятию, простирающемуся через века. Каждый ребёнок, в жилах которого текла кровь безумца, переходил во власть тьмы. И эту участь нельзя было изменить.
Я понял это в тот момент, когда моё тело содрогалось в спазмах, стоя у чёрного камня, на котором безумец совершил свой грех. Камень стал алтарём нашего рода. Веками он притягивал к себе очередного потомка. Здесь происходило моё причащение. Здесь происходило причащение Кати. Кати, моей сестры.
Нас разлучили, когда мне было пять лет, а ей — три. Эти пять лет остались в моей памяти одним коротким солнечным днём. Но потом небо прорезала красная молния — однажды, в серый промозглый осенний день, похожий на сегодняшний, всё кончилось. Мне сказали, что родители попали в катастрофу, и я безоговорочно поверил, что так и есть… но в тот летний вечер мне раскрылась истинная сущность того, что произошло. Мне соврали. Папа убил маму и покончил с собой.
Я попал в детский дом. Кате повезло больше — её удочерил состоятельный человек. Годы, большинство из которых не было пропитано сахаром, стёрли с памяти черноволосую сестрёнку, которая так любила рисовать розы и радовалась, когда ей давали ириски. Я забыл.
Но меня заставили вспомнить. Причащение должно было быть проведено для каждого потомка. Я должен был найти Катю и привести её сюда.
И я нашёл её. Нашёл и влюбился с первого же взгляда, как только увидел её глаза и услышал заливистый голосок. Она меня не узнала, да и откуда могла узнать? Мне ведь было пять, ей — всего три… Не исключено, что она вообще начисто забыла о непутёвом братце.
Я запрещал себе думать о ней. Запрещал подходить к ней близко. Уходил в трехнедельные запои, стараясь обмануть древний механизм, который протягивал когтистые лапы из глубин веков. Вилял из стороны в сторону, как песчинка, надеющаяся полететь против ветра. Но это было бесполезно. Меня всё равно неотвратимо сдувало к Кате.
И она… она ответила мне взаимностью. Сдавалось мне, это тоже было далеко не случайно. Однажды ночью, глядя на потолок с трещинами, я задал себе вопрос: может ли быть — чисто гипотетически — может ли так быть, что мой отец и моя мать… они были…
Я знал ответ. Противоестественное действо, которое совершил подонок, чьего имени я даже не знал, переходило из поколения в поколение.
Сейчас, сидя на могиле давно усопшего предка, я до боли сжал виски. За моей спиной в трёх шагах корчилась в невыносимых страданиях моя сестра, а я ничего не мог поделать. Ничего. Я не мог подойти к ней, вырвать из жестоких объятий алтаря и убраться восвояси, я не мог задушить свою запретную любовь. Всё определяло то, что было сотворено многие сотни лет назад.
Тени неодобрительно покачнулись, когда с моих глаз сорвалась первая слезинка, оросив мёрзлую землю.
Позже, когда всё было кончено, мы сидели в салоне «Волги» и слушали тихую музыку из динамиков. Обогреватель не давал достаточно тепла, чтобы согреть нас. Но ещё сложнее было ему растопить наши промёрзшие души.
— Значит, ты мой брат, — сказала Катя. Я промолчал. В её словах звучало утверждение, а не вопрос.
Катя задумчиво соскоблила ногтем грязь, прилипшую к бардачку. Она выглядела очень бледной и измождённой, но в целом — гораздо лучше меня самого после причащения. Я тогда еле дополз до машины.
Она больше не смеялась. Я полагал, что больше никогда в жизни не услышу её беззаботный смех.
— Почему ты не сказал? — спросила она, не глядя на меня.
Я услышал собственный осипший голос и увидел белое облачко, вырвавшееся из губ:
— Я не мог. Иначе бы ты сюда не пришла.
— Да, наверное…
Музыка в динамике сменилась сводками новостей. Катя нетерпеливо махнула рукой в сторону радиоприёмника. Я повернул ручку, и наступила звенящая тишина. Поверхность озера теперь казалась чёрной. Моросил едва заметный дождик, о наличии которого можно было догадаться только по микроскопическим прозрачным каплям, облегающим лобовое стекло.
— Я не хотел, — сказал я. — Поверь мне, я не хотел. Я сопротивлялся, как мог. Это просто…
— … просто предначертано, да?
Я посмотрел в её глаза, которые мне так нравились. Увидел в них понимание и печаль. И, чёрт побери, я снова захотел её.
— Да, — с остервенением сказал я. В эту минуту я жалел, что вообще появился на свет. Такая жизнь нам не нужна.
После очередной паузы Катя спросила:
— И что будем делать?
«То, что должны, сестрёнка, — подумал я. — Только то, что должны. Мы поженимся и будем жить счастливо. Конечно, будет гнет на душе, но мы сумеем его заглушить. У нас будут дети — очаровательные мальчик и девочка, просто ангельские создания. Но в один прекрасный день всё переменится, и дети узнают, что их папаша свёл счёты с жизнью, убив маму. Потому что пылинкам не дано лететь против ветра».
Вот что я хотел сказать, но не мог. Потому что чувствовал — чего-то Катя не знала, почему-то ей не высказали всё, что сообщили мне. И в то же время она в чём-то другом была осведомлена больше меня.
— Тебя что-то беспокоит? — спросил я, придвинувшись поближе к Кате. Рука норовила обнять её за плечо, но я не разрешил ей отправиться в автономное плавание.
— Знаешь… — Катя говорила медленно. — Не знаю, знаешь ли ты или нет… Эти могилы… Они не наши.
— То есть?
— Я видела могилу папы. Когда мне исполнилось восемнадцать, отчим отвозил меня на кладбище, где он похоронен. Сказал, что я должна знать, где покоится отец. Только вот мне не показалось, что он там обрёл покой. — Она нервно улыбнулась. — Могильная плита почернела, рядом погибла вся трава… Серая пыль, и всё. Но это была его могила.
Я немного помолчал, переваривая услышанное.
— Но если он там, то здесь…
— Да. Здесь не наши. Не из нашего рода.
Я похолодел.
— Но кто тогда?
Катя указала пальцем на своё отражение на чёрном стекле.
— Жертвы.
— Жертвы?
— Каждое поколение потомков должно принести жертву на алтаре, чтобы выказать верность Хозяину. Убиение должна произвести женщина.
Я снова взглянул на лицо Кати, её ввалившиеся щёки и плотно сжатые губы. Моя сестра говорила спокойно, без тени страха или отвращения. Для обычной девушки двадцати одного года она держалась слишком хорошо.
Но она и не была обычной девушкой. А я не был обычным парнем. Мы были потомками.
Я наклонился к ней и поцеловал её в шею. Она не дёрнулась, не закричала.
— Помощь будет нужна?
Теперь её лицо было от меня очень близко. Она испытывающе посмотрела на меня, потом улыбнулась.
— Да, — сказала она. — Думаю, мужская сила не помешает.
И я, наконец, даровал рукам и губам свободу.
2006 г.
Искажение 1.01
Двое сидели за столиком в углу многолюдного кафе и беседовали. Перед ними остывал кофе с горячими сосисками, но оба не притронулись к бесхитростной еде, увлечённые разговором.
— Так ты говоришь, — спрашивал один, — ты говоришь, что никогда не бывал раньше в этом заведении? Быть не может.
— Никогда, — второй покачал головой. — Правда, теперь, когда услышал от тебя все эти истории, наверное, буду наведываться чаще.
— Надо же, — первый потрясённо постучал ложкой по столу. — Жить в наших краях и не знать про местные достопримечательности…
— Я и подумать не мог, что простое кафе может иметь такое прошлое, — оправдывался его собеседник. — К тому же, ты знаешь, я не так давно живу здесь. Не прошло и двух лет…
Первый нетерпеливо отмахнулся:
— Ну ладно, Бог с ним, с кафе. Но ведь о том, что время от времени происходит на шоссе, ты должен был слышать? Учти, если скажешь «нет», я тебе не поверю.
— Нет, — растерянно вымолвил второй. Щёки залились краской; было видно, что ему действительно стыдно за своё неведение. — А что с этим шос…
Первый хлопнул себя ладонями по коленям и расхохотался так громко, что люди за ближайшими столиками недовольно обернулись.
— Ну, дружище, ты даёшь! Так-таки ничего и не слыхал?
— Нет, правда, ничего. Ты расскажи, я буду знать.
Человек перестал смеяться так же резко, как и начал.
— Врёшь ты всё, парень.
— Да брось! С чего мне врать? Просто я большую часть времени провожу дома, и…
Первый наклонился вперёд, задев рукавом чашку с кофе. Тёмная жидкость выплеснулась на голубую ткань его рубашки.
— Значит, ничего?
— Ничего, — испуганно сказал второй, подавшись назад на стуле.
Рука первого быстро скользнула под стол. Когда она вернулась оттуда, в ней был небольшой пистолет. Чёрный провал дула смотрел на оцепеневшего от изумления человека.
— А ну, скажи это ещё раз, — холодно сказал он, поднимаясь со стула. Кафе внезапно затихло. Какая-то женщина начала кричать, но поперхнулась и умолкла.
Второго начало трясти. Он выставил руки в защитном жесте и промямлил:
— Ч-что с т-тобой? Я-я ничего не з…
Человек нажал на курок. Пуля угодила сидящему в лицо. Его отбросило назад вместе со стулом. Он свалился на пол, задёргался в конвульсии и затих.
Убийца медленно положил в карман дымящийся пистолет и оглядел помещение. В кафе давно никого не было. Телевизор над барной стойкой пялился на него удивлённым взором чёрного экрана.
Человек закрыл глаза и втянул воздух в ноздри. Ощупывая пистолет сквозь карманы, словно желая убедиться в его наличии, он быстрыми шагами вышел из здания. Солнце на улице палило вовсю, бескрайние просторы степи были залиты жёлтым сиянием. Одинокая серая лента асфальтовой дороги уходила с юга на север, ползая змеёй по этой пустынной земле.
Человек огляделся и увидел, как вдали у горизонта вырастает что-то тёмное. Рост сопровождался увеличивающимся рокотом; через минуту стало ясно, что по дороге мчится большой фургон. Когда он приблизился на расстояние ста метров, человек прочитал на боку фургона надпись оранжевыми буквами: «Солнечная кукуруза Старика Эда». Под надписью водили хоровод несколько кукурузных початков с весёлыми нарисованными лицами.
Он поднял одну руку, другой прикрываясь от солнца. Сперва казалось, что фургон не сбросит скорость и проедет мимо. Но потом недовольно скрипнули тормоза, и большая машина стала замедляться.
Человек подошёл к дверце фургона, схватился за поручень и полез наверх. Заглянув в боковое окно, он увидел, что за рулём сидит молодая девушка в клетчатой кепке, сдвинутой на затылок. Одета она была в спецкомбинезон с пятнами масла на рукавах.
— Надо же, — вырвалось у него.
Девушка хмуро посмотрела на него:
— Ну так будешь залезать?
— Да-да, конечно, — он открыл дверцу и пробрался внутрь на пассажирское сиденье. В кабине стояла невыносимая духота. Он удивился, как девушке не жарко в таком наряде.
— Познакомимся? — спросил он.
Девушка пожала плечами, переключая передачу:
— Мне-то всё равно, хоть если будем молчать рыбой всю дорогу. Но, если тебе интересно, меня Джинджер зовут.
— Очень приятно, — он кивнул. — А моё имя Грин.
— Это фамилия, — бесстрастно отозвалась девушка.
— Да нет, это имя. Прихоть моих родителей. Сам до сих пор не знаю, из-за чего меня так нарекли…
Девушка молчала, но уголки губ чуть дёрнулись. Он расценил это как сдержанную улыбку и приободрился:
— А ты давно работаешь? Что-то я тебя раньше не видел здесь.
— Хочешь сказать, — Джинджер презрительно фыркнула, — ты знаешь всех дальнобойщиков в этих краях в лицо?
— Вообще-то, да, — ответил Грин. — Я здесь родился и вырос. Городок маленький, рейсы постоянные. Со всеми шоферами дальнего маршрута мы на короткой ноге. Так давно ли ты всё-таки рабо…
— Ах ты чёрт! — внезапно вскричала Джинджер, и тут же фургон нещадно затрясло. Грина подбросило вверх, приложив затылком к потолку кабины. Он начал было выругиваться, но девушка ударила по тормозам, и его кинуло вперёд. Лоб с хрустом впечатался в стекло. Грин издал нечленораздельное мычание, прежде чем изо рта его хлынула кровь.
— О Господи! — закричала Джинджер, пытаясь высвободиться из впившегося в тело ремня. Фургон стоял, накренившись, у подножия шоссе. Задние дверцы открылись, и оттуда на иссыхающую траву высыпали белые пакеты с замороженным мясом. Спустя минуту девушке, наконец, удалось выйти из кабины. Она рухнула кулем на разогретую землю, пытаясь отдышаться. Несколько раз хваталась за горло, словно её вот-вот стошнит, но сумела сдержаться. Кепка слетела, растрепав густые каштановые волосы.
Приходя в себя, она встала на нетвёрдые ноги и обошла машину. Может быть, надеялась, что Грин ещё жив, и хотела ему помочь. В любом случае, она обманулась в ожиданиях, ибо никого на пассажирском сиденье не было. Оно было пусто, не осталось даже вмятины на чехле, свидетельствующей о том, что минуту назад тут сидел человек.
— Что за… — удивлённо начала девушка, но внезапный шорох за спиной заставил её обернуться. Глаза Джинджер расширились; она открыла рот, чтобы закричать, но так и не успела издать ни звука.
Поздно вечером, когда над степью зажглись мириады бело-синих звёзд, фургон подъехал к мотелю, который располагался у шоссе. На парковочной зоне было много машин, в основном крупногабаритных. Водитель неторопливо вышел из кабины, запер её ключом и двинулся ко входу, над которым горели три грязные лампы.
В комнате за дверью было грязно и тесно. Радиоприёмник над стойкой пытался проигрывать какую-то мелодию, но эфирные шумы перекрывали музыку. Человек нажал на звонок. Раздалось глухое раздражённое звяканье.
— Иду! — раздался старческий голос откуда-то из глубины здания. Несмотря на это, появления хозяина пришлось ждать целых три минуты. Всё это время человек у стойки занимался разглядыванием мутных акварельных картин, развешанных на стене.
— Чего угодно? — буркнул хозяин, даже не взглянув на гостя. Видимо, он собрался спать: на нём был широкий синий халат, на голой ноге болтались босоножки.
— Номер на ночь, — сказал человек.
— Десять пятьдесят, — голос хозяина не изменился. — И распишитесь здесь.
Он положил на стойку толстый журнал с чёрной засалённой обложкой. Человек раскрыл журнал, взял лежащий рядом синий химический карандаш и принялся заполнять криво расчерченные графы. Под надписью «Имя» он написал: Ти Джей. Под надписью «Род деятельности» — Коммивояжер. Остальные графы он не заполнил. Впрочем, мог не заполнять и эти — всё равно хозяин захлопнул журнал, не проверив, что написано.
Получив ключ от девятнадцатого номера, Ти Джей поднялся на второй этаж. Коридор был узким, на полу валялись обрывки газет и коробки из-под презервативов. Ти Джей нашёл дверь с табличкой «19» и уже поворачивал ключ, когда кто-то его окликнул из полутьмы в конце коридора:
— Эй, мужик.
Он обернулся. Через две двери от него, растворяясь во мраке разбитых ламп, стоял человек. Лица его видно не было.
— Где Джинджер?
— Какая Джинджер? — нахмурился Ти Джей.
— Дальнобойщица.
— Впервые слышу.
— Не делай вид, что ты её не знаешь, — огрызнулся человек; когда он сделал шаг, то стало видно, что это круглолицый парень небольшого роста, но крепкого телосложения. — Ты приехал сюда на её фургоне. Я видел.
Ти Джей одну секунду смотрел на него без всякого выражения на лице, потом заулыбался.
— Ах, Джинджер… конечно. Она заболела. Меня прислали рейсом вместо неё.
— Ты врёшь, — парень подошёл вплотную. Руки были сжаты в кулак, лицо окаменело. — Джинджер выехала на рейс сегодня утром. Мы договаривались с ней встретиться здесь, в девятнадцатом номере. Что ты с ней сделал, Ти Джей?
— Парень, откуда ты знаешь моё имя? — подозрительно спросил Ти Джей.
— Не твоё собачье дело. Мне надо знать, где Джинджер.
— Сначала скажи, откуда ты знаешь моё имя.
— Отвечай на мой вопрос.
Ти Джей задумчиво почесал правый висок изуродованным указательным пальцем.
— Так, Джинджер… Джинджер… Ах да, припоминаю. Не та ли это шлюшка, которая три месяца назад делала мне классный отсос в дешёвом гаванском мотеле?
Парень размахнулся и ударил, целясь в лицо, но Ти Джей оказался проворнее. Он быстро нагнулся, уходя из-под удара, и бросился вперёд, сильно толкнув парня в грудь. Парень закачался и упал, потеряв равновесие, но успел схватиться за ворот его куртки, так что на полу оказались оба. Ти Джей был сверху и тут же воспользовался своим преимуществом, начав душить противника. Положив руки на шею парня, он давил со всех сил, вырывая у того мучительные хрипы. Парень почти перестал шевелиться, когда в сумраке промелькнуло что-то чёрное, и раздался глухой стук. Ти Джей резко выпрямился и поднял вверх руки с растопыренными пальцами. Начал медленно оборачиваться, но на полпути глаза затуманились, и он рухнул лицом вниз. На затылке, где приложилась деревянная палка, волосы намокли от крови.
Человек, который вырубил Ти Джея, присел возле задыхающегося парня и приподнял ему голову. Тот приходил в себя долго. А когда восстановился, то первые слова были:
— Какого чёрта ты так долго? Он же мог меня убить!
— И он ещё смеет на меня сердиться, — иронично сказал его спаситель. — Тоже мне, герой. Ну скажи, на хрена ты полез в драку? Нам нужно было выяснить, что стало с Джинджер, а не надавать звездюлей этому ублюдку. Теперь чёрта с два дождёшься от него слов.
Парень поднялся на ноги, мотнул головой и с силой пнул распростёртое на полу тело. Ти Джей не шелохнулся.
— Ладно, — сипло сказал он, — уберёмся отсюда, пока никто не проснулся. Есть и другие способы найти Джинджер… Пошли, Эл.
— Способы есть, — согласился тот, кого он назвал Элом. — Но, мне кажется, наши пути отныне расходятся, Марк. Ты показал себя полным идиотом. Если я простил тебе твою выходку в магазине, это ещё не означает, что тебе всё дозволено. Ты исчерпал кредит доверия.
— Да ладно… — начал Марк, но запнулся, увидев, как глаза Эла начинают светиться молочно-белым огнём — словно там, внутри черепа, находился мощный прожектор. Зрачки утонули в белом сиянии, которое выплеснулось наружу и устремилось к парализованному от страха Марку.
— Эл… — выдавил он из себя, но тут свет добрался до него, проникнув в нос и рот. Марк судорожно вдохнул это невесомое сияние. Волосы на короткий миг вздыбились и опали, и парень молча свалился на дощатый пол рядом со своим врагом.
Единственный оставшийся человек развернулся и быстро зашагал прочь. Он спустился на первый этаж, где все лампы уже бездействовали. Откинув засов на входной двери, он вышел наружу и побежал в сторону фургона, оставленного на краю площадки. Ветер взъерошил чёрные волосы. Далёкие раскаты грома совпадали с ритмом его учащённого дыхания.
Подбежав к фургону, он вдруг застыл, глядя на бок фургона, где красовалась надпись синими буквами: «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ДЖЕЙМСА ГЕЙЛА. ТРАНСПОРТАБЕЛЬНО ВСЁ!».
— Это не тот фургон! — в ярости закричал Эл, топнув ногами по рыхлой земле. — Этот мерзавец сменил машину!
В бессильной злобе он ударил ладонью по металлическому корпусу. Фургон возвышался над ним своей громадиной. Эл начал выходить из себя. Он вскочил на передний капот машины и принялся бить ботинками по стеклу, чтобы разбить его. Но толстое стекло и не думало раскалываться. Истратив все силы, человек сел на капот и понурил голову, вслушиваясь в шёпот ветра. Он сидел так долго — пока семизвездие ковша на небе не описало полукруг, оказавшись над его головой. Потом он спрыгнул с капота и пошёл — не в сторону мотеля, где все продолжали спать и видеть сны, а по шоссе. Он шёл дальше на север, пронизывая взглядом фиолетовый горизонт. Электрические провода вдоль шоссе надрывно гудели, в траве стрекотали ночные цикады.
Через полтора часа пешей прогулки (мотель давно скрылся позади) Эл остановился, чтобы справить малую нужду. Он сошёл с дороги и встал к ней спиной, когда заметил среди травы чей-то силуэт, бредущий в его сторону. Человек спотыкался и махал руками, чтобы удержать равновесие. Маршрут был не прямым, а петлял из стороны в сторону, будто человек был пьян. Эл ждал, когда он подойдёт поближе — а когда это случилось, вдруг услышал тихое скуление, исходящее из горла человека.
— Уу-у-у, — выл человек. Одежда его была изорвана, руки в крови. Эла охватил страх. Он сделал шаг назад, в сторону шоссе, не отрывая глаз от пришельца.
— Уу-у-и-и-иии! — завопил силуэт и поднял голову. В предрассветном полумраке показалось лицо, похожее на плоть, пропущенную через мясорубку. Единственный оставшийся глаз смотрел на Эла изумлённо и жалобно.
— Я ничего не ви-и-и-жууу! — кричало существо. — Где Джинджер? Я ехал с ней, и она меня убила! Она нарочно это сделала, я зна-а-а-ю!
— Кто ты? — спросил Эл, продолжая отступать. Он старался сохранить остатки самообладания.
— Грин! — закричало существо. Что-то слетело с губ вместе со словами. Возможно, зуб. — Меня зовут Грин, и я НЕ ИМЕЮ ПОНЯТИЯ, почему у меня нет нормального и-и-и-имени! Аа-а-а-а!
Он протянул изломанные руки к Элу, который потерял способность двигаться, и тот присоединился к его истошному крику. Два голоса кричали одновременно в пробуждающейся степи, пока внезапно не прервались.
Отзвуки этого вопля разнеслись в тишине на многие мили и разбудили девушку, которая спала на стоге сена далеко от них. Первое, что увидела она, открыв глаза, были лучи восходящего солнца. Она поразилась красоте рассвета; сонливость как рукой сняло. Девушка спрыгнула вниз и бережно поправила светло-голубое платье. Настал новый день. Пора было идти. Она вышла на дорогу, жалея лишь о том, что поблизости нет воды, чтобы умыться. Но она надеялась, что скоро ей встретится какое-либо придорожное заведение, где она сможет привести себя в порядок. И заодно позавтракать.
Желание её сбылось не сразу. Девушке пришлось протопать по шоссе до десяти часов утра, и всё это время её не догнала ни одна машина. В десять часов она добралась до крошечной забегаловки под названием «Окольная лачужка». Компания детей сидела возле входа и кидала игральные кости. Дети старательно считали очки, по какой-то одной им ведомой логике рассчитывая, кому поставить щелбан на этот раз. Девушка немного понаблюдала за ними и вошла в дом.
Людей в «Окольной лачужке» было немного. Неудивительно, учитывая название местечка. Девушка сходила в туалетную комнату. Вернувшись, заказала кофе, гамбургеры, овощной салат и стакан тоника. Когда заказ принесли, она начала с аппетитом уплетать еду, вспоминая, когда нормально принимала пищу в последний раз, но тут официантка вернулась и тронула её за плечо.
— М-м? — отозвалась девушка, не оборачиваясь и дожёвывая гамбургер.
— Простите, вас зовут Джинджер? — спросила официантка.
— Да, — удивлённо ответила она и всё же оглянулась.
— Вы… э-э-э… водительница фургона?
— Что-что? — насмешливо переспросила девушка. — Какая водительница фургона? Разве я так плохо выгляжу?
Она кокетливо поправила бретельку голубого платья и снисходительно улыбнулась официантке. Та смущённо кашлянула:
— В любом случае, мисс Джинджер, нам было велено… Вчера у нас обедал человек, который представился вашим хорошим знакомым. Он заплатил деньги за то, чтобы мы передали вам, если вы зайдёте, вот это.
Она выудила из кармана форменной одежды маленькую чёрную коробку, похожую на ту, в которой хранятся обручальные кольца.
— Вот это да, — Джинджер была явно польщена. — Кто это был?
— Он не представился. Извините.
— А почему вы спросили, не вожу ли я грузовик?
— Видите ли, — сказала официантка, — он настаивал, чтобы мы не передавали вам коробку, если вы скажете, что являетесь водительницей фургона.
— Бред, — недовольно проворчала Джинджер; впрочем, она продолжала крутить коробочку на пальцах, и любопытный взгляд то и дело возвращался к ней. Неловко поклонившись, официантка ушла, оставив её одну. Джинджер не стала открывать коробку сразу, сначала доела остатки гамбургера. Только после этого она вновь взяла коробку и открыла, с интересом заглядывая внутрь. Там на белой ткани лежал крошечный клочок бумаги — больше ничего. Разочарованная содержимым, девушка взяла бумагу, чтобы прочитать написанное, но вскрикнула и уронила, когда пальцы обожгло жаром. Она озадаченно посмотрела, как подушечки пальцев, которыми она коснулась бумаги, обретают зловещий багровый цвет. Но природное любопытство взяло верх — наклонившись над запиской, она стала читать послание, выведенное синим химическим карандашом:
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ ЗА СВОИ ПРЕВРАЩЕНИЯ. С ЛЮБОВЬЮ, СТАРИК ЭД».
И ещё снизу, отдельной строкой, два слова:
«СУКА ТЫ».
— Что это такое? — ахнула Джинджер. Вдруг стало трудно дышать. Она снова посмотрела на свою руку и увидела, что пальцы стали фиолетовыми, как спелые сливы. Крик задохнулся в гортани; девушка упала лицом в несъеденный овощной салат, издав короткое: «На пом…». Люди закричали, подбежали к ней, но уже не могли ничем помочь. Джинджер умерла.
— И всё произошло в этом кафе? — недоверчиво спросил Фредерик, окончательно забыв о том, что на столе остывают кофе и сосиски. — Девушка скончалась прямо тут? Ты уверен?
— Абсолютно, — улыбнулся его собеседник. — Я знаю, тебя заводят такие вещи, вот и рассказал… Правда, удивительно, что ты ещё не слышал об этом случае. Я очень удивлён. Очень.
2008 г.
Тысячелетие
Город этой ночью купается в огнях, и его улицы-лабиринты ярко освещены. В домах играет музыка, звучит смех и разносится звон бокалов. Люди улыбаются, и им не помеха даже небывалая стужа, которая накрыла здешние места. У людей сегодня есть повод не обращать внимания на жизненные неурядицы, ведь эта декабрьская ночь пронизана волшебством.
Тысячелетие. Слово на устах у всех жителей города. Стрелки часов готовы слиться в дежурном поцелуе, которым завершатся очередные десять сотен лет побед, поражений, мечтаний и разрушенных грёз. «Тысячелетие», — зачарованно шепчут люди, и их голос дрожит, когда они произносят это длинное слово. «Тысячелетие», — игриво подмигивают неоновые вывески, покрытые инеем. «Тысячелетие!» — кричат дети, столь малые, что едва ли понимают значение того, что говорят. Слово бродит по городу, заглядывая в каждый дом, и везде ему рады и принимают как родного.
В полночь наступает долгожданная развязка. На небо возносятся тысячи разноцветных огней. Армии бокалов с шампанским касаются друг друга, рождая хрустальный перелив. Числа на календаре меняются — отныне и навеки. Люди кричат от восторга и замирают в напрасной попытке удержать мистическое мгновение, но оно неумолимо уходит — и вот ночной город уже пытается прийти в себя и осмыслить, что то, к чему он готовился так долго, наконец произошло.
Белый заяц, сидящий на окраине лесной поляны за городом, пугливо поднял голову. Ему показалось — очень смутно, на уровне инстинктов, — что он услышал далёкий треск ломающихся сучьев. Он выждал минуту, готовый пуститься наутёк по первому тревожному знаку, но лес оставался тихим и сонным. Заяц успокоился и вновь начал жевать немногочисленные мёрзлые, но вкусные колоски, которые росли под деревом. Взошла луна, молодая и сливочно-белая. Шерсть кролика серебрилась в её свете, нагоняя погибель на хозяина.
Снова странный шорох… Заяц навострил уши. Природная осторожность взяла верх, и он решил, что пора оставить колоски в покое и уходить в безопасное место. Что-то не нравилось ему на этой поляне, в этом томном лунном сиянии, в этой ночи, знаменующей смену тысячелетий.
Заяц поскакал в лес, скользя лапами по снегу. Но не успел он пробежать и десятка метров, как преследователь дал о себе знать. Волк, тощий, донельзя голодный, выскочил из-за дуба, увидев, что жертва ускользает. Он подбирался к зайцу несколько минут, с каждой минутой всё ближе и ближе, чтобы настигнуть одним броском — но так не получилось. Заяц начал убегать. Волк бросился за ним. Два пружинистых комка — серебристый и серый — замелькали между деревьями, и расстояние между ними быстро сокращалось. Заяц бежал, выбиваясь из сил — даже не к норе, которая была слишком далеко, а куда глаза глядят. Волк выпустил язык, прыжки его были лёгкими и грациозными. Через минуту, когда край мёрзлой тучи коснулся белой луны, эта игра дошла до предопределённого финала: комки слились в одном вечном мгновении, жалобный визг зайца — и белый пух разлетелся в стороны. Волк поднял окровавленную пасть к небу, благодаря ночь за ниспосланную ему удачную охоту. Брезгливая луна вздохнула, заставив лес застонать, и спряталась за стеной туч.
2009 г.
Грибные дожди
То было чудное лето, жаркое лето, карамельное лето, щедрое на ласковые лучи солнца и звонкий смех детворы, играющей на цветущих лужайках; последнее лето, оно словно знало, что не будет больше шанса ни у кого им насладиться, и великодушно одарило нас своими пышными плодами. День за днём стояла ясная погода, в городах кипела лихорадочная летняя жизнь, в лесах и на полянах резвились звери, а небо безраздельно принадлежало птицам, которые давно отвоевали своё право на него. Июнь, июль, наконец, август — ничто не предвещало беды. Хваленые прорицатели и лживые пророки нежились в блажи неведения. Страны продолжали распри, кое-где оборачивающиеся кровопролитиями, но природа будто задремала: за сезон не выдалось ни одного крупного наводнения или землетрясения, а в космосе вблизи от третьей планеты не было каменных глыб, способных угрожать её благополучию.
То, что ознаменовало конец эры, явилось не извне. Ни при чём была даже знаменитая человеческая глупость (хотя такой конец больше подходил бы этому миру). Лето ушло под грохот извержения вулкана в Южной Америке. Огненная сопка раньше не показывала свой характер, и яростное пробуждение застало врасплох учёных мужей. Те, кто видели извержение, говорили, что его мощь невозможно описать словами: это было похоже на выход из спячки древнего джинна — самого злобного из всех джиннов, — который, едва разомкнув веки, задался единственной целью сокрушить всё вокруг. Мир облетели видеозаписи огненного столба, взметнувшегося к небесам из дымящейся вершины — огня, который полыхал глубоко под землёй многие тысячелетия, прежде чем получил долгожданную свободу. Земля у вулкана содрогнулась, как живая. Из окон в окрестных деревнях вылетели стёкла, люди в смятении хватались за стены и деревья, чтобы не потерять опору. Долгие часы рокотал джинн, окрашивая небо в невиданный радужный цвет. Сезонные ветра подхватили и унесли вдаль мелкие частицы субстанции, которая вышла из недр. Наконец, вулкан утих, растратив все свои силы, и снова погрузился в невечный сон.
Казалось, на этом история обрела свой конец: природа в очередной раз показала своим сынам, чего стоят их жалкие потуги на всемогущество перед теми поистине титаническими силами, которые исчисляют свой век миллионами лет. Но оказалось, что на этот раз урок был более жестоким.
Через неделю после извержения у подножия вулкана, где всё ещё можно было случайно наступить на толстый слой холодного пепла, выросли диковинные грибы пугающих размеров. Их ножки порой не уступали стволам могучих дубов, а тяжёлые шляпы затмевали небо, если стоять прямо под ними. Грибы распространялись чрезвычайно быстро, усеяв весь лес, и подкрадывались к людским владениям. Обеспокоенные жители обратились к учёным, которые стали исследовать странных пришельцев. А тем временем сообщения о нашествии грибов появлялись со всех уголков земного шара — дожди, льющиеся над континентами, занесли вулканические выбросы куда только можно. Вскоре каждый житель Земли мог любоваться стремительно плодящимися мясистыми наростами. Грибы не боялись ни африканской сухости, ни арктического холода, ни тропической влаги: стоило им упасть на поверхность, они принимались сжирать окружающее пространство подобно варварам, уничтожавшим римские города.
Сами по себе первые грибы не несли большой угрозы, несмотря на справедливую тревогу, испытываемую при их виде. Внушало страх другое: учёные выяснили, что споры, вышедшие с расплавленной магмой, обладают потрясающей живучестью и изменчивостью. На глазах они превращались из безобидных громад в нечто постоянно мельчающее, бесформенное, вонючее и брызжущее во все стороны мутным соком при малейшем прикосновении. Каждое новое поколение грибов было более приспособлено к условиям существования под открытым небом; каждое поколение производило больше потомства за меньшее время. Мириады спор облепили поверхность Земли, распухая и отъедая место. К концу месяца у грибов прорезались явно хищнические повадки: они паразитировали на растениях, намертво врастая в листья и стволы. Вскоре зелень хирела и разламывалась на иссохшие куски. Животные тоже познали на себе ужас новой напасти — в лесах водились волки с пульсирующими белыми бельмами на мордах, а птицы мучительно пикировали, пытаясь сбросить с крыльев пенистую дрянь — напрасно! Даже насекомые, эти неистребимые и неуловимые легионы, и те массово дохли под воздействием дьявольских грибов.
Шли недели, тучи обрушивали новые дожди на материки. Люди пытались остановить неизбежное, что-то сделать — но было слишком поздно: как избавиться от отравы, что уже проникла в пылинки воздуха, пропитала почву и продолжала неуклонно увеличивать свою численность? Стало ясно, что катастрофа уже даже не грозит, а стала жестокой явью: самое немногочисленное и недооцененное из проявлений жизни на планете — царство грибов — решило взять реванш за века неприметного молчания и схлестнулось в смертельной битве с царствами животных и растений. И грибы безоговорочно выигрывали, не зная жалости и передышки, не признавая капитуляций и белого флага. Они решили идти до победного конца.
И планета уже смердела от вони трупов, усеявших её. Леса стали голыми остовами стволов, потом и стволы пропали под мягким белесым наростом. Океаны покрылись пузырчатой грибной пеленой. Ставшие необитаемыми города рушились под заразой грибов. Тёмными осенними ночами в них стоял беспрерывный сводящий с ума скрежет — это господствующий ныне вид вгрызался губчатыми зубами в металл и стекло, расшатывая многотонные конструкции. А дожди всё шли и шли, лишая остатки прежнего мира малейшего шанса на спасение. После поражения лесов кислорода становилось меньше. Последние оставшиеся в живых люди в бункерах и укрытиях задыхались, с ужасом обнаруживая на ногтях и ладонях характерную склизкую массу. С ними не разговаривали, а сразу выталкивали взашей из убежищ во внешний мир. Там люди быстро погибали, но перед этим успевали увидеть затягивающимися хрусткой плёнкой глазами новый мир — мир гигантских столпов, кривых, пупырчатых, с оттопыренными отростками, которые тянутся на многие мили; мир лабиринтов и пещер из трясущейся, как желе, студенисто-жёлтой массы; мир тяжёлых туч с ядовито-зелёным блеском, которые роняли липкие крупные капли. Всё было не так в новой грибной эре — ничто из прежней эпохи не пережило Великий переход. Лишь багровое солнце сияло на небосклоне — оно было надёжно защищено от грибов вечным вакуумом. Впрочем, сквозь марлю наполненного спорами воздуха даже оно выглядело не так, как раньше…
И несчастные кричали, отказываясь принять страшное откровение. Их неистовый крик продолжался, пока споры не произрастали у них в горле, заполняя мясистым тельцем все полости, и не вылезали жирными блестящими культями изо рта, носа и глазниц. Грибной мир обволакивал скрючившиеся тела, сжимая их в крепком приветственном объятии. Конечности слипались с конечностями, голова переходила в туловище — и, наконец, в завершающее мгновение человек становился частью нового мира. У многих страдальцев последней мыслью было то, что это не так уж и плохо: теперь они могут быть вечно, едины по всей планете, вволю наслаждаясь собственным совершенным миром.
Грибы торжествовали. И только высокие горные хребты скептически смотрели на их радость. Что ни говори, их возраст был несоизмерим с годами новейшей эры. Скалы знали и помнили многое, но предпочитали хранить молчание — только изредка нервно подрагивали, когда там, внизу в пылающем пекле, злобный джинн сонно переворачивался на огненной постели и смотрел вверх, мечтая вновь совершить затяжной прыжок на небо.
2010 г.
Дичь
Дичь досаждала мне вот уже на протяжении третьей недели. Она безнаказанно шныряла по моим владениям, по ночам проникая в склады через разбитые им окна и пожирая хранящуюся там еду. Сначала я терпел: земли, принадлежащие мне, настолько обширны, а леса в них столь густы, что выследить её представлялось трудной задачей. Но после того, как она атаковала третий по счёту склад, я объявил охоту за ней. Моей целью было найти и убить дичь во что бы то ни стало. Помимо практической пользы, это обещало удовольствие от древнего охотничьего азарта, ныне почти забытого нами. Поэтому я отвёл под мероприятие целую неделю и прибыл на свои владения с оружием.
Я опасался, что за время моего отсутствия дичь вполне могла уйти на другое место. Но во время обхода складов я убедился, что это не так: об этом красноречиво говорил очередной испорченный склад. Как всегда — разбитое окно. Мешки с крупой были безжалостно порваны. Остатки недавнего пиршества пробудили во мне гнев. Это были мои земли, и ни одно существо не имело права так терроризировать постройки, которые принадлежали мне. Я покинул склад в раздражении и начал поиски следов, которые могли навести меня на потерявшую стыд тварь.
Надо сказать, задача была непростой: видимо, своим особым чутьём дичь догадалась, что за ней идёт охота. Она, без сомнений, была весьма умна. Недавно в лесу выпал первый снег, поэтому мне не составило труда обнаружить оставленные ей отпечатки на белом хрустком покрывале. Но следы были крайне запутанными. Они то и дело кружили вокруг одного и того же места; бессчётное число раз вели в небольшую речку, которая текла между деревьями, и там обрывались; а иногда и вовсе пропадали на ровном месте — видимо, это существо умело лезть на раскидистые нижние ветви деревьев. Впрочем, вряд ли этот трюк удавался ему очень хорошо: большей частью следы всё же были хорошо различимы на земле.
Через пару дней блужданий по чащобам я стал лучше понимать устройство разума дичи, которую преследовал: я понемногу проникал в сложности тех пружин, что управляли её поведением. Больше я уже не вёлся на уловки с кругами на одном месте и намеренно крутыми углами поворотов, которые были призваны сбить меня с толку. Я начал определять места, где она спит — в основном под сенью высокорослых деревьев, — и где она особенно любит бывать. Круг охоты сужался. На четвёртый день я впервые увидел тварь — правда, с далёкого расстояния, и ей удалось достичь речки. Без сомнения, теперь она стала во сто крат осторожнее, чем раньше.
Охота закончилась на шестой день, и довольно неожиданно: устав от полудневных бесплодных поисков в лесу, я решил зайти в ближайший нетронутый склад, чтобы подкрепиться. Каков же был мой гнев, когда я обнаружил, что дичь побывала и тут, причём совсем недавно — за какие-то полчаса до моего прибытия!.. Следы на снегу были чёткие, не покрытые коростой, которая при зимних температурах образуется очень быстро. Так или иначе, у меня появился реальный шанс догнать тварь. Вскинув ружьё, я быстро шёл по следу, вглядываясь в серо-чёрные заросли.
Несмотря на всю свою хитрость, на сей раз дичь не почувствовала опасности: чутьё подвело её. Я нагнал её на глухой лесной прогалине, где деревья росли такими тесными рядами, что приходилось буквально протискиваться через их стволы. Издали я заприметил белое пятно, отчётливо выделяющееся на сером фоне веток, и стал осторожно сокращать расстояние. Поначалу это мне удавалось — существо ничего не подозревало, — но затем я нечаянно наступил на тонкую мёрзлую ветку, которая с треском переломилась под моим весом. Дичь вскинулась, мгновенно обернувшись в мою сторону, потом ринулась прочь. Я тоже побежал вперёд изо всех сил. После всех растраченных на охоту дней упустить такой славный шанс было бы преступлением. К счастью, деревья мешали преследуемому так же, как и мне, поэтому тварь не смогла развить большую скорость. Вскоре деревья стали реже, и я понял, что уже можно пускать в ход оружие. Я снял винтовку со спины и прицелился. Сбивчивое дыхание мешало сосредоточиться и взять цель. Тем не менее, я выстрелил, и лес сотряс душераздирающий визг: я ранил дичь.
Смертельной рана не была, но игра была окончена. Дичь рухнула на месте, визг утих так же внезапно, как начался. Держа ружьё наперевес, я приблизился к ней с некоторой опаской. Она упала навзничь, кровь хлестала из раны на бедре. До этого я мало где видел ручьи крови, и меня немного замутило. Я прислонился к дереву и закрыл глаза. Она что-то залопотала на своём тарабарском — в её голосе мне отчётливо почудились умоляющие интонации. Друзья, увлекающиеся регулярной охотой, говорили об этом, но здесь и сейчас… такое явное сходство с нами застало меня врасплох. Ружьё задрожало в руке, и мне отчаянно захотелось поднять раненое перепуганное существо и унести к себе, перевязать рану, оставить её жить. Но потом я вспомнил о разграбленных складах, о том, что дичь творила на моих землях — и наваждение отхлынуло. Я поднял руку с ружьём, направив ствол на голову твари. Её лопотание прервалось; она мелко дрожала всем телом и смотрела на меня такими разумными блестящими глазами. Грудь под грязной одеждой тяжело вздымалась и опадала. На малую долю секунды я опять ужаснулся собственной жестокости, но…
«Всего лишь дичь, — сказал я себе твёрдо. — Всего лишь человек».
И я спустил курок. Выстрел громом расколотил чистый воздух, но, в отличие от первого выстрела, за ним не последовало ни единого звука.
2010 г.
Тени
Иногда я просыпался посреди ночи в холодном поту, со стучащими от ужаса зубами, не понимая, что случилось. Или так: я спал и видел сон. Во сне я лежал в постели, изучая блики на стекле, потом вставал и подкрадывался к окну. Свет уличного фонаря отражался от зеркала и падал мне на лицо. Я прижимался лбом к стеклу и смотрел вниз с высоты четвёртого этажа. И неизменно, всегда, видел у подъезда чёрную машину — старомодный седан, освещающий фарами улицу, объятую плотным туманом. Как раз в то мгновение, когда я смотрел на неё, машина мигала фарами, и я со страхом понимал, что она зовёт меня к себе. И тут наступало пробуждение — внезапное и болезненное, сопровождающееся покалыванием в сердце.
Если вы спросите меня, когда это началось, я скажу: давно. Может, год назад, может, два. Каждый месяц — либо паническое пробуждение, либо тревожный сон. Детали сна повторялись до мельчайших деталей, вплоть до кондиции тумана, который клубился над асфальтом. И даже оттенок фар седана, чарующий зеленоватый отсвет, из раза в раз оставался неизменным. Я пугался, пугался по-настоящему, но утром успокаивал себя: это вздор, ночные страхи без телесного обличья.
Так оно и было — до поры. Пока я не купил плакат Цоя.
Я любил Цоя. Хоть он и умер через два года после моего рождения, я считал его своим кумиром, слушал его песни каждый день. И решил обзавестись плакатом с певцом. Хороший такой плакат — Виктор во весь рост, в чёрной кожаной куртке по моде тех лет, хмуро смотрит в объектив. Вешая плакат на стену спальни, я чувствовал себя счастливым. Но счастье длилось недолго.
Я проснулся где-то в два часа ночи весь мокрый. Спина прилипла к простыне и горела огнём. Глаза слезились. Стояла глубокая ночь, луны не было, и если бы не фонарь на улице, я был бы в полной мгле. Свет фонаря, как всегда, отскакивал от зеркала. Блеклый зайчик отражения падал на стену. На этом месте раньше были только обои, но сегодня утром я повесил туда плакат с Цоем. Он смотрел прямо на меня, буравя пронзительным взглядом под космами чёрных волос. Ночной свет придавал лицу мертвенную синюшность, как у утопленника. Губы, плотно сжатые, казалось, вот-вот растянутся в холодной усмешке. Цой смотрел на меня, я — на него, и до какого-то момента это искажение меня даже забавляло. Потом глаза певца, отпечатанные на высококачественной бумаге, ожили и приковали меня к подушке синим огнём. Я мельком заметил, как они вспыхнули и погасли — яркие звёздочки во мраке спальни. Всё выражение лица Цоя в этот миг преобразилось, перестало быть картиной. Не стало живее, нет: совершенно напротив, я увидел, что на стене комнаты приютился мертвец. Я различил на синей коже нарывы и язвы, и чёрная линия губ была таковой не из-за скупого освещения, а из-за того, что оно и вправду сгнило до черноты. Жёсткие чёрные волосы стали париком, напяленным на лысую приплюснутую голову. Я догадался, что это существо срезало волосы для парика у своих жертв в тёмной подворотне. Может, оно намеревалось сейчас снять волосы у меня вместе со скальпом, чтобы сменить старый трофей. Цой не был Цоем, и я не был мной, потому что вопль животного ужаса, который я испустил, не мог вырваться из моего горла. Крик проткнул раздувшийся пузырь кошмара, и синие глаза на стене тут же померкли. Плакат опять стал куском бумаги с рисунком. На мой крик прибежали родители в ночных рубашках. Я не мог им ничего объяснить и вообще целый час не был в силах говорить что-то членораздельное. Утром я попросил отца сорвать плакат со стены и выбросить.
Целый месяц ничего не происходило, и я начал успокаиваться, уверяя себя, что это был нервный срыв из-за того, что я переутомился, перестарался с учёбой. Родители поддерживали меня в этом мнении. Я отходил от кошмара, пережитого в ту ночь. Разве только спал со включённым светом, но надеялся, что позже наберусь храбрости, чтобы попрощаться с этой привычкой. Очередной случай, давший понять, что мне так легко не отделаться, произошёл морозным вечером декабря, за неделю до новогодних торжеств.
Я привёл к себе девушку. Родителей редко не бывало дома, и я не собирался упускать такой шанс. К тому же я немного боялся остаться один. Девушку звали Мила, я общался с ней довольно давно. Мы посидели, посмотрели фильм, послушали музычку, потом приступили к тому, ради чего, собственно, всё затевалось. Она попросила не выключать свет; я не стал возражать. Мы легли на широкий диван в зале. Под окном расположилась новогодняя ёлка. У изголовья дивана горел торшер, отбрасывающий на стены мягкие блики, делая обстановку романтичнее. Всё шло, как полагается, но настал момент, когда я заметил кое-что неладное. А именно — движение тени, которую отбрасывала ёлка в свете торшера. Тени полагалось тихо-смирно лежать на полу треугольным клином, сужающимся кверху. Но уж никак не поворачиваться, приближаясь к дивану — медленно, но непреклонно. Увидев это, я уже не сводил с неё взгляда. Продолжал своё дело, как-никак момент ответственный, но по мере того, как тень удлинялась и меняла форму, мне становилось всё труднее не заорать благим матом. Тень отъедала от пола сантиметр за сантиметром, как хищный зверь — распухала и преображалась. Подрагивающий свет торшера стал невыносимо ярким, как солнце в жаркий день. Я хотел зажмурить глаза и ни о чём не думать, но продолжал смотреть, стараясь ничем не выдать девушке свои откровения. Тень теперь была направлена прямо на меня вопреки всем законам оптики, и её уже нельзя было назвать в полном смысле тенью дерева. Не ёлка, а… я бы сказал, тень человека, или чего-то, очень похожего на человека. У людей не могли быть такие тонкие искривленные руки, одна из которых спускалась ниже колен, а другая едва дотягивала до пояса. Приплюснутое туловище представляло собой нечто бочкообразное со свисающими складками жира. Голова шла пупырышками. Тень росла, приближалась. Левая рука медленно поднималась то ли в приветствии, то ли в размахе перед ударом. Лампа в абажуре издавала гудение, становясь ярче, наливаясь цветом крови. Я, наверное, всё-таки закричал бы, но тут Мила спросила, почему стало так светло, и лампа взорвалась, рассыпавшись осколками, погрузив залу в темноту. Мы оба вскрикнули и вскочили. Наверное, я кричал громче. Позже на нас напал истерический смех: мы вдвоём катались по дивану и смеялись, смеялись, смеялись — никак не могли остановиться, а я заглатывал солёные слёзы, стекающие по щекам.
Прошёл Новый год — как всегда быстро, в праздничной суматохе. Год сменился; изменился и я, став угрюмым, раздражительным, замкнувшись в себе. Друзья недоумевали, что со мной приключилось, а я не мог без ненависти смотреть на их жизнерадостные лица. Я видел их улыбки и задавал себе вопрос: могли бы они так беззаботно лыбиться, если бы видели то, что видел я? Если бы по ночам к ним приходили видения, слишком настоящие, чтобы быть сном, слишком безумные, чтобы быть реальностью?.. Я гневался на них за то, что у них всё хорошо, и уходил в запои, чтобы стереть свои воспоминания. Но даже в пьяном угаре я вздрагивал и кричал, когда выключали свет. Свет, кричал я, свет дайте, мать вашу!.. В такие моменты я мог вцепиться в глотку любому, кто посмеет мне возразить.
Но всё-таки во мне тлела надежда. Надежда, что всё вернётся в круги своя. Вечер полнолуния в конце января убил всё.
Луна в тот вечер вышла кроваво-красная. Огромная, с багряным оттенком, она навевала жуть, а медные облака, столпившиеся вокруг неё, делали светило похожим на глаз демона, обрамлённый тяжёлыми веками. Я пошёл в кино с друзьями на какой-то боевик, и после сеанса мы разошлись по домам. Уже тогда я понял, что совершил ошибку: никто не составил мне компанию по пути домой, все шли в другие районы города. Один взгляд на красную луну и небо, тёмное, как дёготь, вгонял меня в дрожь. Но делать было нечего, такси поблизости не было, и я зашагал по снежным тротуарам, нервно насвистывая мелодию под носом. Обходил за пять шагов фонарные столбы — боялся, что их тени вдруг сомкнутся вокруг моей ноги, повалят на асфальт и потащат к себе, в тёмное зловонное место, куда не ступала человеческая нога. Так я дошёл до подземного перехода. Над входом в подземелье со скрипом покачивалась красная лампа, и тени на асфальте колыхались в такт — вперёд-назад, вперёд-назад. Я в нерешительности застыл у спуска, но звуки шагов внутри перехода придали мне уверенности. Я не один, подумал я и начал спускаться.
Навстречу мне шёл бомж — старик в рваной телогрейке с выглядывающей отовсюду ватой и в шапке-ушанке. Я был рад ему. Разминувшись в проходе с ним, я почти бегом бросился к выходу. Успел сделать четыре шага, прежде чем за спиной раздался крик. Громкий, пронзительный — он заглох, только-только вырвавшись из глотки. Не помня себя, я обернулся.
Красный свет по-прежнему заливал спуск, и раздражающий скрип лампы продолжался. Старика я не увидел — точнее, увидел не целиком. Его ноги висели в воздухе, а верхняя половина тела скрывалась за границей проёма, словно его неведомой силой подняло на воздух. Ноги содрогались в конвульсиях; вместо крика сверху доносились уже другие звуки, похожие на жаркий шёпот влюблённых парочек. Ш-ша, ш-ша — более омерзительного я не слышал в жизни; словно на огромной скорости пропускают через сопло шариковой ручки человеческие внутренности. Не знаю, кричал я или нет, но прежде чем ноги бедняги перестали судорожно дёргаться и застыли, прошло несколько секунд. Потом на бетон что-то упало; раздался металлический звон. Опустив взгляд, я увидел большой железный молот с красной рукояткой. На молоте не было крови, он был чист, но это не помешало мне попятиться, чувствуя, как глаза вылезают из орбит и повисают на ниточке нервов, потом развернуться и побежать вон из проклятого места. В ту ночь я не спал — считал количество зубов у себя во рту. Получалось то тридцать два, то тридцать три. А один раз и вовсе сорок семь…
Я отчаянно старался в который раз убедить себя, что мне привиделось. Просто привиделось. С кем не бывает. Но вот проблема — бомж оказался завсегдатаем этих мест, и его исчезновение не прошло незамеченным. Конечно, громкого дела или даже заметки в газете не было и в помине, но сам слух до меня дошёл. Старик исчез, словно его и не бывало на этом свете.
Это был предел. С тех пор я провожу время исключительно в квартире, отказываюсь куда-либо выходить. У меня круглосуточно горит мягкий свет люминесцентной лампы, не отбрасывающий теней, а перед сном я принимаю сильное снотворное, чтобы не видеть сны. Когда не сплю, в основном думаю о своём положении — теперь никуда ходить не нужно, и времени для раздумий предостаточно. Я думаю о мирах, которые невидимы нам, но грозны и могущественны, и если их обитатели ещё не раздавили кончиком пальца наш маленький мирок, то только потому, что им этого пока не хочется. Я думаю, мне сильно не повезло, раз я оказался им для чего-то нужен. Не хочу думать, для чего именно. Но полагаю, что всё, произошедшее со мной — лишь прелюдия, подготовка. Они готовят меня, чтобы я не стал сопротивляться, когда однажды ночью — уже не во сне, а наяву — чёрный седан тихо подъедет за мной в пустоте туманной улицы и гостеприимно распахнёт заднюю дверцу. И я, умудрённый горьким опытом, молча спущусь вниз, напоследок поцеловав спящих крепким сном родителей, и покорно сяду в машину, готовясь к неизбежному страшному будущему. Чёрный седан унесётся прочь от улицы, от города, от мира, где я родился, и который, в принципе, не так плох, как о нём говорят. Ведь есть другие — тёмные и искажённые — миры, куда меня зазвали с недобрыми намерениями, где живут существа с кривыми руками до колен и синими глазами, горящими в ночи.
Вот там будет действительно хреново.
2005 г.
Цесилия
Говорят, надежда умирает последней; она одна остаётся гореть тусклой свечой среди полотнища тьмы, порождённого хаосом и отчаянием. После того, как робкое пламя надежды сгинет под напором ветра, человека уже ничто не может спасти — он навсегда теряется в тех тёмных задворках сознания, где мы никогда не были, а лишь изредка наблюдали издалека, млея от ужаса. Те несчастные, которые раз ступили на эти бесплодные земли, проводят остаток дней в стенах психиатрических лечебниц. Точнее будет сказать, что в палате заточено их тело; душа же продолжает бродить по стране теней и неверных шёпотов, пока её не поглотит милостивая кончина.
Моя свеча надежды пока не угасла — и это было единственное утешение в том немыслимом положении, в котором я оказалась. Тело моё окоченело за последние часы, будто превратившись в одну большую льдинку. Оно потеряло чувствительность и словно перестало принадлежать мне. Я с возрастающим трудом могла шевелить членами — но в меру своих истощающихся сил не оставляла попыток доплыть до спасительного света, который маячил перед глазами в издевательской близости.
Но всё было тщетно. Затопленный грот, куда меня занесло, был не очень большим, и в более спокойный час моря мне бы не составило труда выплыть из него за несколько минут. За сырыми и зловонными сводами сияло безоблачное летнее небо, на голубой выси парили перистые облака, задорно кричали чайки. Там продолжалась жизнь, которой я до недавних пор принадлежала, пока меня не оторвало от неё мощной приливной волной и не занесло в это миниатюрное царство смерти, которое высасывало из моего нутра жизненные соки.
Как я допустила столь чудовищную ошибку? Как позволила себе быть настолько глупой и неосторожной, чтобы не спастись от большой волны? И самое обидное — как так вышло, что на побережье в этот послеполуденный час я оказалась одна, совершенно одна, и ни один человеческий слух не уловит мои жалкие крики о помощи, которые глушит каменая стена грота? Вопросы были осмысленными, но бесполезными, их важность осталась в прошлом; теперь я просто рьяно боролась за свою жизнь, позабыв обо всём. Каждый раз после жестокого удара очередной волны я собирала в пульсирующий комок остатки сил и неистово гребла руками и ногами, чтобы достичь выхода из пещеры, где ярко-синим лезвием сверкал кусок неба. И каждый раз мне это почти удавалось; но в последний миг, когда казалось, что победа за мной, подлый прилив подкатывал новый гребень волны, и меня с отчаянным криком несло назад, где припечатывало к голому отвесному своду, покрытому моллюсками и илом. Я плакала навзрыд от беспомощности, кляла свою беспечность и силы природы, которые позволили этому случиться — но бьющееся сердце не хотело замереть навеки на дне проклятого грота, и я вновь плыла к своему спасению, чувствуя, как душа выходит из тела, ставшего грузным и неповоротливым. И так раз за разом, надежда за надеждой, отчаяние за отчаянием — конец той дороги упирался в безумие и смерть. Меня тянуло вниз, несмотря на то, что я давно сбросила с себя всю одежду, которая висела лишним грузом. Свеча надежды едва тлела. Небогатые мысли, сосредоточенные на повторении одних и тех же ободряющих слов, стали мешаться. Я боролась с исступлённым желанием расхохотаться, обратив лицо к потолку грота, и прекратить все попытки. Пусть вода подхватит меня, закружит в любовном вальсе, обнимет крепко и тепло, сделает частью себя, наречёт своей бесценной юной невестой — я не против!.. Мышцы гудят и готовы порваться, во рту — солёная вода, и её становится больше. Есть предел человеческим страданиям и выдержке, и я была очень близка к этой черте.
Но что это? Моей ноги под водой коснулось нечто жёсткое и чешуйчатое. Я посмотрела вниз, но тёмный слой воды скрывал всё. Наверное, рассудила я остатками разума, это рыба. Большая рыба, судя по прикосновению. Может, даже акула. Нелепа и постыдна смерть во цвете лет от утопления в крохотной пещере у берега, но вдвойне ироничен конец в пасти хищной рыбы в том же проклятом месте! Веселье помешательства вновь ворвалось в мозг, но я удержалась от истерического хохота. Между тем рыба снова коснулась меня — на этот раз она плавала на уровне талии и задела мой бок. Без сомнения, тварь была крупной и вполне могла оказаться акулой. Два пленника одной ловушки — я и рыба!
Но нет, одернула я себя, отрешенно наблюдая за приближением новой волны. Может, я и пленница, осужденная на смерть во мгле, но не эта тварь, которая почти с нежностью проходится сейчас по моей лодыжке. Море для неё — родная стихия, мать и отец, и этот грот — не клетка вечного заточения, а всего-то тихий уголок, куда можно иногда удалиться, дабы поплавать одной. Я останусь здесь, а рыбина вольготно уплывёт в далёкие, невиданные человеком подводные края… может быть, слегка подкрепившись перед тем моей остывающей плотью. О, как несправедливо, как жутко и подло! Я бы снова разразилась беззвучными рыданиями, если бы не волна, которая вознесла меня вверх и отбросила к ненавистной отвесной стене, на которой даже не было выступов, чтобы зацепиться ногтями.
Удар был силён и беспощаден, но именно в этот момент мне пришла в голову мысль, которая полыхнула, как молния в чернильной грозовой ночи. Размеры рыбы, по всей видимости, действительно впечатлили бы даже бывалого рыбака, так может, она поможет мне покинуть этот склеп? Я могла бы крепко ухватиться за её хвост, и испуганная тварь рванулась бы вперёд — и, кто знает, с её помощью мне таки удастся опередить следующую волну? Радость переполнила меня, и я стала с нетерпением ждать нового прикосновения странницы морей к моему телу. Но проходило время, а рыба ничем не давала о себе знать. Моя надежда обугливалась, чернела, скатываясь в безнадёгу. Конечно — кто я такая, чтобы рассчитывать на такое невероятное везение? Волна отпугнула рыбу, и она теперь уже далеко, резвится в голубых просторах, и никогда не вернётся в этот грот, никогда не вспомнит о странной её обитательнице, которой она мимолётом подарила луч надежды перед самой смертью…
И тут — о чудо — тогда, когда я готова была признать своё окончательное поражение и дать воде меня поглотить, чтобы не продлевать свои мучения, рыба вновь наткнулась на меня. Она ударилась о мою грудь, и жесткая чешуя оставила на белой коже пару глубоких царапин, но зато я сумела быстро и без колебаний схватить тварь за её длинное склизкое тело обеими руками. Рыба дёрнулась, поплыла, забилась в попытках вырваться из хватки. Это ей почти удалось. Невероятно сложно удерживать живую рыбу под водой голыми руками, особенно когда ты до крайности ослабла, но на сей раз жёсткая чешуя сослужила ей плохую службу. Острые края врезались мне в ладони, но я не отпускала толстый хвост твари; одновременно я со всей силы била ногами по воде. Рыба потащила меня вперёд, глаза залило водой, и я даже не знала, куда мы плывём — к выходу из грота или вертимся кругами. Дыхание сбилось окончательно. Я несколько раз глотнула воду, она проникла в уши и нос. Я закашлялась, не видя белого света. Всё вперёд и вперёд, на немыслимой скорости… и вдруг хвост выскользнул из моих одеревенелых пальцев. Рыба мгновенно исчезла, я так и не увидела её ни одним глазом; тварь осталась для меня до конца дней нерешённой загадкой.
Захлёбываясь и кашляя, я выплыла на поверхность. Из моей груди вырвался стон радости: я была уже у выхода из грота, на линии тени и света, которая лежала на воде. Прилив продолжал своё чёрное дело, подкатывая очередного своего верного служаку, поэтому я стала барахтаться, как могла, отплывая от гиблого места подальше. Несколько длинных мгновений мне думалось, что ничего не получилось, и волна опять затащит меня вовнутрь. Но этого не произошло. Меня вновь подняло высоко на гребень, но на этот раз понесло к суше, к золотистому пляжу, где раскинулась бесформенной кучей моя одежда. Под ступнями теперь был вязкий песок; я выползла на берег на четвереньках, едва живая, со слипшимися волосами и посиневшим телом, заходясь в жесточайшем кашле и рвотных позывах, но преисполненная лучшего чувства в мире — ощущения сокрушительной победы над смертью и безумием, и это в тот час стоило всех моих злоключений и ушибов: я, Цесилия, отвоевала свою жизнь у заплесневелых призраков грота!
2010 г.
Вверх!
Пустота кончается внезапно. Только что было тёмное беспамятство. Через мгновение — мощный глас сирены, и тебя с силой вбрасывает в тело, как беспомощного зверька. Всё ломается! Красный свет мигает, перемежаясь со мглой. В глазах рябится. Сирена рвёт глотку, не обращая внимания на боль, сверлящую голову изнутри.
Человек вскочил на ноги, ослепленный и оглушённый. Что происходит? Где он? Что за жуткое пробуждение?
Ответов не было. Провал в памяти, зияющий, как мёртвая глазница. Сирена воет над ухом, доходя до невыносимой дребезжащей ноты. Ииииии! Ноги шатаются, глаза выискивают нечто, что поможет вспомнить всё.
Ничего нет! Комната пуста! Залитая красным светом железная коробка! Человек закрыл лицо руками, чтобы ненадолго убежать от окружающего сумасшествия. Не помогло. Безумие сочилось сквозь пальцы, прикрывающие веки. Он убрал ладонь с лица и только сейчас заметил дверной проём на стене напротив. Чёрное — красное. Дверь то исчезает, то появляется вместе с кровавым сиянием.
Бежать, бежать туда! Прочь от этого склепа! Человек сорвался с места и выбежал из комнаты. Короткий тёмный коридор привёл на лестничную площадку. Направление одно — вверх. Вверх так вверх. Главное — бежать, не останавливаться…
Вереница ступенек. Кое-где горят разноцветные лампы, которые тоже вспыхивают и гаснут. Вот синяя лампа, делающая перила призрачными и дрожащими. Человек взбирается наверх, хватаясь рукой за грудь. Сирена кричит ему вслед, оставшись далеко внизу. «Спеши! — говорит она. — Спеши, не опаздывай!». «Спеши!» — вторят подмигивающие лампы. На этом этаже — жёлтая лампа, более-менее обычная. Пять этажей осталось под ним… десять… В груди уже кипит паровой котёл, а выхода из этой вечной спирали не видно. Зелёная лампа, такой ядовитый отсвет. Сил нет больше… двадцать этажей… двадцать пять…
И вдруг — конец.
Человек недоверчиво смотрит на красивую дверь с золочёной ручкой и в изнеможении падает на пол. Больше ступенек нет, это вершина. Но в нём не осталось жизни, чтобы вступить в комнату. Да что там — не осталось даже желания. Но тут над ним взрывается трелью электрический звонок, и фиолетовая лампа окрашивается красным. «Вставай! — кричат ему. — Вставай и войди! Ты должен!». Человек поднимает голову и с задыхающимся хрипом ползёт к двери. Всего несколько шагов! И он будет внутри! Он всё узнает! За два шага до двери ему удаётся подняться на ноги. Пошатываясь, как пьяный, он хватается за золочёную ручку и тянет на себя. Он входит, чувствуя, как умирает, и дух выходит из тела.
Но что это? Экран на всю стену. Усталости как не бывало! Человек подбежал к экрану с невесть откуда взявшимися силами. Там — огромная вырытая на земле яма с голыми телами. Нечеловеки, закованные в закрытые железные доспехи, смеются, сбрасывая всё новые и новые тонны мертвецов в котлован. Кадр меняется — теперь на экране виден город, над которым моросит дождь. Но некому огорчаться непогоде — город уничтожен, разграблен и сожжён, а все его жители убиты. Кадр меняется, показывая очередную порцию ада…
Кадр, кадр, кадр. Человек застыл в изумлении. Сотни разрушенных городов, миллионы убитых людей, стервятники кружат над закопчённой планетой. Этот мир на грани, он уже почти умер, сражённый тьмой! И над всем этим маячит тревожная красная надпись: МИР 254-78-52: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОПЕРАТОРА. Как он мог такое допустить?.. Почему сигнализация сработала слишком поздно? Почему они не вызвали его раньше?!
Человек торопливо плюхнулся в кресло перед экраном и на миг закрыл глаза. Так… вспомнить все команды, все схемы управления этой проклятой системой. И тысячелетия не проходит, как опять что-то выходит из строя, заставляя очередной мир извиваться в предсмертных муках. И он за всё это в ответе! Ну что за несправедливость! Он хочет спать! Ему тоже нужен отдых в его комнате — там, внизу!
Вздохнув, человек подался вперёд и дал первую команду. Плакать не время. Перед ним мир, стоящий на краю уничтожения, и его задача — вернуть его в прежнее положение, не позволить тварям в доспехах погрузить его во тьму. Он надеялся, что ещё не поздно, и ему это удастся. А если нет… что же, будет жаль.
А ещё больше жаль, что каждый раз приходится перед очередным периодом благословенного сна заставить себя забыть всё. Ведь иначе он не поднимется сюда, на верхнюю комнату, когда проснётся. Он ленив, да. Он устал, тысячу раз да. Единственное, что может снова и снова приводить его на рабочее место — полная неизвестность вкупе с надрывным криком сирены и мигающими лампами. Да — неизвестность. Только она может железными розгами подгонять его по лестнице, невзирая на смертельную усталость. Только она!
Ну а пока — работать. Работать, работать… Чтобы скорее всё закончить и спуститься в нижнюю комнату.
А там — снова спать…
2006 г.
Случай из жизни
Одно из самых жутких и загадочных событий в моей жизни произошло не так давно — всего два года назад, когда я ездил в родное село на летние каникулы. С малых лет я верил, что вокруг нас есть незримые силы, которые иногда каким-то непостижимым проявляются в нашем мире, и что далеко не все из них могут вызвать у нас приятные чувства. Но то, что я узрел летним вечером на пустынной дороге возле села, дало мне право заменить слово «верю» на более категорическое «знаю». Ну и, что греха таить, подарило несколько бессонных ночей и панический, безотчётный страх перед родными лесами.
Лето в якутском селе — особое время. В то время как в городе лето считается порой отдыха и веселья, в сёлах вовсю кипит работа. Сенокос — вот что занимает сердца и умы жителей, заставляя их подниматься вместе с первыми лучами солнца и проводить время до позднего вечера на плодородных полянах (их в Якутии именуют «аласами»). Северное лето скоротечно, нужно успеть накосить достаточно сена для рогатого хозяйства, сбить в стога и завезти в усадьбу. А там, глядишь, и осень в затылок дышит.
Но в то же время сенокос — это ещё и отдых. Если ты родился и вырос в селе, то твой свящённый долг каждое лето хотя бы пару недель провести в аласе, вдыхая сочный аромат свежескошенной травы, слушая щебет птиц и с наслаждением плескаясь в кристально чистых водоёмах, на которые богаты аласы. Поэтому, закрыв нудную сессию в университете, я без раздумий сел в автобус и поехал домой.
Первую неделю мы косили сено на речном островке, стойко выдерживая атаки комаров и мошек, которые тучами роились во влажном воздухе. Кожа при этом доходит до такого состояния, что уже перестаёт распухать и чесаться после укусов. Покончив с работой на острове, мы перебрались в один из аласов, расположенных примерно в десяти километрах от села. Ездили туда на стареньком «УАЗе» отчима, загрузив в тележку-прицеп всю необходимую экипировку — косы, грабли, вилы. Сенокос в аласе — дело несравненно более лёгкое, чем на острове, и не только из-за относительно малого количества насекомых. Главное — в аласах меньше неровностей земли, камней и корней, о которые можно сломать косу. Наловчившемуся человеку работа здесь может показаться синекурой. О себе сказать такого не могу, но, признаюсь, я тоже вздохнул с облегчением, когда мы покинули остров.
Обычно мы заканчивали часам к восьми вечера и возвращались в село на том же автомобиле. Но вскоре я заимел привычку брать с собой на тележке велосипед, который находится в моём владении со школьных лет, и катить домой в одиночку, наслаждаясь вечерней прохладой и чувством проделанной работы. Тем более что ехать нужно было не более получаса — всё лучше, чем трястись в душном салоне «УАЗа» в компании не особо разговорчивого отчима.
Тот вечер не стал исключением. Мы поставили несколько десятков копен, которые потом нужно собрать в большой стог. Когда солнце начало заметно клониться в сторону запада, отчим собрал снаряжение и уехал. Думаю, это было в полдевятого. Я же остался в аласе и вдоволь наплавался в маленьком озере, которое находилось в центре поляны. Настроение было превосходное, омрачало ощущения разве что илистое, загрязняющее ноги дно озера. В реке купаться более приятно — течение создаёт своеобразные ощущения, и на дне чистый жёлтый песок.
Выйдя из озера, я оделся и сел на велосипед. Солнце тем временем приняло багрово-красный оттенок, что летом обычно предвещает дожди. Я неторопливо крутил педали, колесо расшвыривало камешки, которые лежали на грунтовой дороге. По обе стороны дороги росли в основном хвойные деревья, но изредка я видел и берёзы с лиственницами. Такой тут смешанный лес. Обилие сосен затемняло дорогу. Вкупе с ярко-красным шаром солнца, который беспрестанно мелькал меж стволов, зрелище было потрясающе красивым и контрастным.
Роковая встреча состоялась, когда за моей спиной осталось примерно четыре километра. В этом месте лес с правой стороны расступался, открывая взору очередной алас с деревянной оградой по периметру — так владельцы защищают сено от свободно бродящих возле сёл коров, лошадей и иных напастей. Сейчас в аласе не было ни души, но на дальней стороне я видел жёлтые остовы стогов. Слева протекала тоненькая речка, так что деревьев там тоже было немного. Впереди был крутой поворот, не позволяющий разглядеть, кто движется навстречу — одно из тех самых «мест повышенного риска ДТП», о которых говорят гаишники.
На грунтовках и шоссе Якутии полным-полно так называемых «нехороших» мест, где якобы происходят фантастические вещи: за машинами гоняется седая старуха с посохом, или у обочины голосует юная девушка, которая потом вдруг исчезает из кабины, не оставив никаких следов своего присутствия. Каждый такой рассказ, как правило, обосновывается какой-либо леденящей кровь историей из прошлого, которая приключилась возле того самого места — старушку сбил грузовик, а девушка повесилась на суку возле дороги, метрах в двадцати от того места, где она останавливала машины. Но дорога, по которой я ехал, никогда не обладала дурной славой. Если бы кто-либо хоть раз замечал тут необычные явления, то об этом шепталось бы всё село ближайшие сто лет. Так что мне, можно сказать, в некотором роде повезло…
Налюбовавшись видом пустого аласа, освещённого красными лучами заката, я перевёл взгляд на дорогу и увидел, что из-за поворота выехал всадник на коне. Конь был гнедым и двигался вперёд лёгкой рысью. Меня всадник ничем не удивил — живой транспорт популярен в Якутии и во многом более удобен, чем автомобили. Я уверенно направил велосипед навстречу всаднику. Сейчас, размышляя задним числом, я нахожу лишь один признак, который мог бы меня тогда встревожить: копыта коня не издавали характерного цоканья при касании с грунтом. Конь бежал совершенно бесшумно, но я тогда не обратил на это внимания. Животное показалось мне усталым, так как бежало с понурой головой. Человек, который возвышался на седле, сидел прямо, не осматриваясь по сторонам. Издалека я различил, что он одет в тёмное, но, опять же, знал, что слишком яркая расцветка в тонах одежды не приветствуется. Если уж на то пошло, я сам был в серой майке и коричневых шортах.
И вот я подъехал на достаточно близкое расстояние, чтобы всё же ощутить: что-то не так с этим одиноким всадником, ощутить пока на уровне интуиции, так как мозг ещё не полностью проанализировал показания органов чувств. А через пару мгновений я вдруг с ужасающей ясностью понял первую вещь, которой не должно было быть места, если бы всадник был обычным человеком — его ноги были чудовищно длинными, настолько, что, несмотря на немалый рост коня, волочились по земле. Оканчивались ноги не ступнёй, а просто становились всё тоньше… и тоньше… пока просто не исчезали.
Второе наблюдение, которое заставило зашевелиться волосы на затылке, касалось коня. Ранее я видел его спереди и потому ничего необычного не замечал. Подъехав ближе, я смог рассмотреть животное сбоку, и до меня дошло ещё одно отвратительное нарушение пропорции — конь был длинным. Таким же, как ноги его хозяина. Ног у коня, насколько я помню, всё-таки было четыре, как обычно, но спина растянулась на долгие метры. Думаю, он бы побил по длине тройку нормальных коней, поставленных друг перед другом.
Одних этих обстоятельств хватило бы, чтобы я потерял сознание от страха, но я имел несчастье этим не удовлетвориться и поднять глаза к лицу жуткого всадника. Едва я это сделал, далее не помню, что было; смутно вспоминается болезненное падение и смрадный, похожий на жжёную резину, запах, который заполнил нос. Должно быть, это просто проехало мимо, не обратив на меня внимания. В любом случае, очнувшись, я увидел, что валяюсь на дороге вместе с велосипедом, правая голень горит огнём (ничего особенного: как выяснилось, была просто содрана кожа), а дорога вновь пуста. Плохой запах тоже исчез. Солнце сместилось на небе чуть-чуть — обморок длился недолго. От его кроваво-красного света меня еле не вытошнило. Я кое-как встал и оседлал велосипед. О том, чтобы ехать неторопливо, более не могло быть и речи; я гнал что было сил, попеременно оглядываясь, чтобы убедиться, что всадник с длинными ногами не скачет за мной следом. Через пятнадцать минут, показавшихся мне часом, я въехал в село и вздохнул с облегчением. На дворах играла музыка из стереоколонок, где-то визжала циркулярная пила, слышался гомон детей. Всё это успокаивало, развеивало воспоминания, от которых меня бросало в жар и холод.
Умолчать о происшествии я не смог и рассказал родителям. Сошлись на мнении, что это существо было так называемым «кочующим» призраком, который направлялся в другие края «по своим делам» (местный костровый фольклор даёт много примеров подобных встреч). Вреда мне такой призрак вроде причинить не мог даже теоретически, но это не очень помогло мне вернуть душевное спокойствие. Больше я, понятное дело, не катался на велосипеде мимо вечерних аласов. Даже выйти в наружную уборную ночью стало для меня немного проблематично. Впрочем, со временем яркие краски той встречи стали немного размываться, и я надеюсь, что этот страх мне удастся подавить. Но одну черту страшного всадника я не забуду никогда… Я не рассказывал об этом ни родителям, ни друзьям, ограничившись упоминанием его длинных ног и деформированного коня. Было слишком страшно вновь вызывать в памяти образ, который отправил меня в обморок и, кажется, способен на это даже сейчас в те ночи, когда я один дома — вытаращенные, резкие, будто вырезанные из бумаги глаза человека на коне, которые занимали большую половину лица.
2008 г.
Дерево
Самое обычное дерево, ничем не отличающееся от тысяч своих собратьев, весной расцветающее зеленью, а осенью скидывающее янтарные листья под напором ветра. Тем не менее, в городке оно пользовалось дурной славой; его именовали не иначе как Мёртвое дерево. Люди чурались дерева даже днём, а уж ночью, под покровом темноты, пойти под его сень мог лишь отчаянно смелый… или тот, кто решил свести счёты с жизнью.
Оно росло вдали от кромки леса, окружающего город, и оттого выглядело тоскливо-одиноким. Было время, когда дерево облюбовали молодые — они завели обычай под его пышной листвой признаваться в любви и делать предложения руки и сердца. На его твёрдой коре перочинными ножиками неумело рисовали сердечки с заключёнными в них инициалами влюблённых. Дерево стало свидетелем множества первых поцелуев и объятий. Несмотря на то, что молодые люди зачастую портили его кору, оно, казалось, по-отечески улыбалось над ними, укрывая своей гостеприимной бахромой.
Но эта же традиция впоследствии стала причиной недоброй славы дерева. Один взбалмошный юноша с горячим сердцем и несмышлёной головой признался в любви своей единственной и неповторимой у одинокого дерева. Получив решительный отказ, он с горя отправился в ближайший кабак и, захмелев там до безобразия, задумал страшное. Вернувшись к дереву в вечерних сумерках, он перекинул через его толстый сук верёвку и повесился на ней. Самоубийца висел, покачиваясь под порывами осеннего ветра, всю ночь, и лишь утром наблюдательные люди из окраинных кварталов заметили жуткое изменение в привычном пейзаже. Когда люди пришли снимать тело, волосы и плечи юноши были сплошь обсыпаны сухой палой листвой, будто дерево тоже горько плакало, глядя на содеянное.
С тех пор уже не приходили влюблённые к одинокому дереву, не шептали жарких признаний, не касалось острое лезвие ножика его коры. Всё изменилось с точностью до наоборот: после того случая дерево постепенно стало излюбленным местом тех, кто решил самовольно расстаться с жизнью. За полвека у дерева оборвали свои жизни больше десятка человек. Не все из них вешались — некоторые приходили с оружием и стреляли себе в голову, прижавшись затылком к морщинистой коре ствола. От натяжения верёвки или грохота выстрела дерево вздрагивало и спешно скидывало несколько листьев даже в летнюю пору. Так и укрепилась за ним слава проклятого места, так и стал люд называть его Мёртвым.
Иногда решительные жители города предлагали срубить дерево, дабы оно не манило глупые умы к свершению непоправимого. Но на каждое такое предложение находились протестующие — мол, дерево-то ни в чём не виновато, а если самоубийца уж решил сделать своё дело, то отсутствие дерева ему не помешает. Была и ещё одна причина, вслух никем не высказываемая — жуткое дерево стало своего рода достопримечательностью маленького городка, которое ничем иным не могло похвастаться. Людям доставляло неосознанное удовольствие видеть дерево вдалеке у опушки леса, испытать на себе хотя бы с дальнего расстояния холодное веяние чего-то таинственного и страшного. И потому дерево стояло — на самом-то деле одно из многих, ничем не примечательное, которому не повезло стать жертвой людских слабостей и предрассудков.
Но однажды кое-кто всё же загорелся непоколебимой решимостью сделать так, чтобы дерева не стало. То был молодой парень, житель городка, недавно потерявший сестру — она тоже отправилась в вечное небытие, повесившись на злополучном дереве. Девушка была живой и общительной, её любили все, кто был с ней знаком, и до рокового дня никто и не мог предположить, что она способна на страшный поступок. Да и после ни один человек не мог понять, что подтолкнуло молодую на смерть — она не оставила ни записок, ни посланий, не исповедовалась в свой последний день ни перед кем. Просто вышла вечером из родного дома, направилась к дереву — и, как водится, её обнаружили лишь утром.
Брат девушки был более других убит свалившимся горем. Они родились с разницей всего в год, поэтому с детства были лучшими друзьями, не могли мыслить жизни друг без друга. Юная кровь ударила в голову, наполнив разум гневом, но против кого направишь бурлящие чувства, если ни одного виновного в смерти сестры нет и не предвидится? Парень изнывал от желания хоть что-то сделать, наказать кого-нибудь, отомстить за смерть любимой сестры. И недобрые мысли его обратились в сторону дерева. Ну конечно, сказал он себе, скрипя зубами. Что, как не оно, виновато не только в этой преждевременной гибели, но и во множестве других? Чёртово дерево растёт уж сколько десятилетий, и никто не пошевелил пальцем, чтобы искоренить источник заразы раз и навсегда. О, он не будет медлить и сомневаться, как вялые городские власти, не станет откладывать дело на завтра, не будет ни с кем советоваться. Решено — сегодня же ночью он отправится к дереву, и к утру от него останется лишь едва заметный пенёк, на который верёвку уже не набросишь!
Парень сдержал данное себе слово. Он был не из робкого десятка и не видел в предстоящей задаче чего-то пугающего или отталкивающего. Ему лишь хотелось успокоить свой мятущийся разум. И когда на землю пала тьма и все в доме уснули, он вытащил из-под кровати рюкзак со спрятанным в нём загодя приобретённым широким топором и шагнул за порог.
Ночь выдалась лунной, серебристой — с одной стороны, для парня это было хорошо, потому что путь от крайнего городского квартала до дерева был ясно виден в голубоватом отсвете, но, когда он начнёт рубить дерево, это могли заметить. Впрочем, он был уверен, что завершит дело быстро, поэтому не придавал этому обстоятельству большого значения — если кто-то особо бдительный и задастся целью ему помешать, то, пока он доберётся до дерева, всё уже будет кончено. Парень быстро зашагал по поляне, держа курс точно на Мёртвое дерево.
Дерево встретило его тревожным колыханием листьев, которые были в самом соку. Парень с ненавистью воззрился на сук, на котором нашли его сестру — издали его скрывала зелёная листва, но теперь, стоя прямо у дерева, он мог видеть, что сук подобен уродливой костлявой руке. Будь он пониже, парень не поленился бы потратить несколько минут на то, чтобы обрубить сперва его. Казалось даже, что он может смутно различать в лунном сиянии белесый след от въевшейся в сук под тяжестью тела верёвки.
Юноша поневоле представил, в каком смятении ума и чувств должна была находиться сестра, глядя на дерево за считанные мгновения до того, как узел стянулся вокруг её тонкой шеи. Он вспомнил, как говорил с ней в тот вечер — она казалась немного ослабевшей, но вела разговор непринуждённо и улыбалась его шуткам. Неужели она тогда уже всё продумала и знала, что видит брата, отца и мать в последний раз? Что подтолкнуло юную девушку на этот непоправимый шаг? Теперь он никак не мог этого узнать, и осознание этого вновь довело парня до исступления. Он зарычал и со всей силы ударил сжатым кулаком по твёрдой коре. На костяшках пальцах выступила кровь, но парень не разомкнул губ. Проклятое дерево заслужило это последнее оскорбление.
Пора было приступать к делу. Парень снял рюкзак и вытащил топор. Луна озарила лезвие игристым отблеском. Поплотнее схватившись за рукоятку, он размахнулся и со всей силы ударил топором по стволу у самого основания. Звук удара получился тихим, лезвие отскочило от дерева, оставив на коре едва заметную отметину: вековое растение не собиралось рухнуть от слабых усилий. Человек бил снова и снова, прорываясь сквозь толщу коры. К тому времени, когда он преодолел наружную кору и начал выбивать первые измазанные смолой жёлтые щепки из дерева, руки успели заныть от усталости. Он остановился, чтобы перевести дух, и присел на землю, опершись спиной о ствол.
Тусклые городские огни были рассеяны далеко в синей мгле. Юноша отрешённо смотрел на них, чувствуя, как восстанавливается ритм сердца. Луна светила по-прежнему ровно и мягко, листья дерева шелестели над головой, и он почувствовал, как подкрадывается истома. Парень сердито тряхнул головой и сказал себе, что не для того сюда пришёл, чтобы спать под адским деревом. Но голова всё тяжелела, веки слипались сами собой, и он поспешил подняться на ноги, испугавшись, что не сможет сопротивляться некстати нахлынувшей дреме. Нужно было продолжать работу. Он подобрал брошенный на траву топор.
Но что это? Краем глаза парень увидел какое-то изменение в окраске мира: что-то уже не соответствовало прежней действительности. Это заставило его оглянуться через плечо, и он обмер.
Огни города пропали. Исчезло голубое сияние луны вместе с самим светилом, даже звёзд больше не было видно на абсолютно чёрном небосводе. Темнота вокруг была столь всепоглощающей, что казалось, будто парень и дерево парят в цельной пустоте. Было странно, что он мог видеть дерево и свой топор — ведь никакого источника света у него с собой не имелось.
Молодого человека охватил страх. Не выпуская из рук топор, он пошёл от дерева прочь в надежде увидеть хотя бы малую искорку. И вскоре увидел — но не искру, а бледные, расплывающиеся человеческие фигуры, которые плавно приближались к нему, выплывая из той тьмы. Они образовывали вокруг дерева кольцо, которое становилось всё уже. Теперь парень уже пятился назад. Когда они стали ближе, он смог узнать некоторых из них, но легче ему от этого не стало — то были покойники, прежде оборвавшие жизни у дерева. Их лица были без единой кровинки, спокойными и сосредоточенными, но оттого ещё более пугающими. Парень сжал в руке топор — последнюю надежду на спасение, — и попытался поднять его над головой, чтобы защититься от наступающих призраков. Но руки безвольно упали вниз, и топор, сорвавшись, улетел во мглу, едва он распознал в одном из белых людей свою сестру, такую же молчаливую и спокойную, как остальные пришельцы из тьмы, но в её глазах он вроде бы увидел такие знакомые живые весёлые огоньки. Она подошла к нему вплотную и протянула руку. Он удержался от первого порыва сделать ответное движение и почему-то посмотрел назад, на дерево. И, к своему удивлению, увидел самого себя, дремлющего под деревом, опершегося о ствол спиной и склонившегося набок. Он знал, что может подойти к самому себе, растормошить за плечо, заставить проснуться и убраться восвояси. Но сестра ждала с полуулыбкой на тонких губах, и нельзя было заставлять её ждать. Парень после секундного замешательства сжал её ладонь в своей. Она отступила назад, увлекая его за собой, и все остальные безмолвные фигуры заскользили за ними. Грудь юноши сжала холодная тоска, но по мере того, как они удалялись от дерева, грусть становилась незаметной, уступая место радости оттого, что теперь у него нет нужды оплакивать сестру, ведь он снова с ней, как во времена детства, и отныне они будут вдвоём всегда.
Лишь раз он оглянулся на дерево, когда они уже были очень далеко от него, и увидел во тьме ярко-красную громаду разветвлённых сучьев и листьев, напоминающую кровеносную систему. Вместо листьев с этих вен и артерий слетали крупные багровые капли, похожие на кровавые слёзы.
Его нашли на следующий день, сидящего под деревом, холодного и окоченевшего. Рубцы на коре дерева свидетельствовали, что он не смог довести задуманное до конца. «Бедняга, — вздыхали добрые люди, — помутился рассудком с горя, решил срубить дерево, где погибла её сестра, да переволновался, удар хватил». Страшная трагедия потрясла всех, и тем пуще в дальнейшем люди обходили стороной одиноко растущее на поляне дерево.
А дерево стоит там по сию пору. Весной расцветает, осенью увядает одновременно со своими сородичами. Трава у его подножия не жухнет, а птицы с удовольствием вьют гнёзда среди веток. Да почему бы и нет? Ведь это простое дерево, отличное разве что тем, что стало предметом шептаний и пересудов жителей одного маленького городка.
2011 г.
Страшная история
Его звали Стас. Он учился на третьем курсе филологического факультета — учился совсем неплохо. Помимо учёбы, находил время, чтобы посещать баскетбольную секцию и стать лучшим нападающим факультетской сборной. Всеобщий любимчик, он пользовался равной популярностью и среди девушек, и среди друзей. Даже преподаватели не скрывали своей симпатии к рослому общительному парню.
Её звали Яна. Она училась в юридическом факультете и только что перешла на второй курс. С учёбой у неё не всё было так гладко, как у Стаса, но, в принципе, нормально — как сказал бы её отец, бывший моряк, выше уровня ватерлинии. Парни говорили о ней, что она симпатичная, а особо злые подружки вяло возражали — мол, она далеко не фотомодель. Яна действительно не ходила на курсы фотомоделей, но иногда, когда у неё бывало хорошее настроение, думала, что могла бы.
Они познакомились зимой во время новогоднего бала. В январе Стас впервые пригласил Яну в кино. «Ужастики, — заговорщически подмигнул он ей, — моё любимое». В феврале он помогал ей с трудными домашними заданиями по истории. А в марте их уже всюду видели вместе. «Повезло ему», — говорили парни. «Повезло ей», — вздыхали девушки. Сходились все на том, что парочка красивая, почти идеальная. И с жадным предвкушением ждали, когда они, наконец, поссорятся и разойдутся.
Но они не ссорились, по крайней мере, пока. Более того, настал апрель, и где-то в двадцатых числах месяца Стас пригласил Яну на пикник на лоне природы. Если бы он предложил это в другой день или не предложил вообще, то остался бы жив. Яна согласилась. Если бы она не согласилась, то с нею тоже ничего бы не стряслось. Стас был вне себя от счастья.
Субботним днём «Москвич» Стаса, доставшийся в наследство от отчима, выехал за город. Чтобы никто не мешал, влюблённые отъехали на порядочное расстояние от большой дороги и устроились на поляне, где уже начала выглядывать трава. Небо было ясным и ослепительно синим, а солнце — ярко-жёлтым, как сердцевина свежего яйца. Палящие лучи безжалостно топили последние остовы залежалого снега. День выдался необычайно тёплым для апреля: до заката дожили немногие бойцы зимних стуж.
— Неплохое местечко, а? — спросил Стас, заглушив мотор.
— Прекрасное, — ответила Яна и коснулась его губ своими.
Сначала они разбили палатку, которую принесли с собой, и зажгли костёр. Потом приступили к еде, потому что успели проголодаться. Пока у костра на вертеле жарились загодя купленные картофелины, Яна и Стас хрустели беконовыми чипсами и запивали их пепси-колой. Увлёкшись разговорами, они не заметили, как картофель сильно обгорел. Но их это не особо огорчило, потому что жареные клубни всё равно были очень вкусными. Яна мрачно заметила, что Стасу, возможно, следует учесть на будущее, что готовит она не ахти как. Он нахмурился и погрозил ему пальцем. Жить ему оставалось не более пяти часов.
После обеда они вошли в палатку и занялись любовью, наплевав на то, что могли заработать аппендицит. Потом просто лежали и разговаривали, позже — снова вскакивали друг на друга. И к вечеру, усталые и довольные, они вышли из палатки любоваться закатом. Она сидела, положив голову ей на плечо, а он гладил её по спине.
Закат впечатлял. Солнце сегодня вечером было огромным и до того багровым, что казалось красным. Стас сказал чуть нервно, что никогда раньше такого не видел. Пробуждающийся от зимней спячки лес расцвёл розоватым отблеском, отражая лучи заходящего солнца. По мере того, как солнце опускалось всё ниже, отблеск начал меркнуть, погружая деревья в серую полутьму.
И всё изменилось.
У горизонта завыл надвигающийся ночной ветер. Цветы, которые успели вырасти, сомкнули свои чаши и приникли к земле. Перестали щебетать птицы, утихла жизнеутверждающая лесная симфония. Со всех сторон на поляну подкрадывалась размытая тьма. Далеко в лесу начала протяжно выть бензопила.
Яна зябко поёжилась от холода (на ней не было тёплой одежды, только майка и джинсовые брюки) и посмотрела на Стаса:
— Пора уходить. День был чудесный… но уже поздно.
— Ты права, — согласился Стас без особого энтузиазма. Он бы не возражал, если бы этот день длился все семьдесят два часа, а то и дольше.
Они убрали палатку, залили остатками воды давно потухший костёр и собрали весь мусор в пакет. Теперь на поляне ничто не напоминало об их визите, кроме выжженного круга от костра. Они сели в машину, и тут начались первые неприятности. Машина никак не хотела заводиться.
Стас пять минут провозился с ключом зажигания, потом развёл руками и виновато улыбнулся:
— Делать нечего, придётся копаться во внутренностях.
Над капотом он колдовал гораздо дольше пяти минут, то и дело возвращаясь обратно и пытаясь повернуть ключ зажигания. Но ничего, кроме нескольких кашлей, которые могли бы исторгаться из груди смертельно больного старика, из машины выжать не удалось. В конце концов он начисто посадил аккумулятор, закрыл капот и тяжело плюхнулся на водительское сидение. Надо же так опозориться после такого дня! Что подумает девушка?
Яна к тому времени уже порядком продрогла (обогреватель салона не работал). Выпытав у Стаса, что машина уже не оживёт, она приуныла. Стас лихорадочно пытался что-нибудь придумать, проклиная тот момент, когда решил отъехать как можно дальше от дороги. Тем временем ночная прохлада потихоньку забиралась в машину.
— Может, вернёмся к дороге пешком и проголосуем? — предложил он.
— Ты сумасшедший, — заявила Яна, стуча зубами. — До дороги не меньше десяти километров.
— Ну… — подумал Стас. — Если ты не сможешь идти, я понесу тебя на руках.
— Не смогу, — жалобно промурлыкала Яна и плотнее прижалась к нему. — Я же маленькая и слабая.
Стас обнял её за плечо и накрыл чехлом, снятым с заднего сидения. Так им было чуть теплее… но всё равно, нужно было что-то делать, и оба это знали.
— Может, нам повезёт, и подвернётся встречная машина, — предположил Стас.
— Ты и правда сумасшедший, — добродушно ответила она.
Он удивлённо посмотрел на неё:
— Ты не знала?
— Не знала, вот.
— Теперь знаешь?
— Знаю.
— То-то же, леди. Подумай, прежде чем гулять со мной.
— Уже гуляю.
Они рассмеялись, и им стало легче, хотя смех вышел более напряжённым, чем они хотели. Потом в остывающем салоне опять повисла тягостная пауза. На этот раз её нарушила Яна.
— В такую глушь, — сказала она, — ночью могут приехать только такие сумасшедшие, как мы.
Словно в ответ на её слова, на опушке, которая теперь казалась сплошной чёрной стеной, сверкнули жёлтые фары автомобиля.
Они выскочили из машины одновременно и понеслись навстречу свету. Вдвоём они что-то кричали во весь голос и смеялись, как умалишённые. Автомобиль — это был обычный жёлтый «ГАЗ» — выруливал прямиком в их сторону. У Яны даже мелькнула совершенно невероятная мысль, что это её родители организовали поиск запоздавшей дочери.
Кто бы ни сидел в «ГАЗе», они подбежали так близко, что он не мог их не заметить. Однако, странное дело, автомобиль в последний момент вильнул в сторону и сделал попытку развернуться. Парень с девушкой машинально бросились влево, преграждая ему путь. Надрывно скрипнули тормоза, и машина остановилась.
Теперь, когда охладел первый пыл, Стас засмутился. Нужно было объяснить ситуацию водителю: кто угодно перепугается, если ночью в лесу машину чуть ли не насильно остановили орущие благим матом молодые люди.
Но он ошибся. Водитель совсем не перепугался. Он не стал отсиживаться в кабине, а резво выскочил и бросился вперёд, к Стасу.
— Вы что, совсем охренели? — закричал водитель. Голос у него был сухой и надтреснутый. — Чего под колёса суётесь?! Хотите, чтобы я вас раздавил к чёртовой матери?
С этими словами он схватил Стаса за воротник, бесцеремонно притянул к себе и припёр к машине. От такого поворота событий парень потерял дар речи. Зато он смог рассмотреть водителя как следует: это был плотный мужчина в возрасте, далеко не красавец. Лицо пересекал глубокий красный рубец — как показалось Стасу, не очень давний. На нём был простой серый свитер, сквозь который выпирали здоровенные мышцы — неудивительно, что он протащил его, как пушинку.
Наконец, Стас вновь обрёл способность говорить.
— Извините… — начал он, запинаясь. — Мы не хотели, но у нас…
Не дожидаясь, пока он закончит, мужчина двинул ему правой рукой в солнечное сплетение. Мир перед глазами Стаса разом потемнел и закружился волчком. Волна боли прокатилась от печени по всему телу. У него перехватило дыхание, к горлу подкатил огромный осклизлый комок. Стас упал на сырую землю, судорожно хватая ртом воздух. Краем уха он слышал, как завизжала Яна.
Мужчина удовлетворённо вытер кулак о ладонь и вернулся в автомобиль, презрительно бросив на прощание:
— Я не для того сюда приехал, чтобы подвозить пьяных подростков.
Стас услышал, как хлопнула дверца. У его головы осторожно присела Яна и со всхлипом спросила:
— Больно?
Да, было больно. Было больно, потому что его избили, как десятилетнего мальчика, на глазах у девушки. Было больно, что ему вдарили в печень, а он даже не успел замахнуться в ответ. Было больно, что они опять остаются одни у черта на куличиках. Было действительно БОЛЬНО.
Стас вскочил, превозмогая боль, и закричал:
— Вылезай, ублюдок, я с тобой ещё не закончил!
— Стас… — пролепетала Яна у него за спиной. — Не надо… Стас…
— Как ты меня назвал? — с угрозой спросил водитель, но колёса «ГАЗа» дрогнули и начали медленно катиться по земле, наматывая на себя грязь.
Он уезжал! Стас побежал вперёд, придерживая левой рукой живот, всё ещё горящий огнём. Ничего, вытерпит. Вытерпит и поставит на место верзилу, который много о себе думает.
Он подскочил к отъезжающему автомобилю и рывком распахнул заднюю дверцу.
— Слышь, ты, я тебе го…
Слова, которые рвались из горла, так и остались непроизнесёнными. Яна сзади снова завизжала. Стас ошарашенно смотрел на заднее сиденье «ГАЗа», мучительно пытаясь понять, что же это означает.
На сидении лежал труп. Труп крупного лысеющего мужчины в клетчатой рубашке, и у него на лбу была глубокая зияющая рана. Рыжеватые волосы слиплись, склеенные засохшей кровью. Мертвец скалился, будто получая удовольствие от эффекта, который произвело его появление на молодых оболтусов.
Водитель хмыкнул и вышел из кабины.
— Вот ведь не повезло, а? — почти весело спросил он, разматывая свёрток, который был у него в руке. — Не успел выйти из зоны, так новая мокруха. Причём прямиком во время обмывки обходного с Рыжиком. Рыжик-то… сидел бы тихо да радовался свободе, так нет же, нужно было бочку катить…
Стас стоял и смотрел, как мужчина в сером свитере приближается к нему. Он ничего не соображал. В голове, словно заезженная пластинка, крутилась нескончаемая мысль: Как же так, как же так, как же так… Слова мужчины доносились откуда-то издалека, как писк мошкары. Зато он отчётливо услышал, как Яна за спиной сказала очень тонким голосом:
— Стас, бежим…
Как же так, как же…
Мысль, мигающая в мозгу, посерела и оборвалась, и тут же её место заняла другая мысль:
Стас, бежим, Стас, бежим…
Мужчина что-то ещё говорил и поднимал руку. В руке в электрическом сиянии фонаря Стас увидел небольшой тесак.
Отчаянный крик Яны:
— Ста-а-ас!
Так это же она мне кричит, вдруг понял он, и всё вернулось: он вновь обрёл возможность мыслить. Словно кончилась испорченная часть плёнки, и кино начало показываться нормально.
Он услышал голос мужчины:
— Говорил я вам: катитесь, куда подальше…
Господи, да у него топор, ужаснулся Стас, поняв, наконец, что держит в руке мужчина. Он развернулся, чтобы убежать, но сделал это слишком резко, поэтому оступился и упал.
Когда Яна увидела, как водитель вынул тесак из свёртка в руке, у неё остановилось сердце. По крайней мере, ощущения были именно такими — словно сердце вдруг перестало биться и превратилось в кусок льда, колющий грудь изнутри.
Она сориентировалась в положении быстрее Стаса. Нужно было бежать. Она сделала шаг назад и услышала собственный голос:
— Стас, бежим…
Но Стас почему-то стоял и не двигался, отупело глядя на лезвие тесака. Будто он её совсем не слышал. А тем временем водитель приближался к нему и начал заносить свой тесак в сторону.
Яна закричала, и льдинка в груди больно врезалась в диафрагму:
— Ста-а-ас!
На этот раз он её как будто услышал. По крайней мере, он перестал бездействовать, посмотрел в её сторону, и она с громадным облегчением увидела, что во взгляде Стаса появилась осмысленность. У него снова были глаза человека, а не мышонка, гипнотизируемого коброй.
Беги же!
Она не знала, подумала она это или сказала вслух. Стас в любом случае воспринял этот сигнал, развернулся, дёрнулся к ней… и упал, споткнувшись о собственную ногу. Яне это показалось совершенно нелепым и невозможным, но, как любил повторять преподаватель римского права, невероятно, но факт.
Внутри Яны что-то оборвалось. Она увидела, как водитель победно наступил кирзовым сапогом Стасу на спину. Тот попытался извернуться, а он в ответ на это сильнее сдавил его своей ногой, нагнулся вперёд и замахнулся тесаком. Стас закричал, и Яна поняла, что он больше не встанет. Это тоже казалось невозможным, но всё же — невероятно, но факт…
Яна побежала, оставив своего возлюбленного. Стас кричал ещё секунду или две, потом умолк. Вместо крика Яна услышала сзади влажный хруст, словно кто-то раздавил несвежее яблоко. Она бы многое отдала, чтобы оглохнуть в эту минуту. За звуком раздавливаемого яблока что-то мягко забулькало. Она уже слышала однажды такой звук, когда в далёком детстве гостила в деревне у дедушки. Дедушка давно умер, но тогда он был жив и разводил скот. В тот день, когда приехали они с мамой, он зарезал телёнка, чтобы угостить их свежатиной, и Яна ненароком увидела, как он осторожно режет скоту глотку, чтобы оттуда вытекла кровь. Звук выплескивающейся крови запомнился ей надолго, чтобы застать её снова здесь. Но сейчас это был не телёнок, это был человек, которого она любила, с которым она занималась любовью несколько часов назад, который любил ужастики. Именно так, в прошедшем времени…
Её так и подмывало оглянуться. Она знала, что ничего хорошего не увидит, но ей очень хотелось это сделать. Но этого она себе не позволила. Сейчас нужно бежать. Стас мёртв (невероятно, но факт), и она тоже будет мертва, если не сможет убежать от этого безумца, который убил сначала своего собутыльника, потом Стаса… и теперь намеревался убить её.
Яна бежала, но ноги устроили забастовку. Они отказывались подниматься, словно налились оловом. Такое бывало с ней во время физкультуры, когда они обегали стадион пятнадцать раз. Где-то на двенадцатом — тринадцатом кругу с ногами происходило то же самое. Но ведь сейчас не было никаких двенадцати кругов! Несмотря на это, ноги предавали её. Неимоверным усилием ей удавалось поднимать их, но силы таяли с каждым мгновением, и бежала Яна всё медленнее.
Нужно добежать до леса, подумала она. Лес казался спасением, ведь там водитель не сможет её найти, потому что она спрячется среди деревьев… но до леса было очень далеко, а она уже была на пределе. Отчаяние охватило её. Ноги подогнулись, она упала на колени.
Вставай!
В первую секунду она думала, что не сможет встать, что водитель так и настигнёт её, стоящей на коленях. Мышцы были вылеплены из воска и совсем не собирались ей помочь в деле спасения от убийцы. И только леденящая мысль, что водитель приближается, что он уже в пяти… четырёх… трёх шагах и размахивается своим ужасным тесаком, дала ей сил подняться на ноги — мучительно медленно, но всё-таки подняться. На этот раз Яна не удержалась и оглянулась. Ей нужно было знать, насколько далеко находится опасность.
Она успела удалиться от первоначального места на пятьдесят — шестьдесят шагов. Водителя не было видно. Зато она увидела Стаса, распростертого на ранней траве (слава Богу, отсюда уже не были видны подробности), и услышала, как тихо взвизгнул «ГАЗ», трогаясь с места. Машина разворачивалась в её сторону.
Яна снова закричала и побежала вперёд, почему-то согнувшись в три погибели. Лес маячил далеко впереди, а сзади набирал скорость «ГАЗ», стремительно сокращая расстояние. Она уже поняла, что проиграла, но продолжала бежать, потому что не хотела умирать. Ей было девятнадцать лет, она собиралась стать адвокатом и училась во втором курсе юрфака, не так хорошо, как Стас, но тоже сносно, и она не хотела умирать.
Как назло, земля пошла кочковатая (стало быть, подумала она, опушка уже близко). В любой момент она могла споткнуться и упасть второй раз. Яна знала, что тогда у неё уже не хватит сил, чтобы подняться. Падение — это конец.
Яна не падала… пока. В спину ударил сноп холодного света фар, попутно озарив лысые стволы деревьев на опушке. Машина догоняла. Ещё немного, и две тонны железа налетят на неё, сомнут под себя и проедутся по костям, растирая их в порошок. Водитель озадачится вопросом, как запихнуть три тела на заднее сиденье, но затем что-нибудь придумает.
Кроме ног, для полного счастья у неё начало отказывать дыхание — опять же, вроде она и бежала не так долго. Воздух входил и выходил из горла с хриплым свистом, словно ей прямо в трахею вставили стеклянную трубу. Лёгкие превратились в два огненных клубка. Ну почему же всегда всё так, с тоской подумала Яна, почти переходя на ходьбу. Бежать дальше не было возможности. Левой рукой Яна схватилась за грудь в надежде успокоить пожар, но тот лишь разгорелся с новой силой. Перед глазами летали большие разноцветные шары, которые плавно уплывали влево и вправо. Она закрыла глаза, но шары продолжали летать.
Потом мир повернулся на девяносто градусов и отвесил Яне оплеуху за то, что она не смогла себя преодолеть. Она не сразу поняла, что произошло, но всё встало на свои места, как только она открыла глаза. Оказалось, она просто упала и ударилась щекой о кочку.
Она не чувствовала в себе сил встать. Хуже того, у неё не было желания это делать. Жажда жизни уступила место смертельной измотанности и шоку. Она просто лежала, смотрела на звёзды, которые в свою очередь смотрели на неё с неизмеримой высоты, и думала о том, как всё будет дальше. Когда она не вернётся домой под утро, родители забеспокоятся, позвонят родителям Стаса и узнают, что он тоже не вернулся. Потом, разумеется, они запаникуют, поедут на поиски, собрав всех родных. К делу подключится милиция, они будут прочёсывать лес несколько дней, дадут объявление о розыске по телевизору, но, конечно, ничего не найдут, потому что водитель не такой дурак, чтобы просто выкинуть тела. Нет, он отвезёт трупы в другое место и закопает, или, что ещё лучше, сожжёт. Вот так. Может, рано или поздно их найдут, и — если повезёт — даже опознают…
Рёв мотора приближался. Жёлтым накрахмаленным светом засияло всё вокруг — всходы трав, кочки, земля, и, наверное, она сама тоже. Это означало, что жить ей осталось очень мало. Яна закрыла глаза и попросила Бога, раз Он решил, что ей нужно умереть сегодня, дать ей хотя бы умереть безболезненно. Пускай шины проедутся по её голове, а не по ногам или по руке. Пускай всё закончится сразу же, без прелюдий и интерлюдий.
Но Бог решил иначе. Колёса завыли, меняя направление движения. Яна почувствовала лёгкий горячий ветерок от пронёсшегося мимо автомобиля. «ГАЗ» в последний момент свернул налево. И она была ещё жива. Лёгкие по-прежнему горели пламенем, ноги по-прежнему весили, как башни Кремля. А когда она открыла глаза, то увидела, что звёзды по-прежнему таращатся на нёе единственными глазами.
Что случилось? Почему он не убил её? Почему она жива до сих пор?
Она повернула голову и увидела высокие кирзовые сапоги мужчины, который вышел из остановившегося в пяти метрах «ГАЗа». К подошве сапог прилип толстый слой грязи. Сапоги не спеша двинулись в её сторону. Она вспомнила про тесак, скользнула глазами вверх и увидела, что в руке у мужчины ничего нет.
Мужчина подошёл к ней и поддел носком сапога её висок:
— Вставай.
Яна не могла встать. Мышцы были уже даже не воском, а мрамором, нерастягиваемым и негнущимся. Она не могла встать при всём желании, и она хотела ему это объяснить, вот только он не хотел слушать. Второй удар в висок был уже весомее (у неё от сотрясения чуть закружилась голова) и сопровождался более весомыми словами:
— Вставай, сука, если не хочешь подохнуть.
Удивительно, но оказалось, при необходимом уровне желания встать всё-таки можно. Или хотя бы попытаться. Яне кое-как удалось подняться на четвереньки (одежда вся взмокла и намертво прилипла к телу — это ещё больше ограничивало возможности её мышц), но на большее она в тот момент не была способна. И наказание за это последовало немедля — в виде хорошо поставленного пинка в щёку. Зубы остались на месте, но это был единственный недостаток удара. Яна снова оказалась на земле. Из лопнувших губ обильно потекла кровь, она почувствовала солёный вкус у себя во рту. Прижала ладонь к пульсирующему очагу боли на щеке. И ещё, кажется, заплакала в голос. Теперь она была по-настоящему испугана, странное оцепенение спало, оставив голую жестокую реальность. Она была одна в далёком лесу с человеком, который до этого убил двух человек и, судя по всему, имел такие же планы относительно неё. И она не могла ничего изменить, ей не дали даже быстро умереть под колёсами.
— Ну так встанешь, или помочь? — заботливо спросил мужчина. Она с трудом посмотрела на него снизу вверх. Увидела серый свитер, накачанные бицепсы, рубец во всё лицо, мясистые щёки и дёргающийся рот. Этот рот почему-то напугал её больше всего остального. Нет, помощи не надо, ей нужно сейчас же встать, как велит этот мужчина, даже если при этом порвутся все мышцы. Потому что иначе он снова ударит её… и на этот раз может не остановиться…
Яна встала. Не знала, как ей это удалось, но встала. Если бы он приказал ей лететь, то, пожалуй, она могла бы и взлететь. Она встала, и теперь перед ней появилась ещё одна проблема: она не знала, куда деть глаза. Смотреть на мужчину она боялась, но в то же время понимала, что этого он сейчас от неё и ждёт. Она так и не осмелилась взглянуть в его лицо и предпочла посмотреть на его сапоги. Которые были вымазаны в грязи и ещё в какой-то бурой субстанции…
Долго любоваться ей этим зрелищем не дали. Мужчина нажал пальцем на её нижнюю челюсть, чтобы она смотрела прямо на него, и ей пришлось посмотреть. И она увидела кое-что, чего не замечала раньше: глаза человека, который убил её парня. До этого она боялась его рта, но теперь поняла, что это было за неимением худшего. Нет, рот, дёргающийся вверх-вниз, тоже выглядел омерзительно, но глаза — это было что-то совсем другое. Они не были чем-то уродливым, с первого взгляда вообще особо не выделялись, но если посмотреть в них с близкого расстояния и достаточно долго, как это вынуждена была сделать Яна, то можно было заметить, что они совершенно безумны. Яна не думала, что этот человек страдает психическим расстройством, но тем было страшнее видеть у него такие глаза. Этот человек был способен на всё — потому что каждый, у кого такие глаза, был способен на всё. Она в этом не сомневалась.
Тем не менее, она вынуждена была стоять и смотреть в эти глаза, дрожа, как осенний лист, чувствуя отвратительное прикосновение его пальца у себя на челюсти. Ещё немного, и она попятилась бы назад. Но мужчина убрал палец раньше, чем она это сделала. На его губах появилась усмешка. Которая была не лучше всего остального.
— Залезай, — сказал он, указывая на «ГАЗ», — проедемся.
— Нет, — тихо сказала Яна. Отчаянно взмахивая оранжевым сигнальным флажком, на скорости двести километров в час пронеслась мысль, что, возможно, было бы гораздо лучше, если бы он её переехал. — Не надо…
Увидев, что она стоит на месте, мужчина смачно сматерился, схватил её за волосы и потащил к автомобилю. Её ботинки («гриндерсы», teethyourfeet) беспомощно заскользили по земле, пытаясь найти опору. Это не удалось, и Яна повисла на своих волосах, которыми всегда гордилась и два раза в неделю мыла укрепляющим шампунем. Укрепляющий не укрепляющий, но волосы её были достаточно сильными, чтобы не быть выдранными с корнем и не причинить ей слишком сильную боль. В таком положении ей пришлось волочиться до автомобиля, и за это короткое время Яне в голову пришла мысль, которая показалась ей весьма дельной. Распахнув заднюю дверцу, мужчина рывком закинул её внутрь салона. Яна упала не на сиденье, а на пол кабины — возможно, случайно, но скорее всего намеренно. Так или иначе, это было выгодное положение, чтобы попытаться воплотить свою идею в жизнь.
Дождавшись, когда сзади хлопнет дверца, Яна подняла голову. Здесь было очень темно, и практически ничего нельзя было различить. Времени было мало. Яна лихорадочно пошарила рукой под сиденьем водителя. Ничего. Куда он мог положить тесак? Когда он выходил из машины, у мужчины в руке тесака не было, это она помнила ясно. Значит, тесак где-то здесь. Если нащупать его, пока мужчина не успеет войти в салон, то можно во время езды незаметно вытащить и…
Перехватить инициативу, вот как говаривал её отец. У отца было много присказок, это была одна из них. Да, если у неё в руках окажется тесак, то она перехватит инициативу. И тогда сполна отомстит за горящую щёку, за ноющие волосы, за те секунды, что она смотрела в его глаза, сдерживая тошноту. По крайней мере, она надеялась, что у неё хватит сил и смелости.
Но где тесак? Под сиденьем ничего не было, а счёт шёл на секунды.
Значит, в проёме между двумя сиденьями. Больше негде.
Яна отодвинулась и просунула руку вперёд. Нащупала какую-то ткань (наверное, в неё раньше был завёрнут тесак), а под ней…
Деревянная рукоятка, сухая и шершавая.
Я возьму его, размышляла Яна, схватившись за рукоятку тесака, как за спасительную соломинку. Возьму и спрячу, а когда он сядет на своё место…
И тут чьи-то пальцы коснулись её уха.
Яна закричала, отпустила рукоятку и перевернулась на спину.
Рыжик, приятель водителя — тот самый, который страдал излишней говорливостью, — улыбался ей прямо в лицо. Во время погони его развернуло на живот. Теперь он смотрел на Яну, расплываясь в приветливой ухмылке от уха до уха. Ну что, милая, напугал я тебя, слово говорил он, и глаза его озорно блестели. А уж посмотрел бы ты на лицо своего парня, когда он увидел меня здесь. Зрелище было то ещё! Неплохо для старого мёртвого человека, а?
Рука его свесилась вниз и касалась её носа (а ещё раньше уха). И, хотя рука была мёртвой и совершенно безвольной, создавалось жуткое впечатление, что он пытается её достать. По пальцам стекала тонкая струйка холодной крови, которая медленно сочилась у него изо рта на подбородок, оттуда — на руку, а уже оттуда — на нос Яны.
Яна уже вобрала воздух, чтобы закричать снова, но почувствовала, что салон начинает сереть и стекать куда-то вниз большими бесформенными потёками. Лицо мертвеца ушло из фокуса и уплыло, как те разноцветные шарики перед глазами. В любое другое время Яна была бы рада лишиться сознания и хотя бы временно спастись от кошмара, но теперь она с ужасом поняла, что в этом случае не сможет осуществить задуманное. Не надо, только не сейчас, мне нужно взять тесак, не надо… Сознание уходило вместе с последней надеждой на спасение, и, хотя Яна яростно противилась падению в эту колючую тьму, она с лёгкостью поглотила её полностью.
Открыв глаза, Яна увидела, что звёзды над головой успели поменять своё положение. Яркая жёлтая звезда, которая была над головой, когда она лежала и ждала смерти под колёсами, сильно сместилась на запад, а её место заняла россыпь из трёх маленьких звёздочек. Рядом с ними пролегала широкая бледная полоса, отдалённо напоминающая след от реактивного самолёта. Млечный Путь. Парень, с которым она гуляла в школе, увлекался небесной наукой и немного рассказал ей про эту полосу, прежде чем подарить ей первый поцелуй под зимними звёздами. Они тогда сидели в пустой школьной обсерватории.
Если она видит звёзды, значит, лежит на открытом воздухе. С чего бы это?
Яна не сразу вспомнила события, которые предшествовали этому странному пробуждению. Но ценой некоторых усилий ей всё-таки удалось восстановить в памяти вечер, который напоминал плохой фильм ужасов — незаводящийся автомобиль, луч фар на опушке, Стас, скорчившийся на земле, побег, первое падение, второе падение, потом жуткая сцена у «ГАЗа». В самом конце она вспомнила улыбку мертвеца, который лежал с ней рядом. Яна содрогнулась и осмотрелась. Но мертвеца не было… да и потом, тогда она лежала в кабине, а сейчас над нею светят звёзды. Её перетащили…
— Ну как, очухалась?
Знакомый надтреснутый голос, услышав который, Яна почувствовала, как у неё очень неприятно скрутило живот. Притворяться лежащей без сознания не имело смысла — он заметил, что она пришла в себя. Ну зачем, зачем она шевельнулась?
— Ну, раз оклемалась, то подымайся.
Господи, подумала Яна, опять всё сначала. Ещё до того, как напрячь мышцы, она пришла в ужас, вообразив, что будет, если они затекли во время обморока. Она знала, что такое бывает после напряжения. Что будет, если она опять не сможет встать?
Но на этот раз она смогла подняться без особых страданий. Тело ныло и гудело (особенно лицо), но чувствовала она себя почти нормально. Поднимаясь, она украдкой бросила взгляд на окружающую местность.
Это была ещё одна поляна (Яне не удалось на глаз выяснить, та ли эта поляна, где всё произошло, или другая). «ГАЗ», который уже представлялся ей адской колесницей, стоял рядом с выключенным мотором. За ним была опушка леса. До ближайшего дерева всего пять-шесть шагов. У Яны учащённо забилось сердце. Ещё не всё потеряно. Ещё есть шанс…
Выпрямившись, она увидела между деревьями луну, которая сегодня была чуть ущербной. До этого она луну не замечала — наверное, тогда она ещё не взошла. Мягкий свет луны успокаивал и вселял надежду. Яне сейчас нужна была хоть какая-то поддержка, и она нашла её в голубом лике луны.
Потом она переключила внимание на менее оптимистичные вещи. Во-первых, конечно, заметила своего мучителя, который стоял, прислонившись к машине, и курил. Одной рукой он опёрся на лопату. Отсюда он выглядел чёрным силуэтом — лишь тлел красным светом кончик сигареты. За ним Яна увидела метрах в пяти у кромки леса чернеющий провал недовыкопанной ямы. И сразу поняла, для чего она предназначалась.
— Вот, поработал чуток, пока ты дрыхла, — сообщил мужчина, бросил сигарету на землю и растоптал сапогом. — Дальше, надеюсь, сама справишься, устал я чёй-то. Лопатой умеешь пользоваться?
— Да, — сказала Яна, потому что он ждал от неё ответа, и именно такого.
Мужчина удовлетворённо кивнул и даже цокнул языком. Яна вновь посмотрела на яму. Три с половиной на два с лишним метра. Великовата для двух трупов, верно? Конечно — потому что трупов будет не два, а три. Тогда размеры могилы подобраны в самый раз.
Яна вспомнила «альтернативную» расшифровку слова ВЛКСМ, над которой в восьмом классе они смеялись до упаду. Возьми лопату, копай себе могилу. Тогда это было действительно смешно, да и сейчас это было смешно, потому что такое было просто НЕВОЗМОЖНО. Смех, да и только.
Смеяться Яна не стала. Может, в общем понимании дела ВЛКСМ и было невозможно… но это было то, чем ей предстояло сейчас заниматься.
Пока она стояла, мужчина подошёл к ней, и она отступила на шаг назад.
— Ты куда? — спросил он. — Может, хочешь убежать?
Действительно, почему бы и нет? Оставшись на месте, она умрёт так и так. В поте лица совершит ВЛКСМ (закончит, когда на горизонте забрезжит рассвет). Он будет стоять, прислонившись к капоту, и следить, чтобы она работала достаточно быстро, а потом зарубит её тесаком, как Стаса. А то и просто свернёт шею, так будет проще и без крови. Она думала, это ему не впервой.
Так почему она не бежит?
Бесполезно, вот почему. Он догонит её, не дав пробежать и семи шагов, а что последует дальше, она боялась представить. С другой стороны, осенило её, если она останется на месте, он даст ей лопату, чтобы она выкопала яму. Лопата — это железный наконечник на деревянной палке. Лопата — это ещё один чёртов шанс.
Который она, разумеется, с её везением тоже упустит.
Но когда мужчина зашёл за её спину и приобнял за пояс, она поняла, что бежать надо сейчас. Прямо сейчас.
Как же без этого. На зоне-то женщинами особо не разбрасываются, а этот, по его же словам, вышел оттуда буквально только что. И Яна сомневалась, что за ним тут же гурьбой стали ходить девушки. Это объясняет, почему он не убил её сразу. Потому что она была ему ещё нужна — по крайней мере, на некоторое время.
Но почему он привёз её сюда, а не сделал это прямо там?
Элементарно, Ватсон. Три трупа на заднее сидение «ГАЗа» сложно уместить… да и зачем? Ведь можно всё сделать, когда они прибудут на место.
Так, небольшой пролог, вступление к ВЛКСМ. Называется — отдаться своему убийце рядом со своей могилой.
Мужчина плотно прижался к Яне сзади и начал запускать руки ей под майку. Прилипшая к коже ткань отделялась от тела со жжением.
Ну уж нет, подумала Яна и с удивлением почувствовала, как в ней пробудилась злость. В том положении, в каком она оказалась, это чувство было совсем не к месту… но она всё равно почувствовала в себе накипающую ярость. Копать себе могилу под надзором убийцы — можно. Стоять перед ним на коленях и лить слёзы, в то время как его сапог с размаху врезается в щёку — можно. Попасть под него самого, чувствовать в себе его — увольте.
Но тогда — в который раз! — нужно действовать быстро. Ещё немного — и мужчина возбудится, тогда вырваться будет намного сложнее.
На этот раз провал не принимается.
Яна резко двинула локтём назад, в солнечное сплетение мужчины. Будет знать, каково это. Почувствовала, как разом ослабели пальцы, блуждающие у неё под майкой, и рванулась вперёд.
И упала.
Не-е-е-е-ет!
Тоненький голосок в голове завизжал так громко, что заложило уши. Сегодня был Вечер Падений, она падала столько раз, сколько, наверное, не упала за последний год.
Взгляните, вот девушка теряет равновесие и падает, даже не пытаясь протянуть руки вперёд. Глядите, она сильнехонько вгрызается лицом в землю. Ой, ей, наверно, очень больно.
Всё, она пропала. Дальше будет… будет… В общем, ничего хорошего не будет. Господи, знала бы она это заранее, сама заползла бы тогда под тесак и сложила голову под лезвие.
Но сколь бы ни глубоким не было отчаяние Яны, слёзы застлали её глаза не так сильно, чтобы она не заметила краем глаза слабый металлический блеск при свете луны.
Лопата!
Кто-то на небесах над ней точно издевался. Подкидывал надежду одну за другой, потом грациозно забирал их обратно и тешился её бессилием.
Лопата.
Она опёрлась руками о капот машины и встала (ей показалось, что пока она это делала, прошло полчаса). Взяла в руки лопату. Развернулась назад.
Изрыгая страшные ругательства, мужчина шёл в её сторону, сжимая рукой солнечное сплетение. Увидев его, Яна опять почувствовала неприятное волнение в животе, и было из-за чего. Лицо мужчины преобразилось до неузнаваемости. Оно вздулось и побагровело до тёмно-фиолетового оттенка, а рубец стал совершенно чёрным. Что-то неладное творилось и с глазами.
— Ты… сука… я тебя… щас…
Лопата задрожала у Яны в руке; рукоятку повело влево, потом вправо. Яна закричала, стараясь совладать с дрожью в голосе:
— Стой на месте!
Он её не слышал. Мужчина продолжал идти вперёд, протянув руку с растопыренными пальцами к ней, и она увидела, что глаза его вспучились, вылезли из орбит.
Господи, это же не человек, не человек, мамочка…
Она зажмурилась и ткнула лопатой вперёд, вложив в этот удар всю свою силу. Лопата врезалась во что-то мягкое, и это «что-то» почти без сопротивления разошлось под заточенным остриём. Яна услышала рёв, сотрясший деревья — рёв какого-то сказочного чудовища, но не человека. Она не стала любопытствовать и смотреть на результат своего удара, а развернулась, выронила лопату и побежала в сторону леса. Открыть глаза она решилась, лишь достигнув опушки, да и то потому, что иначе врезалась бы в дерево. Она перепрыгивала через ветки, сучья и упавшие деревья, и слышала у себя за спиной хруст этих самых веток под тяжестью кирзовых сапог. Мужчина гнался за ней по пятам, удар ничем ему не повредил, лишь разозлил ещё больше. Его пальцы уже были на её спине. Яна неистово работала ногами, молясь, чтобы она не свалилась хотя бы в этот раз. Скоро у неё опять начало сбиваться дыхание и появилось ощущение стеклянной трубки в трахее, но она не могла замедлиться, чтобы отдохнуть, ведь иначе он её схватит, он там, в пяти шагах позади и постепенно нагоняет.
Должно быть, Яна пробежала по лесу не меньше километра, а то и двух. Этот марафон завершился довольно бесславно — она зацепилась ногой за какой-то пенёк и растянулась на земле. Впрочем, она тут же вскочила на ноги, дико озираясь. И только тогда увидела, что за ней никто не гонится. Луна поднялась выше. В лесу, кроме неё, никого не было. Мужчина остался у своего «ГАЗа» с двумя трупами на заднем сидении — наверняка даже не предпринял попытки за ней погнаться после удара. Хруст веток и всё остальное Яне нарисовало воображение. Она убежала от него, она была свободна.
Свободна!
Яна упала на колени и провела трясущейся рукой по волосам, к которым прилипли чёрные комочки. Всё, она убежала, она сейчас далеко от убийцы, ей нужно взять себя в руки. Она сцепила пальцы, пытаясь остановить тик. Но дрожь усиливалась — она передавалась на всё тело, и скоро Яна поняла, что у неё начинается нервный приступ. Измученная психика требовала разрядки, и теперь, когда Яна ощутила себя в безопасности, она могла себе это позволить.
Слёзы обильно покатились по лицу, хотя плакать ей не хотелось. Совсем наоборот, ей хотелось смеяться, хохотать во всё горло. Наверняка она так и поступила бы, если не боялась, что её смех могут услышать. Но всё равно… нужно было что-то делать. В качестве варианта Яна стукнула кулаками о землю. Земля издала чавкающий звук. Ей это понравилось, и она тихо засмеялась. Стукнула ещё раз, посильнее. И ещё. Потом она начала катиться по земле, пачкая майку (впрочем, та и так уже была скорее чёрной, чем белой) и бить ладонями о землю, загибаясь в счастливом смехе, наплевав на осторожность. Слёзы не думали останавливаться, всё струились и струились по щекам вперемежку с соплями, смешиваясь с грязью на майке. Деревья, казалось, наблюдали за этой сценой в немом удивлении.
Это продолжалось минут десять, потом Яна затихла. Смех прекратился так же внезапно, как и начался, голова запрокинулась назад, рот приоткрылся, и она заснула. Но плакать продолжала ещё долго — она ворочалась на холодной земле в беспокойном забытье, а прозрачные капли по-прежнему стекали по грязным щекам.
Воскресное утро пришло слишком быстро. Когда Яна заснула, стояла глубокая ночь. Через три-четыре часа на востоке осторожно выглянуло солнце. Снега, пережившие вчерашнюю битву с солнечными лучами, безнадёжно вздохнули. Зачирикали первые птицы, мелкие зверьки высыпали из своих норок. На небе по-прежнему не было ни единой тучи. Начиналось утро нового дня, а Яна всё спала.
Часам к двенадцати она застонала и зашевелилась. Воробей, который что-то клевал у её руки, взлетел, перепуганный до смерти. Яна открыла глаза и успела увидеть пролетевшую над ней тень птицы. Она вздрогнула и села. Воробей успел скрыться, и она ничего не увидела, зато сморщилась от боли — ночь на сырой земле не пошла ей на пользу. Затекло всё, что могло затечь, к тому же некоторые члены (например, большая часть спины) потеряли чувствительность, как под наркозом. Это её обеспокоило, и она начала делать некое подобие утренней зарядки, сидя на земле. Первые минуты были пыткой, потом стало легче.
Мало-помалу кровообращение возвращалось в норму. Пока это происходило, Яна второй раз восстанавливала в памяти то, что произошло вечером. Первые воспоминания (убийство Стаса, ужасные минуты, когда водитель стоял над ней и кричал: «Вставай!») её не обрадовали, но потом она вспомнила главное — она убежала! При этой мысли она счастливо улыбнулась. Она одна. Никто не пинает её кирзовым сапогом в лицо, никто не заставляет смотреть в больные глаза.
Через десять минут разминания мышц она почувствовала себя человеком. Конечно, разбитые губы распухли, как оладьи, а на ноющей щеке наверняка красовался большой синяк, но это было терпимое зло. Жить можно. И нужно.
Яна поднялась и оглянулась. Место было незнакомое, но её это не огорчило. Она знала направление, в котором нужно идти — на юг, и полагала, что не ошибётся, если пойдёт за солнцем (оно, конечно, солнце движется, но небольшое отклонение от прямой не будет иметь значения). Если она будет идти достаточно быстро, то через два-три часа будет на трассе. Там её кто-нибудь подберёт и довезёт до города. Полчаса — и она будет дома.
Дома.
У Яны защемило сердце при мысли о розовой пятиэтажке, в которой она жила. Пятиэтажка казалась ей сейчас раем на земле, чем-то из далёкой прошлой жизни без мёртвых возлюбленных и без ВЛКСМ. Наверняка родители сходят с ума (надо сказать, не без основания). Мать, должно быть, обзвонила все морги и больницы, не все, так большинство — она такая. Вероятно, поисковые отряды прочёсывают сейчас лес. Хотя вряд ли — она пока что пропала-то всего на день… Даже если они ищут, то ни в жизнь не догадаются искать их в десяти километрах от трассы.
Яна осторожно пошла по направлению к солнцу. Должно быть, ночью она здорово продрогла, но теперь ей было тепло. Кроме тепла от солнца, её согревала какое-то внутреннее умиротворение. Она подумала, что это неправильно, она не должна быть такой спокойной после того, что с ней стряслось. Ведь, в конце концов, несколько часов назад зарезали её любимого человека. Странное дело, но настроения ей сильно этот факт не испортил. Да, Стас умер, это очень печально. На большее её не хватило. Даже хруст раздавливаемого яблока вспоминался как-то тускло, через толстое серое покрывало. Она подумала, что, должно быть, это включилась защитная реакция психики, которая уничтожает в памяти то, что слишком страшно. Пока она ничего не имела против.
Яна шла быстро, лёгким пружинящим шагом, обходила поваленные деревья и перепрыгивала мелкие лужицы и кочки. Она знала, что идёт в правильную сторону и рано или поздно достигнет цели. Так и вышло: скоро она различила между деревьями серую ленту трассы. Эх, с тоской подумала она, почему мы поленились пойти пешком. Тут не так уж и далеко…
Ну-ка, ну-ка, какой там был разговор?
Может, вернёмся к дороге пешком и проголосуем?.. Если ты не сможешь идти, я понесу тебя на руках.
Не смогу. Я же маленькая и слабая.
Кто выступил против, а? Не из-за неё ли всё это…
Ой, да ладно. Яна скривилась и приказала защитной реакции, если она действительно была, стереть эти мысли.
Когда Яна подошла к полосе асфальта, радость у неё сменилась тревогой. Ей пришла в голову ужасная мысль, что убийца может ждать её на дороге. Ведь он знает, что рано или поздно девушка выйдет на дорогу и остановит машину.
Этот человек может так поступить. Что, если она сейчас опрометчиво выскочит на дорогу и увидит неподалёку скромно припаркованный «ГАЗ»?
Не пори чепухи, сказала себе Яна. Это невозможно.
Конечно, невозможно. Так же невозможно, как и ВЛКСМ.
Яна не рискнула выйти на дорогу, хотя она была совершенно пустынной. Она спряталась за толстым стволом у самой кромки асфальта и ждала, пока не покажется какая-нибудь машина. Ждать ей долго не пришлось, всё-таки трасса была довольно крупной. Послышался покашливающий звук мотора, и на дороге появился большой грузовой «ЗИЛ». Наверное, сесть в легковушку было бы лучше, но Яна была не в том состоянии, чтобы привередничать. Она шагнула вперёд и вытянула руку с поднятым вверх большим пальцем. Потом спохватилась, что можно было бы хотя бы немножко привести себя в порядок — она после всех её падений и побоев наверняка выглядит, что твоя фурия.
А впрочем, какая разница. Авось даже скорее остановятся, если она будет выглядеть как можно хуже.
«ЗИЛ» вполне мог не остановиться, чтобы подобрать в лесу странную девушку потрёпанного вида. Но ей повезло. Мигнув поворотными огнями, автомобиль прижался к обочине. Блик на лобовом стекле не давал разглядеть, кто сидел внутри, и Яна вдруг подумала: что, если там…
Знакомое шевеление в животе.
Прекрати!
Нет, а всё-таки, что, если из кабины сейчас выглянет человек в сером свитере, с рассечённым лицом, поигрывая тесаком в правой руке? Сможет ли она убежать?
Яна затаила дыхание и замерла. Из кабины никто не выходил целый час. Потом громко щелкнула дверца с пассажирской стороны. Яна отскочила в сторону.
— Садись, — сказал тот, кто сидел внутри. Густой встревоженный голос, ничем не напоминающий тот, надтреснутый.
Яна осторожно поставила ногу на ступеньку, схватилась рукой за ручку дверцы и оттолкнулась наверх. В кабине было тепло, играла какая-то блатная песенка по «Радио Шансон». Перед лобовым стеклом висел ароматизатор воздуха в виде зелёной ели. Водитель в лихо задвинутой на затылок шофёрской кепке, посмотрел на Яну с неподдельным удивлением:
— Е… тебе на! — воскликнул он, помогая ей войти в салон. — Что с тобой стряслось, девочка?
Яна не ответила. Откинувшись на мягкую спинку, она блаженно закрыла глаза и сказала:
— Мне нужно домой.
— Да-да, конечно, — засуетился водитель, хватаясь за рычаг коробки передач. «ЗИЛ» тронулся, взвизгнув двигателем, и Яна улыбнулась. Она едет. Едет домой.
— Твой город — ближайший? — спросил водитель. Яна сначала не поняла вопроса, но потом догадалась, что грузовик, судя по всему, транзитный, и водитель может не знать здешних мест.
— Да, — сказала она. Немного подумав, она добавила:
— Улица Строителей, дом сто восемь. Я вам покажу…
— Нет, — жёстко сказал водитель. Яна вздрогнула и посмотрела на водителя, ожидая, что он сейчас снимет с себя эту дурацкую кепку, стянет с лица верхний слой кожи и превратится в убийцу. Но тот не собирался ни в кого превращаться и продолжал говорить:
— Нет и ещё раз нет. Уж не знаю, что с тобой приключилось, дорогая, но в таком состоянии дорога тебе только в больницу. И точка. Я отвезу тебя туда.
Она шумно выдохнула воздух, и водитель покосился на неё. Ладно, подумала Яна, вновь расслабляясь. В больницу так в больницу, если он так хочет.
— Хорошо, — ответила она. — У въезда в город есть поликлиника, вы увидите. Там меня и высадите.
— Отлично, — бодро согласился водитель. Некоторое время оба молчали — водитель сосредоточенно крутил баранку, а она просто сидела. Потом водитель не выдержал — выключил радио и спросил:
— Так всё-таки, девочка, что с тобой случилось? Уж очень неважнецки выглядишь, знаешь ли.
— Сама знаю, — огрызнулась Яна.
Водитель смотрел на неё, ожидая ответа. Яне вдруг захотелось отвесить ему хорошую оплеуху.
Ну что ему такое ответить, чтобы он заткнулся?
— Меня избили, — сказала Яна. Потом добавила:
— И изнасиловали.
Доволен?
— А-а, — удовлетворённо протянул водитель и переключил внимание на дорогу. Больше он за всю дорогу не произнёс ни слова, чего Яна и добивалась.
Яна не хотела, чтобы водитель вошёл в поликлинику, но он настаивал на том, чтобы собственноручно вручить её на попечение врачам. Что ж, в конце концов, он имел право на это как человек, оказавший ей услугу, и Яна не стала сильно сопротивляться. Водитель почти насильно оставил её сидеть в коридоре, сам куда-то пошёл и через минуту вернулся с дюжим медбратом. Медбрат не стал задавать лишних вопросов и провёл их к врачу, которому, кажется, шофёр тоже успел шепнуть, что с ней произошло. Во всяком случае, врач был очень обходчив, не стал осведомляться, что да как, а просто тщательно обследовал её увечья, то и дело сокрушённо цокая языком. Закончив, он сказал, что ушибы довольно серьёзные, хотя жизни не угрожают, и спросил, не хочет ли она некоторое время провести в стационаре или предпочитает отправиться домой. Яна выбрала последний вариант. Врач записал номер её телефона и спросил, позвонит ли она домой сама, чтобы её забрали, или лучше это сделать ему. Яна опять-таки выбрала последнее, потому как совершенно не представляла, что она будет говорить родителям, тем более по телефону. Так что она положилась на врача. Врач вывел её в приёмную, притащил откуда-то большое мягкое кресло и усадил её туда. Сам исчез в своём кабинете, закрыв дверь.
Яна ждала пять минут, десять, пятнадцать. Люди в приёмной оглядывались на неё и шептались между собой. Потом вышел врач и устало сказал:
— Ваши родители едут. Мне пришлось вкратце обрисовать им то, что случилось с вами.
Замечательно, значит, он с лёгкой руки любопытного шофёра сказал им, что её изнасиловали. Что, в общем-то, недалеко от правды, но всё-таки не совсем правда. Мама и папа сойдут с ума, пока будут добираться сюда. Зря она соврала шофёру.
— Вам что-нибудь нужно? — заботливо спросил врач. Яна покачала головой.
— Хорошо, тогда посидите здесь. Скоро за вами приедут.
Он кинул на неё сочувственный взгляд и зашёл к себе в кабинет. Яна сидела минут пять, потом встала и начала читать санбюллетени, развешанные по стенам. В больницах это вообще было её любимым занятием. Потом она услышала сквозь неплотно закрытую дверь, как врач что-то говорит. Это ей показалось странным, ведь он там вроде был один. Но, подойдя ближе к двери, она поняла, что тот говорит по коммутатору с коллегой, сидящим в другом кабинете.
— … ну да, ничего себе воскресенье. Девка выглядит ужасно, особенно лицо. Звери, а не люди… Что? Да-да, именно. Так что там у тебя такое? Как? У нас что, банда какая на город налетела, что ли? Да, дела… Круто, что ж тут скажешь. Так прямо и врезали железом по лицу?..
Яна, потерявшая было интерес к разговору и начавшая отходить от двери, остановилась, как вкопанная. Что он сказал — железом по лицу?! ЖЕЛЕЗОМ?
Ну конечно! Поликлиника стоит у въезда в город. Он должен был пойти в какую-либо больницу, а это — первая на его пути… Как же она не догадалась?
Но это ведь значит… Это значит, он здесь!
Яна обернулась, как ужаленная, услышав за спиной цокающие по паркету шаги. Нет, это была всего лишь проходящая мимо медсестра, которая кинула на неё безразличный взгляд. Но всё равно, стоять здесь было опасно. Если он действительно в поликлинике, то приёмная — едва ли не самое опасное место… Немного поколебавшись, Яна открыла дверь в кабинет.
Врач что-то записывал в бумажку у себя за столом. Он посмотрел на неё, и его брови дёрнулись:
— Я же сказал вам…
— Вы только что с кем-то говорили, — сказала Яна, едва узнавая свой голос. — Про мужчину, которого ударили железом. По лицу.
Глаза врача гневно воскликнули: Ах вот как, ты подслушивала, поганка! Но он спокойно сказал:
— Допустим. Но какое это имеет значение…
— Я знаю его, — сказала Яна и захлопнула дверь кабинета. — Это тот самый, который меня…
Несколько секунд врач пытался сообразить, какая связь может быть между девушкой и мужчиной с ранением головы, но потом до него дошло.
— Вы уверены?
— Да, — Яна тщетно пыталась запереть дверь кабинета изнутри, пока не поняла, что в механизме замка этого не предусмотрено. — Это я его так. А он… Он всё ещё здесь?
— Сейчас, — врач нажал на кнопку коммутатора. — Федя? Да, это снова я. Помнишь, ты только что мне говорил про мужика, которого, ну, по лицу?
Коммутатор просипел:
— Угу.
— А когда он у тебя был-то?
Яна повернулась к столу, на всякий случай подперев дверь спиной.
На той стороне немного подумали:
— Пришёл около десяти часов, мы ему наложили швы…
— Он ушёл? — спросила Яна дрожащим голосом.
— Он ушёл? — повторил врач.
— Да. То есть… Не знаю. Короче, мы с ним закончили. Ушёл, наверное, что ему здесь делать-то.
— Понятно. Слушай, Федя, будь другом, если он вдруг появится снова, дай знать. — Врач выключил коммутатор и взглянул на Яну. — Он ушёл.
— Нет, — замотала она головой, плотнее прижавшись к двери. — Он всё ещё может быть здесь… Всё ещё может.
Врачу пришлось приложить немалые усилия, чтобы успокоить девушку, которая была близка к истерике. В конце концов он подпёр дверь стулом, чтобы та не открывалась, и уговорил её пересесть на диван. Потом он связался по коммутатору с дежурным и сказал, что, если придут родители девушки, пускай тут же пройдут в его кабинет. Он надеялся, что они приедут скоро, потому что девушка с каждой минутой всё больше теряла контроль над собой. Она резко кидалась к окну, стараясь выискать глазами машину своего обидчика среди десятков припаркованных у поликлиники, потом быстро перебегала через кабинет и проверяла, надёжно ли стул подпирает дверь. Врачу удалось выяснить, что искомая машина — «ГАЗ». Он хмыкнул. Половина машин у поликлиники была этой сверхпопулярной в глубинке марки.
Родители опаздывали. С момента звонка прошло более получаса, а их не было, хотя за это время вполне можно было добраться до больницы. Врач не знал, что «Тойота» родителей Яны добралась сейчас только до центра города, потому что взволнованный отец на выезде из двора зацепил припаркованный рядом «Опель», и ему пришлось объясняться с хозяином машины. Врач ждал и беспомощно смотрел на девушку, проклиная бесчувственных родителей.
Потом включился коммутатор:
— Привет, это я. Ты говорил, что если появится тот мужчина, которому мы наложили швы…
— Да-да! — закричал врач, жалея, что вообще не вырубил коммутатор. Но было поздно — девушка услышала слова Феди и подняла голову, глаза её округлились. — Слушай, Федя, я думаю, сейчас не самое…
— Пусть говорит, — прошептала девушка одними губами.
— Так вот, старик, ты как в воду глядел. Он пришёл, у него по дороге шов разошёлся. Чуть голову мне, гадина, не оторвал. — Федя хихикнул. — Ну я наложил швы снова и отправил его к тебе. Ты, кажется, хотел его видеть?
— ИДИОТ! — проорал врач в микрофон и, наконец, осуществил желание выключить чёртов коммутатор. Но знал, что это уже не поможет. Девушка закричала и бросилась к выходу.
Он идёт сюда. Едва Яна поняла это, она сорвалась с места. Нужно уйти отсюда, убежать из проклятой поликлиники куда подальше. Нельзя допустить, чтобы он снова увидел её, потому что если это произойдёт, то живой он её не отпустит.
Врач сзади что-то кричал ей вслед, но времени на то, чтобы объясняться с ним, не было. Каждую минуту убийца мог войти в кабинет и увидеть её. Яна навалилась плечом на дверь и едва не потеряла равновесие, когда та услужливо поддалась под её весом. Но на этот раз она не упала. Хватит с неё падений в самый ответственный момент.
Но всё-таки она помедлила перед тем, как выскочить в коридор. Потому что он сейчас мог быть там. Но стоять и ждать?.. Яна простонала и вышла в коридор. В какой стороне выход? Налево. Нет, направо. Тьфу ты, конечно, налево, ведь оттуда она пришла. Яна пригнулась и, прижимаясь к стене, побежала по коридору. Людей было много. Она наталкивалась на медсестер в белых халатах и на других людей, слышала возмущённые выкрики, но не останавливалась.
Мысли прыгали в голове. Свет ламп казался ослепительно ярким. Ну когда же коридор кончится?
— Эй! Осторожнее.
Плевать. Коридор сделал поворот под прямым углом, и Яна окончательно убедилась, что идёт правильно — она помнила, как свернула тут, когда шла в приёмную врача. И вот ещё рекламный плакат какого-то лекарства на стене, с большим весёлым крокодильчиком. Да, правильно. Пока всё правильно.
— Девушка, не толкайтесь! Что за молодёжь…
Дверь! Вот она, толстая, обитая блестящей коричневой тканью. Над ней — красные буквы на белом фоне: «ВЫХОД».
Всего несколько шагов…
— Вот ты где!
Сухой, надтреснутый голос.
Яна остановилась и подняла недоверчивый взгляд.
Сначала она увидела серый свитер. Различила маленькую надпись REEBOK на левой стороне груди. Из буквы R торчал обрывок серой нити. Дальше было лицо. Багровое лицо, кожа рассечена точно по линии носа, края раны небрежно заштопаны чёрными нитками. Рот дёргается, как маятник — вверх-вниз. И глаза, глаза, которые невозможно спутать ни с чем.
А ещё мужчина держал в руке тесак, лезвие которого было залито кровью. Кровь была свежей, она капала на паркет, образуя тёмно-красные кляксы.
Яна попыталась закричать, не смогла. Подалась назад, поскользнулась, шлёпнулась на пол. Оперлась руками и поползла назад. Попыталась встать, не смогла. Вспомнила приказ: «Вставай!» и кирзовый сапог. С надрывным воем вскочила на ноги. Увидела удивлённые и испуганные лица тех, кто находился в коридоре, и побежала в обратную сторону, размахивая руками. Пальцами зацепила чью-то переносицу и сорвала очки.
— Остановите её!
Тот же голос, властный и самодовольный. Но, что самое страшное, все ему подчинились. Чья-то рука схватила её за запястье. Яна попробовала вырваться, но её держали крепко. Тогда она с воем вцепилась в мясистую ладонь зубами. Держащий вскрикнул и отдёрнул руку. Но в этот момент на неё кто-то набросился сзади, поймал за обе руки и заломил их за спину. Яна попыталась повторить трюк с ударом локтём в живот, но на этот раз не вышло. Она начала брыкаться ногами (один ботинок, вконец истоптанный, сорвался с ноги и улетел куда-то в угол). Ещё одна пара рук схватила её за голени. Теперь она была беспомощна и открыта для удара — рокового удара тесаком, который, как она поняла, последует прямо сейчас.
— Отпустите меня! — прохрипела она. — Он убьёт меня…
Глаза слезились, в них вонзались крошечные стрелы молочно-белого света, но она увидела, как человек в сером свитере приближается. Держа тесак наготове.
— Ы-ы!
Она извернулась в агонии и почти вырвалась из рук, но на помощь тем двоим пришли ещё десять крепких пальцев, которые защелкнулись на её поясе.
— Отпус…
Она не закончила — поняла, что всё бесполезно. Проследила, как тесак взмыл вверх, и закричала. Почему-то она не зажмурилась, что было бы самым естественным действием, а просто повернула голову назад до хруста позвонков, чтобы не видеть всего этого. И увидела, что тот, кто её держит, тоже в сером свитере. Они ВСЕ были в серых свитерах, и у всех были одинаковые лица. У всех, кто её окружал. И швы на лицах. И тесаки…
Он всё-таки достал меня, подумала Яна, и тут последовал удар.
Медбрат с размаху вогнал шприц в руку кричащей девушки и быстро ввёл под кожу всё содержимое. Девушка вдруг перестала кричать — вместо этого она начала смеяться, лицо её исказилось в жутком оскале. Тем, кто её держал, приходилось всё хуже. Все мускулы заходили ходуном под изорванной майкой, и им казалось, что они держат не девятнадцатилетнюю девушку, а самку медведя, защищающую детёныша. Но всё-таки укол начал действовать: скоро она ослабла. Дёргания и извороты стали реже, потом прекратились, остались лишь подрагивания. Но держали девушку до тех пор, пока она окончательно не уснула.
— Бог ты мой, — потрясённо сказал человек, на которого девушка наткнулась, прежде чем началась вся эта жуть. Это был щуплый толстяк в зелёной куртке с аккуратно наложенным швом на лице. Ему стало плохо. Да уж, хорошенький выходной выдался — сначала получил от своей стервы скалкой прямо в рожу, потом этот недотёпа неправильно наложил шов, а на сладкое ещё и это. День был безнадёжно испорчен.
Милиция нашла «ГАЗ», стоящий на поляне, через два дня после этого. Возле машины зияла яма, которая подозрительно напоминала могилу (впрочем, выкопана она была только наполовину). Копали яму, очевидно, лопатой, которая валялась рядом. И эта же лопата послужила орудием убийства — у машины скрючился труп крупного мужчины в сером свитере. У него была проломлена переносица — лезвие лопаты врезалось в лицо на уровне глаз, раздавило мягкий хрящ и прошло в мозг. Это решило судьбу бывалого зека Николая Проскурина, неоднократно сидевшего за разбойные нападения и один раз — за убийство с отягчающими обстоятельствами. Проскурин был известен на зоне как блатной по кличке Дизель, но смерть его застала не в «родных краях» — территории, ограждённой колючей проволокой, — а здесь, у кромки пригородного леса. В «ГАЗе» (который принадлежал ещё одному рецидивисту по кличке Рыжик, в миру — Лев Горбицын) милиционеры нашли ещё два трупа. Одним из них был сам Рыжик, а другим — Станислав Филатов, парень той самой девушки, которая за день до этого устроила в поликлинике панику. Следователь строил различные версии разыгравшейся трагедии, но окончательно расставить точки могла только сама девушка, которая находилась в психиатрической больнице. Допрашивать её пока не было никакой возможности. Но милиционерам всё-таки удалось задать ей вопросы — спустя три недели. После этого дело было быстро закрыто и отправлено в архив. Газеты на какое-то время наполнили леденящие кровь заголовки, город был шокирован, но потом всё начало забываться. Через год о резне помнили избранные единицы, а когда Яна закончила университет (в дипломе было три тройки, остальные — пятёрки и четвёрки), вряд ли в городе нашёлся бы хотя бы один человек, кроме её родственников, однокурсников и родственников Стаса, который помнил бы о событиях той апрельской ночи, столь красочно описанной в газетах.
Яну выпустили из больницы уже через месяц, потому что помутнение сознания у неё быстро сошло на нет. Повторного приступа не было, не было и предпосылок к этому, и Яна в мае вернулась домой. Конечно, на учёбу она опоздала, но осенью сдала все экзамены и была переведена на третий курс. Однокурсники сначала смотрели на неё искоса, словно ожидая от неё чего-то из ряда вон выходящего, но она казалась вполне нормальной — общалась, шутила и смеялась. Правда, смеяться она стала реже, а иногда на неё нападала необъяснимая хандра, и тогда училась плохо, прогуливала целые недели и даже напивалась. Не так, чтобы в стельку, но ощутимо (ей удалось бросить эту привычку к пятому курсу, и потом до конца жизни к спиртному она особой любви не питала). В такие дни ей обычно ночью снился один и тот же кошмар, повторяющий с удивительной точностью то, что произошло в роковую ночь. Но такие периоды становились реже с течением времени. Они так и не покинули её полностью, но как-то посерели и затянулись слоем паутины, стали одной из обыденных вещей. Так окончилась самая страшная история в её жизни, как когда-либо кончается всё.
2004 г.









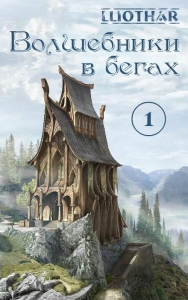


Комментарии к книге «Страшная история», Георгий Старков
Всего 0 комментариев