НИЧЕЙ ЕЕ МОНСТР
Ульяна Соболева
(2 книга дилогии)
АННОТАЦИЯ:
Любить ЖУТКОГО монстра не просто страшно, любить монстра больно и смертельно опасно. Мой монстр сделал все, чтобы меня раздавить и опустить на самое дно… Убить физически и морально. Но за все приходится платить. Мне – за безумную и грязную любовь к чудовищу, а ему – за все его грехи. И я не знаю, чья расплата станет более лютой. Моя, когда есть только одна причина жить дальше… или его, когда не осталось ни одной, а вокруг глухое одиночество и вечный мрак.
ГЛАВА 1
Мой Ад начался, и больше ему не было видно ни конца, ни края. Я не успокоилась. Я сходила с ума. От боли, от ревности, от ненужности и осознания своей убогости. Мне хотелось умереть. Я превратилась в комок страданий и ненависти. И все еще ждала, что он придет. Верила, что это не конец. Что все еще можно вернуть. Около месяца я из квартиры не выходила. Лежала часами на полу и смотрела в потолок, превращаясь в подобие человека. Мне было плохо и физически, и морально. Казалось, что меня просто раздавило, и я не могу собрать свои кости в единое целое.
Я взрослела с каждой секундой этой агонии, с каждым мгновением. Как по щелчку пальцев, я вдруг превратилась в вывернутую наизнанку и выпотрошенную игрушку. И самое отвратительное, что выпотрошил меня тот, в чьи руки я отдалась сама и исступленно целовала эти пальцы. Любила каждый из них… и люто ненавидела сейчас. Но кому я лгу, я еще была настолько ослеплена и больна, что я бы ему все простила, если бы вернулся. У первой любви нет гордости, она готова унижаться, стелиться по полу и кататься в грязи. Она умирает от боли и не умеет защищаться, она преданно подставляет вторую щеку, она тянет сломанные руки, чтобы их сломали еще раз, и плачет кровавыми слезами, умоляя дать ей шанс. Потом она окрепнет, восстанет из пепла, обрастет циничностью и опытом… если выживет. Я могла бы его простить и простила бы. Настолько слабая и ничтожная, маленькая влюбленная дурочка. Барский выкинул свою любимую игрушку и тут же нашел себе другую, при этом совершенно наплевав на ту, что оставил гнить в углу.
Но Есения не умерла, и я вспомнила его слова о возвращении домой. Наверное, у меня ведь есть еще шанс вернуться к нему. Когда буду рядом, когда будет видеть меня каждый день, а я его. Я взяла себя в руки и отодрала с пола. Постепенно привела в нормальный вид, даже съездила в универ, сходила в парикмахерскую и обновила гардероб. Что не изменилось, так это щедрость Захара. Он ни в чем не ограничивал мои расходы. Казалось, что моя кредитка просто резиновая.
Мне становилось легче от мысли, что, если все получится, он вернет меня в свой дом. А там у меня появится шанс. Я была готова на что угодно. Мне казалось, как и всем наивным девочкам, что я смогу снова соблазнить, снова увлечь. Мне бы только раз в его объятия, только раз в его руки и губы только раз на своих почувствовать.
Я ведь еще так долго не верила, что это конец, хотя все ведь было ясно даже ребенку, и боль, не прекращая, пульсировала в голове, разрывала виски. Это был самый первый удар от жизни прямо под дых и в самое сердце. У меня не просто почву из-под ног выбило. У меня мир отобрали. Мои розовые очки уже треснули и скоро повырезают мне глаза осколками.
И я вернулась. И нет, это не было так, как я себе нарисовала. Все было хуже. Я шагнула в океан пыток добровольно. По самое горло в кипящее масло. Видеть его жену, детей и его самого… Больнее всего оказалось увидеть Барского вживую, спустя столько времени. Сердце зашлось и задрожало в дикой агонии. Все тело стало гранитным камнем, все нервы завибрировали. И я рассыпалась в крошево к его ногам, к начищенным туфлям. Он не знает, а я валяюсь там внизу и мысленно обнимаю его колени поломанными руками, умоляя сжалиться и дотронуться до меня. Теперь я знала, что такое боль. Настоящая и невыносимая. Эта тварь вгрызлась мне в сердце и раздирала его на части.
Никто и никогда не причинял мне столько боли, сколько причинил он в этот первый день нашей встречи. Когда стоял напротив меня и с равнодушным видом осмотрел с ног до головы своими ледяными волчьими глазами.
– Здравствуй, Есения.
Хлыстом по самому сердцу, и в голове пульсацией:
«Моя девочка, скучала по мне? Скажи, что ты моя девочка… я такой голодный на тебя».
А сейчас даже не верится, что его изогнутые чувственные губы шептали мне грязные нежности, ласкали мое тело. Он совершенно не изменился, только казался уставшим и… повзрослевшим. Мне даже почудилось, что на его висках больше седых волос, чем было раньше.
– Мы рады, что ты вернулась. Здесь тебе рады.
Посмотрел на часы и прошел мимо меня. Просто мимо, а я вою, я мысленно ору от отчаяния и тоски. Как же хочется вцепиться в его руки, в его плечи и отчаянно кричать «почему?». И ничего в его глазах не увидела. Пустые глаза. Как будто мертвые. И меня трясет от понимания, что он наслаждается этими моментами своего триумфа, сломал меня, уничтожил, как и обещал. И продолжает держать при себе. Конечно, я ведь должна помнить, почему я вообще здесь. Новое развлечение Барского – смотреть, как я буду умирать рядом с ним. И я умирала от того, что он сделал со мной, я рассыпалась в пепел.
Как же я верила, что между нами что-то особенное, верила в счастье и в любовь. Барский сожрал мои чувства, обглодал их и вышвырнул на помойку… так быстро. Так мучительно мимолетно. Надоела и стала неинтересна.
Но я еще не теряла надежду.
Я ждала его возвращения домой, стоя у окна. И дождавшись, выбегала вниз, чтобы просто увидеть и столкнуться на лестнице. Он холодно здоровался и проходил мимо. За столом даже не смотрел в мою сторону, а меня бомбило, меня подбрасывало, и я истерически делала ошибку за ошибкой. Те, что делают надоедливые маленькие дурочки.
Жизнь продолжается. Дни за днями монотонно и одинаково. А мне плохо и легче не становится. Мне кажется, я и физически разломана на куски. От слабости и постоянных слез кружится голова и скручивает в узел желудок.
Вокруг вечный праздник. Словно Барский решил отмечать каждый чих и разъезжать на всякие светские рауты и балы.
И я умираю под музыку в очередной раз. Вокруг шикарно одетые пустышки, вышколенные официанты. Антураж лицемерно-лживого веселья. И я вижу только одного мужчину. Он для меня умопомрачительно красив и сексуален. Вокруг него толпа женщин, прихлебателей, журналистов. Он улыбается своей надменной улыбкой и завораживает голубыми глазами. И эти женщины. Нескончаемые женщины со взглядами текущих сучек, облизывающихся на него. Роняющих слюни. И меня преследует мысль, что он каждый раз выбирает, кого из них отыметь. Прямо здесь на банкете. Потом мне кажется, что он уже с ними спал. И я схожу с ума, у меня разламывает виски. Он уходит куда-то, а я ревниво хочу бежать следом и сдерживаю себя адским усилием воли. Ничего не радует, и я стою тенью где-то у окна… ожидая, когда проклятое веселье окончится. Не просто больно, а адски невыносимо понимать, что совсем недавно это было так просто – подойти к нему или поманить взглядом.
Но такие, как Захар Барский, никого не любят. Только используют, отнимают, втаптывают в грязь и жестоко казнят... Так же он поступил и со мной. Он – хозяин этого города, он старше меня вдвое, у него своя семья, а малолетняя оборванка, как я, никогда не стала бы ее частью. Если б не жуткая тайна, которую он скрывает от всех и я, так не вовремя появившаяся в его жизни, с угрозой эту тайну раскрыть. Я, ненавидевшая его за то, что он отнял у меня детство, и полюбившая с первого взгляда монстра с волчьими глазами. И теперь сдыхающая от этой любви совершенно одна.
Намертво привязанная к нему какой-то больной одержимостью. И нуждающаяся в нем, как в воздухе.
Меня несло на волне цунами в самую пропасть отчаяния… когда он улыбался не мне. Я завидовала им, что они могут видеть эту улыбку так близко. А ведь я когда-то совсем недавно трогала ее руками и губами.
Дергаюсь каждый раз, если он накрывает руку собеседницы своей, и схожу с ума, когда ночью слышу, как вошел в комнату к Светлане. Но у меня все еще была Есения, которую он вырвет с корнем и оставит меня истекать кровью.
Перед очередной вечеринкой я, пошатываясь от все той же необъяснимой слабости, вошла в ванную и, оперевшись на руки, посмотрела на себя в зеркало… Что-то не так. Я что-то делаю не так. Не может он вот так просто забыть меня. Не может быть, чтоб я ему не нравилась… ведь я изменилась. Я стала красивее. Стала ведь. Мне все это говорят. Я вижу это во взглядах мужчин.
Я заставлю его посмотреть на меня. Заставлю вспомнить все, что между нами было. Он ведь хотел меня. Дико, зверски хотел. И сейчас захочет. Я женщина, а он мужчина.
Вытащила ворох вещей и швырнула на постель… выбор пал на то красное платье. В голове молниями вспыхнули воспоминания об ударе ремнем, и по телу прошла судорога боли и удовольствия. Оттуда и начался обратный отчет. Прошло достаточно времени, и я теперь в этом платье выгляжу иначе. Мое тело изменилось и округлилось, у меня отросли волосы, и я уже не пятнадцатилетняя малолетка.
Слегка ослабила шнуровку на талии. Несмотря на все нервные потрясения, я немного набрала вес. Хотя, конечно, за эти годы я могла измениться. Но я нравилась себе больше без угловатостей и выпирающих коленок. Он ведь тоже заметит. Не может не заметить. Опустила пониже декольте так, что полушария груди приподнялись вверх. Моя грудь стала более округлой и пышной, упругой. Красный шелк подчеркивал белизну кожи и маленькую родинку чуть ниже ключицы. А так же тонкий розовый шрам от ремня. Он притронется ко мне и не выдержит… почувствует мой запах. Он ведь говорил, что любит его. И волосы. Распущенные до талии. Его любимые рыжие пряди.
«Моя голая Лисичка, дай посмотрю на твое тело. Ты идеальна! Ты знаешь? Каждый твой изгиб сводит с ума. Станцуй для меня. Вот так вот. Одетая в твои волосы».
Когда вышла в залу, на меня все обернулись, и я увидела эти взгляды. Такие красноречивые, пошлые, настоящие мужские взгляды. Барский стоял у бара рядом со Светланой и еще двумя женщинами. Он заметил меня не сразу… а когда заметил, то лишь скользнул взглядом и тут же поднес бокал к губам. Но не выпил маленькими глотками, а осушил до дна и тут же взял другой.
Играла музыка, и кто-то из гостей уже танцевал. Он не сможет мне отказать, если приглашу при всех. Я нагло прошла через весь зал и подошла к Барскому, остановилась напротив.
– Добрый вечер, – громко, привлекая внимание и заставляя его посмотреть прямо мне в глаза. Не выдержал, скользнул по всему телу своим волчьим взглядом, заставляя сердце болезненно сжаться. Снова посмотрел прямо в глаза, и в зрачках холод и недовольство. И я уже шатаюсь, как от жестокого удара. Я уже ментально плачу от этого взгляда. Восхищение, если и промелькнуло, то тут же сменилось отчуждением.
– Я думал, у нас благотворительный ужин, а не вечеринка с обнаженкой.
Я проигнорировала его слова и все так же решительно сказала:
– Я хочу пригласить тебя на танец. Мы никогда не танцевали с моим любимым опекуном. Ты ведь не откажешь своей приемной… дочери, – на слове «дочери» он поморщился так, будто ему загнали под ногти гвозди. Я протянула руку, и он ее взял в свою. Тут же сдавил так, что у меня прошла судорога боли. И плевать. Пусть давит.
Повел в глубь залы, буквально кроша мои пальцы. Резко крутанул и тут же вошел в танец, застигая врасплох. Но я мягко влилась в танец. Посмотрела ему в глаза и поняла, что это конец. Ничего из этого не выйдет. И как бы меня не вело от его ладони на моей талии… я не могу не видеть, что ему это не нравится. Он напряжен до предела, и это совсем иное напряжение. Это не возбуждение. Он нервничает и очень сильно. Злится.
Мягко улыбнулась и положила руку на его затылок, поглаживая кожу дрожащими пальцами над самым воротником. .
– Это платье… ты его помнишь? Два с половиной года назад ты…
Он прервал меня грубо, с явным раздражением:
– Послушай меня, Есения, и послушай внимательно. Второй раз я повторять не буду.
Дернул к себе, но удерживая между нами дистанцию таких размеров, будто боялся ко мне прикоснуться.
– Я ничего не помню и помнить не хочу. Ни с тобой, ни с кем-либо другим. Ты выдумала себе неизвестно что. Я просто тебя трахал, – от этих слов его тоже передернуло, и у меня сдавило виски, дышать стало нечем от этого выражения лица – брезгливости и отвращения, – пару раз под настроение. И все. Ничего больше. Ты мне неинтересна. Ты никто. Ты пустое место. С тобой и поговорить не о чем. Ты что о себе возомнила? – он говорит, а его голос растворяется, как в тумане, глохнет где-то под потолком, и у меня его лицо то расплывается, то снова появляется. – Думала, я разведусь, и мы заживем долго и счастливо? Девочка, очнись. Если ты продолжишь и дальше лезть ко мне и вешаться на меня, я избавлюсь от тебя, – все расплывается еще сильнее, – я тебя просто уничтожу. Живи и наслаждайся тем, что тебе дают. Между нами никогда больше ничего не будет. Ты мне не нужна. Ясно? Все. Хватит.
Ноги подкосились, и я вцепилась в его плечи.
– И твои попытки меня соблазнить жалкие, малышка. Ты – это отработанный материал. Не вынуждай вышвырнуть тебя. Ты мне не нужна, поняла?… Не нужна… не нужна.
Картинка поплыла, рассыпалась перед глазами, стала затягиваться черным туманом, и я начала падать в пропасть. Эхом слыша его последние слова.
***
А когда пришла в себя, то лежала на кушетке, возле меня Барский и какой-то пожилой мужчина с саквояжиком. Кажется, мы в кабинете Захара.
Мужчина повернулся к Барскому.
– Тут, конечно, нужны проверки и анализы, но не думаю, что с молодой барышней что-то страшное. У нее понизилось давление, есть, наверное, небольшая анемия, судя по бледности кожи. Но в ее состоянии это и неудивительно.
– В каком состоянии? – рявкнул Барский.
– Девочка ждет ребенка. Ну это процентов девяносто, а остальное может оказаться чем угодно. Лично я советую для начала сделать обыкновенную проверку на беременность, и я более уверен, что мое предположение подтвердится. Внешние признаки слишком явные.
ГЛАВА 2
Это проклятое письмо превратило меня в живого мертвеца, в подобие человека, который не может жить как раньше и никогда не станет прежним. В свое время я считал, что не существует чего-то, что способно выбить у меня почву из-под ног. Я слишком долго эту почву вспахивал, поливал и удобрял, чтобы позволить хотя бы чему-то испортить мои планы или изменить мою жизнь. Я из тех, кто никогда не ждет манны небесной, я делаю ее сам, своими руками, и, если не получается, я буду переделывать до тех пор, пока не получится. И, возможно, пока я буду крошить собственные амбиции, власть, цели в миксере, чтобы распылить над своей же головой, туда попадут чьи-то кости, чьи-то желания, чьи-то мечты и станут тленом в угоду моим. Меня это никогда не волновало. Мир создан сильнейшими для сильнейших. Пищевая цепочка и закон джунглей. Если я могу поглотить более слабого, чтобы насытиться, я это непременно сделаю, пока другие думают о толерантности, демократии и свободе слова, я растираю в порошок собственную манну, возможно, состоящую из плоти моих конкурентов. Впрочем, я никогда и никого не считал своим конкурентом, я смотрел только на себя. И если кто-то пытался мне мешать, просто сметал с дороги, как ненужный мусор. Пока вы мне не мешаете – вы живы.
Но с появлением Есении все это начало меняться. Катиться в какую-то дьявольскую пропасть. Я ведь был всегда с понятиями о том, как правильно, я давал своей жене и своим детям то, что считал необходимым. Я заботился о них. Я жил по неписанным правилам и кодексу чести Барского. У меня не было такого понятия, как беспорядочная щедрость или бездумное расточительство, я никого не баловал, но и не напрягал. У каждого свой бюджет. Все покупки рассчитаны и продуманы. Но у них у всех было реально все, что они могли пожелать и что соответствовало моему статусу. Кто-то считал меня скрягой, кто-то не понимал скрупулезности ведения бюджета, но я слишком много вложил в то, что имел на сегодняшний день, чтобы быть расточительным. Не скупой платит дважды, а расточительный идиот остается с дыркой в трусах.
И впервые мне захотелось потратить на хер все, что у меня было, швырнуть к ее ногам Вселенную. Положить к маленьким розовым ступням, отдать последнее, что у меня есть. И это пугало. Это сводило с ума. Я открыл для нее безлимитную карту. Кто б знал. Она ведь могла тратить миллионы. Но никогда не тратила и десятой части. Я делал ей подарки. Каждый день. Нет. Не для того, чтобы купить ее любовь… нет. Я делал ей их потому, что знал – она меня любит. Я ощущал это всем своим существом. Видел в ее глазах и сходил с ума, когда она бежала по ступенькам мне навстречу и бросалась на шею, едва я возвращался домой. Оказывается, я никогда не знал, что это такое. Меня шатало, как пьяного, от осознания, что меня, и правда, любят. Да, я произносил про себя это слово и удивлялся, что раньше его не существовало для меня. Я ее баловал. Мне хотелось осыпать ее всем, что пожелает. И я разрывался от счастья, когда она так искренне и самозабвенно радовалась подаркам. Носилась с ними, спала в них.
Я говорил ей не строить розовых замков, а сам строил целые миры вместе. Я продумывал, как и где смогу быть с ней всегда. Как не в ущерб всем остальным я могу наконец-то быть реально счастлив сам. Я говорил ей, чтоб она не придумывала любовь, а сам придумывал не просто любовь, а одержимость этой малышкой. У меня съехали мозги. Впервые влюбиться, когда вам за сорок – это сродни падению в огненную бездну. Это как заболеть безобидной детской болезнью во взрослом возрасте и переносить ее со смертельными осложнениями, и подыхать от побочек.
Каждый день с ней мне казался последним. Я боялся, что она, такая юная, пресытится мною, наестся моей любовью и улетит, как в песне «Машины времени». Я плотно закрывал все окна и сторожил ее сон. Никаких прогулок и полетов по ночам. Только со мной, подо мной и на мне.
Я учил ее страсти, учил плотской любви, и она инстинктивно превосходила своего учителя своим настоящим огнем. Заставлял кричать и сходил с ума, слыша, как она хрипнет. Ласкал пальцами, языком. Да, черт возьми, чем я только ее не ласкал. Мне хотелось залюбить каждый миллиметр ее тела. Она умоляла прекратить или не прекращать, кусала свои розовые маленькие губки. Да, они были у нее маленькие и нежные. Никакой модной опухлости, как будто пчелы бешеные покусали, а естественный изгиб и нежность. Они опухали только после того, как я терзал их всеми способами. Я набрасывался, как голодный волк на свою добычу, стараясь насытиться её телом и голосом, прерывистым дыханием и слезами наслаждения.
И ни черта не насыщался. Мог иметь ее всю ночь напролет и наутро уходил с вздыбленным членом. А по ночам смотрел в потолок и слушал ее дыхание, лихорадочно думая, где ее спрятать, где укрыть от всех и иметь право любить сколько хочу. Может, плюнуть на все и развестись к такой-то матери? Дети уже взрослые. Жена? Ну так я бы ее не обидел. В конце концов у нас не царский режим и не католическое венчание. Разводятся даже президенты. Выдержал бы какое-то время и сделал рыжую ведьму своей. Окольцевал и никогда не отпускал даже на миллиметр от себя. Заделал бы ей мелких рыжих бесенят.
И эта мысль поразила меня сильнее всего… я никогда не говорил своей жене об аборте. Но я и не желал детей. Они просто появились, и я заботился о них. Как положено. Принимал известие от супруги, поздравлял ее и дарил подарок. Дети – это продолжение рода. Это хорошо. И у меня есть ресурсы позаботиться о них и обеспечить всем, что нужно… И я любил их. По-своему. Сдержанно. Я не умел иначе.
А сейчас целовал тоненькую шейку между рыжих кудряшек, гладил рисунок лопаток, проводил губами по выпирающим косточкам позвоночника, опускаясь до поясницы, трогал ямочки над округлыми ягодицами и представлял ее с животом. Я свихнулся. Кризис послесороковника, наверное. И плевать. Я впервые в своей жизни был счастлив. Не продуманно, не шаблонно. А по-настоящему.
И еще во мне проснулась дичайшая ревность. Адская, бешеная и неконтролируемая. Я ревновал ее ко всем и ко всему. Даже к ее танцам, к ее учителям, к своим охранникам, которых мог на хрен уволить, если мне не понравилось, как они на нее смотрят. К любому, что отвлекало ее от меня, что было на мой взгляд более значимым в ее глазах. Но я никогда ей этого не показывал, кроме ревности к другим мужикам. Тут меня всегда срывало в самый лютый мрак, и я лютовал так, что не узнавал сам себя. Менял свой же персонал, водителей выбирал постарше, пострашнее и всегда ревниво следил, чтоб никто не смел даже выдохнуть в ее сторону. Плевать, что человек до этого проработал у меня много лет. Ни черта не важно, если это угрожало моим отношениям с девочкой. И все начали бояться, и правильно, я за свое глотку перегрызу, а Лисичку я считал более чем своей.
Это письмо меня разодрало на куски… оно перевернуло мне сознание и выкрутило его наизнанку. Меня перемолотило в мясорубке со ржавыми ножами. Я перечитывал и перечитывал, и перед глазами стояло чуть размытое лицо Милы. Она подо мной, на мне… наш секс чуть позже еще несколько раз. И я понимал, что самое жуткое – это не ложь. Это правда, которая всплывает спустя годы, чтобы поглотить вас, засосать в самое грязное и вонючее болото, какое только можно себе представить. Я слишком хорошо знал Милу. Она бы промолчала, она бы сожрала собственный язык, лишь бы не сказать. Честно? Мне тогда было насрать, от кого она родила. Я спросил – она ответила, снимая с меня всю ответственность. С этого момента и для меня ее ребенок был от Сергея. Но даже знай я тогда правду, и при этом, если бы эта правда не угрожала моей семье и карьере, я бы не считал этого ребёнка своим. Чистая биология. Да, я циничный сукин сын… БЫЛ!
А сейчас блевал, выворачивая внутренности и вспоминая, как имел свою девочку разными способами, и снова блевал. Меня пронизывало судорогами боли, меня просто разламывало безостановочно. Я начал пить. По вечерам запираться в кабинете и заливать проклятые воспоминания коньяком, водкой. Утром меня приводили в чувство лекарствами, уколами, и я более или менее становился похожим на человека. Я бы не сказал ей… никогда бы не сказал. Это слишком жестоко, это сломать ей психику, как она поломалась у меня. Я выл, я рычал, сдавливая голову руками. Я ненавидел и презирал свои руки, свои губы, свой член. Все ненавидел. Я себя проклинал. Я посмел ее замарать собой! Я такое с ней вытворял… дьявол, лучше бы я сдох на месте, чем все это помнить.
Был ли я способен вышибить себе мозги? Вполне! Но меня останавливало то, что тогда у нее не будет будущего… я слишком ее любил… да, слишком любил ее, чтоб быть настолько эгоистом и оставить с этим одну. Любил не как отец! «Отец»! Чтоб я сдох. Меня выворачивало от одного слова. Моя девочка… как я не почувствовал… как? Смотрел на ее мучения после нашего расставания и впервые ощутил, как жжет глаза. Как скручивает горло и дрожат руки. Я не выносил ее слезы, не выносил даже, когда она просто была не в настроении. И сам заставил рыдать и сходить с ума… но пусть лучше ненавидит меня, как подонка, бросившего ее. Это банально и случается сплошь и рядом, чем знает, кто я ей на самом деле и что делал с ней. Ей станет легче. Она излечится… и я. Когда-нибудь я справлюсь. А если и нет – это только мои проблемы.
Привез ее домой. Думал, так лучше. А стало еще хуже. Видеть каждый день, проходить мимо, чувствовать запах и не притронуться, не прижать к себе. Ад. Пекло, которого не пожелаешь и врагу. И ненависть к себе растет с каждой секундой. Чем сильнее желаю ее, тем сильнее себя ненавижу. Отшвыривал, отдирал с мясом и зверел от боли. Девки каждый день новые. Выпивка с таблетками, которые выписал мне мой личный психиатр, притупляли агонию. Я превращался в машину, которая существовала на автомате. Но рядом с ней не помогало ничего, я оживал. Воскресал. И тут же умирал снова.
Смотрел на ее рыжие волосы, и тут же чувствовал, как их шелк скользит у меня между пальцами, и думал о том, что обязан держать себя в руках. Она будет жить дальше, она получит все, что полагается дочери Барского. Пусть и незаконнорождённой. У нее будет будущее. С другим мужчиной… она будет счастлива, и заранее сдыхал от ревности. Дьявол свидетель, как я удерживался, чтобы не биться башкой о стены. Я стирал в порошок каждого, кто лез ко мне, каждого, кто мне не нравился. Я озверел, и мои подчиненные это понимали, они притихли и боялись свихнувшегося монстра. Мне казалось, что это поможет не думать о ней, не представлять ее будущее с другим, не сгорать от бессильной ненависти и не желать просто убить ее. Прекратить свои мучения ее смертью. Ведь это так просто… и одновременно с этим совершенно невозможно. Я тут же и сдохну сам.
Когда бил ее словами… я ощущал эти удары. Каждый из них. Ножом в сердце, под лопатки, в спину, в живот. Я весь был исколот своими же ударами. Она плакала, и я рыдал вместе с ней молча и с каменным лицом. И я начал верить в проклятия. Меня точно прокляли люто, безжалостно и по-черному жутко. Меня заставили гнить живьем от самого отвратительного поступка, который может совершить мужчина… если такого, как я, после этого можно назвать мужчиной.
Она! Моя! Дочь! И это отрезвляло. Вызывало брезгливую тошноту от себя самого.
Я и ее ненавидел за то, что не отстает и дразнит меня, маячит перед глазами в сексуальных нарядах, смотрит этими своими бирюзовыми глазами, полными отчаянной тьмы. Пригласила на танец, а я прикоснуться к ней боюсь. Меня в пот швыряет. Трясет всего.
И это оказался только шаг в бездну… самый первый. А потом меня подожгли живьем. Облили серной кислотой, бензином и поднесли спичку…. Мои мечты исказились таким чудовищным образом, что внутри меня корчился и хохотал обезумевший я. Он резал себя на куски и истекал кровью прямо в том кабинете, когда она вошла, держа что-то в руках, и протянула это врачу. У меня колотило в висках, отнимались пальцы рук и ног, пока доктор поворачивался ко мне с чудовищным оскалом… который, видать, считал улыбкой, и казнил меня каждым словом.
– Беременность подтвердилась, как я и думал. Я задам вашей доч..
– Подопечной, – поправила его Есения, а я смотрел перед собой застывшим взглядом и мысленно орал так, что у меня изо рта хлестала фонтаном кровь. Я даже видел ее на полу и везде по всему кабинету. Разве они не видят? На самом деле они, скорее всего, видели окаменевшего меня с застывшим взглядом.
– Пару вопросов задам и...
– Никаких вопросов, – почти исчезнувшим голосом проскрипел я, – этого ребенка не будет. Аборт. Сегодня же. Сейчас же.
– Но надо узнать сроки… надо хотя бы…
– Я сказал аборт! Плевать на сроки! Вы вытащите из нее ЭТО, какой бы срок сейчас не был!
Повернулся к ней, чувствуя, как темнеет у самого перед глазами и плоть лохмотьями облазит изнутри. Такой адской боли я еще не испытывал никогда.
– Я не хочу делать аборт, – возразила бледная девочка, тяжело дыша и глядя на меня.
– Никого не волнует, чего ты хочешь! – рявкнул я. – Вычистить! Немедленно! Сейчас же!
Повернулся к врачу.
– Мне плевать, как вы это сделаете, но чтоб завтра в ней ничего не было!
ГЛАВА 3
Врач вышел, а я бросилась к Барскому и вцепилась в его рукав.
– Нет! Слышишь? Нет! Ты не имеешь права это решать! Не имеешь! Не смей распоряжаться мною и моим телом!
Повернулся ко мне с расширенными бешеными глазами.
– Имею. Этого не будет. Слышишь? Ты сделаешь, как я сказал, и этого… – он подбирал слова, КАК назвать нашего ребенка, а я в этот момент понимала, что умираю, что по мне идут трещины, и я вот-вот рассыплюсь на осколки и молекулы нескончаемой боли, – этого отродья не станет… ЭТО уберут из тебя!
– Это, как ты сказал, не отродье, это ребенок! И… и он не твой! НЕ ТВОЙ! Поэтому не смей им распоряжаться!
Схватил за горло и сдавил пальцы.
– Что ты сказала?
– Он не твой, – я цеплялась за этот мизерный шанс, как за соломинку, как за волосинку, на которой можно удержаться и не упасть в слипающийся позади меня кровавый мрак, – не твой. Он... он.
– ЧЕЙ? – загрохотал таким ревом, что у меня заложило уши.
– Он Яна…
– Лжешь! – тряхнул за горло, бешено вращая глазами, теряя все человеческое в облике. – Ты лжешь. У тебя не было на это времени!
– Ты плохо знаешь женщин? Время есть всегда. Ты не был со мной двадцать четыре часа в сутки.
– Был. Следил за каждым шагом.
Но неуверенность промелькнула в светлых, безумных глазах. Я впилась в его руку ногтями, ослепленная болью и каким-то диким, звериным инстинктом не позволить тронуть ребенка. Никогда не думала, что этот инстинкт просыпается настолько быстро, настолько мгновенно. Всего лишь час назад я даже не подозревала о его существовании.
– Пусть он родится, и мы проверим чей. Не тронь… я тебя возненавижу, я прокляну тебя.
– Плевать. Меня в этой жизни проклинали чаще, чем ты моргала. Я принял решение, и обсуждению оно не принадлежит. Собирай вещи – поедешь в клинику.
– Никуда не поеду. Не дам тебе этого сделать. Вначале придется убить меня.
– Ты меня недооцениваешь. Я не спрашивал твоего мнения. Если будешь мешать, усыпят и все равно вычистят. Сделай все по-хорошему, Есения, не зли меня, не своди с ума.
У меня не оставалось даже этого волоска, он рвал его, раздирал у меня на глазах.
– Я клянусь, никто не узнает. Ни одна живая душа не заподозрит, что это мог бы быть твой ребенок. Дай мне просто уйти. Я просто исчезну из твоей жизни, и ты никогда меня не увидишь… Пойми… у меня никого нет. Это единственное родное. Мое. Моя кровь. Захар… умоляю тебя. Сжалься. Он ведь крошечный. Он ничего тебе не сделал. Ты никогда меня не увидишь… после того, что ты совершил… с моими родителями. Пожалей моего малыша… Не убивай!
Когда я сказала о родителях, он изменился в лице, побледнел еще сильнее и отшвырнул меня от себя.
– Собирай вещи. У тебя, – посмотрел на часы, – полчаса. Через три дня вернешься домой и забудешь об этом. Будто ничего и не было. Начнешь жизнь сначала.
Нет, кого я прошу? В нем нет ни капли сострадания. Он же похож на каменное изваяние, на лед, который невозможно растопить.
– Ты не человек. Ты – дикий, взбесившийся зверь… Нет… хуже. Ты – монстр. Даже звери не трогают своих зверенышей, а защищают до последней капли крови… а ты даже не зверь. Ты нечто жуткое и бессердечное. Ты… чудовище!
Расхохотался, кривя рот. Он вообще походил на какого-то безумца, словно перестал быть собой. Я никогда его таким не видела.
– Да, я монстр. Жаль, что ты не видела этого раньше. Марш в свою комнату собирать манатки! Мне не до разговоров. Пошла… быстро!
Вытолкал за дверь, и я увидела, как он распахнул дверцы бара, достал бутылку с коньяком, откупорил крышку зубами и прямо из горлышка сделал несколько глубоких глотков, потом дернул пальцами воротник и ослабил узел галстука.
В комнату я шла, шатаясь и придерживаясь за стены. Я трезвела и в то же время ощущала, как нарастает пульсация боли и понимание о том, что я слишком много себе придумала, что я влюбилась не в человека, а в… морального урода, в ублюдка, не способного на чувства. Не знаю, почему забывала выпить таблетки, прописанные его знакомым врачом, я была юной и безалаберной, рассеянной, слишком витающей в облаках. Меня так шваркнуло о землю, что я все еще открывала широко рот и глотала воздух, немея от боли. Испугался… за свою карьеру, за свою семью. Да не важно за что. Он просто струсил, и я для него действительно никто. И была никем.
Зашла в спальню и прислонилась спиной к стене…. Понимания, что во мне есть еще одна жизнь, еще не пришло, но мысль, что меня тронут и заберут это маленькое и бесценное чудо, казалась невыносимой, казалась чудовищно жуткой. Нееет. Я не дам. У меня больше никого нет. Это мое… часть меня. Может, я не готова, может, я буду плохой матерью, может… не знаю, но я не могу убить своего малыша. Он мой прежде всего. Он растет во мне, и никто не имеет права у меня его забрать.
Я подошла к окну, посмотрела на карниз под окном и на забор, на машину, в которую грузили спиленные в саду засохшие деревья и кустарники, а потом перевела взгляд на свой сотовый. Безумная мысль пронизала воспаленный мозг. Я должна попытаться, должна попробовать, должна! Схватила сотовый и набрала номер Яна.
– Привет… мне нужна твоя помощь. Если не испугаешься. А если откажешь, я пойму. Забери меня отсюда. Быстро. Прямо сейчас. Я вылезу из окна, через несколько минут откроют задние ворота, будут вывозить мусор. Вырубили несколько деревьев в саду, я проскочу, но ты должен ждать меня в машине.
– И… я-то приеду. Не вопрос. А дальше что? Думаешь, он тебя не найдет?
– Дальше высадишь меня где-то в городе, и я придумаю, что делать. Просто увези. Сможешь?
– Через сколько?
– Через… не знаю. Быстро. Как можно быстрее.
– Буду через семь минут.
Он отключился, а я бросилась переодеваться, стаскивать с себя ненавистное платье. Слез не было. Была решимость и злость. Была боль, перерастающая в невыносимую агонию, но я не позволяла ей овладеть мною, сломать меня. Потом. Я буду плакать позже, когда спрячусь от него. Куда? Я не знала куда. Мне некуда идти. Я еще ничего не решила и не придумала. Когда вылезла в окно, не возникло даже и капли страха, я не думала ни о чем. Я хотела только одного – бежать. Спустилась вниз и затаилась возле грузовика с сухими стволами и ветками. Вот-вот должны были открыть ворота. Посмотрела на сотовый. Пришла смска от Яна «я здесь». Кивнула сама себе и приготовилась бежать возле бортика грузовика, чтоб никто не заметил.
Сама себе не поверила, когда удалось, когда уселась на переднее сиденье, и Ян сорвался с места, вдавливая педали газа.
– Что такое? Тебе опять что-то запретили или поссорилась со своим деспотом?
Я посмотрела на парня, задыхаясь и глотая каменный комок в горле.
– Женись на мне.
– Что?
– Ты можешь на мне жениться? Мы потом разведемся. Никаких претензий, ничего.
– Дело не в претензиях, а в твоем психическом здоровье. Мне кажется или ты под чем-то?
– Я не под чем-то… мне надо спасти… надо.
– Кого спасти?
– Ребенка, – ответила и сама не поняла, что сказала это вслух.
– Какого ребенка?
– Моего ребенка… он хочет вырезать его из меня, хочет, чтоб я сделала аборт. Насильно. Женись на мне. Я скажу, что ребенок твой, и, может, монстр не тронет его…
– А он чей? – как-то глухо спросил Ян, даже не глядя на меня.
– Не важно чей. Какая разница? Он мой! Он прежде всего только мой!
Закричала и затряслась вся от мысли, что… что он, и правда, только мой. Никому не нужный, крошечный там внутри, такой беззащитный.
– Ладно. Женюсь. Ты только не нервничай так. Ты бледная, как смерть. Возьми в двери воды, попей. Что-то придумаем. Найду, где тебя спрятать… Конечно, стремно, что ты с кем-то. Обидно даже… Я ведь тебя… Но хрен с ним, потом разберемся с этим.
Я вскинула руки и обняла Яна за шею, всхлипывая от нахлынувшего чувства безмерной благодарности, от какого-то облегчения и надежды, что все еще может как-то быть иначе… О Барском я порыдаю потом, потом буду выть и корчиться от боли. Потом буду ненавидеть его и умирать от этой ненависти.
– Спасибооо
– Да пока не за что. Пристегнись и попей воды.
Потянулась за водой, и в этот момент Ян со всех сил крутанул руль и надавил на тормоза. Это было стремительно быстро. Настолько быстро, что я не успела понять, что происходит, как нас обоих уже вытаскивали из машины. Два джипа заблокировали маленькую машинку Яна с двух сторон. И я поняла… что все обнаружено, что Барский догнал меня и… и ничего не получится. Как сквозь туман смотрела на скорчившегося на земле Яна, которого били ногами, а меня тащили к машине.
– Отпустите! Отпустите меня немедленно! Неееет!
Я кричала и тянула руки к парню, с ужасом понимая, что его могут, как Барата, забить до смерти. Выкрутилась в руках одного из охранников и схватила за шиворот.
– Я сама пойду. Прекратите его бить… прекратите, или я скажу, что вы меня лапали, что вы лезли мне в трусы. Он вам руки отрубит и слушать дважды не станет. Закончите, как и все остальные, от кого я избавилась! Отпустите его… Слышите? Я сама пойду, самаааа!
Лицо ублюдка, тащившего меня к джипу, вытянулось, и в глазах промелькнул животный ужас. Ага! Значит знает, что я не лгу. Знает, как плохо кончили его дружки, которые просто не так на меня посмотрели. Не знает только одного – Барскому уже все равно. Его не волнует старая и ненужная игрушка.
– Эй! Хватит! С него достаточно. Тём, коленки ему перебей, чтоб надолго запомнил, как бегать, и скорую вызови. Ты… скажешь в аварию попал, ясно? Тебе передали, если болтать будешь, все ваши забегаловки на хер спалят, а брата твоего упекут пожизненно и очко в тюряге порвут. Во все дыры его натягивать будут. Понял? Ни один бизнес в этом городе не откроете. По миру вас пустят. Чем там твоя мать больна? Диабетом? Ни в одной аптеке лекарства не купите!
Я слышала это сквозь сильнейшую пульсацию в висках и адскую слабость. Крик Яна и глухие два удара. Меня швырнули в машину, и джип сорвался с места.
И мне стало по-настоящему страшно… от безысходности хотелось взвыть. Достала сотовый и набрала номер Барского. Сработал автоответчик.
«Если ты это сделаешь, я убью себя. Я перережу себе горло. Я буду ненавидеть каждую букву твоего имени. Пожалуйста, не надооо. Ну не надо. Пожалееей нас. Дай мне уйти. Захар… я ведь так люблю тебя… люблю тебя. Не убивай. Он маленький, такой маленький».
Зарыдала навзрыд, сжимая сотовый в руках и уткнувшись лицом в холодное стекло. Не сжалится он, я знала. Нет в нем жалости. Он не умеет любить. Он сам сказал. Просить его – все равно что молиться истуканам. Нет в этом человеке ничего святого.
***
Меня вели по коридорам больницы, оформляли, тыкали мне в вены иголками и что-то записывали. Потом повели на УЗИ. А я мимо столика проходила и увидела там инструменты под марлей на подносе. Взгляд зацепился, и я дальше пошла. Улеглась на кушетку, как под каким-то гипнозом.
Как насмешка… как самое дикое издевательство… я слышала сердцебиение ребенка, слышала, как врач говорил, что ему сейчас девять недель и он совершенно здоров.
– Один живой эмбрион. КТР двадцать миллиметров, ЧСС примерно 175-180. Без видимых патологий.
– Андрей Сергеевич, так можно не чистить, попробовать медикаментозно. Выкинет сама. Не так травматично для здоровья. И нам меньше возни.
Они говорили обо мне и моем малыше, как о неодушевленных предметах. Распоряжались нашими жизнями.
– Есения, – врач обратился ко мне, – мы хотим, как можно меньше вмешиваться и лезть в ваш организм. Вам дадут таблетки, вы их примете, через несколько часов случится самопроизвольный выкидыш. Это будет практически безболезненно. В любом случае вам дадут обезболивающее.
Я смотрела на него сквозь туман и слезы. Мне казалось, со мной говорит какой-то робот. Бездушная тварь, как и тот, что ему отдал приказы.
– Я не буду ничего пить, – тихо сказала и ощутила, как темнеет перед глазами. – Я НЕ БУДУ НИЧЕГО ПИТЬ! ВЫ СЛЫШАЛИ? Не будууу!
У меня началась истерика, и я толкнула врача обеими руками, вскочила с кушетки и швырнула на пол стул, перевернула стол с инструментами, хватая с него скальпель дрожащими пальцами.
– Вы ко мне не приблизитесь. Ни на шаг. Ни на миллиметр. Никто из вас не подойдет ко мне и к моему ребенку. Я вам не дамся. Себя порежу и вас всех. Ублюдки!
Размахивая скальпелем, я прижалась к стене, дрожа всем телом. Медсестра взвизгнула и бросилась к двери, доставая сотовый телефон.
– Есения, – врач выставил руки вперед, – я понимаю, что у вас стресс, беременность – это всплеск гормонов. Все пройдет наилучшим образом. Вам не надо бояться.
Он сделал шаг ко мне, а я махнула рукой, и лезвие царапнуло его по тыльной стороне ладони. Это тут же отрезвило, и он отшатнулся с ошалевшим выражением лица.
– Да, убийца в белом халате, да, продажная шкура, я не шучу. Я не изысканная пациентка твоей живодерни, где ты расчленяешь младенцев. Я с улицы, я детдомовская. Такие, как я, и кишки пустить могут. Не приближайтесь ко мне.
Доктор попятился к двери, выскочил наружу и запер меня в кабинете. А я сползла по стене на пол, глядя на изображение на экране. На маленькую точку, похожую на улитку. И внутри все сжалось от всепоглощающей, необъяснимой и такой незнакомой нежности, очень болезненной, смешанной с дикой тревогой и отчаянием. Они не убьют тебя… им придется убивать нас обоих.
Закрыла глаза, сжимая скальпель и чувствуя, как дрожит все тело и как отхлынула волна адреналина, оставляя ужас и опустошение.
___________________________________________________
*1 КТР – Копчико-теменной размер плода (прим автора)
*2 ЧСС – Частота сердечных сокращений плода (прим автора)
ГЛАВА 4
Я так и сидела в кабинете, глядя на дверь и судорожно сжимая в руках скальпель, пока не повернулась ручка и я не вскочила, выставляя руку вперед, готовая напасть на любого, кто ко мне приблизится. Зашла медсестра. Та самая, что выскочила первой со своим сотовым. Она выглянула в коридор, потом посмотрела на меня и тихо сказала.
– Они тебя сейчас в палату отведут. Ты успокойся, чтоб транквилизаторами не накачали. Скальпель спрячь и веди себя адекватно. Откажись от медикаментозного, скажи – боишься, что после него что-то останется, и все равно чистить будут. Тут они ничего не сделают. Будет, как ты скажешь. Начнут готовить на завтра. Со всем соглашайся.
Я смотрела на нее и пока ничего не понимала… А она снова в коридор выглянула и опять на меня смотрит.
– Ночью тебя выведу отсюда. Позаботились о тебе. Человек один… сказал, знакомы вы.
Сердце тревожно подпрыгнуло… неужели это тот аноним, что мне писал раньше? Только он и может быть. Больше некому. А может, это Ян нашел способ? Или кто вообще осмелился у Барского под носом вот так?
– Если продолжишь скальпелем размахивать, тебя транками накачают и вычистят. Поняла?
Я кивнула и положила скальпель на поднос, тяжело дыша.
– Вот и молодец, я сейчас чай принесу с лимоном, а ты присядь на стул и успокойся. Врач вернется с санитарами, надо чтоб в адеквате тебя увидел. Скажи, бес попутал, гормоны, все дела. Опомнилась и сама готова.
Я снова кивнула… не знаю почему, но я ей поверила. Наверное, потому что больше некому. Постепенно заставила себя успокоиться, села на стул, регулируя дыхание и сжимая дрожащие руки. Когда в коридоре послышались голоса, стало страшно, что сейчас скрутят и что-то вколют, бросила взгляд на скальпель и все же сдержалась.
Врач вошел в кабинет и удивился, когда увидел меня, мирно сидящей на стуле с самым несчастным выражением лица.
– Простите… я просто испугалась. Я очень извиняюсь.
Он бросил взгляд на одного санитара, потом на другого и повернулся ко мне.
– Такое поведение совершенно недопустимо в стенах моей клиники, даже несмотря на ваши протекции.
– Я… я понимаю. Мне было очень страшно. Я не ожидала… и… не надо медикаментозно. Вдруг все сразу не выйдет, и все равно чистка. А так с наркозом, и открою глаза – уже нет ничего. Можно ведь так?
Врач кивнул санитарам, и те вышли в коридор, не забыв прихватить с собой поднос со скальпелем и инструментами.
Доктор сел за стол, у него слегка подрагивали руки. Я явно его напугала. Так ему и надо, сволочь бездушная. Циничная и мерзкая сволочь! Жаль, что сильнее его не порезала… хотя вина здесь не его, и порезать не мешало бы того… с холодными и волчьими глазами. Того, кто решил все за меня.
– Можно и так. Анализы у вас в норме. Противопоказаний для анестезии не вижу.
Выдохнул, раздув щеки. Явно успокаиваясь и чувствуя облегчение от моего согласия. И до меня с ужасом доходит, что так бы и было. Меня б скрутили, обкололи чем-то, и все сделали насильно.
– Сегодня операционная занята, поэтому уже завтра. Сегодня отдыхайте, вам дадут витамины, поставят капельницу. И ведите себя адекватно, иначе мне придется принять меры.
– Да, конечно. Простите, пожалуйста.
Когда меня увели в палату, я и сама уже чувствовала облегчение. Мозг начал постепенно работать, а боль я загнала в дальний угол и не дала этой твари прямо сейчас истязать себя. Медсестре я не дала ничего уколоть и от капельницы отказалась. Она усмехнулась, но не настаивала. Шепнула только, чтоб я была готова после двенадцати ночи. Поставила пакет в мой шкафчик. Едва она вышла, я бросилась к пакету и посмотрела, что там внутри. Увидела вещи. Значит, я смогу переодеться, так как мою сумку отобрали и переодели меня в больничную пижаму. Еще в один маленький пакет был завернут мой паспорт и билет на поезд. Сердце застучало еще сильнее, и Есения наполнила меня силами бороться дальше. Не будет, как он решил. Не будет! Я сбегу от него. Я вырвусь на свободу. Не пропаду. Я что-то придумаю и справлюсь. Ближе к двенадцати я выглянула в коридор и, прикрыв дверь, начала быстро переодеваться в какое-то неприметное простенькое платье и красную кофту. Показалось, что она слишком заметная, но потом я вспомнила, что эти кофты полгорода носит. Пригладила волосы, заплела косу и спрятала под кофту. Документы положила в карман. Было страшно, что и в этот раз не выйдет, что Барский опять узнает и догонит. Но волка бояться… Я рискну. Если это мой шанс спасти малыша, я его использую.
Ровно в двенадцать никто не пришел, и я уже начала нервничать, поглядывая на простые белые часы, висящие на стене, и на дверь. А вдруг все сорвется?
Но она пришла. Скользнула в палату и приложила палец к губам. Подошла к кровати, начала запихивать подушки под одеяло, якобы это я там лежу. Потом подала мне шапочку и халат.
– Надевай сверху на одежду и идем со мной. Если кто-то остановит, я буду говорить, а ты молчишь.
Я кивнула и послушно надела халат с шапочкой. Когда вышли вместе в коридор, сердце забилось быстрее и адреналин запульсировал в висках. Но медсестра была спокойна, она прошла со мной к лифту, нажала кнопку этажа парковки и ободряюще мне улыбнулась. В этот момент лифт остановился, и в него зашли те самые санитары, которых я видела в кабинете врача. Я отвернулась тут же к стене, а медсестра сделала шаг вперед, оттесняя меня назад.
– Что, Петров, смену закончил?
– Щаз. Я сегодня сутки пашу. Хочу в киоск сбегать, сигареты кончились. Санек со мной. Может, к нам на кофеек? И новенькую возьми.
– Отстань. Мне не до кофейка, сам знаешь, какая кукла у нас лежит, и кто о ней печется. Мне глаз да глаз.
– Да уж. Психованная какая-то. Доктора порезала. Я б на его месте…
– А что ты на его месте? Потом бы остался без работы, а может, и в морге бы оказался. Ладно. Харе болтать. Я вниз в лабораторию.
Они вышли на первом этаже, а она шумно выдохнула, и я вместе с ней. Когда вышли на парковку, повеяло сыростью.
– Дождь опять идет. Не лето, а какой-то кошмар. Я даже в отпуск из-за погоды этой не поехала.
Я промолчала, просто шла рядом, и мозги не работали совершенно. Я не знала, что будет со мной завтра, куда мне идти и как я выживу без денег. Может, там на кредитке, которая в пакете, что-то и есть, но что? И кому я обязана этим спасением?
Мы подошли к машине, судя по шашкам вверху – такси. Неприметная старенькая «семерка» синего цвета с молодым водителем за рулем. Медсестра наклонилась, постучала в окошко, и водитель опустил стекло.
– Довезешь куда надо, и чтоб без приколов. Ясно?
– Какие приколы, Ир. Ты ж меня знаешь. Все будет в лучшем виде.
– Смотри мне.
– А деньги?
Она посмотрела по сторонам и сунула руку за пазуху, достала конверт, протянула водителю.
– Вот, здесь половина суммы. Потом получишь еще. Все. Некогда болтать. Ты, – она постучала по моему плечу, – давай халат и шапку, надень капюшон.
Я протянула ей вещи и села в машину, пребывая в каком-то оцепенении. Словно я – не я и тело не мое совершенно. Я на каком-то чудовищном автопилоте. Голова абсолютно не работает.
Мы отъехали от больницы, и водитель увеличил звук радио, повернулся ко мне, постукивая пальцами по рулю.
– Жизнь дерьмо, да, сестренка?
– Дерьмо, – подтвердила я и уставилась в окно.
– Вопросов не задаю. Но ты неважно выглядишь. Как с того света. Вроде клиника хорошая. Здесь сестра моя лежала пару раз. Один раз аборт от одного придурка сделала, а во второй решила все же оставить, так какие-то проблемы полезли, и, в общем, замер он. Вот по знакомству здесь аккуратно все сделают. Ты если не против, я ее по дороге подхвачу, тебя на вокзал отвезу в город, а с ней сюда в клинику обратно. Нам просто по дороге. А потом я через мост вернусь, быстрее будет.
– Да, конечно.
Отвернулась опять к окну. Бывают состояния, когда никого жалеть особо не хочется. Потому что сама как онемела и оглохла, как будто под каким-то наркотиком, не притупляющим боль, но притупляющим все остальные эмоции и чувства.
– Я в частный сектор заверну. Это на пару минут. Мы успеваем.
Продолжаю кивать, даже не глядя на него.
– Тань, я уже подъезжаю. Выходи. Ааа, ты на остановке? С ума сошла? Дождь такой, еще простудишься. Да ладно, не говори ерунду. Давай, я скоро буду. Сумку, деньги и документы не забыла? Вот и молодец. Не реви. Все что не случается, все к лучшему.
Мы заехали куда-то, и машину беспощадно трясло и бросало из стороны в сторону. Водитель затормозил у остановки, и в кабину юркнула девушка вся мокрая от дождя.
– Блин! Вся промокла, и у меня кофты нет. И печка не пашет. Зачем рано вышла?
– Дома сидеть не хотела.
Ответила девушка, и я посмотрела на нее через зеркало – какая-то измученная, бледная. Промокла вся, с волос вода капает. И правда, жалко стало. Представила, что у нее на душе сейчас творится… каково это осознавать, что жизни внутри нет больше, и передернуло от ужаса. Я кофту сняла и ей протянула.
– Наденьте, не так холодно будет.
– Спппасибо. Я, и правда, замерзла.
Взяла кофту и закуталась в нее. Еще несколько раз спасибо сказала. А мне холодно не было, наоборот жгло. В жар швыряло.
Дождь бил в стекло, а меня опять накрыло волной боли и жуткой неизвестности. И в голове голос Барского…
«Имею. Этого не будет. Слышишь? Ты сделаешь, как я сказал, и этого отродья не станет… ЭТО уберут из тебя!».
Машину беспощадно трясло и воняло бензином. Меня начало тошнить. Вначале немного, потом все сильнее и сильнее. Пока не скрутило желудок так, что я покрылась потом.
– Остановите, – задыхаясь попросила я, – остановитеееесь. Мне плохо. Я сейчас…
Водитель чертыхнулся и резко затормозил на обочине в кромешной тьме, дождь мерзко моросит, и ни черта не видно, только фары «семерки» выхватывают из темноты кусок дороги. Я выбежала, отошла подальше, скручиваясь пополам и исторгая все содержимое желудка…
Когда это произошло, я, судорожно дыша, словно в замедленной киносъемке смотрела, как на бешеной скорости огромная фура врезается в «семерку» и как машину отшвыривает в кусты на противоположной стороне трассы, она с оглушительным грохотом падает в кювет, сносит несколько тонких осин и, перевернувшись на бок, скрепит крутящимися колесами. Меня вывернуло снова, задыхаясь и дрожа всем телом, я вытирала рот тыльной стороной ладони, не веря, что это произошло только что у меня на глазах. Фура давно скрылась в темноте, а я, шатаясь, перешла дорогу и подошла к искореженной машине. Тошнота сворачивала меня пополам мучительными спазмами и вывернула еще раз, когда я увидела, что они оба мертвы… Водитель вылетел наполовину в лобовое стекло, его… я не стала смотреть на то, что с ним стало. Весь капот кровью залило, а девушка с неестественно вывернутой головой откинулась вбок на сиденье, глядя широко раскрытыми глазами в пустоту. Я с воплем попятилась назад, обо что-то споткнулась и увидела ее сумочку. Не знаю, зачем взяла ее… но взяла, а потом почувствовала запах бензина и почему-то поняла, что надо бежать. Очень быстро бежать.
Когда раздался взрыв, меня на несколько секунд оглушило, и я закричала, срывая голос, побежала еще быстрее. Перед глазами все расплывалось, я потеряла один из своих мокасин. Носок промок насквозь, и в ступню что-то впилось или ее распороло осколком стекла. Ветки хлестали меня по лицу, по телу. Я не знала, плачу ли я или это дождь.
А впереди маячила темнота и непроглядное ничто, которое ждало меня где-то там, притаившись в кустах. И я не знала, как долго мне бежать и куда… Но в голове пульсировала только одна мысль. Я не дала им это сделать с собой… не дала им убить моего ребенка.
А потом упала на колени и, поскользнувшись на мокрой травке и чувствуя, что сил бежать уже нет, облокотилась о ствол дерева и закрыла глаза…
«Я ничего не помню и помнить не хочу. Ни с тобой, ни с кем-либо другим. Ты выдумала себе неизвестно что. Я просто тебя трахал. – от этих слов его тоже передернуло, и у меня сдавило виски, дышать стало нечем от этого выражения брезгливости и отвращения на его лице, – пару раз под настроение. И все. Ничего больше. Ты мне неинтересна. Ты никто. Ты пустое место. С тобой и поговорить не о чем. Ты что о себе возомнила?»
Холод забирается даже в кости, и мне страшно, что меня здесь никто не найдет, и я заблудилась в какой-то лесополосе в кромешной тьме совсем одна. И голосовать на дороге, чтобы найти помощь, совсем не вариант… я попаду прямо в лапы Барского. И вдруг в голове болезненной и ослепительной до дикой боли молнией-вспышкой:
«Если ты продолжишь и дальше лезть ко мне и вешаться на меня, я избавлюсь от тебя, я тебя просто уничтожу».
Меня снова выворачивает пустым желудком куда-то в траву… и жуткое озарение вызывает дрожь агонии по всему телу – это он послал фуру. Он приказал меня уничтожить, чтоб я не портила его жизнь. Больше никто бы не решился: ни дать мне возможности сбежать… ни вот так лишить жизни на мокрой дороге и уехать с места преступления, не боясь, что постигнет страшная кара… и это означало только одно – ОН ОТ МЕНЯ ИЗБАВИЛСЯ!
Будь проклят Барский, но я никогда ему этого не прощу! Никогда! Пусть горит в Аду! А я выживу! Я смогу! МЫ сможем!
ГЛАВА 5
Я смотрел на часы и не звонил туда. Мне хотелось. Меня скручивало от этой необходимости, но я не давал себе взять сотовый и набрать этот проклятый номер. Они позвонят сами, когда все будет кончено. Я на повторе слышал ее слова. Постоянно одни и те же слова, как на автоответчике.
«Если ты это сделаешь, я убью себя. Я перережу себе горло. Я буду ненавидеть каждую букву твоего имени. Пожалуйста, не надооо. Ну не надо. Пожалееей нас. Дай мне уйти. Захар… я ведь так люблю тебя… люблю тебя. Не убивай. Он маленький, такой маленький».
Это ты маленькая и очень глупая девочка. Все ради тебя. Плевать, что со мной происходит. Отправлю тебя учиться, устрою твое будущее. Забудешь все, как страшный сон. Да, ненавидь меня. Ненавидь каждую букву моего имени. Вряд ли ты сможешь это сделать лучше и сильнее, чем я сам.
Я презирал себя в эту секунду так сильно, что мне казалось, я слышу скрип собственных костей и натяжение напряженных до предела сухожилий. Просто вытерпеть, не думать о том, что там происходит. Абстрагироваться, как это получалось всегда раньше. Это не ребенок… это нечто ужасное, нечто исковерканное по чьей-то дикой прихоти и уродливое, как и все, что я посмел испытывать к моей Лисичке. А потом опять ее слова в голове, и мне выть хочется раненым зверем. Дикие мысли о том, чтобы забрать ее оттуда, увезти куда-то, и никто бы не узнал… а вдруг ребенок не родится с генетическими уродствами? Вдруг… Не бывает в этом мире никаких вдруг! Никаких проклятых вдруг! Удача и чудеса – это всего лишь миф для идиотов. Наверное, я заслужил всю эту тьму, весь этот дьявольский карнавал уродливых открытий. Слишком много дерьма я совершил в своей жизни.
Утро так и не наступало, и время тянулось, как резина. И все эти часы я варился в адской магме. Я представлял, как она там кричит и плачет, и метался по кабинету, нарезал круги словно в клетке. У меня все переворачивалось внутри, и я несколько раз хватал сотовый и швырял обратно на диван. Нет! Ничего я не сделаю! Ничего не изменю! Породить на свет существо больное от такой отвратительной связи – это верх трусости и эгоизма. Ничего. Это всецело на моей совести. Лисичка никогда не узнает. К утру я был похож на мертвяка, восставшего из могилы. Из зеркала на меня смотрел зомби с черными провалами вокруг глаз. Меня слегка пошатывало, но не от алкоголя. Я запретил себе пить в эту ночь. Я хотел не притуплять боль. Я хотел, чтоб меня раздирало ею так же, как и мою девочку. Потому что всю эту боль заслужил только я, а не она… а расплачиваться все же пришлось именно ей. Я лишь вынес приговор и заставил всех привести его в исполнение.
Сотовый зазвонил в руках, и я хотел рявкнуть в него, но практически не услышал свой голос:
– Захар Аркадьевич… мы… она сбежала.
– Куда? Когда? – крик хриплый, сорванным воплем.
– Ночью!
– НАЙТИИИ! – взревел, хватаясь за спинку кресла.
– Уже нашли!
– Говори где? Я выезжаю! Чтоб с места не сдвинулась. Стеречь, как сторожевым псам, до моего приезда!
– Она… она мертва, Захар Аркадьевич.
– Что?
Что он несет, этот идиот? А дышать уже нечем, и пальцы раздирают воротник рубашки, царапают горло.
– Она сбежала на такси… они зачем-то остановились у обочины, и в них врезалась фура или грузовик. Произошел взрыв… найдены изуродованные тела водителя и его попутчицы.
– Это… это не она!
– Она… мы проверили.
Я хрипел, давил свое горло пальцами и слышал лишь сиплый стон, который вырывался из обожженного горла. Ни слова не мог сказать. В эту самую секунду вошел Костя, он забрал у меня сотовый. А я стоял и отрицательно качал головой, глядя в одну точку и пытаясь сделать хоть один вздох. И не мог. Сам не понял, как опустился на колени, опираясь на ладони и срывая пуговицы с воротника. Костя присел передо мной на корточки, протягивая стакан воды, но я смел его к такой-то матери.
– Ложь, – скрипучим голосом, – жива она.
Тот отрицательно покачал головой, а мне кажется, у меня в глазах все лопается и склеры затекают кровью.
– Там видео. Ее было легко опознать… Уже произвели вскрытие. Девушка лет восемнадцати на ранних сроках беременности. Никакой ошибки.
Я уткнулся головой в пол и услышал странный звук, он нарастал, и я не знал, откуда он взялся, но от него стыла кровь в жилах и мертвело все тело… я даже не понимал, что этот звук издаю я сам. Этот вой, страшный рев, от которого дрожат стекла в кабинете.
– Кто, – я поперхнулся собственным голосом и со свистом втянул воздух, – раз-ре-шал вс-кры-вать? Кто?
Рывком поднялся с пола и бросился к Косте, схватил за шкирку и впечатал в стену:
– КТО, МАТЬ ТВОЮ, ДАВАЛ ИМ РАЗРЕШЕНИЕ ВСКРЫВАТЬ? ЛОЖЬ ВСЕ ЭТО! ЛОООЖЬ!
Тут же разжал руки. Они так дрожат, что я их даже опустить не могу. Мозг ничего не соображает.
– Поехали! Видеть ее хочу!
– Я спрашивал… там видеть особо нечего… Головы нет. Разнесло на ошметки, руки и… ноги… Там… кусок тела, фрагменты одежды… обрывки ее документов в кармане кофты.
Я его не слышал, он говорил о чем-то постороннем.
– Надо поехать и забрать ее оттуда. Она ненавидит больницы. Она не хотела в больницу. Позвони им и скажи, чтоб не приближались к ней и не трогали, пока я не приеду. Понял?
Константин, бледный как смерть, кивнул… смерть! Не хочу слышать это слово. Думать его не хочу!
***
Я никогда не представлял себе, что значит боль. Что значит ощущать себя ею. И перестать быть собой. Они вначале показали мне съемки видеокамеры из кабинета врача, где моя девочка со скальпелем в руках прижалась к стене и не подпускала к себе никого. Такая отчаянная, со сверкающими глазами, вызывающая восхищение и злость… злость, что мешает спасать ее от меня. Мешает дать ей шанс. Глупая рыжая лисичка. Глаза дерет. Мозг отказывается принимать что-либо кроме ее изображения на экране, и сам не понимаю, как тяну руку и глажу трясущимися пальцами экран.
Потом она в коридоре с медсестрой. Я вижу красную кофту под халатом, капюшон. Она кровавым пятном мелькает и контрастирует с белым. ЕЕ трудно не заметить.
И дальше съемки с места аварии… Камера скользит по обугленным стволам деревьев, мимо обломков покорёженного железа в траву… где виднеется мокасин. И я на секунду чувствую, как боль ослепительной вспышкой пронизала все тело, парализуя его, пронизывая нервные окончания такой дикой агонией, что я с трудом держусь, чтобы не заорать. Я помню эти мокасины. Она купила их там… там, где мы были вместе целый месяц. Купила и показывала мне, а я смеялся и говорил, что такие носят только малолетки.
«– Я и есть малолетка, господин Барский! А вы – старый дед!
– За деда придется жестоко расплачиваться!
– Мммм, и как же?
– Оооо, ты испугаешься, когда узнаешь!»
Камера ползет дальше и выхватывает... меня швыряет в пот, и я вскакиваю со своего места с рыком, с таким рыком, что, мне кажется, разорвало горло, а перед глазами окровавленные голые ноги, точнее, то, что от них осталось, и кофта… та самая красная кофта. Я там сдох. Не потом, спустя время, а именно там в той комнате с экраном компьютера. Я разбил его вдребезги.
– Чтоб… чтоб этой больницы больше не было. Не… не существовало. Понял? – схватил Костю за горло. – Камня на камне чтоб здесь не оставил. Ровную землю хочу на этом месте.
Он кивает, а я шатаюсь и ничего перед собой не вижу, хватаюсь за стены, а они уходят и кружатся.
– Отведи в морг.
– Там…
– Отведи. Там холодно. Я хочу, чтоб ее укрыли. Она не любит холод. Она всегда мерзнет. Она ведь такая худенькая и маленькая.
Моя девочка не любит, когда ей холодно, она тепло любит, море любит. Я знаю. Она рассказывала мне…. Рассказывала, что никогда его не видела, а я обещал, что увидит. Все моря на этой планете.
***
Я никого не пустил на кладбище. Ни одну живую душу. Мне было насрать на журналистов, на чье-то мнение. Я хотел остаться с ней наедине. Я задолжал ей это одиночество, когда мы с ней вместе и никто, ни одна живая душа не мешает мне. Да, я позволил себе любить ее в тот момент совсем не как дочь. Я позволил себе гнить от тоски и разложиться живьем.
Я думал, что не смогу ненавидеть себя больше, чем в тот момент, когда узнал, что нас с ней связывает далеко не только взаимное влечение. Но я ошибался. Я чертовски ошибался, моя Лисичка. Потому что никогда не испытывал той ненависти, которую я чувствовал сейчас каждой клеткой. Ненависть к себе. И ярость. Ярость на себя. Я должен был увезти ее. Увезти как можно дальше и позволить там наверху решать… Не сам.
Стоя в сырой земле на коленях, без единого венка, только букет… такой, как подарил ей тогда, в огромной корзине, и ее кошка. У подножия таблички. Дождь хлещет сплошной стеной, и я утопаю в грязи, поглаживая дрожащими пальцами имя, выбитое на железе.
Думая о том, что я должен найти того, кто это сделал с ней… найти того ублюдка, который устроил этот побег. Медсестра, которая вывела Есению из больницы, была найдена в подсобном помещении с пеной у рта и шприцом в вене.
Я приказал проверить, какие фуры и грузовики ездили в том направлении в этот промежуток времени. Найду тварь… а потом. Потом клянусь, что приду к тебе, девочка. Ты не будешь там одна. Клянусь!
Это единственное, что держало меня и не давало сорваться за эти пару дней подготовки к похоронам.
Я лежал там в грязи с закрытыми глазами мокрый насквозь и вспоминал все с первой секунды, как увидел ее, и до самой последней и… проклинал себя за то, что убил ее. Это я. Моя вина. Я тронул это нежное и чистое своими вонючими лапами.
– Прости меня, Лисичка… прости за все. Прости, моя маленькая, – шептал и сжимал табличку мокрыми, грязными руками.
Охрана не смела приблизиться и на миллиметр, только следили, чтоб ни один папарацци не пробрался на кладбище.
– Захар Аркадьевич… вам звонят. Это важно. Провели эксгумацию.
Голос взорвал мои воспоминания раздражением. Я приподнялся и сел, глядя перед собой и протягивая руку за сотовым. Поднес к уху.
– Да, я слушаю.
– Захар Аркадьевич, как вы и приказали, мы получили разрешение на эксгумацию. Все эти дни не могли до вас дозвониться. В могиле Назаровых, как вы и предполагали, оказались останки двух взрослых и ребенка.
Я кивнул сам себе. Конечно. Я их лично хоронил. Можно было и не трогать. Но это закрутилось еще тогда… до всего. Я хотел узнать, кто там похоронен… что за ребенок. Ведь могла быть ошибка после такой авиакатастрофы. Я искал тогда причину вышвырнуть Есению из своей жизни. А пока ждали документы, пока все улаживалось, она ею стала сама… моей жизнью. Сейчас все эти проверки уже не имели никакого значения.
– Мы провели экспертизу и… тело мужчины, как и записано, принадлежит Назарову Сергею, тело женщины – Назаровой Людмиле. А девочка… был произведен полнейший анализ. Она… не является дочерью Сергея Назарова. Это ваша дочь. Там… там была похоронена ваша дочь.
Я стиснул сотовый обеими руками, но не смог произнести ни слова.
– Точность данного анализа составляет 99,9 процента. Ошибки быть не может… Что нам делать с телами? Захар Аркадьевич, вы меня слышите?
Я не слышал, я слышал только, как у меня в голове один за другим лопаются сосуды, как обрываются куски кожи и мяса, как ребра впиваются в остановившееся сердце и рвут его на куски. Наверное, именно это там происходит, потому что меня от боли шатает на ровном месте. И я ору. Я не понимаю, как оглушительно громко я ору, закрыв уши руками. Ору так, что, мне кажется, трещат мои челюсти и горло наполняется кровью.
Три!... Всего лишь узнать на три дня раньше!
ГЛАВА 6
Устинья Ильинична по травы и ягоды выходила всегда с самого раннего утра. Едва рассвет занимается бруснично-малиновым всполохом, между небом и землей полоска вспыхивает, так она глаза и открывает. Не спится ей. С возрастом каждая минута дорога. Кажется, сколько той жизни осталось и ее проспать можно. Раньше петухов всегда встает. Дед ее вечно ворчал, что ходит, половицами скрипит, спать не дает. Ей и сейчас иногда кажется, что ворчание его слышно, только оно у ней в голове теперь живет, как и голос его, и запах, и взгляд из-под косматых бровей, всегда с любовью на нее направленный. Да и как ему не звучать, если вместе всю жизнь прожили. Не уберегла Ильинична мужа своего, помер, пока ее не было, пока в соседней деревне у Марфыной дочки-потаскушки роды принимала. Пятые по счету от еще одного хахаля городского. Нагуляет, рожать от срама подальше в деревню приедет и снова в город скачет. А приблудных своих матери оставляет. И та ничего сказать не может. Кормит и воспитывает.
В ту ночь так ее домой тянуло, так тянуло, что даже в грозу обратно к себе пошла, в ливень. Но не успела. Прибрал Господь ее Гришку. Знал, видать, что пока Устинья рядом, не отдаст его, силой удерживать будет. А она, сила та, в ней имелась. Не такая, может, как у бабки Агафены, но и не слабая. Хотя бабка перед смертью сказала, что сильна Устинья и сила эта добра ей не принесет.
Девки все в деревне говорили, что приворожила она Гришку, морока своего навела. А она и не думала. Замуж идти не хотела. Саму проклинали с юности, боялась, что и детей проклянут. Но детей у них так и не случилось. Беременела и погибали они. То не вынашивала, а то и в самом начале все срывалось. Гришка все успокаивал ее, жалел. Потом кота ей принес в утешение. Теперь у Устиньи этих котов полон дом. Все ее дети. В город муж тянул, когда поженились, а она не шла. Образование у нее — школа сельская. В город учиться так и не поехала. Бабка болела все время. За ней уход нужен был.
И что ей теперь в том городе делать? Она только травками лечить умеет, роды принимать, как бабка в свое время учила, и гадает, от сглаза обереги мастерит. Тем и живет. А Гришка плотничал. Хотел в городе обустроиться, но она не поехала, и он тоже остался. Свой двор, свое небольшое хозяйство. Жилось им не плохо и не хорошо. Как всем жилось. Не жаловались.
Гриши не стало, и тоска на Устинью навалилась. Жизнь стала унылой, бесцветной. Пожалела, что дите не взяла с детдома, когда помоложе была. Не так горестно и одиноко было б теперь. Какое-то время даже впроголодь жить пришлось, пока мода на естественную медицину и роды не вернулась в народ, и повалили паломники по деревенькам лекарей и целителей искать. Рожать в поле и в кустах, пить травки-муравки. Только настоящих целителей единицы, и те свой дар не афишируют и денег за него не берут. Кто что даст – тому и рады, а не даст – и на том спасибо. В другом месте зачтется.
Кто к Устинье только не приезжал, и маститые всякие, и преступники, и потаскухи да праведницы на аборт бегали. Чтоб не узнал никто. От последнего она всегда отказывалась. И дело не в грехе на душу, какого греха она только на нее не брала, а в том, что не ей решать – кому умирать. И абортниц не любила. Неприятно ей было женщины касаться, что дитя свое решила умертвить. Не видела Устинья разницы между рожденным младенцем и тем, что во чреве матери сидит еще крохотный совсем, невидимый взгляду, а сердце уже бьется и душа имеется. И сама мать это чудо из себя выскабливает, выдирает. Детоубийцы омерзительны, как и те, что детей насильничают. И не важно сколько тому ребенку – шесть недель от зачатия или месяц, или пять лет от роду. Абортниц Устинья не брала. Пунктик у нее такой был. Отправляла их на хутор к Владлене, сестре своей двоюродной. Та ничем не брезговала. Лишь бы денег давали и побольше. Величала себя Провидицей Владленой и Великой целительницей. А на самом деле даже не ведьма. В медицинском училище отучилась, потом у бабки уму разуму и травам, но дар не получила. Дар достался Устинье.
Устинья жизнь сохранить пыталась. Боролась со смертью. Нравилось ей в поединок вступать и побеждать. А вот дары костлявой приятельнице приносить не любила. Если и случалось, что не справлялась, то всегда болела потом. Свое поражение лично переживала и очень тяжело. Григорий ругался всегда, что ее целительство когда-нибудь ее саму и погубит. Но она знала, что нескоро ей еще. Много дел впереди… а вот он ушел.
Утро выдалось холодным, с росой по колено. Сырость после дождя до костей пробирает. Но Устинья никогда свои планы не меняла. Встала, курей покормила, корову подоила и в лесополосу по ягоды и по коренья пошла. Любила она утро любое. Хоть летом, хоть зимой. Утром природа возрождается, ото сна встает. Каждый звук слышно, и нежность в воздухе трепещет. Вроде и город недалеко, а воздух другой совсем.
Палка в траве утопает, шороху наводит, а Устинья буквально слышит, как насекомые в разные стороны расползаются. Наклонилась, чтоб цветов срезать, и увидела, как вдалеке белеет что-то. Вроде как лежит кто-то у осины.
Не любила она находки такие. Мороз сразу по коже прошел. Пару раз натыкалась за свою жизнь, и осадок всегда оставался. На помощь не звала, обходила тело и шла своей дорогой. Если помочь не могла. Вот и сейчас прислушалась сама к себе… мертвецов всегда ощущала неприятным холодком по телу, словно они его ей передавали на расстоянии. Но холода не было, а вот кровь внутри забурлила… дар просыпаться начал, значит, чует, что есть в нем надобность. Устинья шагу прибавила и охнула, когда в траве девушку нашла. Совсем еще юная, худая, одежда мокрая, волосы в грязи, в траве на лицо налипли, дрожит и глаза не открывает.
Устинья наклонилась к ней и за плечо тронула, а та тут же подскочила, глаза распахнула. Они лихорадочно блестят.
– Не прикасайтесь! Не троньте! Не дам ребенка убить! Мой он! Моооой!
Бредит, похоже. Щеки красные. Знахарка лба коснулась и руку отняла – горит вся. Ладонь опустила вниз к животу, и та сразу согрелась. Значит, вот где ребенок. Забирать ее отсюда надо. Мало ли кто найти может.
– Вставай, деточка, вставай, милая. Нельзя тебе тут лежать, если ребенка сохранить хочешь.
Глаза девчонки шире открылись, взгляд более осмысленным стал, она в руку Устиньи вцепилась.
– Помогите… ищут меня. Найдут – ребенка моего достанут насильно!
– Не достанут! И не найдут!
Помогла девушке подняться, на плечи ей свою кофту и платок накинула и медленно в сторону деревни пошли.
Потом Устинья долго удивлялась, откуда у несчастной силы взялись идти, откуда ресурсы истощенный организм брал. Уже к вечеру в лихорадке билась, испариной покрылась вся, кашель дикий напал. И расспросить ни о чем нельзя. Но нутром своим чуяла, что девочка от больших неприятностей убежала, и эти неприятности могли следом за ней по пятам идти. Но выгнать или выбросить за дверь не могла. Устинье почему-то казалось, что если б много лет назад ее недоношенная малышка выжила, то была бы похожа на эту девочку. Такая же рыжая, как Гришка ее.
Знахарка примерно сроки беременности определила, на глаз, да по опыту. Живот ощупала. Плохи дела — при жаре таком может не выжить младенец. Тут бы еще и мать выжила, видать, сутки там пролежала в кустах тех. Кожные покровы бледные, веки белые. Малокровие у нее. Еще и обезвоживание. Конечно, тут бы врача настоящего с сильными препаратами, но… девчонка ее молила никому не говорить. Трясло ее всю в ужасе. За ребенка боялась. Потом опять в беспамятство впадала. Поразительно как. Вот недавно женщина к Устинье приехала вся из себя, кольца на пальцах сверкают, среди них обручальное, машина ненашенская, сотовый аппарат пальцами наманикюренными сжимает.
Приехала избавляться от ребенка. Карьера у нее, будущее, фигура. В больницу не хочет, узнают все. А так тут по-тихому. И срок приличный уже дите вот-вот толкаться начнет. Отправила ее к Владлене. А после нее еще одна пришла, тоже все благополучно, уже одно дите есть, второе не ко двору пришлось. Муж хочет, а она нет. Тяжело ей с двумя справляться, да и просто отдохнуть охота, поспать, своей жизнью жить. Куда ей еще одного, роды тяжелые…
«А когда перед мужем ноги в стороны раскидывала, не думала об этом. Времена чай не дикие. Есть чем предохраняться. Ты в достатке живешь, муж работает, мать жива, братья-сестры есть, зачем дите убивать?».
Женщина плечами пожала и сказала «потом еще себе рожу». Устинья ухмыльнулась: «Не родишь ты больше! Захочешь, а не родишь!». Бывало, и такое сгоряча запускала во Вселенную. Потом каялась, но слово ведьмы обратно не вернешь. Иногда такую силу недобрую слова имели, что и болезнью на другого ребенка перекидывались. Прибежала та потом к ней, та, что еще себе родить собиралась, с дочкой при смерти. Спасти умоляла. Устинья пыталась и делала что могла… но не вышло. Кара небесная она такая. Жестокая и безжалостная. Одно дите та своими руками уничтожила, а второе само ее покинуло.
«Как же мне жить? Ради кого?»
Теперь плечами пожимала сама Устинья…..
А тут девочка совсем юная, ничего за душой нет, гонится за ней кто-то, а она малыша своего защищает, бережет. «Мой» кричит. И если не спасет Устинья дите, то девчонка и сама может от тоски помереть. Несколько раз Лукреция, черная и пушистая кошка, пыталась на кровать запрыгнуть, но Устинья ее сгоняла.
– Кыш отседова! Поборемся еще. Нечего тут выпроваживать. Давай. Делом займись. В чулане мышь завелась, иди ее излови. А тут не сиди.
Кошка кругами походила, но все же ушла. Устинья давно заметила, если Лукреция рядом с больным садится, то тому недолго осталось. Она словно в иной мир его выпроваживает. Обычно знахарка не мешала, позволяла кошке делать свое дело. Но не в этот раз… в этот у нее была уверенность, что получится, что удастся вытащить девочку из лап болезни.
Каждые несколько часов знахарка руки к животу больной прикладывала, чтобы ощутить – идет ли оттуда тепло или остывает там все. Но тепло не угасало, несмотря на тяжелое состояние матери, которая металась в бреду, кусая губы и кашляла так, что казалось, все внутренности выплюнет. Устинья ее водкой разотрет, платками обмотает и сиропом отпаивает, чаи заваривает с кореньями. Руками над телом водит, над головой, произносит заклинания. Отдает свою энергию. Вроде легче девочке становится, не так лихорадит, а к утру жар впервые начал сам спадать, и знахарка с облегчением выдохнула. По волосам рыжим ладонью провела, погладила, со лба испарину вытерла и тихо сказала:
– Ничего, моя хорошая, еще денечек отпотеешь, и лучше станет. Вытянет с тебя баба Устинья дрянь эту, и не с таким боролась.
В эту минуту рыжий Тимофей мягко запрыгнул на кровать к больной и свернулся калачиком в ногах девушки.
– Ну вот и все… отогнали мы от тебя Костлявую. Тимоша рядом лег, а если лег, то завтра глаза откроешь. Правильно, Тимыч, своих, рыжих, охранять надо.
Устинья не ошиблась, Рыжая быстро на поправку пошла. Словно организм какой-то толчок получил и начал с хворью воевать. Смертельно сопротивляться ей. В себя, правда, не приходила еще целые сутки, а когда глаза открыла и на Устинью посмотрела озерами полными отчаяния, у той сердце в камень сжалось. И какая-то ж мразь посмела обидеть, как рука поднялась только.
– С возвращением! – громко сказала Устинья и бульон горячий к потрескавшимся губам поднесла.
А девчонка тут же на постели подскочила и живот руками обхватила, глаза свои бирюзовые округлила и как закричит:
– Ребенок моооой!
– Тшшш! Все хорошо. Не кричи. Там твой ребенок. В животе твоем сидит и есть хочет. Корми давай. А то совсем голодом заморила. Мог бы, сказал бы тебе пару ласковых.
Девчонка кружку тут же забрала с куском хлеба и жадно начала уплетать. То ли от голода, то ли из-за ребенка. Но аппетит ее знахарке понравился. Она стул придвинула и рядом у кровати села.
– Звать тебя как? Родители, небось, с ног сбились. Может, передать им, что жива ты?
Она отрицательно головой качает, проглотила хлеб.
– Нет у меня никого… И имени нет. С ног только нелюди сбились, пока меня искали. Больше некому искать.
– Как же имени нет… А я документы нашла. Вроде там написано, что Таней звать.
– Раз написано, значит так и есть. Пусть будет Таня.
А она вовсе не беззащитная, как показалось. Сильная, гордая и все эмоции в себе держит. Не Татьяной ее зовут. Не ее это имя. И документы тоже не ее. Устинья ощущает, что совсем другое имя у девочки.
С этой секунды гостья за свое здоровье сражалась изо всех сил, все, что баба Устя говорила, все делала. На ноги встала уже через несколько дней. Забавная, пыталась с котами подружиться, а коты у знахарки особенные. У каждого своя история о человеческой жестокости, у каждого своя боль. И никто людям особо не доверяет. Устинья их не трогала, всегда ждала, когда сами подойдут ластиться или на колени запрыгнут. Никто из ее гостей (так она называла тех, кто лечиться приезжал) котов не трогал. То ли люди такие попадались, то ли коты держались подальше. А эта в первый же день сцапала Лукрецию. Нашла кого сцапать. Притом просто подошла, пока та на подоконнике сидела, и на руки взяла. Устинья хотела крикнуть, чтоб бросила – эта ведьма может и глаза выцарапать, но не пришлось. Черная мохнатая предательница ткнулась мордой в руки Рыжей гостьи и начала тереться о ее пальцы. Про Тимыча Устинья вообще молчала — этот подлец переселился к девчонке и спал теперь у нее в ногах. Животных не обманешь. Они хорошего человека за версту чуют.
Когда совсем болезнь прошла, гостья начала собираться уходить, только баба Устя знала, что не к кому ей идти. Та, как вещи сложила, а вещей и нет совсем. Только то, что Устинья для нее нашла. От гостей пооставалось. Кое-что перешила, подогнала под тонюсенькую фигурку Рыжей. Документы и деньги в пакет сложила и к груди прижала. И то там тех денег не на что особо и не хватило бы. Знахарка недолго думала, посмотрела, как Тимыч жалобно мяукает, а Лукреция у двери улеглась, словно дорогу перекрыла, и сама тоже решение приняла.
– Оставайся. Места в хате хватит. Еще одна тарелка супа найдется всегда. И не скучно мне будет, не так тоскливо. Я за тобой присмотрю, а ты за мной.
Девушка у двери стоит и смотрит на знахарку так, словно впервые увидела. Словно не верит ей совсем. Словно добра в жизни никогда не встречала.
– Не могу. Если искать меня будут… к тебе придут, баба Устя. Соседки скажут, гостья у тебя. Это страшные люди. Не хочу подставлять.
– Не придет никто. Не ищут тебя. Я узнавала. Если б искали, уже б нашли. Оплакивают тебя, а не ищут. Схоронили, видать. Так что оставайся. Соседкам скажу – племянница моя. Родственница покойного мужа. Он такой же рыжий, как ты, был.
И она осталась, а в жизни Устиньи вдруг все переменилось. Все иными красками заиграло. Как когда-то, когда муж еще жив был. И девчонка теплая такая, мягкая, лучи солнца от нее исходят. Колючая, как еж, а в тоже время любви в ней нерастраченной океаны целые. Только в душе ран много. Свежие они, кровоточащие. Она их оберегает и тронуть не дает. Там раны Устинья лечить не умела, только не трогать и не бередить. Вопросы не задавать. А так бы, если б могла, зашила б и залатала дыры на сердце, бальзаму наложила, перевязала. Сама не заметила, когда прикипеть к Рыжей успела.
Девчонка только по ночам кричала, живот руками закрывала, а иногда по имени мужчину звала. Стонала и плакала. Просила о чем-то. Утром, правда, молчит, не рассказывает ничего, и знахарка не спрашивает.
– Если сны дурные беспокоят – расскажи, не держи в себе, легче станет. И растолковать могу.
– Пусть беспокоят, – тихо сказала и кусочек рафинада в рот положила, – я не снов боюсь, а яви. Во сне все по-другому. Иногда так в сон хочется.
Устинье тоже в сон хотелось. К Гришке. Молодой он там вечно был, хитро смотрел на нее, манил, как когда-то.
Но теперь не так сердце болью сжирало. Не было больше одиночества. Сядут за стол деревянный по утру, телевизор размером с коробку обуви включат и смотрят вдвоем, чай пьют. Потом вместе дома прибираются. Вроде и не разговорчивая гостья у нее, а все равно тоски такой нет. Посмотрит на Рыжую и тепло внутри становится. Оно в ней живет, тепло это. Бывают люди такие – с теплом внутри рождаются, а кто-то со льдом.
Устинья, как в лес пойдет, свежие ягоды ей приносит, а сама не нарадуется – в доме все убрано, по хозяйству сделано и девчонка сидит котам пузо чешет. А потом вдруг что-то по телевизору увидела, побледнела вся, на смерть похожа стала, даже черты болью исказились. Вскочила с табурета и на улицу выбежала. Устинья траву на стол положила и голову подняла, всматриваясь в экран… Мужчину узнала, да и как не узнать мэра города? Он к ним как-то в деревню наведывался, дороги сделать обещал, школу открыть и медпункт. Слово сдержал. Но Устинья его хорошо запомнила… вот как от девчонки тепло исходило, от него холодом веяло замогильным… Нет, не тогда, когда к ним приезжал, а сейчас. Вроде через экран смотрит, а ей холодно сделалось, мурашки по коже пошли. То ли сам он не жилец и болезнь его точит, то ли схоронил кого. Но лица нет на нем и глаза мертвые. Смотреть страшно. Устинья телевизор выключила и за девчонкой пошла. А та в сарае плачет. Навзрыд. Так плачет, словно душу ей кто рвет на куски. Знахарка рядом в солому села и рукой по рыжим волосам провела.
– Плакать – это хорошо. Слезы душу очищают, сердце, помогают заново родиться. Но боль твою и дите чувствует. Тебе больно и ему. Он внутри вместе с тобой плачет.
– Грязная у меня душа… плохая. Не очистится она.
– Раз ты так говоришь, значит уже очистилась. Идем, милая, идем чай допивать.
Вопросов лишних не задавала, но где-то внутри боязно стало. Не зря девчонка боялась, такой матерый враг у нее. Тот, если б нашел, и правда, милости б никто не дождался.
Время быстро пролетело. Оно всегда быстро летит, когда хорошо становится, а Устинье хорошо с девчонкой было. Уютно как никогда. Не тоскливо. Уйдет в деревню или в город уедет, а вернется, и Рыжая ее с котами ждет. Животик округлился, сама чуть поправилась, щеки порозовели. Навстречу выбегает, сумку заберёт, что-то щебечет, про котов, про корову. А Устинье и не верится, как раньше жила без нее. Столько лет одна и одна. Может, и правда, свыше ей послана вместо дочерей нерожденных.
И проведать, прознать все о девочке хочется. Чтоб уберечь и защитить. Давно Устинья за карты не бралась… а тут прям захотелось. Как в спину что-то толкало.
– Ты иди, Танюша, Буренку подои и сена ей дай. А я тут посижу, сериал посмотрю. Устала с дороги… умаялась. Иди-иди.
Девчонка ушла, а Устинья быстро колоду на столе разложила по три веера и долго бубнового валета с трефовым королем и пиковым тузом в руке крутила– вертела. Валет вроде как ребенок… а король… Мужчина то ли взрослый очень, то ли в чине. Военный… врач. Ничего не понятно. Казенный король. Так бабка его называла. Как карты не отбросит, так вот эти три вместе и остаются, и девятка рядом бродит… черная страшная, пикой вверх смотрит.
Устинья колоду сгребла, плюнула на нее и сунула обратно в ящик. Не надо было гадать. Слово ж себе давала, что карты в руки не возьмет больше, а сама… Беду еще, не дай Бог, на девчонку и на ребеночка накликала. Плохая карта и туз пиковый – удар страшный и болезнь в виде девятки рядом оставалась. Или сноровку баба Устя потеряла былую. Разучилась в будущее смотреть после смерти Гришки. Столько лет карты в руки не брала.
Потом, как в городе была, кое-что проведала. Люди иногда любят болтать, языками трещать. Особенно сплетни всякие разводить. Так и прознала Устинья, кто такая ее гостья… много чего прознала. И картинка всеми кусочками сложилась и красками заиграла, правда, в темноте, туманом затянутая. Могла знахарка на нее свет пролить, но не ей в чью-то жизнь вмешиваться и судьбы вершить. Нельзя. Не положено.
***
Месяца три с тех пор прошло.
В то утро налила себе чаю из брусники и телевизор включила. Лучше, и правда, посмотреть что-то глупое, ненавязчивое. То, чего в жизни не случается.
В окошко глянула – а Рыжая на веревочку бумажку привязала и Тимыча развлекает. Первые хлопья снега срываются, а она и не замечает. Сама еще дитя дитем… А от этого волчары понесла. Вот кто с девчонкой трефовым королем рядом крутился. Угораздило ж малышку так. Любовь зла. Ох как зла. Чего только не творит эта лютая ведьма то с косой, то с цветами в руках.
– Мы вынуждены прервать показ сериала «Голубая нить» для экстренного выпуска новостей. Только что, на центральной площади нашего города, у здания суда раздался выстрел, был ранен в голову наш мэр – Барский Захар Аркадьевич. Скорая прибыла в течение нескольких минут и в тяжелом состоянии доставила пострадавшего в больницу. Врачи пока не дают никаких прогнозов и не отвечают на вопросы. Возможно, ранение было смертельным. По словам очевидцев… снайпер…
– Баба Устяяя. Устиньяяяя..
Знахарка подскочила с места и выдернула телевизор из розетки. Обернулась к девчонке, стоящей на пороге. Щеки разрумянились, в глазах слезы стоят, подбородок дрожит.
– У меня… я ребеночка почувствовала. Вот здесь… – руку к животу приложила, – он меня несколько раз легонько ударил. Здесь. Со стороны сердца. Как будто рыбка хвостиком махнула. Это ж он, да?
– Да… это он тебя потрогал изнутри…
И сама руки стиснула… так вот, значит, кому и удар, и болезнь. А может, и сама смерть.
Глава 7
Отверженным быть лучше, чем блистать
И быть предметом скрытого презренья.
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать.
Опасности таятся на верхах,
А у подножий место есть надежде.
Король Лир
© Уильям Шекспир
Я сидел в кресле перед монитором ноутбука и смотрел на девчонку, потягивая скотч и сбивая пепел с сигары. С тех пор, как ее провели в комнату и закрыли там на ключ, она не переставала рыдать навзрыд.
Нет, я не испытывал жалость. Мне вообще неведомо это чувство. Оно недостойное и ненужное ни тому, к кому его испытывают, ни тому, кто настолько слаб, что может себе позволить жалеть. А сочувствия и сострадания я лишился еще в юные годы, как ненужного балласта. В моем мире оно ни к чему. Я смотрел на нее по трем причинам, и все три меня выбивали из равновесия.
Первая – она мне нравилась. Да, она мне дико нравилась. Притом нравилось в ней все, даже ее странное поведение и ее слёзы. Ненавистные мужиками женские слезы, где я не отличился эксклюзивностью и дергался от раздражения, когда очередная подружка вытирала платочком слезу, выжимая из меня чек на какую-то херню, без которой, по ее мнению, она не может быть счастлива. Знаете, что мне нравилось в этот момент? Показывать истинную цену счастья и в чем оно заключается. Например, приказать при ней утопить ее любимую кошку в унитазе, а может, отправить на тот свет престарелую бабушку или сжечь оранжерею с цветами? Я смотрел, как они менялись в лице, бледнели, дрожали, и хохотал, заливался смехом. Интересовался – насколько они будут счастливы, если я выпишу чек с удвоенной суммой, но они лишатся чего-то очень любимого. И тут выплывают причины истинного счастья. Никто не готов расстаться со своими слабостями и привязанностями.
В этот момент я их ненавидел… Почему? Потому что у них было что-то кроме денег, что делало их счастливыми. Я им завидовал. У меня не было. Даже моя мать никогда не могла сделать меня счастливым, хотя и любила меня только одной ей понятной и специфической любовью.... Пожалуй, единственная в этом мире, кто меня любил. Своеобразно, но все же. Меня это не расстраивало. Мне гораздо больше нравилось, когда меня ненавидели и боялись. Партнеры по бизнесу, журналисты, конкуренты, политики. Деньги дают власть. Огромные деньги дают огромную власть. Все остальное лишь иллюзия выбора народа. Страх – вот истинная эмоция, которая правит миром. Тот, кто заставляет вас его испытывать – владеет вашим разумом. Все это фигня насчет чувства вины. Ложь безграмотных заграничных психологов и пафос цитаток, которыми пестреют аккаунты напыщенных идиотов, возомнивших себя умниками. Мне всегда нравился отрывок одного очень известного фильма, где главный герой убеждал конченого ублюдка, что прощать – это и есть истинная власть. И я был с ним всецело согласен, но не в том, что надо уметь прощать (тут мне сразу вспоминался Аль Капоне)*1, а в том, что власть – это не только иметь право выбора, а возможность предоставлять его другим… или не предоставлять.
Я снова возвращался мысленно к ней. Впервые мне нравилось женское имя, и я не просто его запомнил, а оно пульсировало у меня в висках, как мой член в ее неумелых руках всего каких-то пару часов назад. И эта неумелость завела похлеще самых изощренных и раскрепощенных шлюх. Меня это бесило и в то же время дразнило, как дикого зверя запахом крови. Мне хотелось понять, что в ней такого особенного. Почему меня вскинуло, едва ее увидел. И не понимал… Смотрел на нее вот уже несколько часов и ни хрена не понимал.
Пытался найти что-то отталкивающее, но в золотоволосой малышке не было ни одного изъяна, за который я мог бы зацепиться и начать остывать. Нет, маленькая игрушка заводила меня все больше. Очень красивая маленькая игрушка. Идеальная во всех местах. Прикоснулся к ней пальцами и спустил, как прыщавый подросток. Нет, не потому, что трогал ее плоть, а потому, что меня адски скрутило от ее реакции на касание. Искренняя, настоящая, до безумия вкусная. Она взорвалась у меня в голове калейдоскопом самых ослепительных осколков наслаждения точно так же, как потом затопило чернотой от ненависти в ее взгляде.
Потому что, да, я, бл*дь, не привык, чтоб игрушки показывали свои эмоции, я достаточно много им платил, чтобы они играли для меня оргазмы, охали, ахали и закатывали глаза. Безо всяких истерик. Но она не истерила. Нет. Она просто смотрела на меня с такой лютой яростью, что мне хотелось ее раздавить или задушить… и именно поэтому, когда пронзительная голубизна ее взгляда подернулась дымкой возбуждения, меня как током шибануло. И всего вот этого стало ничтожно мало. Захотелось получить от нее намного больше. Сжирать ее эмоции. Каждую. Не важно какую. Они все имели обалденно острый вкус. Пряный, незнакомый мне ранее вкус непредсказуемости.
Вторая причина – ее слова о том, что устроилась ко мне горничной. Я не нанимал персонал с тех пор, как этим занялась моя мать. И я не вмешивался в этот процесс. Меньше всего меня волновала безликая, почти не появляющаяся на глаза обслуга в униформе. Ими руководил Антон – мой управляющий и начальник моей личной охраны. Он отбирал их и интервьюировал после первично отбора, он решал – кого и когда уволить, за что уволить и дать ли при этом выходное пособие. Мне лишь приносились бумажки для подписи, составленные моим юристом. Поэтому ошибки быть не могло, и сучка мне лгала. У меня было пару версий на этот счет, и мне не нравилась ни одна из них. Но больше всего бесила мысль, что я ей противен. Она засела занозой в мозгах и ковыряла меня изнутри. Захотелось узнать, а кто был не противен. Кто вообще касался ее тела и сколько их было. Раньше меня это не волновало никогда. Кого интересует – сколько раз и кто спал на гостиничной кровати, если она красивая. Выглядит идеально и все простыни новые, хрустящие и пахнут цветами? Их можно смять, испачкать и выкинуть в стирку, и назавтра забыть, как называлась эта гостиница. Так вот, мне вдруг стало важно, кто до меня трогал мою игрушку и из какого магазина мне ее привезли.
И третья причина – мне еще никогда не было настолько интересно играть. Я буквально взрывался от ядовитого удовольствия, когда она посылала меня к дьяволу и готова была расцарапать лицо. Я трогал эти царапины и улыбался. Меня захлестывало азартом, желанием измять, испачкать, потрогать изнутри, ставить там свои метки. А перед глазами стояла картина, как она идет впереди, едва ступая на носочках по снегу босыми маленькими ступнями. Стройная, тоненькая в моей рубашке, через которую просвечивает полоска черных трусиков, и эти волосы…. волосы божественны, я мог смотреть на них бесконечно. Они опускались ниже ее колен и раскачивались тяжелой золотой волной при каждом шаге. И эти чулки – один на щиколотке, а второй скрутился под коленом. Образ потрёпанной невинности. У меня зашевелился член, снова вставая, несмотря на то что я только что кончил.
Снова взгляд на экран – ходит туда-сюда по комнате, то закрывает лицо руками, то мечется у окна. Стала у зеркала, вытирает слезы, судорожно вздрагивая. И эти по-детски изогнутые губы… я никогда их не целовал. Своих шлюх. Их рот слишком во многих местах побывал, чтобы удостаиваться поцелуев. Я трогал их губы, я мял их пальцами, засовывал их туда и трахал. Я обожал их иметь и смотреть, как я их имею… но целовать. Я не целовал в губы даже свою жену. Покойную жену. А тут почему-то подумалось, что капризные губы солнечной девочки могут быть сочными и сладкими на вкус. И мне это не понравилось. Вот эти мысли.
Собрала волосы, тяжело дыша, закручивает в узел на макушке, а я снова смотрю на ее грудь под тонкой шерстяной голубой материей платья, выданного ей прислугой. Как у истинного любителя кукол, у меня была для них одежда. Ведь в них интересно играть по-разному. Не только раздевать, но и одевать, чтобы раздеть самыми разными способами. Иногда я больше любил смотреть, как они одеваются, чем как раздеваются.
Голубая ткань четко обрисовывает соски… и я тру палец о палец, вспоминая, какие они острые на ощупь. В паху снова все трещит по швам от болезненного стояка. Пошла в ванну. И я переключил камеры, продолжая наблюдать. Открыла кран и начала тщательно мыть руки. Сильно трет мылом. С остервенением, еще и еще. И меня вскинуло от ледяной ярости – это она после меня. Вот же тварь. Брезгливые мы? А взять деньги она не брезговала? Сучка лицемерная, как и все они. Придумала историю про брата слезливую, как в дешевых мелодрамах. Брат у нее умирает.
Лживая, как и Марта, жена моя покойная. Только та играла для меня любовь неземную, а я помнил, как она целовала в губы моего отца и называла «котиком» при матери. Потом она попыталась назвать котиком и меня, и долго не могла улыбаться, потому что я разбил ей губы. Я любил, чтобы они называли меня по имени. Кстати, моя игрушка ни разу не сказала его вслух. И мне вдруг ужасно захотелось узнать, как оно звучит ее голосом. И я узнаю. Уже сегодня.
Девчонка сняла платье и стала под душ, а я откинулся на спинку кресла и закинул ноги на столешницу, жадно рассматривая ее тело. Упругое, молочного цвета, точеное, словно фарфоровое. Меня возбудили даже ямочки на ее пояснице. Красивая шлюха. Шлюха, которая какого-то хрена говорит мне «нет». Может, я и извращенец, но я беру только если «да», каким бы это «да» ни было. Я заставлю его сказать и даже попросить. Потом мне может стать не интересно и даже эрекция пропасть… А эта дрянь упорно повторяла свое «нет» каждым жестом и каждым взглядом. Именно поэтому мне дико хотелось ее сломать и именно поэтому мне дико хотелось ее трахать до потери пульса.
Взял трубку внутреннего телефона и набрал Антона.
– Пусть моей гостье принесут коньяк и апельсин. Скажи, я распорядился, чтоб выпила и съела.
Поставил телефон на место и снова посмотрел на нее. Плачет. Опустилась на мраморный бордовый кафель и захлебывается слезами. Приблизил изображение еще и еще ближе. Красивая, даже когда плачет. Мне вдруг до боли захотелось увидеть, как она кончает. Вот такая в слезах… как она запрокинет голову и захлебнется криком, как закатятся эти синие глаза и задрожат ажурные черные ресницы.
Взял сотовый и набрал Гошу.
– Кто эта Сеня, которую ты мне подсунул?
– Тщательно отобранная для вас девочка, Захар Павлович.
– Ты мне лжешь. А я не люблю спрашивать дважды, но я сделаю для тебя исключение. Что за неопытную шлюху ты мне подсунул и где ты ее взял?
В трубке повисла тишина.
– Я жду.
– Нннне знаю. Ларка привела в офис, и она каким-то образом попалась мне в коридоре. Увидел, что это ваш типаж и… если вам не нравится, я найду другую за наш счет. Я могу прислать за ней машину. Духу ее в вашем доме не будет. Вот сучка драная… Я же сказал Ларке – проинструктировать.
– Заткнись. Хватит причитать. Я не сказал, что ее надо менять, я спросил – кто она и где ты ее взял.
– Ларкина какая-то знакомая. Я не думал...
– Думать, Гоша, надо всегда. Желательно головой. Иначе потом без головы думать будет нечем.
– Захар Павлович, это первый раз такая ошибка.
– Я тебе на счет кинул еще денег. Мне понравилась твоя ошибка. А теперь узнай мне о ней все. Носом землю рой. Я хочу знать, когда родилась, где, кто ее мать и отец, где училась и работала. Чем дышит, чем увлекается, какого цвета трусы носит, когда последний раз была у гинеколога, с кем трахалась и трахается сейчас. У тебя времени до вечера.
Отключил звонок и решительно встал с кресла. Я хотел играться дальше. Моя игрушка манила и влекла меня к себе с дикой силой. К дьяволу сон. Посплю днем после встречи с ублюдком итальяшкой, который имеет мне мозги еще с прошлой недели и не подписывает контракт, а я еще не нащупал и не нашел, куда можно надавить посильнее, чтоб подписал.
Сейчас я хотел есть… у меня проснулся зверский аппетит, и есть я хотел не в одиночестве. Я достаточно заплатил за то, чтобы она садилась со мной за стол даже в шесть часов утра. Зазвонил внутренний телефон, и я услышал голос Антона:
– Она вылила коньяк, раздавила апельсины – ковер безнадёжно испорчен.
Я ухмыльнулся. Какая отчаянная девочка.
– Ты считаешь, что меня должен волновать ковер и мера его испорченности? Пусть ей принесут одежду к завтраку, и прикажи накрыть стол в южном крыле дома в прозрачной комнате. Мне как обычно, а для неё меню.
– Отправить к ней Кристину?
– Нет. Пусть умоется, переоденется и спустится к завтраку.
Чуть помедлил и добавил:
– А если откажется, позови парней и приведите ее насильно.
Глава 8
Гниющие лилии пахнут намного хуже, чем сорняки.
© Уильям Шекспир
Они тащили меня по лестнице вдвоем, а я сопротивлялась как могла, пиная их ногами, кусая за руки. Никто здесь не будет делать со мной то, что хочет. Такая дурочка… и самое мерзкое, что я понимала, насколько я глупая. Будет. Тот зверь, что здесь живет, он уже делает со мной все, что хочет. Даже если я буду кричать и взбираться на страшные стены темно-кровавого цвета, никто не обратит на меня внимание. Все эти пластмассовые манекены с равнодушными лицами сами боятся своего хозяина до смерти. Они, скорее, будут смотреть, как кого-то из них режут на части, чем пошевелят хотя бы пальцем, чтобы помочь. И это уже не равнодушие. Нет. Это страх. Человек, живущий в этом доме, внушал им панический ужас перед собой. Я это поняла, едва они втолкнули меня в одну из комнат. Очень светлую, похожую на аквариум изнутри. Такого же мрачного цвета, как и весь дом, но из-за огромных окон, которые являлись практически ее стенами, кроме той, что за моей спиной, она казалась более светлой, чем остальные. И мне почему-то в ней стало страшнее, чем в том темном лесу с собаками. Монстры живут не только в ночном мраке. Мой монстр сидел за столом в белой рубашке со свежей газетой в руках и смотрел на меня, как на завтрак. А за его спиной занимался рассвет.
Барский посмотрел исподлобья на своих людей и взглядом показал на дверь, а я метнулась было за ними, но тут же уткнулась лбом в деревянную поверхность, и глухой удар с автоматическим щелчком разнёсся эхом внутри, и я полетела в пропасть паники. Так и стоять, и не смотреть на него. За какие-то несколько часов он мне начал казаться самым жутким и ненавистным человеком во Вселенной, и еще мне казалось, что я знаю его ужасно долго.
Подошел сзади, и я зажмурилась, чувствуя омерзительный запах и в то же время самый сумасшедше-вкусный из всех, что я ощущала когда-либо. И за это ненавистный еще больше.
– Доброе утро, солнечная девочка.
– Чтоб ты сдох. Трижды и четырежды, и еще сто раз.
Тронул мой затылок все такими же горячими пальцами, а я дернулась как от удара.
– Тццц, как некультурно и невежливо. А знаешь, – губы зашелестели у самой кожи, а пальцы поглаживали чуть ниже кромки волос, – страх невероятно сближает. Намного быстрее, чем влечение или любовь. Стирает все границы и рамки приличия в одно мгновение. Страх превращает человека в животное за доли секунды, пробуждая самые древние первобытные инстинкты. Вряд ли ты бы была так невежлива с чужим человеком, правда, малышка?
Словно прочел мои мысли. Он прав. Я ненавидела его уже целую вечность, а не несколько часов. Я родилась с этой ненавистью к таким вот подонкам.
– Посмотри на меня. Я хочу увидеть твои глаза.
– Я не твоя вещь, я человек. И я требую отпустить меня домой. Тебя за это посадят, сумасшедший ублюдок!
– Оооо, мы даже на ты. Видишь, какой прогресс всего за несколько часов.
Убрал руку, и я с облегчением вздохнула, но совершенно напрасно, потому что через мгновение пальцы впились мне в затылок, и он развернул меня к себе насильно и впечатал в дверь. Волосы упали на лицо, а сукин сын аккуратно убрал их назад до последней волосинки.
– А теперь слушай меня внимательно, Сеняяя, и запоминай. Потому что я больше не повторю. Здесь все происходит только так, как я сказал, и с момента, как ты переступила порог моего дома – ты моя вещь. Более того, я за тебя заплатил. То есть я тебя купил. Как в магазине. А ты поставила подпись на чеке.
Говорит резко, грубо, но не кричит. И от этого сила его голоса не становится менее мощной, а наоборот, он вгоняет каждое слово под кожу и наслаждается той болью, что они причиняют. И в то же время его пальцы ласкают мою скулу. От мочки уха к подбородку и по шее, заставляя мелко подрагивать.
– Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Это правило номер один.
И от этого властного тона я не посмела не поднять на него взгляд. Это вышло само собой. И встретившись с тигриным взглядом, тихо выдохнула. Невыносимые глаза. Тут же впиваются в мой взгляд и намертво. Лишь на секунду оторваться, чтобы осмотреть ненавистно-красивое лицо вблизи. Свежий, словно спал всю ночь, волосы влажные после душа и пахнут шампунем. Возле глаз все те же озорные морщинки, которые кажутся чудовищными в облике этого монстра, потому что заставляют на секунду забывать, какая жуткая тварь стоит перед тобой.
– Умница, – погладил подбородок большим пальцем, – правило номер два – ты делаешь то, что я говорю, и за это получаешь от меня бонусные баллы.
– Мы что, на распродаже? – огрызнулась я, а его чувственные слегка влажные губы растянулись в невероятно ослепительной улыбке.
– Хуже, малышка. Распродажа закончилась. Товар у хозяина, и он раздумывает воспользоваться ли им, не бракованный ли он.
– Может, стоит его вернуть обратно, – шепотом, не в силах оторвать взгляд от белоснежных ровных зубов.
И вдруг рука сильно сжалась на моем горле, перекрывая кислород.
– Нееет, это слишком просто. Ведь его можно ломать… Отрывать по куску и любоваться, как он распадается на части в моих руках.
От неожиданности я распахнула глаза и втянула воздух, а он удерживал за шею и водил по-прежнему большим пальцем по моему подбородку.
– А третье правило, – посмотрел на мои губы и облизал свои, а потом засмеялся, – его нет. Просто три звучит интереснее.
Разжал пальцы, и я закашлялась, а он с невозмутимым видом рассматривал мое лицо и приглаживал мои волосы за ухо. Потом повертел перед моим носом сотовым телефоном.
– Вот это – бонус… малышка. Правда, ты его хочешь? Позвонить… маме, кажется?
Я инстинктивно хотела схватить аппарат, но ублюдок убрал руку дальше.
– Его надо заслужить.
Как же я его ненавидела в этот момент, до слез, до дрожи в коленях и сведенных скул.
– Итак, условия получения бонуса. Ты переоденешься в ту одежду, что я дал. При мне. Ты со мной поешь. И ты возьмешь у меня в рот. Твои губы созданы для того, чтобы ублажать меня.
Я задохнулась, а он вернулся за стол. Положил сотовый на прозрачную столешницу и с отвратительной улыбочкой подтолкнул его в мою сторону.
– И я забыл сказать… ты ведь все равно это сделаешь. Но уже по-плохому. У тебя есть выбор, малышка. Я его даю далеко не всем. Считай, что и это твой бонус.
Откинулся на спинку кресла и поднес чашку к губам.
– Я жду… Пока не остыл мой кофе.
– Я не хочу никому звонить.
Наверное, если бы я его ударила, он бы удивился меньше, чем в эту секунду. Чашка застыла у его рта. Да, ублюдок. Не будет, как ты задумал! Языки пламени в его глазах кажутся живыми. Шевелятся и извиваются, то ли отражая пламя камина, то ли это игра моего воображения.
– Я хочу другой бонус.
Рука с дорогими часами и жгутами вен на запястье медленно опустилась, и он поставил чашку на стол. Не задает вопросов, просто выжидающе смотрит. Как же тяжело выносить его взгляд. Он действует на нервы своей пронзительностью. Кажется, меня прибили гвоздями и препарируют, при этом с особой тщательностью наматывая нервы на скальпель.
– В моей сумочке лежит конверт с вашими деньгами.
Тигриные глаза сузились, и пальцы один раз постучали по столешнице, сверкая перстнем с черным камнем на безымянном, закрывающим почти всю фалангу. Я вспомнила, как эта рука перехватила мою, заставив сомкнуться на его члене, и вся кровь бросилась мне в лицо. Да, мы стали друг другу ближе за эти часы намного больше, чем я с тем же Стасом за пару лет.
– Там же, в карманчике, есть номер расчетного счета фонда. Пусть ваши люди положат деньги на него, на имя Самойлова Дмитрия.
В комнате повисла тишина, она заняла ровно несколько секунд. Барский взял в руки газету и швырнул ее на диван, отодвигая пепельницу, снова посмотрел на меня. Нет, я больше не искала в нем жалости и сострадания. Их там точно нет.
– Мой кофе почти остыл.
Это означало «да»? Я вообще не понимала этого человека. Не понимала, зачем ему это все? Если он ожидал шлюху, то какого черта, поняв, что я не собираюсь выполнять его прихоти и ублажать его – не заменить меня на другую? Но больше всего меня заботило, чтоб мама получила обещанные ей деньги. И ради этого…, наверное, ради этого я была готова на все. Или почти на все. Ведь он отпустит меня, когда все закончится? Я искренне на это надеялась. Я все еще была наивной девочкой.
Сняла через голову шерстяное голубое платье, оставшись в трусиках и лифчике, и потянулась за пакетом, стоящим на кресле, как вдруг услышала его голос. Чуть хрипловатый, как будто севший.
– Не одевайся. Иди к окну.
Взгляд Огинского заполыхал, как там, в том домике, и меня обожгло волной ярости с примесью какого-то трепета, как будто внутри метались бабочки со стеклянными крыльями и при каждом взмахе резали мне плоть. Во мне все противилось подчинению. Мне хотелось сделать назло. Не пойти, разбить окно, расцарапать лицо мерзавца. Но вместо этого я пошла к окну, как он сказал. Словно покорная кукла.
– Положи руки на стекло и раздвинь ноги.
В металлических нотках его голоса было что-то едкое. Что-то, заставляющее делать так, как он сказал. Встал из-за стола, а я вся внутренне подобралась. Пусть не подходит ко мне. Пусть не смеет вообще ко мне подходить. Солнце выкатывалось из-за горизонта очень медленно, и багровые лучи потянулись вместе с тенями по снегу, словно подбираясь к подножию усадьбы. Проклятое место. Я должна была бежать отсюда без оглядки в самом начале. Барский опять стоял позади меня, и эта близость пугала и нервировала одновременно.
– Я люблю встречать рассветы именно здесь. Ты скоро выучишь, где и в каких частях этого дома я провожу время.
Мне плевать – где ты, ублюдок, любишь встречать рассветы. Лучше бы ты их вообще больше никогда не встретил.
– Теперь ты будешь встречать их вместе со мной. Мы познакомимся поближе. Раскрой ладони и положи на стекло. Да, вот так.
От пальцев потянулись подтаявшие пятна, и ладони обожгло холодом. Мне вдруг подумалось, что при других обстоятельствах Барский мог бы ужасно мне понравиться.
– Я расскажу тебе страшную сказку, у которой есть два варианта конца. Когда я закончу – ты для меня кончишь.
– Скорее, сдохну!
– Ты знаешь… французы это называют смертью. Маленькой смертью.
Прошелся пальцами по моим плечам, лопаткам, очертил рисунок позвоночника, заставив выпрямиться и выпятить грудь. Руки скользнули вперед и дернули чашечки лифчика вниз. Его дыхание участилось, ошпарило затылок, и мое стало прерывистым и горячим вместе с ним. Я напряглась еще больше, потому что не хотела, чтоб он меня трогал. Но понимала, что это неизбежно. Он тронет. Тронет столько, сколько захочет. Я лишь молилась, чтобы ничего при этом не почувствовать. Но я еще не понимала, что он намного опытней меня и знает, как заставить мое тело играть ту мелодию, что он хочет.
– Однажды в старую лавку пришел купец. Он хотел купить часы для своей жены. – пальцы обхватили затылок и слегка подтолкнули меня вперед, заставляя коснуться стекла сосками, которые тут же сжались от соприкосновения с холодом, и по телу прошла неожиданная дрожь. Мужские ладони обхватили мою грудь и намеренно повели кончиками по ледяному стеклу. – Ты вся горишь, а холод заставляет тебя покрыться мурашками… и ты ненавидишь свое тело… Купец сказал ему, что в лавке продается всего лишь две пары часов. Золотые и деревянные.
Провел ладонью сбоку по ребрам, двинулся вниз к резинке трусиков, скользнул под нее назад к ягодицам. Сжал сильно, до боли, заставив всхлипнуть и задрожать от его гортанного низкого выдоха. Дьявольский голос и эта осторожная ласка заставляли замирать от странного удовольствия, которое злило, напрягало и сводило с ума.
Ненависть смешивалась с непонятным томлением от этих касаний. Искуситель… каждое слово вспарывает нервные окончания, дразнит, щекочет, как тонким опасным лезвием. Пусть бы лучше бил и причинял боль. Это было бы естественно, так проще бояться и ненавидеть. Его. Не себя. Себя мне ненавидеть не хотелось – это слишком больно, осознавать себя ничтожеством или животным с самыми первобытными инстинктами.
– Купец обрадовался и спросил цену. А когда услышал, расхохотался.
Почему? Почему я так реагирую на этого мерзавца? Что с ним такое, черт возьми, и что такое со мной? Я чокнутая, как и он? Пусть отпустит меня… я не могу так.
– Зачем я вам? – вырвалось из пересохшего горла, когда мне раздвинули коленом ноги, подбивая снизу ступни носком начищенной до зеркальной поверхности туфли. – Вы мне противны до омерзения. Каждое ваше прикосновение хуже смерти…
Ладонь резко зажала мне рот.
– Золотые часы стоили один доллар и деревянные сто долларов.
Пальцы другой руки скользнули к груди. Поиграли с соском, сильно сжимая кончик, оттягивая и заставляя дергаться и извиваться, чтоб вырваться, но подонок прижал меня к стеклу, вдавил в него всем телом. И я чувствовала спиной его сильную мускулистую грудь, и как колотится глухо его сердце, почти так же, как и мое, если не сильнее.
– Когда купец, естественно, выбрал золотые часы, лавочник сказал, что их можно забрать лишь после того, как тот подпишет бумагу, в которой обещает после своей смерти оставить лавочнику тысячу долларов и эти часы.
Рука нагло проникла мне между ног, я замычала, заскользила ладонями по стеклу, но мужские пальцы уже двигались между складками плоти, заставляя взвиться от уже знакомого ощущения дикой пульсации. И я уже не знала, я извиваюсь, чтобы вырваться, или потому что мне нравится то, что он делает со мной.
– Это была точно такая же сумма, которая лежала у купца в кармане. Тот пожал плечами – он не стар и умирать не собирался, почему бы не подписать? Тем более часы поблескивали и манили драгоценными камнями. Протяни руку и возьми. Такая выгодная сделка.
Этот голос. Господи, почему у него такой невыносимо красивый хриплый голос? Он дразнит каждый напряженный в теле нерв, как и его ласка. Грязная, такая омерзительно грязная, как и весь он. Испорченный, циничный сукин сын, привыкший получать от жизни все. Раздвигает нижние губы, и я хватаю его за запястье так обреченно бесполезно, потому что он растирает ту самую пульсирующую и набухающую от каждого скольжения точку. Растирает медленно, не обращая внимание на то, как я царапаю его руку.
– Купец… какая же ты горячая, малышка, такая острая и твердая там… он подписал бумагу… даааа, твою мать, потеклааа девочка, – так пошло… так пошло-прекрасно звучат эти слова контрастом с его грубой наглостью, палец спустился вниз к самому входу и слегка вошел внутрь, заставляя меня снова начать дергаться, – какая же ты маленькая здесь. Тссс… расслабься, тебе же нравится. – и рывком на всю длину так, что зашлась, закатив глаза и выгнувшись назад.
Все замелькало и закрутилось под зажмуренными веками, я хватала воздух широко раскрытым ртом и дрожала как в лихорадке. Внизу живота зарождалась странная тяжесть. Сладкая боль, которую я никогда раньше не чувствовала. Я словно видела, как его сильные мужские пальцы с аккуратными ногтями растирают мою розовую плоть вкруговую умелыми властными движениями… Я представила это, и ощущение, что я сейчас умру, усилилось. Болезненно остро и так сладко колет самый кончик бугорка под его лаской, обвивает спиралью, тянется вниз, где палец ритмично и сильно входит в меня, чтоб тут же выскользнуть, размазывая влагу по вздрагивающему клитору и заставляя зайтись стоном-мычанием под его ладонью, зажимающей мне рот.
Та странная боль накрывает остро и медленно, отступая и снова сильными волнами захлестывая сознание. Задыхаясь, как в агонии, пытаюсь все же вырваться, испуганная, взмокшая и дрожащая, но он держит мертвой хваткой. И я чувствую спиной, как напряглись мышцы на его груди и стала влажной рубашка.
– Когда довольный своей покупкой купец выходит на улицу с золотыми часами в подарочной коробке, порыв ветра срывает железную вывеску…, попросишь меня не останавливаться, Сеняяя? Ты ведь уже близко?
Не знаю к чему… но, да, я близко. И мне хочется закричать, чтоб не останавливался, и в то же время проклясть его и убить за это унизительное понимание, что я в его власти. Сотрясаясь всем телом, срываясь на рыдание, дрожа, как от адского удара тысячами молний, я прошептала протяжное «неееет».
Барский умело сжал мой подрагивающий узелок, и оглушительно сильный экстаз, вспыхнувший от кончиков его пальцев там внизу, ослепил взрывной волной, окатившей все тело, заставившей забиться в его руках, судорожно сжимаясь мышцами лона вокруг все так же ритмично двигающегося внутри пальца под рычание Огинского, который уже буквально раздавил меня весом своего дрожащего тела.
– Купцу отрезало голову, она покатилась к крыльцу магазина. К самым ногам лавочника, – он говорил это, пока я сокращалась в мучительном болезненно-ослепительном наслаждении, которого раньше никогда не испытывала. От остроты ощущений у меня по щекам текли слезы. – Часы и тысяча долларов были отданы лавочнику, а жизнь купца стоила всего один доллар. Но он мог купить часы за сто долларов. Самые простые с золотыми стрелками и вечным механизмом.
Прижал меня к себе, подрагивающую, извивающуюся в его руках, ненавидящую себя за это унижение. Продолжает шептать на ухо, продлевая агонию наслаждения своим проклятым голосом и пальцами, поглаживающими чувствительную плоть.
– Никогда не стоит заключать сделку с дьяволом, как бы заманчиво она не звучала.
Я плакала с закрытыми глазами, а он ласкал меня там внизу, заставляя вздрагивать, и продолжал шептать.
– А говорила – омерзителен, и так сладко кончила… это был твой первый оргазм, малышка, верно? И ты продала его мне за звонок по телефону… дешево, не находишь? Я бы заплатил за него намного больше, если бы ты мне не лгала.
Убрал пальцы от моего рта.
– Звони. Я никогда не нарушаю обещаний.
Я тяжело дышала и едва стояла на ногах. Это было намного более сильным унижением, чем если бы он заставил меня сделать то, что он хотел. Барский заставил меня его захотеть… и это намного хуже любого насилия над телом. Он насиловал мою душу и наслаждался каждой секундой этого насилия.
– Я просила другой бонус.
– А я разве сказал, что собираюсь менять награду? Хочешь другой бонус? Его надо заслужить. Одевайся, садись за стол, и мы обсудим пункты сделки еще раз. Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Честно отвечать.
– Я не хочу ничего у вас заслуживать. Пока вы не сделаете то, что я попросила, я не выполню ваших пожеланий.
Ухмылочка, за которую хочется расстрелять в упор. Я даже представляю, как в нем появляются дыры и он истекает кровью
– А ты, я смотрю, не такая уж и дура.
– А вы все же такой же подонок, как я и подумала при нашей первой встрече.
– Ай-яй-яй, ты хочешь меня задеть, малышка? Ты, правда, думаешь, что у тебя выйдет, м?
Я ничего не думала. Только о том, что, если когда-нибудь мне попадётся в руки оружие и он повернется спиной, я зарежу его без колебаний.
– Звони! – и он впервые повысил голос. – Пока я не передумал!
Едва я протянула руку к телефону, он вдруг его забрал и сунул в карман.
– Я уже передумал.
– Почему? – простонала я, не понимая, как бегу за ним следом, пока он идет к двери.
– Потому что мой кофе остыл.
Едва распахнул дверь, его истуканы тут же вытянулись, глядя на него, как на бога.
– Заприте ее. Никуда не выпускать, пока я не вернусь из поездки.
Я не поверила своим ушам. Он серьезно?
– Пусть посидит, подумает с недельку.
У меня волосы встали дыбом, и сердце забилось до боли сильно так, что я задохнулась.
– Неделю? Я не могу неделю. У меня нет недели! Нетууу! Меня будут искать! У меня есть кому! Вы слышите? Вы не посмеете держать меня здесь неделю!
– Как и выбора. Его у тебя тоже больше нет. Хотя ты можешь придумать, как тебе выйти оттуда раньше. Я с радостью выслушаю твои варианты, – отрезал ублюдок и растворился в полумраке коридора.
Глава 9
Меня можно расстроить, но играть на мне — нельзя…
© Уильям Шекспир
Я смотрел, как внизу вихрем проносятся машины и лучи солнца путаются в крышах, прошивая снег фальшивым не долгосрочным алмазным блеском. Улицы Рима припорошило легким снегопадом, но белое покрывало тут же начало покрываться черными дырами проталин. Где-то фоном что-то говорил переводчик, и до меня доносился голос Берарди. Мне не нужно было его слушать, я и так знал, что Грациано увиливает от сделки. И сейчас его нервирует моя спина и то, что я не вмешиваюсь в его разговор с моим советником и заместителем Марком. Я же смотрел, как снег на крышах переливается в солнечных лучах, и мне почему-то показалось, что, наверное, так же он переливался бы в Надиных волосах. В своих мыслях я называл ее по имени. Оно въелось мне куда-то в подкорку мозга и пульсировало там назойливой болью. Целый день я чувствовал ее запах на манжетах рубашки и у себя на лице. Он мне мешал думать и работать. Это раздражало. Особенно навязчивые мысли о ее теле. Я то и дело видел его перед глазами в разных ракурсах, и меня бросало в жар. Интересно, сколькие вот так западали на золотоволосую сучку? И что будет, когда я ее трахну? Я мог это сделать утром. Но не захотел… что-то в ее словах стопорило меня. Останавливало и доводило в то же время до исступления. Я никогда не брал женщин силой. Насиловать и рвать на сухую неинтересно. Мне нравилось насилие совсем иного рода. И больше всего я обожал видеть, как они извиваются от похоти. Поджариваются на огне своих грязных фантазий и готовы лизать подошву моих туфель, лишь бы я прекратил пытку и дал кончить. Я брал их тела и их падшие души. Мне нравилось нанизывать их на ниточку и развешивать гирляндами в уголках своей памяти вместе с ценником. А она тряслась в моих руках и ни о чем не молила… кроме как отпустить ее. Хрупкий белый цветок, его хотелось смять, сдавить, оторвать лепестки и в тот же момент становилось жаль расставаться с ароматом, который она источала. Я хотел взять каждый из лепестков и положить на язык. Долго жевать, высасывая вкус и аромат. Мне хотелось узнать, что там внутри. Под нежной оболочкой. Какие тайны прячутся? Есть ли там гнилые дыры, или это что-то по-настоящему вкусное в этот раз?
Перевел взгляд вниз, где снег растаял и превратился в грязное месиво, и возникло чувство едкого разочарования. Вся чистота всего лишь видимость. Стоит тронуть, и она тут же превращается в болото. Чистые к Гоше не попадают. К нему приходят те, кто хотят продать себя подороже.
Я резко повернулся к Грациано, и он замолчал, как и переводчик.
– Скажи ему, что у него есть два варианта: либо он уступает мне свою долю, или завтра в новостях появится его голая задница, которую вылизывает однокурсник его сына. Сколько ему было лет, когда Грациано первый раз кончил ему в рот? Так что пусть подписывает бумаги, либо запасается вазелином, когда его затаскают по судам.
Берарди изменился в лице, он дернул галстук и хватанул воздух широко распахнутым ртом. Проклятый итальяшка. Святоша, отмечающий католические праздники и произносящий молитву перед употреблением пищи, любил развлекаться с мальчиками в свободное от бизнеса и молитв время. Да, это были грязные методы давления. А кто сказал, что будет не больно, если сказать «нет» Огинскому?
Я поднял взгляд на итальянца и усмехнулся, когда он нервно начал ставить подписи на бумажках. Вот и все. Конец эпопеи. Сколько ненависти в перекошенном лице. Вот это правильная эмоция. Она нравилась мне намного больше, чем его лицемерная улыбочка и участливые вопросы о моей маме.
– Скажи, что он по-прежнему останется в совете директоров, но мы пересмотрим политику компании в отношении слияния с нашим филиалом в Венеции.
Зазвонил мой сотовый. Личный. Я бросил взгляд на дисплей и отошел снова к окну.
– Да, Гоша. Надеюсь, ты с новостями.
– Все узнал. Все, что вы просили.
– Мне на мейл сбрось.
– Да, конечно. Мы с Ларисой… мы подумали, что могли бы компенсировать, и в виде подарка…
– Я пока не хочу подарков. Мне нравится тот, что вы уже сделали. Позаботься, чтоб у меня не было проблем и чтоб ее не искали.
– Обязательно.
– Её документы привезешь мне.
– Конечно. Я сделаю все, что вы скажете.
– Выпрыгни из окна.
– Не понял.
– Я пошутил. Иди займись делом.
Пока Марк улаживал нюансы сделки с Берарди, я уже открыл ноут и щелкал по сообщению от Игоря. Не мог справиться с любопытством и злился на себя за это. Бред какой-то. Что в этой девке не так? Почему я думаю о ней? Может, на хер ее вышвырнуть? И тут же внутри поднялся протест. Такой силы, что аж тряхнуло всего. Вышвырну. Потом. Когда надоест.
Увидел ее фото и подался вперед, жадно пожирая взглядом. Красивая. По-настоящему красивая. Я в этом прекрасно разбирался после сотен женщин, прошедших через мою постель. Самых разных мастей и калибров. Ни у одной из них не было лица и ни одна из них не посмела сказать мне «нет».
Каждая черта лица аккуратная, маленькая и глаза в пол-лица. Взгляд глубокий, насыщенный. Не пусто в них. Не щелкают там доллары. Но как говорил мой отец: где не щелкают доллары, там уже нули не вмещаются. Иными суммами все измеряется. Я готов был платить. Много. За то, чтоб рядом оставалась и сказала «да», и еще понимал, что, если не скажет, я ее сломаю. Раскрошу в пыль.
Бросил взгляд вниз на часы. Всего полдня прошло. А мне вдруг ужасно захотелось свою игрушку. Взгляд зацепился за один из снимков. Портрет. Ее лицо крупным планом. Я никогда не видел раньше такого цвета волос. Натурального золотистого цвета. Нетронутого химией. Непроизвольно стиснул пальцы, вспоминая, какие они шелковистые на ощупь. Захотелось пропустить сквозь пальцы, намотать на кулак и потянуть на себя, пристраиваясь сзади, чтобы войти в нее одним толчком поглубже. И тут же волны злости поднялась изнутри – какого хрена я вообще это делаю? Рассматриваю ее.
А еще понимание, что не лгала мне. Не такая она, как остальные, которых поставлял Гоша. Она словно вообще из какого-то иного мира, незнакомого мне совершенно. Он разве существует на самом деле? Я привык к разному виду дерьма, которое прячется под шикарной внешностью, как под оберткой. Но дернешь верхний слой, и завоняет гнилью. Привык читать людские мысли лишь по одному взгляду или понимать с нескольких слов, что из себя представляет собеседник. А на ее снимки смотрел и ни черта подобного не видел. Вот она на мосту идет по парапету с шариками в руках, на другом фото серьезная смотрит в окно, а волосы в косы заплетены и платье длинное ниже колен. Ничего вызывающего. Девушка из другого измерения. И в то же время красота эта ее слишком яркая и одновременно нежная. Представил ее в дорогих брендовых шмотках или в мехах на голое тело, и в паху заныло. Захотелось играть. В нее. Прямо сейчас.
Я листал и листал фото, даже с Берарди не попрощался. Увлекся. Не заметил, как сам улыбаюсь ее фото с подружками. Нет, не в клубе с бокалами спиртного и сигаретами, а на какой-то вылазке у костра. Корчат рожи, перемазанные сажей, сидя на траве перед котелком с кипящей водой. И ни одного фото в трусах и в лифчике или с оголенной грудью, задницей, выпяченным рабочим ртом. Мне даже повеяло запахом дыма и захотелось втянуть этот запах с ее волос. На другом фото она вместе с каким-то ребенком на инвалидном кресле. Я подался вперед, всматриваясь в перекошенное лицо и скрюченные руки мальчика.
«На расчетный счет… Самойлов Дмитрий».
– И кто это?
Голос Марка отвлек от рассматривания снимков.
– Да так. Одна.
– Впервые вижу просто, чтоб рассматривали женщин. Таких…
– Каких? – я откинулся на спинку кресла, глядя на своего помощника и гадая, на каких женщин смотрит он сам. Меня раньше никогда это не интересовало. А сейчас стало любопытно.
– Не знаю, – он усмехнулся и наклонился над фотками. – Простых смертных.
– Что ты видишь? Какая она?
Марк удивился вопросу. Но вида не подал, склонился к ноутбуку.
– Настоящая, что ли. Не городская точно. Я бы сказал – простушка… но нет. Не скажу.
– Почему?
– Вот на этом фото она у себя в комнате. Посмотрите, на полке какие книги стоят. Она увлекается философией, классикой. Она была отличницей. Вот там, на противоположной стене грамоты висят, отражаются в стекле. Судя по всему, ракушки собирает, видите – сколько их у нее? Живут в нищете. Мебель в квартире еще с совковых времен.
Посмотрел на меня, усмехаясь. Но мне было не смешно.
– Думаешь, могла такая у Гоши работать?
– Нееет… Но черт его знает. Иногда в тихих омутах такие черти водятся.
Я вдруг вспомнил, как она извивалась в моих руках, захлебываясь стонами, и меня бросило в жар. Там не омуты, там бездна, и в ней водится нечто страшнее демонов. Демоны у меня самого имеются. И они хотят погрузиться в нее полностью. Разорвать нежную оболочку и рассмотреть ее изнутри.
– Мало ли зачем людям деньги нужны.
Я открыл фото с мальчиком в инвалидном кресле.
– Чем он болен?
– Похоже на ДЦП, но так сразу не скажешь. Оно не лечится. Конечно, нужны деньги на всякие терапии. Большие деньги. Так что, наверное, могла.
И меня опять волной злости захлестнуло. Грязный снег перед глазами появился. Значит-таки, шлюха. Причины уже значения не имеют.
– Я хочу знать о ней больше. Отправь туда кого-то из наших. Каждую мелочь. По песчинкам мне ее соберите.
Марк кивнул и протянул мне папку.
– Он все подписал.
– У него не было выбора. А теперь отправь весь материал, который ты нарыл по педофилии, по всем каналам новостей.
– Но…
– Я не уважаю пид****ов. И я не об ориентации сейчас. Отправляй.
Перевел взгляд на экран ноутбука и склонил голову на бок.
– Узнай, какой фонд собирает деньги для ее брата, для каких целей. Возьми под свой контроль. Доложишь мне.
Открыл последнее фото и почувствовал, как брови сходятся на переносице.
– А это что за лох? – сам себе под нос. – И про этого очкарика тоже мне все раздобудь. Самолет готовь на завтра и… найди мне шлюху. Русскую. Блондинку. Сейчас.
***
Я трахал ее всю ночь. Вертел так и эдак. В разных позах. Во все отверстия. И ни хрена. Не могу кончить. Под утро заплатил и на хер выставил заплаканную, еле стоящую на ногах. Да, после меня иногда трудно ходить. А у меня стояк болезненный адский. Яйца пухнут. Как сто лет не кончал. И я знаю почему. Ведьма золотоволосая в голове торчит и не выходит оттуда. Тело ее идеальное. Грудь с сосками красными. И губы. Я думал о них. Видел, как она облизывает нижнюю кончиком языка, и хотел сделать это сам.
За стол сел, фото ее снова открыл и сам не понял, как рукой дергаю вверх-вниз по вздыбленному, каменному члену, глядя в этот синий космос и вспоминая, как ее пальчики сжимали мою эрекцию и как мои пальцы погружались в ее узкую дырочку. Очень узкую. Можно подумать, она, и правда, девочка. Обхватила меня изнутри, и мне скулы свело от желания ощутить, как сожмет уже не палец. Испробовать на ней все грани своей похоти, глядя в ее голубые глаза полные ненависти и отвращения. Мне до зубовного скрежета захотелось стереть это выражение из ее глаз. Мне было нужно, чтобы в них было нечто другое. Я пока сам не знал, что именно…. например, боль?
Влажными салфетками руку вытер и набрал Антона.
– Что она делает?
– Спит.
– Ела?
– Нет. Как легла после вашего отъезда, так и не вставала.
– Заходил проверить?
– Нет. Вы велели…
– Проверь. И мне перезвони.
Глава 10
Ад пуст. Все демоны здесь.
© Уильям Шекспир
Мой отец никогда её не бил. Нет. И не кричал. Он не бил и меня. Вы думаете, насилие — это обязательно физические истязания? Ни черта подобного. Самое жуткое насилие – это когда ломают душу. Когда из твоего характера выжигают и вытравливают того, кем ты являешься, чтобы вместо него появился некто другой.
Физические раны затягиваются довольно быстро, те, что остаются в душе – никогда. И чем роднее тот, кто их нанес, тем сильнее они болят, даже спустя три вечности после того, как их нанесли. Мне не болело. Нет. Мне кровоточило. Нескончаемо и всегда.
Павел Барский просто стирал нас в порошок своим совершенным безразличием, цинизмом и саркастичным высокомерием. Он говорил о матери всегда в третьем лице, даже при ней. Деспот с синдромом абсолютного диктатора.
Он считал нас чем-то наподобие своих дополнений. То, что положено иметь и имеют все. У матери случались обмороки из-за высокого давления, а он мог переступить через нее и пойти на кухню пить свой кофе с утренней газетой. Я все это видел… и как бы это абсурдно ни звучало – я все равно хотел быть таким, как он. Чтоб уважал меня. Чтоб не считал гребаным слабаком, которого можно презирать. Но я всегда видел в его глазах только презрение. Когда стал взрослым и у меня появились собственные деньги – первое, что я сделал, это тест на ДНК, и был разочарован. Потому что хладнокровный подонок все же оказался моим отцом.
Я никогда не плакал. В какой-то определенный момент я понял, что разучился. Как и смеяться. Только ядовито, только так, чтоб собеседник почувствовал себя ничтожеством. Я каждый раз видел на его месте отца и представлял, как он мне аплодирует стоя. Да и зачем плакать, если на твои слезы наплевать самым близким для тебя людям. Когда-то меня побили в школе мальчишки, и я пришел домой в слезах. Мой отец осмотрел меня с ног до головы и сплюнул в мою сторону. Он не сказал мне ни слова. Ни единого слова. И он за меня не заступился. На следующий день я сломал обидчику пальцы. Раздробил дверью. Зажал в проеме и закрывал, пока он орал, а пальцы хрустели. Это был самый первый раз, когда я испытал удовольствие от собственной власти и от боли, которую испытывал мой обидчик. Ощущение сродни оргазму, когда от наслаждения подтягиваются яйца и обдает жаром низ живота. Он орет, а я давлю и закатываю глаза с черными синяками от кулака маленького говнюка. Впрочем, ему ампутировали верхние фаланги трех пальцев – я раскрошил его кости в порошок. После этого случая отец подарил мне коллекционный меч из серебра. Я обожал холодное оружие… Потом я пойму, что этот урок пошел мне на пользу.
Я восхищался отцом… но я же его и ненавидел. Так люто, как только можно ненавидеть близкого человека. Когда мать из-за него накинула петлю себе на шею и повесилась у себя в комнате на балконе, я, случайно забежав в родительскую спальню, держал ее за ноги и смотрел в пустоту… в ночной город, ожидая, когда придут на помощь и вытащат мою маму оттуда. А потом так же ждал у ее постели, пока бригада скорой помощи реанимировала Любовь Огинскую и приводила в чувство. Управляющий делами отца сунул врачам денег, чтоб те молчали о попытке суицида. Из-за чего моя мать хотела умереть? Отец завел себе любовницу и подарил ей дом в пригороде… По этой причине она решила оставить своего сына и эгоистично уйти в мир иной. Но я ей не дал. Потому что я сам был эгоистичным ублюдком, и я не любил расставаться с теми, кто мне дорог. В отличие от отца, мать мне была дорога. Почему? Черт его знает. Я ее любил и многое ей прощал.
В тот день я не кричал. Не рыдал. Не истерил. Я не разговаривал несколько дней. А потом пошел в комнату к этому конченому ублюдку и разбил клюшкой для гольфа все хрустальные статуэтки, что тот коллекционировал. Если бы он попался мне на глаза, я бы так же разбил ему лицо. Но у меня в ушах звучало «Тот, кто показывает свои эмоции – тот ничтожество и слабак. Самая великая победа – это победа над самим собой. Убивай противника мозгами и спокойно. Пусть он ссытся от страха, пока ты улыбаешься». И я давил на корню каждую эмоцию… но кто сказал, что у меня это получалось. Просто ни одна тварь никогда не узнает, что я чувствую по-настоящему. А со временем я и чувствовать перестал.
Но тот дом в пригороде снесли… после того, как его владелица повесилась. Официальная версия следствия… Ее похоронили у дороги. Отец даже не поехал на похороны. Какое-то время после этого я видел, как он входит в спальню моей матери, а та по утрам загадочно улыбается. Я не улыбался, но испытывал удовлетворение.
Я приурочивал каждую свою победу над ним – его высокомерным победам над маленьким сыном и собственной женой. Я отжал у отца пять компаний. Я разваливал его сделки и перекупал его партнеров, при этом занимая при нем должность мальчика на побегушках. И когда он исходил слюной и нервно дергал свой галстук в кабинете, после очередной проваленной сделки – я смаковал свой успех. Ведь он делал одну огромную ошибку – он не искал «суку» среди своих. Он был настолько самоуверен, что даже предположить не мог, что его предаю я.
Думаете, он умер, потому что я женился на его шлюшке? Ни хрена. У него таких было вагон и маленькая тележка. Он сдох, когда понял, что я отобрал у него концерн. Его детище с далеко идущими планами. Не просто отобрал, а вышвырнул его из совета директоров. Я обыграл его. Поставил шах и мат. Вот чего он не смог выдержать и околел вместе с бумагами в руках.
«Тупой ублюдок – вот ты кто, Захар. Тебе никогда не стать таким, как я. Ты маленькое и жалкое ничтожество, которое прячется за бабской юбкой. Что ты из себя представляешь? Ноль!»
Это он мне сказал, когда я захотел работать вместе с ним, и отправил в дочернее предприятие от концерна каким-то коммивояжёром. Так что мое наследство от отца было весьма и весьма сомнительным, ведь к тому моменту я и так владел его капиталами попросту потому, что смог их отнять.
Грустил ли я о нем? Мучили ли меня угрызения совести? Нет. Не грустил. Я лишь вздохнул полной грудью и наконец-то стал спокойным за свою мать. Которая каждый раз, как слышала о его новой шалаве, пила антидепрессанты и закрывалась в своей комнате. Пусть лучше оплакивает его, чем я буду оплакивать ее. Нееет, моя мать не была из этих слабовольных куриц, которыми можно помыкать. Она всегда вела себя как аристократка, исполненная чувства собственного достоинства. Никто и слезинки не видел на ее щеках и в ее глазах. После того, как я перестал разговаривать в детстве, я не услышал от нее даже отцовского имени. Впрочем, она и со мной всегда была сдержана. Ко мне не прикасались, чтобы обнять, поцеловать. Иногда меня гладили по голове, как зверушку. Мать считала неправильным проявлять свои чувства. Она говорила, что любовь не нуждается в словах и прикосновениях, она выражается в поступках. И что, если отец нас содержит в достатке, он нас любит, и соответственно, если она обо мне заботится, то я должен быть счастлив. Но я не был…. Счастливым я стал тогда, когда смог эту любовь покупать и платить достаточно денег, чтобы ко мне прикасались и делали то, что хочу Я.
И вот сейчас… когда я почти приблизился к четвертому десятку, когда приумножил свой капитал в десятки раз, когда каждый, кто меня знал… понимал, что ни хрена он меня не знает, и трясся от страха, глядя мне в глаза… я вдруг испытал их… Эмоции. Те самые. Которых не чувствовал несколько десятилетий.
Она сказала это треклятое «нет» и бросила мне вызов. Швырнула в лицо перчатку, и я этот вызов принял со всем азартом иссохшего от жажды в пустыне человеческой продажной предсказуемости.
Ярость на то, что кто-то смеет мне отказать, смеет смотреть на меня без должного уважения и благоговения. И я места себе не находил. Метался по комнате, как маньяк-извращенец, прокручивая в голове снова и снова каждый ее взгляд. Вот этот высокомерно холодный взгляд, за который хотелось сломать. Взять в ладонь и давить до песчинок между пальцами, и в тот же момент… я понимал, что не хочу этого. Мне впервые не скучно. Меня впервые за долгие годы трясет от похоти и маниакального любопытства. Места себе не находил, даже стало плевать на дальнейшие переговоры с бывшими партнерами Берарди. Мне хотелось увидеть ее. Крови ее хотелось и войны. Азарт пульсировал в висках адским интересом. Все потеряло свой смак. Даже этот жалкий педофил итальяшка, который застрелился в своем доме после того, как в новостях коммерческого канала обнародовали его страстный секс с другом старшего сына. Я пожелал ему царства небесного и снова вернулся к просмотру фотографий. Я, кажется, изучил ее лицо настолько, что мог его нарисовать… Когда-то я рисовал. Очень давно. В прошлой жизни.
У меня был учитель, который когда-то видел во мне не циничного морального урода, а обыкновенного мальчика… нет, не мой отец. Этому было слишком не до меня. Моим учителем рисования был наш старый дядька по материнской линии. Он работал в доме моей бабки, которая умерла еще до моего рождения, и мать, пожалев бедного родственника, взяла его к нам дворецким. К сожалению или к счастью, дядя Сема не дожил до моего четырнадцатилетия. Но он увидел во мне способности к рисованию и развивал их, как умел. Оказывается, он был в свое время известным художником и его выставки проходили в Париже и в Лондоне наравне с именитыми живописцами. Он учил меня рисовать с натуры…
Дядя Семен спал в маленькой комнате за лестницей, ведущей на второй этаж. Не потому, что его там поселили. Нет, он был таким человеком. Ему действительно никогда не были нужны деньги или какие-то материальные блага. Отец за глаза называл его "блаженным" и презрительно кривился. Сема деньги себе не брал и все свои сбережения отдавал приюту для бездомных животных. Но суть не в этом… Когда он заболел и его отправили в дом престарелых, куда по приказу моей матери возили толстые конвертики, чтоб за ним хорошо ухаживали, я начал его навещать. Иногда каждую неделю, иногда раз в месяц. Но обязательно ездил. И нигде мне не становилось более тоскливо, чем в этой обители смерти, где вот эти брошенные и преданные самыми близкими маленькие старые люди ждут свои последние секунды в полном одиночестве. И это хуже детей-сирот, хуже, потому что их бросили те, кому они отдавали свою жизнь и свое здоровье до той секунды, пока могли это делать, и стали ненужными, едва эта способность была отнята безжалостным временем. Дядя Семен был единственным, кого я уважал и любил искренней детской любовью. Совершенно бескорыстной и пронесенной через года. Время все же не властно над любовью и над ненавистью, если они искренни.
Когда я уходил из этого дома дичайшей тоски и ехал домой, я еще несколько часов не мог дышать спокойно, тогда я начинал ненавидеть людей. И я помню, как приехал туда последний раз… он меня не узнал. У него развилась болезнь Альцгеймера. Я долго сидел с ним у открытого окна. Он в коляске, и я на подоконнике. Мы молчали. Я думал о чем-то о своем, просто отдавая ему дань своим визитом, а он… ему, казалось, было все равно, что я пришел. А потом мимо пролетела бабочка. Пестрая с нежными тонкими разноцветными крылышками, и он встрепенулся, посмотрел на нее расширившимися глазами, ожил. Бережно взял в ладонь. Его восторг был каким-то запредельным… а через секунду он ее просто раздавил, продолжая смотреть в пустоту совершенно отрешенным взглядом. Я тогда не понял зачем он это сделал….
И вдруг сейчас почувствовал себя точно так же. У меня в руках была экзотическая бабочка. Диковинная с нежнейшими крылышками. И если я отпущу ее – я снова превращусь в камень с мертвыми глазами.
Я посмотрел еще раз на фотографию золотоволосой девушки с шариками и открыл мейл с досье, ожидая звонка Антона. Но тот не звонил. А я читал информацию, которую явно набросала жена Гоши. Много воды и никакой конкретики. Ничего о личных вкусах, предпочтениях. Сухое изложение на заданную тему. Портрет, который совсем не был похож на яркую девочку, которая въелась мне в подкорку мозга и дергала там ожесточенной болью непрекращающегося потока навязчивых мыслей. И вдруг сам не понял, что нарисовал шариковой ручкой ее портрет на листе бумаги… и продолжал водить по нему, дополняя блики на ее губах. Они не давали мне покоя… Мой первый рисунок за много-много лет. А ведь я больше не брал в руки краски… после того, как мать отложила мой рисунок на стол и спросила, что я ей подарю на день рождения. Рисунок, который ее сын рисовал больше месяца, подарком не был. Я решил, что и это ненужное проявление эмоций. Ночью прокрался в ее спальню, забрал холст и сжег в камине.
Воспоминания заставили поморщиться, и я сгреб в ярости лист бумаги, а затем сильно смял в кулаке и швырнул под стол.
Схватил сотовый и набрал Антона снова. Тот ответил не сразу… а когда ответил, его голос сильно дрожал.
– Пппростите… пппростите.
Он всегда заикался, когда нервничал.
– Что такое? Какого хрена у вас там происходит?
– Ее нигде нет.
– Что значит, нигде нет? Вы не заперли комнату?!
– Видно… видно окно в ванной не закрыли и… и… и…
– Забор под током и ворота закрыты.
– Дадада мы ищем...
Бл*дь, да что ж такое с ней. С самого начала какой-то наперекосяк. Какой-то ходячий апокалипсис, а не девка.
– Антон… не найдешь – больше никто не найдет тебя. Или найдут по частям. Выпусти собак.
– Уже.. ннно… они не нашли.
– Искать. Каждый миллиметр обыскать и найти.
Отключился и набрал Марка.
– Я вылетаю домой.
– Вы ведь позже хотели.
– СЕЙЧАС!
На том конце судорожно выдохнули. И я понял, что впервые за долгие годы не сказал это, а рявкнул.
Сучка! Как она это сделала? Найду и… оторву на хрен крылья. И перед глазами старческая ладонь Семена с раздавленной бабочкой. Внутри что-то дернулось, и я снова набрал Антона.
– Чтоб ни один волосок… понял? Собак придержи там.
Глава 11
Как можем мы с тобой говорить
О том, чего ты чувствовать не можешь.
© Уильям Шекспир
Меня продолжало трясти… от понимания, что мне отсюда не выйти еще неделю. Я не могла поверить, что это все еще продолжает происходить со мной. Господи! Неделю. Митя уехал с мамой в больницу, и они без денег. Без копейки. Из-за меня. Из-за моей глупости… Но от мысли, что должна была уступить Огинскому, внутри все сжалось в камень. Вопль протеста вибрировал внутри, дрожал и то повышал тональность, то понижал. Мне хотелось орать и бить кулаками в стены. Разве в наше время кто-то может насильно удерживать где-то человека? Меня никогда не наказывали даже в детстве, и я была в шоке. В каком-то ступоре и панической ярости. Меня от нее лихорадило или лихорадило на самом деле, я не могла понять. Но зуб на зуб не попадал уже несколько часов.
Я не плакала. Слезы уже высохли, я лишь металась по комнате, как раненая птица в клетке. Билась от стены к стене, смотрела в окно и опять нарезала круги вдоль и поперек комнаты. Паника становилась все сильнее, смешиваясь с жутким отчаянием. Я не могла думать ни о чем, кроме брата. О том, как мама проверяет баланс карты, и приходила в отчаяние, от которого хотелось выть, и в эти мысли вклинивался голос Огинского.
Его шепот. Хриплый, размеренно вбивающий под кожу каждый слог, прошивает ими узоры, болезненно сладко протягивая нитку через проколы. Пульсирует во всем теле грязными словечками, разрывает все мои представления о том, что мужчины говорят женщинам в такие минуты… Мне никто и никогда не говорил ничего подобного. И его прикосновения. Вопреки всему, что он делал, преодолевая мое сопротивление, они были такими вкрадчиво-тягучими, паточными, как кипящая карамель, оставляющая легкие ожоги. Вздрогнула, вспоминая ту самую секунду, когда забилась в его руках оглушенная, ослепленная самым острым наслаждением какое когда-либо испытывала в жизни. Понимая теперь, что оно означает, и сгорая от стыда.
Так унизительно. Так жалко. Презрение к себе захлестнуло с такой силой, что я задохнулась, прижимая руки к солнечному сплетению. Мне нельзя здесь оставаться, или я потеряю себя, я превращусь в одну из его шлюх, в одну из этих существ, о которых вытирают ноги и заставляют делать все, что хочет тот, кто заплатил. А еще было страшно, что ни одно из его прикосновений не было мне омерзительно до тошноты. А ведь должны были…
Ведь это ненормально! Это неправильно! Я не люблю его! Он мне даже не нравится! Я его ненавижу! Подонок! Он делает со мной все это насильно. А со мной что-то не так, раз я от этого испытала удовольствие. Как же я хочу вырваться отсюда и забыть каждую секунду, проведенную в этом проклятом доме.
Подошла к окну и прижалась пылающим лбом к стеклу. Ударила по нему несколько раз, и оно вдруг резко распахнулось настежь наружу. Я замерла, глядя на припорошенный снегом сад, словно зачарованный, как в сказке, на искрящееся под солнцем белоснежное зимнее кружево. Обманчивая красота, как и все в этом доме. Мишура, под которой кишат черви и грязь. Как и его хозяин – такой идеальный снаружи и прогнивший изнутри. Дом мне напоминал склеп или огромный организм живой и дышащий, пожирающий того, кто в нем очутился, кроме владельца. Перед глазами возникли ворота и машины, стоящие сбоку. Мы приехали вечером, и, когда въезжали, два минивэна как раз выехали за пределы усадьбы. Если бы мне удалось выбраться и залезть в один из них. Как-нибудь. Как показывают в фильмах. Ведь это так просто. Я бы смогла сбежать. Надо хотя бы попытаться. А не сидеть здесь сложа руки и ждать чего-то.
Бросилась к постели, лихорадочно напихала под одеяло подушку и вещи из шкафа. Посмотрела со стороны – кажется, под одеялом лежит человек, а потом бросила взгляд на глазок камеры. Пусть мне повезет. Ведь мне должно когда-нибудь повезти? Хоть раз в этой проклятой жизни! Один единственный!
Вылезла в окно и от холода зашлась в беззвучном крике, содрогаясь всем телом. Разгоряченное тело обожгло как азотом. Не думать об этом. Просто не думать. Вспомнилось, как маленькая лежала в больнице, а мама как раз ждала Митю. Папа работал на заводе сутки/трое. А мне аппендицит вырезали.. Мама не могла оставаться со мной на ночь. Я лежала с другими детьми в огромной палате, еще ходила, держась за стенку, не в силах разогнуться. Ночью пошла в туалет. Тишина, дежурная нянечка спит за столом, врачей нет. Я сама по коридору иду, придерживая бок. В той уборной оказалась сломанной ручка. Я не могла выйти оттуда до самого утра. Эта ночь мне, маленькой девочке, показалась самой жуткой и бесконечной. Все самые жуткие страхи полезли наружу и уродливо расползались по грязным кафельным стенам. Я забилась в углу и смотрела на мигающую лампочку без плафона под потолком, облепленную мошкарой, и тихо плакала. Кричать не могла из-за того, что шов болел сильно. Меня открыла утром уборщица и на руках отнесла в палату. Сейчас я чувствовала себя примерно так же – беспомощной, запертой в какой-то грязной яме.
Прислушалась к голосам снаружи – тишина. В этом доме вообще было очень тихо. Как будто здесь нет ни единой живой души. Я прокралась к дорожке, оглядываясь по сторонам. Где здесь чертовый парадный выезд? Это не дом – это чертов лабиринт даже снаружи. Выдыхая клубы пара и дрожа всем телом, шла вдоль стенки, ступая немеющими ногами по мерзлой земле.
– Она в доме, представляешь? Второй день!
Прижалась к стене, не дыша и стараясь не стучать зубами.
– Да ладно? Утром не отправил еле живую восвояси, как всех своих… эмм, посетительниц?
– Не отправил. Закрыл в комнате, приказал держать там неделю.
– Ого! Это что-то новенькое.
– А мне теперь сиди у мониторов и следи за ней. Красивая, кстати, сучка. Смотрел, как она в душе… бл*дь, чуть не кончил! Такая вся ладненькая, упругая. Соски маленькие. Я бы ее укусил за самый кончик, а потом сосал бы и пальцами между ножек. У нее там ни волоска. Такая ммммм. Скулы свело.
Я зажмурилась, сжимая руки в кулаки. Ублюдок. Глаза выцарапаю. Если выберусь отсюда, я всех вас засужу и вашего подлеца хозяина. Такая наивная еще… верящая в справедливость закона. Даже не представляющая, на что способен Барский и его свита. Но… я делала ошибку за ошибкой. А ведь все было так просто в самом начале.
– Жалко, Монстр не делится ими.
– Какое там делится. Я слышал это… только тссс… он жену свою того… за то, что трахалась с другим мужиком. И ее, и его. Так что ты на его шлюх дрочи молча. А то яйца тебе подрежет и сожрать заставит.
Зажала губы, стараясь не всхлипнуть от ужаса. Пусть замолчат, уйдут, а то меня так трясет, то я скоро не смогу дышать тихо.
– Вов, я там склад не запер и сотовый свой бросил на подзарядке. Ты, если чего, поглядывай. Пойду, посмотрю на сучку эту, а то САМ скоро позвонит. Проверит. Антон мне потом настучит по башке. Я его знаю. Посплю там. Всю ночь дергал меня – то стол накрой, то собак покорми.
– Хорошо. Иди. Я закрою и сотовый принесу, как подзарядится.
– Спасибо, братан. В долгу не останусь, если чего. Что там смена у ворот? Видел движняк какой-то с утра.
– Да. Охрану усилили. Ты ж знаешь Антона, у него бывает паранойя. Скоро собак спустим. Как обычно.
От досады чуть не застонала, кусая губы до крови. Не выйдет никуда бежать, меня тут же найдут и схватят. От мыслей о собаках задрожали колени. Охранники пошли в обратную сторону. А я выглянула из-за угла, выискивая взглядом склад, о котором они говорили – нашла. На противоположном крыле приоткрыта дверь. Бросилась туда, не оглядываясь и не останавливаясь. Заскочила внутрь и прикрыла дверь. От дикого разочарования застонала вслух – на складе не теплее, чем на улице. Даже слезы выступили.
Сотовый того, из охраны, мигал зеленым огоньком в полумраке. Я схватила его дрожащими руками. Сначала набрала номер мамы… и тут же замерла. Нет. Нельзя. Ей только меня сейчас не хватало! Нельзя говорить, что я так влипла. Она сойдет с ума, а с ней Митя. Да и что она сделает? Заявит в полицию? Она даже Ларкин номер телефона не знает.
Ларка… дадада, Ларка. Несмотря на то, что я ужасно разбиралась в местности и не запоминала дорогу, я превосходно помнила номера телефонов, карточек, паспортов и лица людей. И номер бывшей одноклассницы буквально всплыл в памяти цифрами на салфетке из того кафе, в котором мы были первый раз, и я записывала его второпях.
Дрожащими пальцами набрала цифры и, когда услышала ее голос, простонала:
– Ларааааа, это я. Это Сеня.
В трубке воцарилась тишина.
– Лара… Лара. Он псих. Слышишь? Ему не нужна горничная. Он так себе женщин заманивает, Лар…
Говорю и… становится еще холоднее. Так бывает. Когда вдруг, проговаривая вслух, начинаешь складывать полный пазл. И у меня он сложился перед глазами. Резко в одну картину. Я лицо рукой протерла, сжимая волосы на виске в кулак до боли.
– Это ты… да? Ты все знала? Тыыыыыы подсунула мне договор. Ты…ты…ты!
Это был срыв. Я расплакалась вслух, всхлипывая, захлебываясь слезами.
– Надь, – голос Ларки доносился так глухо и тихо, – Сеня, прости. Я уже не могла ничего сделать. Я не хотела. Я хотела помочь. Клянусь! Он запал, а это конец… он же сотрет в порошок и меня, и Гошу. Ты не знаешь его… он… у него столько власти. Он страшный человек! Ты не представляешь! У меня выбора не было, Сеняяяя. Простиииии.
Я задыхалась, мне казалось, я окунулась в чан со льдом и не могу сделать ни вдоха.
– Ты… ты дрянь!
– Да, дрянь. Дрянь, Сеня. Прости меня. Ты это… ты просто отключись и терпи. Он отпустит. Он… он чокнутый, но долго не держит. Он выпустит тебя и денег много даст. Никто не жаловался потом. Уходили и спрашивали, как еще раз попасть…
Я закрыла глаза. Боже! Какая я идиотка. Какая же я идиотка. Меня же просто взяли и подсунули ему. Подложили под этого олигарха. У них конвейер здесь. Через этот дом прошла вереница таких же идиоток.
– Что я подписала? Что я подписала, отвечай!
– Что… пока ты находишься в его доме, будешь исполнять все его прихоти интимного характера. Там… грамотно юридически, не подкопаешься. Он сам все составлял.
Закрыла глаза сжимая сотовый сильнее.
– Как долго?
– Бессрочно… пока ему не наскучит.
– Что? О, божееееее! Ты в своем уме? У меня Митя и мама! Лара! Ты должна мне помочь. Ты меня в это втянула, помоги мне!
– Как? Я ничего не могу сделать… ничего.
Это я и без нее уже понимала. Сползла по стене на пол, уже даже не вздрагивая от холода. Потому что вся заледенела.
– Позвони моей маме. Найди ее номер, я давала, и позвони ей. Переведи Мите деньги! Я прошу тебя! Переведи. Сделай хотя бы это! О, господи…. зачем ты со мной так? За что?
– Прости. Сеня, прости. Я не хотела. Так вышло, правда. Потерпи. Он… он не такой уж и страшный, – она не знает, что говорить, и противоречит сама себе, а в голосе страх неподдельный, и я понимаю, что это конец. – Девочки после него… нормально все с ними. Одна только… одна вены порезала, и все. Но я не думаю, что это он и…
Я заскулила от ужаса, зажимая сотовый и ударяясь затылком о стену, не прекращая стучать зубами.
– Мы в долгах, Сеня. Гоша влез в одно дело, и мы все потеряли. Барский нам помогает, мы зависим от него… а у меня дети и…. ты понимаешь?
– Понимаю, – едва шевеля губами, – Мите деньги переведи.
Отключилась, чувствуя, как слезы текут по щекам. Наверное, меня это просто добило. Вот это предательство. Стало окончательной каплей. Каким-то триггером всего, что со мной произошло за все это время. Вдалеке послышался лай собак, но он меня даже не испугал, я погружалась в оцепенение от холода и какой-то ноющей и нарастающей тоски. Пока не стало все расплываться перед глазами, и они сами собой не закрылись…
Глава 12
Опасна власть, когда с ней совесть в соре.
© Уильям Шекспир
Марк уже давно забыл, что значит бояться Огинского. Прошли те времена, когда он трясся за свою задницу и взвешивал каждое сказанное слово. Они дружили еще со школы. Но слово дружба слишком относительно, если речь идет об Огинском. Стоит лишь один раз оступиться, и тот сожрет с потрохами, перемелет кости и не подавится. Месть этого человека бывала жуткой, неожиданной и стремительной, как укус скорпиона или ядовитого паука. Лейбович узнал это на собственной шкуре. А ведь до этого считал, что ему никогда и ничего не грозит рядом с другом детства. Он, типа, имеет протекцию и неприкосновенность. Зря он так думал. Близких казнят извращённей и кровожадней, чудовищней, чем чужих. Близкие всегда виноваты втройне.
Один раз Барский заподозрил и самого Марка. Тот предпочитал не вспоминать об этом. Просто выключить этот коротенький отрезок из памяти и забыть. Но иногда он всплывал перед глазами. Потому что ничего страшнее с Марком никогда не происходило и вряд ли произойдет. Захар мог вынашивать месть долго и тщательно к ней готовиться. Он всегда и все превращал в изысканную тонкую игру. Любой его шаг напоминал ход на шахматной доске, где продуман каждый последующий шаг. Огинскому это доставляло наслаждение. Притом он проверял на вшивость как противника, так и себя. Это случилось пять лет назад, когда Барский начал подбираться к нефтяной компании известного магната Швецова и постепенно обрушивать акции последнего, чтобы потом скупить их и отобрать контрольный пакет, подмять под себя и слить со своим концерном. Проблема в том, что Швецов был резидентом другой страны, и, для того чтобы подорвать авторитет магната, Барский расшатывал механизм изнутри подставными людьми, которые должны были привести Швецова к полнейшему краху после намеренных мелких махинаций… Но случилось нечто непредвиденное, и некто раскрыл все замыслы Огинского его жертве. Началось расследование и посыпались обвинения в финансовых махинациях. Сделал это некто очень близкий к Огинскому… Ни разу Захар не показал своему однокласснику, что подозревает его в предательстве. Наоборот, он приблизил его еще ближе и даже увеличил зарплату. А перед днем рождения Лейбовича, в январе, пригласил Марка на горнолыжный курорт. Все включено, шикарный деревянный домик высшего класса, девочки, дорогущая выпивка. Все за счет компании. Праздник обещал быть шикарным, и Марк расслабился, он отправлял жене фотографии с природы, покупал детям сувениры и трахал ночью элитных шлюх, которых они привезли с собой. Барский подарил другу ключи от новенькой квартиры и поздравил с беременностью Нины.
Утром, после веселья, Барский поднял Марка с постели и позвал его на прогулку в горы на лыжах. Взобраться на одну из вершин и водрузить там флажок с именем Марка. Свежий и подтянутый Барский в майке на голое накаченное тело, пахнущий дорогим парфюмом и гладко выбритый, казалось, не пил полночи виски и не трахал шлюху, которая завывала из его спальни как заведенная, выкрикивая его имя и оглушая Марика, пихающего нестоящий после обильного излияния член блондинкам в широко раскрытые рты и проклинающего про себя гребаного Огинского, у которого сучка, казалось, подыхала от множественных оргазмов. А может, и подохла, потому что утром он ее в домике не увидел, как, впрочем, и ее вещей.
Марик нехотя вылез из теплой постели, пошлепал по голым задницам двух блондинок и отправился с Огинским в горы. У обоих карты с маршрутом, рация, сухой паек и вода. Шли долго, болтали, смеялись. Вспомнили школьные годы и раздавленные пальцы Женьки Иванова. Марк невзначай поинтересовался – нашли ли люди, которых специально нанял Барский, сучару, подставившего его, но тот отшутился и продолжил вести Марка наверх.
Чуть позже, когда Марк вспоминал по секундам это восхождение, он понял, что Барский вел его умирать. И что если бы Марк и в самом деле не оказался чист, то его никто и никогда не нашел бы в том лесу… потому что Захар заманил его в ловушку. У Марика не было алиби на ту ночь, когда взломали компьютер, и он задержался в офисе. Правда, причины были иными, и Лейбович никому о них не рассказывал.
Пока они взбирались наверх, Барский насвистывал знаменитую песню Высоцкого о дружбе. А потом, когда сам стал на выступ и взобрался наверх, столкнул Марка вниз. Конечно, они были со страховкой. Лейбович вначале не понял, что происходит, подумал, друг сделал это случайно. Продолжая свистеть, Барский достал охотничий нож… Тогда Марк все понял и громко закричал, что не предавал.
Барский, казалось, его не слушал, но продолжал свистеть и откручивать колпачок фляги, чтобы отпить свой виски из горлышка. Лейбович почувствовал, как веревка дернулась, и судорожно сглотнул, видя, как она рвется. А ведь Захар проверял снаряжение. Марк хотел было подтянуться наверх, но друг наступил ему на пальцы и сбросил обратно.
Ни единого вопроса не задал. Просто ждал, пока Марк все расскажет сам. О том, что делал в офисе и почему задержался, зачем поменял пароль на своем рабочем ноуте и каким образом перевёл на себя пару тысяч долларов. Марк кричал, говорил быстро, ведь веревка рвалась на глазах, а подтянуться Барский ему не давал. Пришлось признаться, что связался с одной сучкой-служащей, и та залетела, шантажирует Марка и грозится рассказать все жене, и Лейбович снял пару тысяч со счета Огинского, иначе Нина могла увидеть снятие суммы. Она у них ведет все финансы.
Но это не возымело действия, и Марку пришлось включить мозги, догадаться, кто мог подставить Захара. За считанные минуты гениальный ум Лейбовича просчитал то, что не смог просчитать до этого несколько недель. Марк не только доказал свою невиновность, но и понял – кто именно взломал главный компьютер и украл важную информацию.
Когда задыхающийся Марк буквально проорал последнее слово, веревка оборвалась, а Барский успел схватить его за руку и вытащить наверх.
Они долго молчали оба, а потом Захар подал другу флягу с виски, и тот залпом сделал несколько глотков.
– Ха йом йом уледет, ха йом йом уледет ле Марик*1.
И прищурившись посмотрел ему в глаза. И вот именно в эту секунду ему стало страшно. Не тогда, когда висел на веревке и болтался над бездной, и не тогда, когда смотрел, как лопаются толстые нитки… а сейчас, когда понял, что с ним игрались. До самой последней секунды. И игрока устроил бы любой исход событий. Он продумал все до мелочей, а потом наслаждался каждой секундой агонии Лейбовича.
– Теперь ты можешь праздновать свой день рождения два дня подряд. И еще – я достаточно много тебе плачу, Марк, чтоб ни одна сука не портила мне жизнь и бизнес. Третьего дня рождения у тебя не будет.
Хлопнул его по плечу и рассмеялся.
*1 – Сегодня день рождения, сегодня день рождения у Марка (иврит. Детская песенка)
И сегодня Лейбовичу снова стало страшно. Очень страшно, когда босс впервые повысил голос. Марик занервничал намного сильнее, чем нервничал даже после той вылазки в горы. Пока они летели в самолете, Барский не произнес ни слова. Он сверлил взглядом пространство перед собой и сжимал, и разжимал пальцы правой руки. Глаза прищурены, челюсти крепко сжаты. Лейбович не знал, что теперь будет. Он даже не хотел думать о том, что ждет тех, кто упустил игрушку Огинского. И если девчонка сбежала, некоторые из охранников станут бездомными бродяжками, в лучшем случае. В худшем… про худший Марик даже представить не мог – его тут же начинало тошнить и в ушах свистел морозный ветер, а перед глазами лопался страховочный трос. Лейбович постоянно набирал смски Антону и спрашивал – нашли ли девчонку. Но тот отвечал: «нет», и Марик сам покрывался холодным потом.
То, что Огинского повернуло на Гошиной «ночной бабочке», он понял, едва увидел, как тот рассматривает фото девчонки. Это было впервые за все время, что Марк был знаком с Захаром. Женщины волновали его лишь в тот момент, когда находились в его спальне, либо лежали под ним в любом другом месте. Все остальное время они переставали существовать совершенно. Мир создан для мужчин. Так говорил Барский... И Марик ему искренне верил. Но здесь было что-то другое. Захар смотрел на снимки часами, а Марик наблюдал за боссом и понимал, что у того появилась весьма и весьма ценная игрушка, и если Лейбович хочет приблизится к боссу еще ближе – надо понять, что именно его цепануло в девчонке.
Но понять времени не было, а вот осознать, что Барский в дикой ярости и даже не может ее скрывать, вышло мгновенно.
Когда они въехали в поместье, там царил хаос, светили прожекторы, бегали ротвейлеры и охрана с оружием и фонариками. Такое впечатление, что разыскивали преступника. Барский даже ни с кем из них не заговорил, зато они, едва его заметив, вытянулись и замерли. Воцарилась тишина.
– Мы искали… мы облазили весь дом, ребята прочесывают местность и…
Барский поднял на Антона взгляд из-под тяжелых век, и тот нервно сглотнул слюну, словно вдруг даже стал меньше ростом и вот-вот возьмет пушку и застрелится.
– До утра не найдете – потом не найдут вас.
Очень тихо, едва слышно. Но Антон побледнел до синевы. Все знали, что это не угроза – это предупреждение.
А Марк последовал за Захаром. Тот вошёл в дом, не снимая пальто, и быстрым шагом направился в комнату своей гостьи. Марк за ним.
Барский обошел все помещение, осматривая каждый угол. Взял подушку и долго держал в руках, потом бросил обратно на кровать. Лейбовичу совершенно отказали мозги, и он нервничал, как и тогда в горах.
Захар подошел к окну и ловко вылез наружу. Лейбович вскарабкался следом. Барский присел на корточки и разглядывал что-то в снегу. Следов не было – их припорошило снегом, иначе собаки давно бы ее нашли, но Захар смотрел не вниз, а на ветки голых колючих кустарников. Протянул руку и поднял вверх кусочек светлой ткани. Осмотрелся по сторонам с тем же хищным прищуром. Марку даже начало казаться, что он принюхивается, словно зверь.
– Она здесь. Она не вышла за периметр усадьбы.
Сказал словно себе и пошел вперед. А потом присмотрелся к стене и снял с кирпича длинный белый волосок. Ухмыльнулся.
Медленно огляделся по сторонам. Лейбович понятия не имел, где можно было спрятаться в такую холодину. Если на улице, то она точно уже околела, и тогда здесь настанет апокалипсис. Барский прикопает в снегу всех, кто не досмотрел за девчонкой.
Захар быстрым шагом прошелся вдоль стен и дернул дверь склада.
– Кто дежурил сегодня? – крикнул Антону.
– Вовка, кажется.
– И где он?
– Ищет. Все ищут. Они лес прочесывают.
– Открой мне склад.
– Он с обеда закрыт. Как провизию на выходные привезли, так и заперли его.
– Где Вовка? Если он дежурил, пусть все камеры еще раз просмотрит. Давай его сюда. Я сам допрошу.
– Да, я сейчас его наберу.
Барский снова осмотрелся по сторонам и нахмурился.
– Где ж ты спряталась, Сеня? Выходи, малышка. Поигрались и хватит.
Марк от удивления распахнул шире глаза – Сеня? Он запомнил ее имя и называет ее Сеня? Лейбович ни разу не слышал, чтобы Захар называл своих шлюх по имени. Максимум – игрушка. Где-то рядом раздражающе пиликал чей-то сотовый.
Барский, как животное, весь подобрался и прислушался, а потом крикнул.
– Отключись.
Антон отключился.
– Набери еще раз.
Снова затрещал сотовый за дверью склада.
– Никто с обеда не заходил, говоришь?
Отошел назад и с разбегу вынес дверь.
Дальше происходило что-то немыслимое. Марик вообще с трудом верил, что все это видит. Барский бросился к девушке, лежащей на полу, тряс ее, хлопал по щекам, звал по имени и как-то лихорадочно заворачивал в свое пальто, поднимая с пола на руки.
– Петра Аркадьевича поднять. Сейчас же! Плевать, где он! Пусть берет хоть вертолет и будет здесь через десять минут со своей бригадой.
Прижал к себе девчонку, вглядываясь в ее лицо… и Марику стало не по себе. Странный взгляд у Огинского. Он смотрит на нее с какой-то дикой одержимостью. С каким-то страшным блеском в зрачках. Словно сожрать хочет. И это даже не похоть. А нечто более глубокое. Животное. Когда зверь свое в берлогу тянет и никому отдавать не хочет. В дом Барский ее сам на руках понес, своим людям не отдал. Едва Антон сунулся, рявкнул так, что у всех задрожали колени.
– Пошел вон! Я сам!
И несет, как хрустальную, и пальцы пряди волос на спине перебирают. Он, видимо, и сам этого не заметил. А Марк увидел и глотнуть воздух не мог. Похоже, у Монстра появилась слабость. Впервые за все время, что тот его знал.
Захар занес девушку в гостиную и положил на диван, накрывая пальто, усаживаясь рядом, растирая тонкую руку и выдыхая на синеватые пальцы, согревая их.
– Одеяла несите. А ты проверь – кому она звонила, и вытащи запись разговора. Слышишь, Марик?
– Да, конечно.
– И, как только Петр приедет, сюда веди, а пока скажи этому кретину на улице, пусть несет коньяк и растопит камин пожарче.
Марк думал, хозяин хочет выпить, но он ошибся. Барский откинул одеяла и, стянув с ног девушки туфли, начал растирать ступни, наливая себе в ладонь коньяк.
– Давай, Сеня, просыпайся… ты все равно проиграла, и я нашел тебя.
Псих… просто чокнутый псих. Девчонка синяя от холода, а он про игру… а может, храбрится и испугался за неё. Хотя слово «испугался» меньше всего подходило Захару Огинскому. Да и сколько он ее знает… пару дней?
Глава 13
Дурное и хорошее — их нет.
Есть то, как мы решим назвать их сами.
© Уильям Шекспир
Гоша мне напоминал шакала Табаки. Только заплывшего свиным жиром. Лебезил он примерно так же и хвост поджимал чуть ли не каждую секунду. Он мог бы слить меня в два счета кому-то более сильному, но пока что на горизонте продюсера и владельца трех бюро по трудоустройству Игоря Александровича кого-то сильнее и могущественнее (а по большому счету, страшнее) не нарисовалось. Но, как только нарисуется, он встретит его с хлебом-солью. Как его дед в свое время встречал немцев. Яблоко от яблоньки.
Да, я знал о нем все. Всю подноготную его семейства и даже породу собаки его мамы. Я всегда все и обо всех знал. Иначе играть неинтересно. Не люблю вслепую. Мне нужно изучать и противников, и второстепенных персонажей, которые в любой момент могли стать противниками. И Ларису я его тоже изучил. Ничего из себя не представляющая шавка, которую уволили с нескольких рабочих мест за чрезмерную говорливость и козни. Гоша подобрал, когда мадам Возняк, отчаявшись, пыталась устроиться в местную газетенку писать статейки для таких же тупых куриц, как она сама. Игорь устроил ее косметологом-визажистом для своих девочек, а потом женился и приобщил к своему бизнесу. Мадам Возняк тут же облагородилась. Обкололась силиконом, легла на пару пластических операций и стала чем-то похожа на конвейерных красоток Гоши. Как ей удалось убедить Надю с ней поехать, оставалось для меня загадкой века. Как, впрочем, и все, что касалось этой девчонки.
– И как часто происходили такие ошибки?
– Я предлагал вам все исправить.
– Что исправить?
– Заменить девушку и забрать эту.
– И дальше что? Она сдаст тебя и твою контору в первом же отделении полиции, а я буду платить взятки за твою тупость, безалаберность? Ты гарантировал мне полную конфиденциальность. Какого хера я вообще должен об этом думать? Я покупаю у тебя женщин. Повторяю, ЖЕНЩИН легкого поведения, которые знают, что за те бабки, что я им плачу, им придется не только раздвигать ноги, а и терпеть мои странности, а может быть, и ходить по психиатрам. А ты мне привел девочку! Она не только не в теме. Она вообще, бл*дь, не понимает, что я от нее хочу.
– Она будет молчать. Лара с ней поговорит, припугнет ее пацаном параличным и..
Я сам не знаю, как сгреб его за шкирку и приподнял на вытянутой руке. Во мне вдруг поднялась черная и неконтролируемая ярость. Потом она начнет меня захлестывать при каждом упоминании о НЕЙ. Упоминании, которое мне не понравится. Гоша тут же очень быстро заморгал и часто задышал, как закипающий чайник, кровь прилила к его толстым щекам, и задергались веки.
– Пацана и семью ее не трогать! Носа туда не совать. Чтоб Ларка твоя на километр к ним не приближалась. Духу чтоб вашего не было в городе том. Ясно?
Закивал, похрюкивая, и на лбу выступили бисеринки пота. Я даже запах уловил и скривился.
Трусливая мразь. Всегда презирал трусов. Это те, кто предадут вас в первую очередь.
– Где ее документы?
– Я все привез. Все, как вы просили. Все у меня.
– Вот и отлично. А теперь смените все номера телефонов, и пусть Ларка твоя туда не ездит.
– У нее там тетка.
– Мне по хер. Я достаточно тебе плачу, чтоб вы тетку в другое место перевезли. А если спросит кто – нету никакой Надежды Владимировны Самойловой, и ты никогда ее не знал. Ясно? В глаза не видел и не помнишь.
– Ясно, да. Ясно. А кто спросит?
– Не важно кто. Кто угодно. Никаких денег никому не переводить. Понял?
– Ддда, я понял. Ларка собиралась как раз…
– Повтори, что ты понял?
– Никакой Нади не знаю, и денег не переводить, и туда не ездить.
– Вот и чудненько, что понял. Вы ее в базу не вносили?
– Ннннет. Не вносили.
Я разжал пальцы, и Гоша грузно завалился на стул так, что тот застонал под ним.
– Если ты хоть что-то скажешь или сделаешь не так, я отрежу твои яйца и отдам на корм моим собакам, а Ларку твою своим пацанам отдам во все щели трахать. При тебе. От нее не убудет. Она опытная. Ты ж в курсе как ее «насиловали» то в такси, то на вечеринках. Она тебе рассказывала? Рассказывала. А то, что ей потом зелени отвалили за групповушку, рассказывала? А про порноролики для закрытого сайта рассказывала? Оооо, я вижу, что нет. Гоша, не дай бог мне что-то не понравится или покажется странным – я сниму снафф-муви с тобой и твоей Ларой в главной роли.
Он бледнел все сильнее по мере того, как я говорил, а меня раздражала его физиономия, его короткие жирные пальцы и мысль о том, что он фотографировал Надю и вообще на нее смотрел своими маленькими свиными глазками.
– Иди, Гоша. И помни, о чем я тебе сказал.
– Аааа… девочки – мы продолжаем?
– Мне пока не нужны никакие девочки.
– Я понял. Все понял. Я могу идти?
– Иди.
Когда он ушел, я откинулся в кресле, потягивая виски, и покрутил в руках документы Нади. Смотрел на ее фотографию в паспорте, такую строгую с собранными сзади волосами. Есения Владимировна Самойлова. Произнес ее имя вслух по буквам. Мне понравилось, как звучит.
А перед глазами бледное лицо и дрожащие ресницы мокрые от слез. На полу ее на складе увидел, и внутри все сильно сжалось в тугой узел. Мне не понравилось, что она там лежит. Это было странное чувство, будто у меня отнимают что-то мое. Что-то, что принадлежит только мне и не может сломаться или разбиться. Я ведь был достаточно осторожен, чтобы не возникло ни одной трещинки. И к этому прибавилось щемящее чувство внутри. Незнакомое мне. До отвращения сильное и болючее. Примерно такое же я испытал, когда мне сказали о болезни Семы. Какое-то бессилие перед чем-то неподвластным мне. Ощущение потери контроля. Я не был готов к этому. Меня словно ударило под дых и согнуло пополам.
До того, как врач приехал, ноги ее растирал и думал о том, что в ней все идеальное – даже пальчики эти розовые и пятки гладкие, и икры упругие точеные. Гладил их, и меня скручивало от бешеного желания вот так же гладить, когда глаза откроет. Гладить и в стороны разводить, чтобы устроиться между ними, сжимая член рукой и готовясь ворваться одним толчком в ее тело. Сууучка. Только о ней и думал все эти дни.
– Что с ней?
Спросил врача, когда он склонился над Надей с электронным градусником.
– Пока что трудно сказать, сильное переохлаждение, шок, возможно, бронхит. Посвистывает слегка и дыхание жесткое и частое. Это все на данный момент. У нее высокая температура. Мне нужно положить ее к себе в стационар, и тогда…
Мысль о стационаре вызвала волну ярости. Еще одну.
– Я прекрасно понимаю, что вы мне хотите сказать. Обследование проведете здесь. Анализы возьмете тоже здесь. А сейчас назначите ей лекарства, чтоб она встала на ноги как можно быстрее.
– Я не волшебник!
– Вы им станете! И волшебником, и Гарри Поттером, и Санта Клаусом. Всеми вместе взятыми. Если не хотите стать бомжом Петей без определенного места жительства и документов.
Врач смотрел мне в глаза, а я ему, пока он не отвел взгляд и не стиснул челюсти под белым мхом густой бороды.
– Вам предоставят все необходимое. В расходах не стесняться. Сюда привезут все, что вы скажете, и кого вы скажете.
С того момента прошло пять дней, и за это время я узнал о ней не только – когда, где и во сколько она родилась, я узнал, в каком возрасте ей лечили зубы, когда у нее пошли месячные и что она девственница. Да, меня это удивило. Более того, я почувствовал едкое удовлетворение от того, что она всецело будет моей.
А еще я узнал, что в этой жизни далеко не все поддается моему пониманию. Таких, как она, я не понимал… для меня все, что она делала, было нонсенсом. Запереть себя в Мухосранске и пожертвовать своей жизнью ради умирающего брата, зная о том, что никогда не сможет ему ничем помочь. Но самое странное – это вызывало уважение. Это выводило мое странное увлечение ею на иной уровень. Усложняло квест. Делало ее недоступней и чище. Заставляло меня взвиваться от желания испачкать каждый миллиметр ее тела и смотреть на ее реакцию. Видеть, как меняется для меня изо дня в день. Ломать и лепить заново, и снова ломать, если результат не устроит. Я сам отправил деньги в фонд ее брата, только меня совершенно не устроил тот центр, куда собралась положить его ее мать, и я лично поговорил с куратором из фонда, чтобы пацана везли в Германию. К знакомому хирургу моего отца. Я всегда был долбаным перфекционистом, и, если за что-то брался, я должен был получить идеальный результат, а еще мне нравилось делать что-то, что она сделать никогда бы не смогла и о чем мечтала изо дня в день на своей работе медсестрой. Маленькая девочка с волосами цвета солнца и розовыми губами… мне ужасно хотелось узнать, какие они на вкус. Впервые в моей жизни я хотел попробовать чье-то дыхание губами.
***
Я пришел к ней, когда по словам врача ей стало намного лучше. А точнее, чертов Эйнштейн с макаронной фабрикой на большой голове заявил мне, что чудо свершилось. За это чудо он получил увесистую пачку денег и разрешение расширить свою клинику.
Я открыл дверь ее комнаты без стука. Тянул момент встречи несколько часов. Предвкушал и смаковал. Пока стало нестерпимым желание посмотреть в ее синие глаза.
Зло ухмыльнулся, когда девчонка тут же забилась в угол постели и натянула на себя одеяло. Такая маленькая, перепуганная и хрупкая. Похожа на бездомного котенка. Примерно так же шипит, огрызается и выпускает маленькие коготки, и примерно так же я могу свернуть ей шею одним легким щелчком. И меня дико раздражал этот взгляд, с которым она на меня смотрела. Страх и презрение. Ненависть мне нравилась намного больше. Она пробуждала во мне нечто звериное. Первобытное. Оно пугало и меня самого. Я привык контролировать свои эмоции. Я был беспощаден к себе и душил каждый зачаток чувств еще в юности… поэтому меня обескураживал этот шквал, который обрушивался на меня в ее присутствии. Бесконтрольное желание взять насильно, поставить на колени.
– Могла бы и поздороваться, малышка.
– Зачем мне желать тебе здоровья, если я от всей души желаю тебе смерти.
Укололо где-то в области груди. Не сильно, но ощутимо. Мне нравилось и не нравилось одновременно. Странно, как ей это удается сделать? Выводить меня на эмоции.
– Ты должна не только желать мне здоровья – ты должна о нем молиться, моя солнечная девочка.
– С чего бы это? Если я представляю себе, как ты сдыхаешь самыми разными способами.
Щемящее чувство при виде ее бледного лица испарилось.
– С того, что только я решаю, сколько осталось жить твоему брату. И каким из способов он может умереть без оказания ему должной медицинской помощи.
Склонил голову к плечу, рассматривая, как остатки краски исчезают с белой кожи. Боль на боль, малышка. Ты уколола, а я нанесу первые порезы.
– Ты сама виновата. Ты вынуждаешь меня говорить тебе эти вещи. Так вот – я решаю, примут ли его даже в самой вонючей и захолустной больнице или откажут даже капельницу поставить.
Она мне не верила. Я даже знал, о чем она сейчас думает. И не смог отказать себе в удовольствии порезать ее еще раз. Тоненько. Как папиросной бумагой, но так ощутимо, чтоб ее глаза распахнулись.
– Например, Захарченко Светлану Анатольевну на днях могут уволить за некомпетентность и взятки. Ее не возьмут больше ни в одну больницу или поликлинику. Как думаешь, кто-то потом решится помочь твоему брату? Аааа, и санитарок сократят. Например, наберут новый персонал с соответствующим образованием.
– Вы… вы… подонок, который не способен заставить женщин быть рядом без низкого шантажа.
Кольнуло еще раз, но уже больнее. Даже несмотря на то, что она это говорит намеренно, и я прекрасно об этом знаю.
– Возможно… а возможно, в этом и есть мой кайф. Я думаю, мы поняли друг друга. Убери одеяло. Я хочу посмотреть на тебя в этой ночнушке. Я ведь сам ее выбирал для тебя.
Встал с кресла, сделал несколько шагов к ней, с наслаждением глядя, как она вжимается в стену еще больше, и взявшись за край одеяла, дернул его на себя.
– Нет! – простонала и впилась в пододеяльник.
– Я ненавижу слово «нет». Я хочу услышать твое «да». И ты мне его скажешь сегодня.
Она дернула одеяло на себя и четко, с ненавистью, намеренно громко сказала:
– НЕТ!
А у меня адреналин взвился вверх и вскипел в мозгах, отдавая набатом в виски.
Глава 14
«Нет ни плохого, ни хорошего,
только мысль делает вещи такими,
какими они нам кажутся».-
© Уильям Шекспир
Я не просто его боялась. Это был не тот страх, который возникает в темной комнате или при мысли о смерти. Он меня пугал совсем по-другому. Это даже не страх жертвы перед маньяком, это какой-то суеверный ужас и понимание, что он сломает меня изнутри, проедется по мне танком. Я никогда больше не стану прежней. Ведь по-настоящему жутко потерять личность, а не девственность, от которой избавиться было попросту не с кем. А с Огинским казалось, что от каждого его прикосновения я не просто ее лишаюсь, а он пачкает меня чем-то, от чего я никогда не отмоюсь, а возможно, и не захочу отмыться.
Мне было страшно стать рядом с ним никем. Он стирал меня прежнюю, заставляя подчиняться его воле. Самыми омерзительными методами, какие только существуют. Стоит передо мной весь из себя холеная чистота и животная сексуальность. Каждое движение, как у хищника, каждый жест направлен на то, чтобы ломать, понукать и ласкать. И его красота. Зрелая, самоуверенная, цинично-пошлая. Та красота, от взгляда на которую понимаешь, скольких он раскрошил и превратил в ничто своими играми, ласками, голосом и взглядами. Одет в вишневую рубашку с закатанными по локоть рукавами, белый галстук и белые штаны. От него веет властью, огромными деньгами и сверхсамоуверенностью. Возомнил себя Богом или Дьяволом и переставляет людей как пешки на доске своей жизни, которую ставит прежде всего.
Когда поняла, что он все обо мне знает, стало зябко. Меня в его присутствии лихорадило даже без температуры. Мне впервые хотелось пребывать в болезненной ломке и сгорать от жара, чем прийти в себя и увидеть его, ненавистного до такой степени, что от одного звука его голоса по самой кромке позвоночника змеилась дорожка огненных искр ярости. Притом я совершенно не была уверена, что это искры именно ненависти, а не трепета… перед этой самоуверенной сволочью с глазами психопата и улыбкой дьявола.
А еще на меня никто никогда так не смотрел. Я такой голод видела лишь в глазах наркоманов, которых привозили к нам в дичайшей ломке. Они точно так же смотрели на шприц в моих руках. И мне было жутко, что он хочет не только мое тело. Он хочет всю меня.
– Я сделаю вид, что этого «нет» я не слышал. И мы начнем сначала. Мы ведь не хотим, чтоб тебе было больно, правда?
Нееет, он хочет. Я видела по этим тигриным глазам. Он жаждет, чтоб мне стало больно. Он жрет мои эмоции, как каннибал обгладывает мясо с человеческих костей. И он знает, как мне причинить боль, а я еще не знаю ни единой его слабости и бывают ли они у таких чудовищ, как он. А он знает каждую точку, на которую можно надавить так, чтоб я разрыдалась от душевной боли. Дернул одеяло изо всей силы, отшвырнул на пол и стащил меня с постели, но прежде чем поставить на пол, стиснул мою талию и осторожно опустил босыми ногами на свои мягкие замшевые туфли. Осмотрел с ног до головы, заставив подобраться, когда глаза опустились к вырезу на груди.
– Похудела. Мне нравилось больше раньше.
– Да? Тогда я перестану есть вообще!
Проигнорировал мой ответ и провел пальцами по прядке волос у щеки.
– Распусти волосы, Сеняяя.
Как же ненавистно звучит мое имя его голосом. Как же неправильно, грязно. Я ведь мечтала, что я с ума буду сходить, когда его прошепчет мой любимый человек. И как распущу свои волосы… но не для Огинского. Ни разу не для него. Мне невыносимо захотелось нарушить обет и постричься налысо.
– Нет, – глядя прямо в глаза.
– Строптивая и упрямая. А ведь я накажу.
Как еще можно меня наказать? Хуже, чем уже есть, быть не может. Но я ошибалась, еще как могло. Он вытащил шпильки из моих волос и распустил их сам.
Его пальцы медленно перебирали пряди. Он искренне ими любовался, мне кажется, так ребенок рассматривает новую игрушку, трогает ее, ощупывает, оценивает, в каком месте сломать. Пропускает волосы сквозь пальцы, наблюдая, как они протягиваются по пальцам и переливаются в солнечном свете. Я любила, когда трогала мои волосы мама. Никто другой к ним так не прикасался, а сейчас по коже головы ползли мурашки, и я, подняв на него взгляд, тут же опустила глаза. Я просто не могла вынести этот голод в его взгляде. Он меня пугал до дрожи во всем теле. Мне казалось, это глаза сумасшедшего. И вдруг пальцы Огинского сильно сомкнулись на затылке на моих волосах, так сильно, что на глаза навернулись слезы. Рывком дернул вверх, вынуждая встать на носочки.
– Развяжи мой галстук.
Голос по-прежнему спокойный, вкрадчивый и смотрит сначала в один мой глаз, потом в другой.
– Мне больно, – тихо, стараясь не дернуться и не впасть в истерику.
– Я знаю, малышка, – почти лаская голосом, – а ведь может быть еще больнее. Развяжи. Будь послушной девочкой.
Я закопошилась непослушными пальцами в его узле. Боже, я их завязывала последний раз папе. Развязала, продолжая смотреть ему в глаза.
– Умница, сними и завяжи на своей шее.
– Неееет, пожалуйста.
Стало не просто страшно, а страшно до дикой дрожи. Его бровь приподнялась, и он поднял меня за волосы еще выше.
– Ты знаешь, как меня зовут?
Я кивнула, стягивая дрожащими пальцами с него галстук и надевая себе на шею, пытаясь завязать и стараясь не всхлипывать от страха. Он нарастал волнами и вводил меня в панику. Барский отпустил мои волосы и сам затянул на моей шее галстук петлей.
– Скажи мне – да, Рома.
Я отрицательно качнула головой, и в этот момент меня резко развернули лицом к кровати, сдавил галстуком шею так, что стало нечем дышать, и я впилась в материю дрожащими пальцами.
– Страшно, малышка? Когда человек боится, он становится покладистым и согласным на многое. Почему-то по-хорошему человеческая натура понимает плохо. Я думал, ты окажешься умнее, но я ошибся. Мы будем исправлять мои и твои ошибки по одной. А теперь скажи мое имя.
Я упрямо закусила губы. Черта с два я сделаю, как ты хочешь. Ты не превратишь меня в безропотное трусливое животное.
– Говори, – сильнее затянул петлю, заставляя широко распахнуть глаза, перед которыми идут маленькие точки, и дышать так тяжело, но еще возможно, он шепчет мне в затылок, пальцы задирают мою ночнушку на бедра, поглаживая ноги и между ними. Закрыла глаза, дыша со свистом. Дернулась, когда почувствовала его член на своей пояснице как раз в ложбинке между ягодицами.
– Дураа… какая же ты дура, – покусывает мою шею и за живот прижимает к своему члену, удерживая за галстук как за ошейник сзади. – Мне ведь нравится, когда ты сопротивляешься. Сладкая маленькая девственница. Я возьму каждую из твоих дырочек, каждую… нежно, сильно, иногда больно. Ты будешь умолять меня не останавливаться.
– Никогда!
Он терся о мои ягодицы и сильнее сжимал мое тело, а я молилась, чтобы это закончилось побыстрее. Пусть оставит меня в покое, пусть не трогает меня, не шепчет своим голосом, не заставляет дрожать.
– Имя
– Неееет…
– Женские рты предназначены не для разговоров, а мы слишком много разговариваем, Сеня. И мне надоело давать тебе шанс за шансом. Я заставлю тебя выполнить каждый из пунктов договора.
И он был прав, я пожалела об этом “нет”. Очень сильно пожалела, потому что в следующую секунду он поставил меня на колени, развернув лицом к себе и, продолжая держать сзади галстук на моей шее, надавил пальцами другой руки на мои скулы так сильно, что я невольно охнула. Перед глазами покачивался его член, чуть блестящий от смазки на головке, покрытый узловатыми венами, бугрящимися под тонкой кожей. Стало не просто страшно, а до ужаса дико. Я уже поняла, что он заставит меня делать. К горлу подкатил ком.
– Еще одно «нет», и я превращу эти минуты в ад для тебя. Держи рот широко открытым, Сеняяя, и все твои зубки уцелеют.
– Ромааа, – всхлипнула я, пытаясь избежать этого унижения.
– Тццц, уже поздно. Я хочу вытрахать из твоего ротика все твои долбаные «нет».
*********
Я смотрел на ее лицо с огромными глазами, блестящими от слез. Обрывки весеннего неба после дождя. Я не понимал, что больше испытываю – восхищение ее красотой или глухую ярость за бессмысленное сопротивление.
И меня трясло от ярости, похоти и опять вернувшегося щемящего чувства, которое мне до дрожи не нравилось. А член казалось разорвет только от одной мысли, что он окажется внутри ее розового рта. Да просто коснуться ее опять. Наваждение. Гадское наваждение, от которого трясло похлеще, чем от ломки перед новой дозой наркоты. С дурью я познакомился еще в универе. Попробовал, но не подсел. По причине ненависти к любого рода зависимости. По той же причине я никогда не напивался, курил пару сигар в день для удовольствия. И меня раздражало, что тянет к этой маленькой дряни с бешеной силой. В руках держать себя не выходит. Сам не понимаю, почему не могу просто ее отпустить. Никаких огромных денег она мне не стоила. Мелочь. Но от мысли, чтобы дать вот так просто уйти, все скручивается внутри, и я буквально слышу рев – МОЕ! Раньше такого никогда не было. Ни с одной женщиной. Ведьма золотоволосая все внутри перекромсала за эти дни. Я пока не знал, как вся эта херня называется, но то, что эти чувства к ней нездоровые, понял, едва только первую ломку по ней ощутил еще в Италии.
Можно трахнуть и вышвырнуть на хер, или не трахать и вышвырнуть на хер. Я же так делал. Всегда. Просто забыть, и все. Жизнь своим чередом пойдет. Как раньше. Молчала б она как миленькая. Слова б никому не сказала. Но как раньше не хотелось. Как раньше казалось скучным, серым и мертвым. Все эти пять дней, когда она за стеной металась в лихорадке, когда врач к ней приходил и после визита шел ко мне отчитываться. Я привык, что она там. Я привык просыпаться и знать, что она в доме. Быстро. Так дьявольски быстро привык, и это делало меня каким-то ничтожно маленьким в собственных глазах, жалким. Наверное, я так же радовался, когда мать приезжала в наш дом, а потом запирался в комнате и рвал на части подаренные ею игрушки, потому что за все те дни, что она была рядом, ее никогда не было рядом со мной. Ни к чему нельзя привыкать. Я ничего никогда не коллекционировал. У меня не было любимых исполнителей, цветов, домашних животных. Никого и ничего, к чему можно привыкнуть. Может, потому что я чокнутый ублюдок, а может, потому что я самодостаточен. Меня устраивало и то, и другое. Два раза за время ее лихорадки заходил к ней и боролся с желанием вызвать Антона и отправить к такой-то матери из своей жизни. Но так и не отправил. Приказал комнату ее топить посильнее и, едва проснется, чаю ей принести.
И сейчас сам смотрел на нее, и меня трясло всего от едкой жажды обладать. Испробовать ее всю. Злит и в то же время крышу рвет от этих эмоций. Повел членом по ее губам и застонал, как от боли, не смог сдержаться, а у нее слезы по щекам потекли. Твою ж мать. Ни черта эротичного я в этом не увидел. Член колом стоит, а водраться ей в рот не могу. Адски хочется, и что-то держит. Сильно, цепко впиваются мне в глотку какие-то шипы и вонзаются глубже и глубже. Я верчу головой, пытаясь избавиться от проклятых иголок. Сжимая ее затылок и свой член у основания, вожу по ее губам, меня всего трясет похлеще, чем в лихорадке. По спине пот градом катится.
– Не надооо, я не могу… пожалуйста… мне плохо. Я никогда… не надоооо.
Так жалобно, так… Бл*дь, да что ж она со мной делает? Сучка такая. Голосом своим, телом этим идеальным, губами своими свежими. Такими свежими и мягкими на вид. От осознания, что ее так никто и никогда, шипы стали впиваться острее, до крови, перекрывая кислород уже мне. Всего один толчок до грязи. Один маленький толчок, и она просто станет девкой с моим членом во рту. И дальше я побываю в ней везде. Стоит лишь взять один раз. Утолить эту жажду, и меня отпустит. Секунды тикают и бьют меня по затылку короткими, но меткими ударами. Глаза в глаза. Она внизу, на коленях, смотрит, как на самого Бога или Дьявола, даже руки свои маленькие вместе сложила.
Смять цветок, пройтись по нему грязными сапогами или оставить себе, чтобы каждый лепесток обрывать постепенно, смакуя нежный аромат? Я отражаюсь в ее зрачках сквозь хрусталь слез, и перед глазами совсем иная картинка, где она держится за мою плоть и исступленно ее сосет… Добровольно, мать ее. Вот, чего я хотел. ДОБРОВОЛЬНО! Я никого и никогда не насиловал, а с ней превращался в невменяемого маньяка. Я шлюхам платил за то, чтобы они играли со мной в то, чего, бл*дь, не существует. В гребаную любовь. Чтобы я с ними ни делал, они кончали подо мной и хотели меня, или делали, мать их, вид, что хотят. А она… она меня ненавидела, и от ее ненависти со мной происходило что-то невыносимое. Мне хотелось причинить ей адскую боль, разорвать на куски… и каждый раз я не мог этого сделать. И сейчас не смог, но и уйти с разрывающимся от боли членом не собирался.
Удерживая галстуком снова, развернул к себе спиной, поставил на четвереньки, толкнул вперед к кровати. Она всхлипывает и дрожит вся, руки хаотично шарят по простыням, пытается отползти, но я возвращаю ее на место.
– Не надо… не надо… не так… не надо.
Твою мать! Ее голос мешает, он опутывает шипы острым ядом, травит их, раздражает болью.
А перед глазами спина тонкая, рельеф позвоночника под прозрачной розовой материей. Задрал подол ночнушки на спину и надавил Наде на поясницу, заставляя прогнуться. Впервые увидел ее плоть, и глаза закатились от вида розовых складок. Силой сжал член у основания. На секунду перед глазами потемнело и взгляд остекленел. Ворваться в ее дырочку по самые яйца, войти так, чтоб заорала вместе со мной, и пусть весь мир, на хер, взорвется в кровавом хаосе. Хочу ее до боли в костях.
– Пожалуууйста, Рома, пожалуйста. Не надо. Не так. Я прошу.
Твою ж! Мааать! Отшвырнул галстук, пальцами по промежности повел и за волосы ее взялся, потянул назад к себе. От возбуждения трясет всего, но шипы держат сильно, ненавистно сильно. Черное марево заволакивает разум.
Обматываю ее волосами свою ладонь, и меня простреливает короткими разрядами возбуждения и от какого-то религиозного помешательства на этих толстых шелковых прядях. Наклонился вперед, и воспаленная возбуждением головка потерлась о ее волосы. Все! Меня сорвало в дикой неконтролируемой одержимости, я просто не смог остановиться. Это была точка невозврата. Накрыл ее рот рукой, вошел в него пальцем. Она дергается, кусает сильно, до крови, а мне по хрен. Меня только сильнее подбрасывает в жажде кончить с ней снова. Облизал палец сам, смакуя привкус собственной крови, и ввел в ее подрагивающую дырочку на всю длину, зарычал под дрожь наших тел, под ее стон протеста. Меня затрясло от похоти, выдыхая сквозь стиснутые зубы, прижался членом к ее спине, к ее волосам и начал двигаться как ошалелый, представляя, что вхожу в ее тело.
– Скажи – Рома… скажи, мать твою, не молчи, Сеняяя.
Обхватывая одной ладонью ее грудь, а другой двигая внутри ее лона, такого узкого и горячего.
– Говори, – проревел и сдавил полушарие и сосок между пальцами, растирая ее клитор и снова входя внутрь. Всхлипнула и простонала очень тихо.
– Ромааа.
И меня накрывает сильно, остро и до отвращения быстро. Как давно я не слышал своего имени женским голосом. Вот так, с придыханием, нежно, со стонами. Пусть я заставил. Пусть. Выплескиваюсь ей на спину, на ее роскошные волосы, вдавливая член в ее дрожащее тело, чувствуя пахом голые ягодицы и сжимая маленький сосок подушками пальцев. От мощности наслаждения закатываются глаза и дергается все тело. И вместе с отливом медленно накрывает разочарованием. Паршивым отвратительно липким, под ее всхлипывания и тихое «ненавижу… животное… ненавижу…».
Невыносимо хочется ее ударить, хочется ударить за эти слова, за этот голос, за эти слезы. И внутри растет отвращение к себе самому. Несколько сильных ударов по кровати у ее головы. Так, что она резко замолчала от страха, а меня вскинуло еще сильнее. Все они одинаковые. Все меня боятся. До смерти, до липкого пота. Оттолкнул от себя и не глядя бросил:
– Иди мыться. Вечером у меня будут гости, я хочу, чтоб ты вышла к ужину.
– Будь ты проклят… таких, как ты, не должно быть в этом мире.
Я ухмыльнулся ей, и загорчило во рту так, что я подавился этой горечью.
– Но я есть, малышка, и ты есть. Наверное, нам обоим не повезло или повезло, кто знает.
– Отпусти меня домой. Отпустииии…
– Будь послушной девочкой, и кто знает, может быть, я тебя отпущу.
А потом застегнул ширинку и заправил рубашку.
– Твоего брата вчера прооперировали.
– Где? О боже. Как? Как он? Пожалуйста, дай мне позвонить маме.
Она бросилась следом за мной, а я со всей силы шваркнул дверью.
– Дааай, позвонить. Что ж ты за чудовище. Я буду… буду… буду.
Меня затрясло в приступе хохота. А ведь у каждого есть своя цена. Ее только нужно правильно назвать. Маленькая сучка не просто выводила на эмоции, она заставляла себя чувствовать ничтожеством… а еще мне хотелось, чтоб именно она так не считала, и только за это безумно хотелось ее ударить. Так, чтоб кровью запачкать все лицо, стереть с него следы невинности, вот этого выражения чистоты, как упрек мне – грязному монстру.
Глава 15
Успех острого слова зависит более от уха слушающего,
чем от языка говорящего.
© Уильям Шекспир
Он это сделал специально. Бросил мне информацию и хлопнул дверью, чтобы я мучилась в неизвестности, чтобы ломала себя сама. И я ломала, пока терлась мочалкой и до боли намыливала оскверненные им волосы, дергая их и растирая с остервенением. А в ушах этот дьявольский голос про операцию Мити. И ни слова больше. Нарочно. Чтоб я извелась, чтобы представила себе самые страшные варианты исхода хирургического вмешательства, чтобы думала о маме, которая там сходит с ума одна. Без моей поддержки, не зная, где я. Проклятый манипулятор нашел мое слабое место и теперь будет туда бить, колоть, резать именно туда и там, и мне придется уступать, мне придется делать все, что он захочет, лишь бы узнать о брате и о маме. А если сделать вид, что я покоряюсь, что я готова быть послушной? Он сам уступит? Даст мне поговорить с мамой? Я и этого не знала. Однажды я подчинилась, но он так и не дал мне сотовый. Передумал. Ублюдок, какой же он все-таки ублюдок.
Я все больше чувствовала себя куклой. Особенно сейчас, когда одна из горничных помогала мне одеться. Потом они будут меняться, наверное, чтоб я ни с кем не сговорилась о побеге, или не знаю зачем. Этот человек был за гранью моего понимания. Я таких никогда не встречала и вряд ли бы встретила. У меня была спокойная жизнь. В ней не появился бы такой, как Барский. Я смотрела на себя в зеркало, пока девушка в темно-бордовой униформе с белоснежным фартуком поправляла лямки моего платья (даже они как с обложки журналов), тянула сзади змейку, разглаживала узкий низ. Сегодня он одел меня в белое. Во все белое. Даже нижнее белье и чулки. Пытаться понять почему – бесполезно. Но мне вот это белое казалось грязнее черного, словно на меня накинули вонючую тряпку. Робу рабыни. Все что на мне надето пусть и было баснословно дорогими эксклюзивными вещами от знаменитых брендов, все равно казалось мне грязными робами, а еще я почему-то думала, что в это одевали не только меня. Иначе, где он брал всю эту одежду? Чокнутый маньяк закупал вещи одинакового размера и заводил себе одинаковых кукол. О, как я ошибалась. Все было гораздо хуже – он заводил себе совершенно разных кукол и для каждой покупал одежду на свой вкус. Я даже потом представляла себе, как он ее выбирает в своем кресле в кабинете, выписывает, составляет табличку размеров. Это ненормально, и в то же время было в этом что-то будоражащее воображение. Его безупречный вкус, его понимание в женском белье, прическах, парфюмах. Хотя со мной у него особых пожеланий не возникло. Он всегда хотел видеть мои волосы распущенными. Я вспомнила, как отмывала их после него, и по телу прошла дрожь. Отвращение и что-то еще… едва уловимое, странное. Оно мне не понравилось. Было в этом ощущении что-то противоестественное. Словно части меня понравилось его безумие, его дикий голодный взгляд, его хаотичные прикосновения к моим волосам. Той части вдруг подумалось о том, что, наверное, он редко на кого так смотрит. И тут же ледяной волной – ты просто отличаешься от его других кукол. На тебе бирка из магазина, и твою обертку не вскрыл еще даже он. Просто вертит в руках. Рассматривает, давит, крутит твоими руками и ногами, словно они на шарнирах, но все еще не пробовал ломать. Взломает. Это вопрос времени. И меня больше пугало не то, что он это сделает, а то, что он будет добиваться, чтобы я захотела, чтобы он это сделал.
Едва горничная вышла, я поискала взглядом косметику и парфюм – их не было. И черт с ними. Мне совершенно не «улыбалось» себя для него украшать… а внутренний голос подсказал, что он эти украшения и не любит. Захотелось что-то сделать назло, и я заплела волосы в косу, которая не подходила к платью из белой тончайшей шерсти, к ожерелью из янтаря и коричневым туфлям без каблука. Я злорадно усмехнулась – комплексует из-за невысокого роста и не хочет, чтоб я была выше. Тут же вспомнились туфли на шпильках, которые заставил обуть в наш с ним первый завтрак, и улыбка исчезла. Ни черта он не комплексует. Этот самодовольный ублюдок всецело обожает свою внешность, каждую родинку на себе и каждую волосинку. От него за версту прет самодовольством. И он нравится женщинам. Такое понимаешь сразу на уровне подсознания. Для этого не нужен опыт. Просто видно по этому взгляду, походке, улыбке, продуманной до мелочей небрежности, где каждая расстегнутая пуговица на рубашке часть его охоты на жертву. Но в таком случае зачем он покупает себе девочек по вызову. И что-то подсказывало – затем, что с ними он может делать все что угодно. Как и с тобой. В дверь тихонько постучали.
– Вас ожидают к ужину. Поторопитесь. Хозяин не любит ждать.
Хозяин? Что ж, вполне ему подходит. Перед глазами возникла фигура рабовладельца с плетью, и я внутренне сжалась. Он может ударить? Может. Даже избить. Я бы не удивилась, узнав, что он истязал своих несчастных кукол и раньше. Та, что порезала вены… что он сделал с ней? Почему она покончила с собой после него? А жена? От этих мыслей становилось дико. Хотелось забиться в угол, прятаться, как животное, ожидающее расправы. Но с другой стороны, я не хотела становиться животным и снова позволить охотиться на себя.
Я вышла из комнаты и, как и в прошлый раз, невольно рассматривала дом. Удивительно, но в нем тоже имелся свой характер, и сегодня стены не давили на меня со всех сторон. Они поблескивали тонкими золотыми разводами, которые я раньше не замечала, и казались менее мрачными. Я ступала по черному мрамору, держась за перила, и вспоминала, как сломя голову летела по этим ступеням вниз, чтобы выскользнуть из этого дома, и тогда он словно ощетинился изнутри, цепляя меня и удерживая насильно.
Внизу меня встретил все тот же истукан. Я запомнила его бесстрастное лицо и зажатые за спиной руки в белых перчатках.
– Я проведу. Идите за мной.
Ни по имени не обращается. Никак. Потому что я и есть никто. И слуги прекрасно об этом знают. Наверное, здесь побывало бессчётное количество таких вот «никто», которые ужинали с чокнутым деспотом.
Он привел меня к уже знакомой зале, едва увидев большие ручки по обе стороны дверей, я вздрогнула. Здесь мы встретились впервые. Интересно, если бы я передумала и сразу же бросилась к выходу – я смогла бы сбежать?
Двери распахнулись, и я вошла в помещение. Сегодня оно выглядело иначе. Тяжелые шторы были раздвинуты, и огромные окна на всю стену открывали великолепный вид в сад и на деревья у подножия утеса. И на закат. Тот самый багровый. За длинным столом восседал хозяин дома и лысоватый мужчина с хрупкой женщиной-шатенкой. Они тут же повернули ко мне головы.
И мне вдруг послышался голос Огинского в голове:
«Познакомьтесь – это моя кукла. Вы можете оторвать ей ногу или руку. Я разрешаю».
И тут же в унисон моим мыслям, и правда, раздался его голос, от которого по телу прошла волна дрожи. Я не представляла, как можно таким голосом спокойно разговаривать и им же заставлять делать отвратительные вещи.
– Марк, Нина, это моя гостья – Есения. Она сегодня отужинает с нами.
Встал с места и отодвинул стул со своей стороны. Так галантно и грациозно. Повадки хищника, снова эта гибкая вкрадчивость. Обманчивая и слишком красивая. Я уже знала его грубую хватку. И снова не смогла удержаться, чтобы не восхититься его стилем и вкусом в одежде, не восхититься им самим. Его внешностью, которая притягивала и одновременно отталкивала именно своей притягательностью. Потому что в голове не укладывалось, как человек с таким красивым лицом (да, теперь оно казалось мне красивым, или я не рассмотрела его раньше) может быть настолько циничным и жестоким.
Он подождал, пока я подошла, и все это время не сводил с меня этого ужасного взгляда, от которого начинали дрожать кончики пальцев. Как бы не омерзителен он мне был – я еще не видела в мужских глазах такого явного восхищения и грубого вожделения. В какой-то мере это льстило и в то же время пугало. В тигриную бездонную яму прямо в его пасть падать не хотелось. Вряд ли там кто-то выжил.
Я села за стол, и Барский пододвинул мой стул. Сел рядом. Я снова уловила его особенный запах. Горячее, мужское, терпкое с ароматом виски и горьким привкусом сигаретного дыма. Как может так злить человек, и в тот же момент настолько будоражить его запах. Теперь я подняла взгляд на его гостей. Оба меня рассматривали с нескрываемым любопытством. Я даже почувствовала, как краска приливает к лицу. Интересно, что они подумали обо мне? То же, что и Барский в нашу первую встречу? Многих он знакомил с ними?
– Вы очень красивая, – тихо сказала миниатюрная шатенка и отпила из бокала яблочный сок. Пакет от него стоял рядом с ней. Судя по всему, она принесла его с собой.
– Спасибо, – так же тихо ответила я и вздрогнула, когда официант, бесшумно подкравшись сзади, поставил передо мной тарелку с салатом и положил столовые приборы.
– Нина пьет сок без сахара. Во время беременности он у нее повысился. А она предпочитает только одну и ту же фирму и таскает его с собой в сумочке. Беременные весьма странные существа.
Марк дружелюбно мне улыбнулся, и мне подумалось, что он намного приятнее самого Огинского. Я улыбнулась в ответ.
– Беременность – это счастье для женщины. Я вас поздравляю.
Краем глаза увидела, как Барский повернул в пальцах нож и блеснула его печатка.
– Наследник, – смущенно сказала женщина и снова отпила сок.
– Захар сразу сказал, что будет пацан, и он не ошибся. Он вообще редко ошибается. Вы прислушивайтесь к тому, что он говорит, иногда его слова, как пророчество.
Не дай бог мне его пророчества. С трудом верилось, что такой жизнерадостный человек, как Марк, мог быть другом Огинского. Мне казалось, что у таких, как он, вообще не бывает друзей.
Я смотрела на салат, и в животе урчало от голода. Хитрый сукин сын специально посадил меня за стол, чтобы я была вынуждена есть при его гостях. Потому что обычно я отказывалась от еды и могла ограничиться чашкой с бульоном. Мне ужасно захотелось есть, тем более я обожала салат «Цезарь», мама делала его по праздникам с сухарями и сыром. Смущали дурацкие приборы в каком-то совершенно странном количестве. Я взяла вилку и тут же опустила руку.
– Я никогда не знала, зачем все эти ножички и вилочки, и какие-то палочки. Моя еврейская мама говорила, что еду надо есть руками, ложкой, вилкой и ножом. Остальное извращение.
Нина наколола салат вилкой, набила полный рот и, повернувшись к Марку, округлила глаза.
– Ничего. Кушай-кушай, маленькая.
Я засмеялась и тут же замерла, потому что Барский смотрел на меня. Я чувствовала этот взгляд кожей, он словно полз лазерным лучом по моей шее, скулам, лицу, забирался мне в волосы. Подняла голову и, встретившись с ним взглядом, резко выдохнула. Мне не нравилось, как он на меня смотрит… и нравилось одновременно. Они горели, его глаза. По-настоящему. Это трудно передать словами. Нужно видеть. Чуть прищуренные тигриные глаза и слегка приподнятые уголки губ. Я начала потихоньку разбираться в выражении его лица. Кажется, сейчас он был доволен. И в то же мгновение меня сильно дернули за косу сзади. Так сильно, что я невольно ударила вилкой по тарелке.
Барский склонился к моему уху и прошептал:
– Я попросил распустить волосы, но ты ослушалась. Теперь ты будешь улыбаться мне весь вечер. В наказание.
Захотелось воткнуть вилку в его руку со всей силы, но я даже не пошевелилась.
– Улыбайся. Мне нравится твоя улыбка.
Я повернулась к нему, растягивая губы в гримасе и мысленно желая ему сгореть в огне живьем.
Его пальцы на моих волосах не разжались, а бровь взмыла вверх, и он слегка склонил голову к плечу, выжидая. И я улыбнулась иначе, чувствуя, как ослабла хватка на волосах, а потом его рука передвинулась по спине вверх к затылку и помассировала натянутые только что корни. Приятно, по коже головы бегут мурашки, и в тот же миг становится не по себе от этой ласки. Причиняет боль и ласкает. Психопат.
– У Нади очень красивая улыбка, правда, Марк?
Глава 16
Да, совершенства в этом мире нет,
во всем чистейшем есть нечистый след.
© Уильям Шекспир
Сучка. Какая же она упрямая, маленькая сучка. Когда улыбнулась впервые, меня таким жаром окатило, что я невольно дернул пуговицу на воротнике. Мне вдруг показалось, что все это время я жил во тьме. И никогда не видел солнечного света, потому что ее проклятая улыбка, подаренная не мне, оказалась самым ослепительным из всего, что я видел в своей жизни. Ее глаза засияли, и на правой щеке появилась ямочка. Ямочка, мать ее! Я заметил какую-то дрянную ямочку на женской щеке, и мне захотелось потрогать ее подушечкой пальца, а еще заглянуть в глаза и смотреть, смотреть, как они меняются, как спутались в их уголках длинные бархатные ресницы и в зрачках дрожит мое отражение. Без страха, без ненависти. И от одной мысли об этом дух захватило с такой силой, как когда-то на высоченной карусели в луна-парке. И я тут же свалится с неё на землю, да так, что все ребра пересчитало, подробило, потому что как на меня посмотрела – свет тут же выключили. Выдернули, словно из розетки, и я погрузился в привычный мне серый полумрак без цветов и оттенков. Где белым пятном была только она. Белым пятном с черной ненавистью в глазах. И меня окатило такой волной ярости, что даже в пот бросило. Захотелось наорать на Марка, на его беременную жену, на хер их выгнать за то, что она им улыбалась. ИМ! Какого хрена, спрашивается? И за эту потерю контроля аж перетряхнуло всего. Но я знал, что ни один из них не увидит этого на моем лице. Даже Марк, который изучил меня за годы нашей своеобразной дружбы. Где я использовал его по полной программе и швырял ему подачки и подарки, а он знал, что ему от меня никогда не уйти – только на тот свет. Вот такая дружба у нас сложилась. И он был одним из немногих, кто вхож в мой дом, знаком с моей матерью и садится за мой стол не только по великим поводам. И я впервые посадил за общий стол игрушку. Никогда раньше они не переступали порог моей спальни не в направлении выхода из дома и чаще всего черного. Мне от чего-то захотелось сидеть с ней рядом за столом за какой-то непринужденной беседой, но, так как между нами это вряд ли возможно, я позвал Марка. Какая-то долбаная иллюзия нормальности, где за моим столом сидит женщина и друг с женой. Все трое, мать их, насильно. Захотелось расхохотаться, а потом бить острыми зубьями вилки по столу так, чтоб осколки тарелок разлетались в стороны. Жалкий идиот настолько ничтожен, что покупает себе женщин и друзей либо за деньги, либо ценой страха.
«Думаешь, они с тобой дружат потому, что любят тебя, Захар? Неееет, они жалкие таракашки, пришли пожрать вкусную еду и поиграть в твои игрушки. На хрен ты им не сдался. Потому что ты урод, Захар. Потому что ты богатенький урод.
– Любят! Они меня любят!
– Нет! И ты скоро узнаешь, что я прав! Никому из них ты не нужен. Даже если ты сдохнешь, они придут на твои похороны, чтоб пожрать пирожки.
– Ты лжешь!»
И отец оказался прав, я заболел воспалением легких и даже лег в больницу, никто из этих, уже с детства продажных тварей, ко мне не пришел… никто, кроме Марка. Он принес мне форшмак в пластиковой банке и суп с клецками от бабы Мани. Наверное, это было самое вкусное из всего, что я ел в своей жизни… потому что у меня появился друг. Я так решил. Идиот. Оказывается, моя мать позвонила бабушке Марка и пообещала, что ускорит для нее оформление документов на эмиграцию в Германию. После этого Марик стал моим лучшим другом – его ко мне гнала вся семья. Марику не повезло, так как я решил, что мне это надо, и пришил его к себе ржавой проволокой насильно, и стоит ему лишь попробовать ее порвать или «перекусить», то я достану даже бабу Маню в доме престарелых в Нью-Йорке и дядю Беню в Ришон-ле-Ционе и пришлю ему их уши в пластиковой коробочке из-под форшмака – я ее сохранил. Да, я долбаный психопат, но это был самый ценный подарок в моей жизни до тех пор, пока я не понял, что это и не было подарком вовсе. Что, впрочем, не мешало мне делать насильно обрезание языка, а иногда и других частей тела, тем, кто обижал Марика или смел назвать его жидом, выбивать для него стипендию в универе (а фактически платить ее ему лично) и всячески опекать, при этом ни на секунду не забывая, с каким огромным удовольствием Марк сменил бы имя и фамилию и свалил бы от меня куда глаза глядят, не забыв при этом накопленные средства, о которых, как он думал, я не знаю.
Перевел взгляд на Надю, а она голову откинула, и коса ударила по спинке стула. Сам не понял, как сжал ее пальцами и сильно дернул. С наслаждением глядя, как она вцепилась в край стола и побледнела. Вот так лучше, сучка. Либо улыбайся мне, либо не улыбайся вообще.
И она улыбнулась, обещая мне взглядом все проклятия ада. О, моя маленькая золотоволосая девочка, ты даже не представляешь, сколько их высыпалось на мою голову за все эти годы. Когда я попаду в преисподнюю, для меня зарезервировано персональное жерло вулкана. Котел – это слишком скромно. Я даже там куплю себе бездну. И снова эти губы. Какие же они сочные, нежные, как же хочется накрыть их своими и узнать, что значит целовать женщину. Я ведь никогда не целовал.
Постепенно разговоры за столом опять стали непринужденными, и она даже поддерживала беседу, а я гладил ее волосы, и член разрывало на части только от касания пальцами к нежному затылку и ямочке посередине, я трогал ее снова и снова, представляя, как погружу в нее язык, когда войду в нее сзади.
Понимаю, что смотрю на нее, как зверь голодный, и ни черта не могу с собой сделать. А она разговаривает, по столу пальчиками водит, что-то рассказывая Нине… и для меня все звуки померкли, только голос ее остался. Как музыка. Лучше музыки. Реквием по ней. Потому что я с каждой секундой понимаю – НЕ ОТПУЩУ. МОЯ. Она говорит, а ее шея напрягается, на ней венка у уха пульсирует. Вспомнил, как голову запрокинула мне на плечо и как стонала гортанно, кончая на мои пальцы.
– Ты помнишь, что после десяти вечера нам надо быть на приеме у Каверина?
Повернулся, нахмурившись глядя на Марка.
– Помню.
– Сукин сын ждет, что мы проинвестируем его новый проект. Он как раз его представит на вечеринке.
Инвестировать провальный проект Каверина я не собирался. Но мне нужны были связи его тестя Неверова Станислава совсем в другой сфере, и пропустить прием я не мог. Но да, я о нем забыл. Впервые о чем-то забыл.
– Скоро поедем.
– С дамами?
– Нет. Отвези Нину домой. Я как раз переоденусь.
И вдруг меня словно током шибануло – я увидел, как растянулись в улыбке уголки губ моей игрушки. Она обрадовалась, что я уезжаю. Это напомнило мне, как дети сваливали с моего дня рождения с подарками и сытыми, довольными рожами, а я резал в своей комнате ножницами подаренные ими игрушки, которые купил мой отец и вручил перед тем, как машина привезла их в наш особняк. Да, я знал, что это сделал он, и резал, и представлял, как так же полосую их самих. Их лживые рожи.
Когда Марик с Ниной ушли, а мы остались в зале, я встал и отодвинул стул Нади. А потом долго смотрел ей в глаза, пока вдруг отчаянно не захотел вымазать грязью ее всю. Оттрахать. Запачкать кровью ее белое платье. Смел со стола тарелки, швырнул ее на стол спиной и разодрал на хрен корсаж. И в этот момент она вдруг перехватила мои руки.
– Подожди.
Стряхнул холодные пальцы и с рыком сжал полушария маленьких грудей, чувствуя, как заволакивает маревом разум. Но она вдруг схватила меня за шею, за воротник, потянула к себе, выдыхая мне в лицо.
– Пожалуйста… можно по-другому. Ромааа, по-другому.
А меня трясет от ее груди под ладонями и разведенных ног, сжимающих коленями мои бедра. Трахнуть суку. Стереть с ее лица довольную улыбку. Избавиться от наваждения. Пусть рыдает, когда я уйду. На хер ее улыбки! Насильно ноги в разные стороны еще шире, разрывая резинку трусиков.
– Ромааа… Ромааа… не так!
И вдруг в мои губы ее горячие соленые губы ткнулись. Меня ошпарило кипятком, схватил за волосы, отдирая от себя, заставляя запрокинуть голову, и посмотрел в ее наполненные слезами глаза.
– Заставь захотеть… я хочу тебя хотеть. По-настоящему тебе улыбаться.
И сама губ моих своими коснулась. Так осторожно, так невыносимо больно. Как папиросной бумагой режет по открытой ране. Потому что меня сковало болезненной агонией, свело каждую мышцу то ли от удовольствия, то ли от пытки. Они такие мягкие ее губы. Хочется смять их своими, жадно языком лизать, втягивать в рот, кусать. Медленно отпустил ее волосы и вцепился руками в стол, позволяя ей трогать мой рот губами. Это даже не поцелуи, это слепые тыканья… но такие… меня от них начало трясти, и глаза закрылись, как под адским кайфом, погружение в кипящую нирвану. Похлеще погружения в чье-то тело. Член пульсирует, как при точке невозврата. И осознание – а ведь я захочу еще… я подсяду на эту дрянь. Пальцы на столе нащупали вилку и силой вонзили в стол. Тарелка от удара разлетелась на осколки. Сеня отпрянула назад, ошарашенно глядя мне в глаза, а я оттолкнул ее от себя и пошел прочь из залы. Захлопнул с силой дверь и тронул свои губы – их жгло. Словно они до мяса облезли.
– Глаз с нее не спускать, пока я не вернусь. – не узнал свой хриплый голос.
От дикого возбуждения трясет всего. Мне нужно срочно кого-то оттрахать. Сегодня же. Сейчас же. Или же я кого-то убью.
Глава 17
Гнёт спину лесть.
"Король Лир"
© Уильям Шекспир
Я смотрел на Каверина, который с невероятным запалом рассказывал о своем проекте с покупкой акций обанкротившихся предприятий и его стратегией по их поднятию на высокий уровень, и перепродажей с большой прибылью. Он доказывал перспективность самих компаний с неправильным финансированием, рекламной кампанией и неопытным руководством. Он говорил и смотрел только на меня, потому что лишь я мог дать этому идиоту денег, но я не собирался этого делать. Слушал краем уха его бред и крутил в пальцах бокал с золотым дном. Золото. И перед глазами ее коса в моих пальцах и задыхающийся рот. Когда швырнул на стол. Губы все еще жжет от ее прикосновений. Тронул их сам снова, и внутри появилось сосущее чувство. Вот оно. То, чего я так.. да, бл*дь, боялся. Я сейчас продал бы дьяволу что угодно, лишь бы она снова вот так касалась губами моих губ. Все те другие, которые тянули к моему рту свои надутые силиконовые вареники, вызывали лишь чувство гадливости. Я никого и никогда не подпускал трогать свой рот.
А она… она меня ласкала губами. Меня никто и никогда вот так не касался. Словно пробуя на вкус и отдавая свой. Так нежно, так невыносимо осторожно. И тут же яростно взрывается адреналин в висках. Ни хрена она не пробовала. Шкуру свою спасти хотела, не более. Как мои школьные дружки-лицемеры, которые, едва выходили из моего дома, ржали с богатенького уродца. Я перевел взгляд на жену Каверина – крашеную блондинку в шикарном ярко-алом платье и с такими же алыми губами. Я хотел трахаться. Я хотел вытрахать из головы эту суку. С кристальными глазами и мягкими розовыми губами. Я хотел хотя бы один вечер не думать о ней.
Скучная и примитивная охота, когда Каверина замечает мой взгляд и деланно стыдливо опускает наращенные ресницы размером с маленький веер. Ее язычок бегает по губам, и она пытается невпопад улыбаться своему придурку и без пяти минут рогоносцу. Каверин женился совсем недавно на дочери Неверова – одного из самых влиятельных владельцев игорного бизнеса в столице и пытался показать ему, что он не кусок дерьма и может убедить меня инвестировать его проект. Он таскал свою жену по всем мероприятиям с собой и восхвалял ангельский характер и чуть ли не особенную чистоту. А я смотрел на нее и прикидывал – за сколько минут оттрахаю в рот и в какую из своих дырок она мне даст сегодня.
Едва она встала и направилась вглубь коридора, я последовал за ней и уже через пару минут зажал ее в уборной, щёлкнув замком изнутри.
– Вы что? Ннне надо, зачем… мой муж и…
– Да ладно…
Потянул к себе за корсаж.
– Не хотела меня, м?
– Хотелааа… ужасно хотела. Как ты догадался? Трахни меняяяя.
– Степень влажности…, – пальцами потереть ее промежность через платье, – видно по глазам женщины.
Так же, как и ее желание насосать мужу на проект и показать отцу фак. Еще одна причина стать грязной шлюхой. Я смотрел на нее исподлобья и вытирал туалетной бумагой ее губы, пока она доставала мой член из штанов и не распахнула широко глаза, взяв его в руки. Я тут же развернул ее спиной к себе, нагнул над раковиной, задрал платье на поясницу, сдвинул трусы, развел в стороны ягодицы, впиваясь ей пятерней в затылок, прижимая голову к мрамору столика и вдираясь в ее тело одним толчком, видя свое отражение в зеркале и ее округлый зад у моего паха.
Видимо, в эту секунду она и осознала до конца свою ошибку. Пытается дернуться, но я ее зажал мертвой хваткой и принялся толкаться на бешеной скорости. Дергается подо мной. Не нравится. А мне по хрен. Я не ради её оргазмов за ней пошел. Я хотел просто долбиться в ее блондинистую дырку и сбросить напряжение. И со мной больно, когда зверею. Это я тоже знаю. Шлюхи обычно терпят и даже что-то пытаются изобразить. А вот такие случайные чаще всего рыдают, если я сам не хочу криков и стонов наслаждения и не добьюсь, чтоб из них текла влага ручьями и пульсировал в предвкушении натертый моими пальцами или языком клитор. Иногда меня возбуждало именно это. А иногда мне хотелось, чтоб плакали и скулили от боли, когда я толкался членом так глубоко, что у них распахивались широко глаза и из них текли слезы. Смотрел в зеркало на свое лицо с пульсирующей веной на лбу. Стараясь не опустить взгляд. Потому что я уже чувствовал это покалывание ненависти к себе внутри под кожей. Но я посмотрел и дернулся сильнее, вдавив голову блондинки в мрамор и шлепая пятерней по упругой ягодице – из зеркала на меня смотрел урод с раздвоенной губой и оскалом с обнаженной десной под ней.
«Уродец… Заяяяяц, у тебя еда изо рта не вываливается? Фууу, какой он мерзкий.
Как тебя телки целовать будут? Я б сблеванула… фу, урооод. Урооод… урод. Чудище. Я б с таким даже за деньги никогда. Барский, какое свидание. К тебе пацаны за бабло твоего отца в гости ходят… а им потом кошмары снятся. Как ты жрешь своим уродливым ртом».
Голос первой красавицы школы и ее нескончаемый хохот колоколом звенят в ушах, и пальцы сжимают волосы женщины, извивающейся подо мной, а там в моих воспоминаниях – букет с цветами и шипы от роз режут и впиваются в ладони. Спустя пару лет эта сука сосала у меня под столом за стольник себе на дозу героина. Но тогда… тогда мне хотелось сдохнуть. Тогда это, бл*дь, было больно. И каждый раз, когда мне кто-то лгал – я видел эту рожу с заячьей губой. Настоящую рожу Захара Огинского, а не эту красивую маску, сшитую опытным хирургом, когда мне было тринадцать.
Из зеркала на меня смотрела окровавленная физиономия урода, изрезанная осколком стекла. Не вышло у отца купить мне друзей, они все равно все меня ненавидели и ржали за спиной.
«– Операцию можно сделать лет в шестнадцать. Череп еще формируется и мышцы.. я не волшебник. И эти раны колотые. Здесь лицо по кускам собирать надо. Вам бы его к психиатру и… пока косметическую операцию, потом постепен…
– Заткнись! Сейчас сделаешь. Станешь волшебником. Давай, чтоб мой сын отсюда вышел красавцем – и я озолочу, а если что-то не так пойдет, тебя самого ни одна пластика не спасет. Сделаешь так, чтоб через год телки перед ним на коленях с открытыми ртами выстраивались.»
Я тряхнул головой и выдернул член из изрядно помокревшей плоти Кавериной, опустил ее на колени и зажал жесткие волосы на затылке в кулак. Едва она открыла рот и приняла мой вздыбленный член, я застонал и запрокинул голову назад и тут же обратно, смотрю на нее, не позволяя фантазировать. Я кончу ото рта этой шлюхи, а не мысленно во рту Нади. На хер это наваждение. Толкнулся еще глубже, и Каверина начала алчно причмокивать, вылизывать мой ствол. Но мне надо было глубже и жестче, прихватил ее одной рукой за горло, второй за затылок и начал долбиться в ее рот до самого горла под всхлипывания, под слезы, текущие по щекам, под судорожное хватание воздуха скрученными пальцами и сглатывания, зажимающие головку и приближающие мой оргазм. Мечется, скулит, мычит, а я чувствую пальцами свой член, поршнем долбящийся в ее горло, стискивая сильнее волосы, чтоб не увернулась. Вижу, как она вертит задом, как запустила руки себе между ног и яростно растирает себя. Начал насаживать на свой член сильнее, заставляя давиться и задыхаться, отбивая желание мастурбировать. Я хотел ее боли. Хотел унизить сучку, которая раздвинула передо мной ноги ради проекта мужа. Каверин хоть и идиот, но такого не заслужил. Он ее любил, как лох последний. Я видел это в его глазах и… мне было его жаль. Но в то же время и совершенно плевать – в какой позе трахать его жену и куда.
Когда кончал, продолжал держать, пока она вынуждено глотала. Потом я перед зеркалом мыл руки, а она всхлипывала на полу на коленях, вытирала слезы. Когда я собирался выйти, схватила меня за штанину.
– Ты.. ты поможешь моему мужу?
Пожал плечами:
– Конечно, нет. Его проект провальный. А он… он бездарный бизнесмен.
– Как? Я же… я же с тобой…
– Не усложняй, я просто тебя трахнул, а ты не возражала. На провальный проект своего мужа ты не наработала.
Потом опустился перед ней на корточки.
– Я помогу ему, если ты устроишь мне встречу с твоим отцом. Непринужденную встречу у вас дома. Сосать было не обязательно, детка. Мы могли всего лишь обсудить условия сделки.
– Ублюдок!
– Еще какой.
Достал сотовый из кармана, и через секунду послышался её голос с просьбой трахнуть.
– Ты вряд ли хочешь, чтоб я это отправил папе и мужу… а еще лучше, например, папиным конкурентам. Мне нужна встреча. Устроишь в ближайшие дни.
Щелкнул ее по курносому носу.
– И в следующий раз я дам тебе кончить.
– Скотина!
Едва вышел в коридор, тут же набрал Антона.
– Что она делает? Пришли мне скрин с камер. Хочу увидеть её…
Да, меня ни хрена не попустило.
**********
Дверь за ним захлопнулась, а я прижала пальцы к губам и медленно закрыла глаза. Еще раз повезло? Так разве бывает? Разве не должен был монстр сейчас разодрать свою добычу? Когда смел тарелки со стола и опрокинул на спину, я мысленно приготовилась умирать. Нет, не физически, а морально. Я почему-то была уверена, что большего страдания женщине не перенести, чем после секса с нелюбимым ощутить внутри себя всю грязь. Но он остановился. Не знаю почему. Я вообще с ним ничего не знаю и чувствую себя ягненком в лапах льва, который то треплет свою добычу, то облизывает, но рано или поздно обязательно сожрет. И вот это ожидание моральной смерти и физического падения самое страшное, что я когда-либо испытывала в своей жизни.
Провела пальцами по нижней губе, а потом по верхней. Так странно… когда я его поцеловала, я совсем не ожидала, что это сработает. Я просто в отчаянии хотела заставить его понять, что я человек, женщина, не вещь. Ведь могло бы быть все по-другому. А когда его рта коснулась, саму подбросило, как от удара плетью вдоль позвоночника. Он тянулся и тянулся этот удар, словно огненная змея ползет по косточкам, оставляя след, как от ожога. Пылающий, дымящийся след моего поражения. Его губы оказались мягкими, чуть горьковатыми на вкус и очень гладкими. Меня ошарашил его ступор, оцепенение, в которое он впал, когда я его поцеловала. Словно вдруг весь контроль неожиданно оказался у меня, а я растерялась и не знала, что с ним делать.
Но уже не могла остановиться. Сама не понимаю, что происходило в те секунды. Я тыкалась в его губы, вела по ним своими и чувствовала, как от каждого касания большое тело Огинского вздрагивает, и он судорожно выдыхает через нос. Зачарованный жертвой хищник замер то ли от ласки, то ли перед финальным броском, как змея перед смертоносным укусом. Я приоткрыла веки и смотрела на его закрытые глаза, на подрагивающие по-девчачьи длинные ресницы и на складку между бровей, словно на лице застыла гримаса боли, его напряжение передается мне, и я вижу маленькие бисеринки пота, которые хочется смести пальцами. Страх куда-то исчез. Ненадолго спрятался, оставляя какое-то мистическое очарование тишиной и тяжелым дыханием Огинского.
Я обхватила губами его нижнюю губу. Захотелось настоящего поцелуя. Неожиданно и очень сильно. И где-то очень тихо трепыхалась мысль – что было бы, если бы все случилось иначе, и он сам вот так целовал меня? Чтоб я почувствовала? Мне бы понравилось?
Оголенных сосков касались полы его рубашки, заставляя слегка подрагивать от повышенной чувствительности, и зажатые между моих ног сильные бедра, как отсроченная необратимость, не двигались, но я вдруг представила, как они двинутся вперед, и свело судорогой низ живота, и в тот же момент я слегка прикусила его губу, вместе со звуком бьющейся посуды разбилось вдребезги и очарование. Я всхлипнула и дернулась назад, а он отшвырнул вилку и, тяжело дыша, глядя на меня исподлобья, больно толкнул в плечи, а потом выскочил из комнаты как ошпаренный. Я так и не поняла почему. С ним не было понятно совершенно ничего. Непредсказуемый, дикий, то ледяной, то горячий, то жуткий, то вкрадчиво и опасно нежный.
Неужели он не смог, потому что я попросила? Или мои поцелуи были настолько отвратительны? Ведь со шлюхами не целуются. Я это где-то читала. Мысль об этом казалась странной и абсурдной. Но в любом случае я победила. Пусть ему станет противно настолько, что он меня отпустит. Выгонит, вытолкает и забудет, как я выгляжу.
Меня впервые никто не запер и никуда не увел насильно. Я сама пошла в свою комнату, сжимая порванные трусики в кулаке и придерживая края разодранного корсажа платья. Оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к уже ненавистной тишине. Пока боролась с Огинским, туфли спали, и я не стала искать их под столом, так и шла босиком, оглядываясь по сторонам и впервые ни от кого не убегая. Дом притих в каком-то выжидании, как и я сама. Я прислушивалась к нему, а он ко мне. Конечно же я заблудилась, иначе и быть не могло. В иной ситуации можно было посмеяться над собой, но сейчас смешно совершенно не было. Я боялась этого дома почти так же, как и его хозяина. Наверное, свернула куда-то не туда. В этом коридоре-лабиринте нужны были стрелки или путеводитель. Но я, наоборот, была безумно рада, что за мной никто не гонится, никто никуда не ведет насильно, и я могу почти спокойно находиться в своей огромной живой клетке сама. Или таким образом меня к ней приучают? Я бы не удивилась очередному трюку Огинского, а точнее, раунду в его играх. Но когда он бросился прочь из залы, у меня не возникло чувства, что он играет. Анализировать его поступки можно до бесконечности, но истинного их смысла я никогда не узнаю. Да он мне и не нужен. Барский больной на голову садист-психопат, а я его игрушка, и как бы он не поступил, это всегда будет неприятно и больно для меня. Мне так хотелось думать. Потому что еще страшнее было, когда с ним становилось приятно. Почему-то от этого намного больнее, чем если он причинял мне боль. Трогать его губы своими губами, когда он замирает от этих прикосновений, оказалось дьявольски приятно, и именно это больно отдавалось в виски. Стокгольмский синдром. Я читала о нем. Немного в ином ракурсе… но я бы не хотела стать безумицей, которая от безысходности позволит делать с собой что угодно и начнет испытывать от этого наслаждение. Стать добровольной игрушкой – хуже смерти.
В этом крыле дома было особенно тихо. Так тихо, что я слышала эхо своих шагов и, кажется, даже сердцебиения. Открыла одну из дверей и остановилась на пороге, с ужасом понимая, что случайно забрела в самое логово чудовища. Как в сказке… только в моем случае вряд ли у этой сказки будет хэппи-энд. Скорее всего, она превратится в хоррор с ужасным концом. В воздухе витал его запах, и в каждом углу кабинета затаилась его тень. Казалось, даже над пепельницей струйкой вьется дым от незатушенной сигары. Вначале захотелось броситься прочь что есть мочи, но любопытство взяло верх, и я переступила порог, осторожно прикрывая за собой дверь.
Но едва ступила вглубь помещения, включился приглушенный свет. Я тут же обернулась назад, всхлипнув от испуга, и с облегчением выдохнула – позади меня никто не стоял. Говорят, о человеке многое можно узнать из окружающих его вещей и атмосферы, которую он создает в том месте, где бывает чаще всего или проводит много времени. Но это оказалось неправдой. Барский мог бы стать загадкой для любого психиатра. А я и вовсе не умею «читать» мысли и поступки людей. Умела бы – не оказалась бы в этом доме.
Кабинет напоминал логово отшельника и аскета. Минимум мебели, скорее, как в офисе, чем в доме. На столе ни пылинки, ни бумажки, ни журнала. В подставке всего лишь карандаш и рядом с ним футляр с золотистой надписью: «Паркер». Всего одна полка с книгами, кресло и толстый ковер на полу. Ноги приятно в нем утонули и тут же согрелись, хотя здесь было довольно прохладно. Я прошла вдоль стен и подошла к полке, на которой помимо книг стоял стеклянный шар и единственная фотография хозяина дома на вершине какой-то скалы с довольной улыбкой на губах.
В очередной раз поразилась этому бешеному магнетизму, который излучал этот человек. Он вызывал одновременно ужас и заставлял испытывать дьявольское притяжение, как к огню, и в тот же момент понимание, что он и углей от меня не оставит. Взяла в руки шар, потрясла и заворожено смотрела, как крутится внутри снег. Что с тобой не так, Захар Барский? Почему в твоем кабинете нет фотографий твоей семьи? Матери, отца или покойной жены? Только ты сам. Неужели ты в своей жизни никого кроме себя не любил? Это ведь так печально и в то же время отвратительно. И меня снова окатило волной презрения к хозяину этого роскошного дома-тюрьмы. Такое случалось со мной постоянно с самого первого момента нашего знакомства. Все мои эмоции к нему были полярными настолько, что у самой дух захватывало от той скорости и температуры, которая постоянно менялась внутри меня. Когда снег в шаре опал, я увидела, что внутри находится миниатюра этого самого дома. Точная мини-копия. Захотелось шваркнуть его о стену, но что-то удержало, я перевернула шар снова и увидела надпись.
«Дом – это единственное место, где тебе рады даже стены».
Подарок от любовницы или жены? Совсем не несущий радости или позитива, и тем не менее он его хранит. Стало вдруг интересно – какой женщиной могла быть жена такого ужасного человека. Огинского мысленно я могла сравнить лишь с Жилем Де Рецем.
По коже прошел холодок, когда я вспомнила беседу охранников о смерти жены Огинского. Ни на секунду нельзя забывать – где я и что он опасен. Не относиться к нему, как к человеку. Люди так не поступают с другими людьми.
Я взяла шар с собой и вернулась к столу. Села в кресло. Очень удобно. Так удобно, что захотелось поджать ноги и заснуть. Но я потянула вначале руку к ящикам. Конечно же, в них не оказалось ничего интересного. Папки, бумаги. Все сложено очень аккуратно. И лишь в последнем лежал телефонный аппарат. Выключенный смартфон. Я схватила его в руки и, поддавшись порыву, резко включила. Стало страшно на мгновение, а потом вдруг подумалось, что это единственный номер, который может не прослушиваться. Дрожащими пальцами я набрала номер мамы. Пока шли длинные гудки, меня слегка потряхивало от волнения и предвкушения услышать ее голос. Но едва она тихо сказала «алло», предвкушение сменилось диким разочарованием от понимания, что мне нечего ей сказать. Кричать о помощи так глупо и нелепо – она ничем мне не поможет, только навредит себе, если начнет звонить в полицию.
– Алло! Кто это?…. Сеня! Это ты?! Сеняяяяя, где ты? Боже, если это ты, скажи хоть слово, я с ума схожу, доченькаааа! Мы в Германии.. ты скажи мне… скажи, где ты, нам все оплатили… даже мой телефон. Наденькааа, это ты, я чувствую.
По щеке стекла слеза, и я смахнула ее тыльной стороной ладони. Где-то на фоне пикали датчики, а потом я услышала мычание Мити и зажмурилась. Живой мой братик. Значит, операция прошла хорошо. Отключила звонок и несколько минут смотрела на аппарат, а потом набрала Лариску. Едва она ответила, я прошипела ей в ухо.
– Как тебе спится, дрянь? Кошмары не мучают?
– Сеняяяяя. Надюша. Я так ра…
– Замолчи, лицемерка… какая же ты лицемерка. Если я выберусь отсюда, я...
И осеклась, понимая всю абсурдность своих угроз. А что я? Я никто и ничто. Такие, как Барский, заткнут мне рот очень быстро и, скорее всего, навсегда. Я напрасно ей позвонила. Этой дряни не стыдно.
– Я вытащу тебя, слышишь? – от неожиданности чуть не выронила аппарат, – я думаю об этом каждый день. Вытащу. Ты только время потяни. Будь с ним ласкова. Сеня, он, когда шлюх заказывает, требует от них ласки. Требует признаний в любви. Если противятся, может боль причинить физическую. Ты сыграй… Сыграй для него. А я найду, как тебя вытащить.
– Не верю тебе. Лжешь ты. Продала меня… за сколько продала?
– Не лгу. В доме горничная работает от нашей компании. Я через нее передам, что делать. Тяни время, Сеня. Нравишься ты ему, слышишь? Он, как ты появилась, не звонит к нам больше. Гошу просил все о тебе узнать. Со мной разговаривал, выспрашивал каждую мелочь. Повернут он на тебе! Я точно знаю… и его знаю. Используй… будь умной. Ты же женщина!
Я не женщина, я наивная глупая идиотка, которая не имеет ни малейшего представления, как вести себя с чудовищем. Как остаться целой рядом с ним.
Я выключила звонок и откинулась на спинку кресла. Покрутила сотовый в руках. Затем удалила номер и положила обратно в ящик. На меня вдруг навалилась какая-то адская усталость. Словно по мне пошли трещины, и я начала рассыпаться на куски. Я снова встряхнула шар и положила голову на руки. Ненавистная усадьба скрылась за слоем снежинок, как в пепле, я вдруг подумала о том, что было бы прекрасно, если бы она сгорела.
Я уснула, отключилась прямо там. Наверное, сказалась усталость, болезнь и бессонные ночи. Мне впервые за много лет приснился папа. Он о чем-то говорил со мной, улыбался, гладил по голове. А потом поднял на руки и отнес в постель. Пока нес, от него странно пахло, совсем не так, как обычно, но мне нравился его запах, и в его руках было очень уютно и так спокойно.
Он уложил меня в постель и укрыл одеялом, а мне стало так хорошо, так тепло и больно от того, что он не рядом со мной и никогда больше вот так не сядет возле моей постели. Я заплакала…
Пробуждение было резким с отчетливым цветочным запахом, забивающимся в ноздри. Я словно вынырнула из воды на поверхность и резко села… на диване. Мягкий плед соскочил с плеч, и я на автомате потянула его на себя обратно и тут же замерла – Барский сидел в кресле за столом и внимательно на меня смотрел, отпивая из чашки с серебряным подстаканником чай.
– Доброе утро, Сеня. Как спалось?
Я плотнее укуталась в плед, и на пол упала нежно-розовая слегка смятая орхидея. Судорожно сглотнув, перевела взгляд на диван и на свои колени. По мне были разбросаны ветки цветов, и именно они так сильно пахли.
– Нравится? Это же твои любимые цветы?
Нет. Мне не нравилось. Меня это пугало еще больше, чем его агрессия.
– Мне нравится, когда они живые и нетронутые. А эти… эти умрут через несколько часов в угоду покупателю.
Тигриные глаза тут же сузились, и он поставил чашку на стол.
– А тех, кто сует нос в чужие комнаты и берет чужие вещи, как обычно называют и наказывают? Не знаешь?
Краска тут же прилила к щекам. Что за намеки, я никогда в своей жизни не воровала.
– Я ничего у вас не брала и зашла сюда случайно. Я заблудилась.
Он вдруг рассмеялся и снова отпил свой чай. А потом взял в руки стеклянный шар и несколько раз его тряхнул.
– Это подарок моей матери. Я вернулся из заграницы и нашел это в своем кабинете на полке. Он там простоял больше десяти лет.
Стало вдруг ужасно стыдно и не по себе.
– Я не хотела трогать то, что вам дорого… просто он красивый, и эти снежинки... – я не знала, что сказать, а вдруг его мать умерла, – простите. Я бы его не разбила. Я очень аккуратная.
Пока я говорила, он невыносимо пристально смотрел мне в глаза, от чего щеки пылали еще сильнее, и мне было до безумия стыдно.
– Я не хотела… я понимаю, что это неприятно. Когда умер мой отец, у меня остались его вещи и… я очень не люблю, когда их трогают.
Барский встал из-за стола, а я забилась в угол дивана, невольно подбирая орхидеи, чтобы не раздавить. От него это не укрылось, и выражение его лица стало для меня совершенно нечитабельным, пробуждая новую волну страха.
– Моя мать жива и невредима, а этот подарок и не подарок вовсе, а ее упрек тому, что я не сделал, как она хотела, и уехал против ее воли.
Я застыла вместе с цветами и судорожно сжатыми пальцами у горла. Его откровенность и некая досада в голосе были для меня неожиданностью. Барский сунул руку в карман и протянул мне свой сотовый.
– Позвони матери, если хочешь.
Сегодня его глаза были какими-то совершенно странными. Жуткий огонь в них сменился каким-то светлым и теплым медовым оттенком. Мне не нравилось и нравилось одновременно. Но я все же взяла смартфон из его рук.
– Без глупостей. Ты ведь умная девочка. Одно лишнее слово и…
– Я умная девочка.
Набрала номер мамы, но ее сотовый оказался выключенным. Пока набирала, Барский присел на корточки и, приподняв плед, взял в руки мои ступни. Я втянула в себя воздух, набирая повторно номер и боясь сделать что-то не так, чтобы он не отобрал у меня телефон. А он потер мои пальцы и сжал руками, словно согревая.
В сотовом снова сработал автоответчик, и по икрам вверх от его пальцев потянулись маленькие огненные искры. Потому что его руки ласкали, массировали, гладили, разгоняя кровь в замерзших ногах, пока он смотрел мне в глаза, и в расплавленной патоке точками поблескивал зарождающийся огонь. Отшвырнуть его руки не хотелось. Мне было приятно и тепло. И мозг прорезала догадка, что это он перенес меня на диван и укрыл пледом. А потом? Он что – сидел в своем кресле и смотрел на меня? От этой мысли стало очень неуютно.
– Мама не отвечает… я могу позвонить ее подруге?
Кивнул и сжал мои щиколотки, а потом тихо и хрипло сказал.
– Завтра во всех комнатах этого дома будут ковры, раз ты так не любишь обувь.
И я не знаю, что меня ошарашило больше – его слова или голос тети Аллы в трубке.
– Алло. Здравствуйте, тетя Алла. Это Сеня. Я не могу дозвониться маме.
– Сеняяя, о боже! Ты где пропала, моя хорошая? Мама извелась вся! Мы уже заявление в полицию подавать хотим.
Я перевела взгляд на Огинского.
– У меня все хорошо, я работаю. Здесь очень плохая связь и звонить получается редко. Вот сейчас я ей не дозвонилась. Как Митя?
– Митя хорошо! Операция прошла успешно, и у него прекрасные прогнозы. Наденька, ты представляешь – у Мити появился спонсор. Мы не знаем – кто это. Но этот святой человек оплатил все расходы и по проживанию, и по питанию. Абсолютно все. У Мити самые лучшие врачи и лучшее оборудование. Потом Митю отправят на реабилитацию. Твоя мама говорит, что, если бы не мысли о том, где ты и как ты, она бы с ума сошла от счастья. Они, видно, на процедуры пошли. Ты позвони ей потом, как сможешь. Она все расскажет.
Я смотрела на Огинского, а он на меня. Я не знаю, было ли ему слышно, что говорит тетя Алла, но это и не важно. Во мне проснулось совершенно странное чувство, и я пока не могла дать ему определения. Когда я отключила звонок, то лишь смогла тихо выдавить из себя:
– Спасибо. За Митю.
Он вдруг резко встал во весь рост и забрал у меня сотовый.
– “Спасибо” слишком дешево стоит, Сеня. И не представляет из себя никакой ценности, как и любые слова. Переодевайся. Мы едем гулять в город.
И чувство благодарности тут же испарилось, а вместо него появилось понимание, что за все, что Барский сделал для моего брата, мне придется платить, и он возьмет с меня двойную цену. Такие, как этот, никогда не продешевят. Хотела сказать это вслух, но прикусила язык. Вспоминая слова Ларисы. Ничего. Если она не врет, то я вырвусь отсюда… потом, когда Митя с мамой приедут домой. А пока надо играть. Пусть я не умею, но да, я умная девочка, я научусь.
ГЛАВА 18
Вначале я подумал о том, что сучка опоздала, и теперь ее можно уволить. Я ждал, когда она войдет со своими извинениями. Я испытывал извращенное удовольствие, чувствуя ее смущение и страх, как, впрочем, меня заводили и ее дерзость с наглостью. Эти тихие шаги и едва уловимый запах ландыша. Шампунь, который выдавали прислуге, и мыло. Но никто им не мылся. Никто, кроме нее. Все паршиво, видать, у новенькой деревенщины, или откуда она там притопала. Денег нет даже на собственные средства гигиены. Откуда они такие берутся?
Нет, я не пожалел. Жалости во мне давно не осталось ни к кому… и последний раз, когда я впустил ее в свое сердце, она каким-то идиотским образом мутировала в нечто иное… в нечто, сжирающее меня изнутри даже спустя проклятые пять лет. Тронул часы, и они монотонным женским голосом сообщили мне время. Опоздание затянулось. Я разозлился. По-настоящему взбесился от того, что не приходит. Неблагодарная дрянь. Ей же позволили остаться, я даже приказал увеличить оплату. Почему вечно, если с людьми даешь слабину, они так и норовят сесть тебе на голову? Притом мгновенно. Словно тут же проверяют рамки дозволенного и насколько можно примоститься на вашей шее, свесить ноги, а потом и зажать ее ладонями, чтоб кадык треснул, и давить до посинения, пока вы с хрипом не задохнетесь.
Прошло еще полчаса, и я встал с кресла, захлопнул крышку ноутбука. Не мог работать. Не мог ни о чем думать, кроме как о том, что я хочу чертовые гренки и хочу услышать ее шаги и запах ландыша. Дешевый и противно приторный запах, напоминающий освежитель воздуха. Я даже не знаю, что разозлило меня больше – то, что она не пришла, или то, что я ее ждал. Впервые за долгое время, я кого-то ждал и этот кто-то посмел не прийти?!
Как давно я не ходил к флигелю? Кажется, никогда не ходил. Там никто раньше не жил. Я вообще редко выбирался во двор. И сейчас чувствовал себя неуверенно, ощупывая местность тростью. Да, я научился передвигаться и находить препятствия, и прекрасно ориентировался в доме, но в незнакомом месте становилось не по себе. Наваливалось ощущение бессилия, и хотелось сломать проклятую трость, раздробить на куски и желательно об кого-то. Приступы ярости были неконтролируемо сильными, после них голова разламывалась на части, и ее раздирало изнутри с такой силой, что хотелось орать и выть от боли. Каждый такой приступ оканчивался поездкой в частную клинику к моему профессору, который ни черта не мог сделать, кроме как пичкать меня всякой химией и проводить очередные исследования.
– Если вы не будете принимать лекарства от повышенного внутричерепного давления, все может окончиться весьма печально. Вы даже не представляете – насколько.
– Та ладно. Вы реально считаете, что со мной может произойти нечто печальнее всего этого?
Я засмеялся, прислушиваясь к тому, как нервно доктор ерзает на своем стуле. Каждый раз на очередном приеме он нервничал, и я улавливал эти импульсы так же ясно, как если бы видел его лицо в этот момент. Я даже представлял себе это лицо. Рисовал его мысленно. Теперь мне оставалось только рисовать для себя их лица.
– Может… например, кровоизлияние или инсульт. Паралич всего тела, паралич лицевых нервов. Последствия могут быть какими угодно.
– Да, звучит действительно печально – слепое растение. Что насчет зрения? Вы уже имеете точные прогнозы? Не стесняйтесь и не бойтесь говорить правду.
– Мы провели достаточно проверок и анализов, глубокое обследование вашего мозга и степени повреждений. Сказать что-то с уверенностью на сто процентов я не могу. Мы все же не волшебники. Одно точно знаю, что левый глаз… С ним вы можете попрощаться. В нем отмерли зрительные нервы, а нервы восстановить невозможно. Для поддержания тонуса и общего состояния глаза, чтоб не начались воспалительные процессы и отмирание тканей, а так же чтобы снизить в нем давление, я выпишу вам капли. Их надо капать утром и вечером.
Я, скорее, оскалился, чем усмехнулся. Возникло желание выдрать левый глаз за ненадобностью и хрустнуть его подошвой.
– А что с правым?
– Пока что трудно сказать. Но вы не видите им так же, как и левым, несмотря на то, что его состояние можно назвать удовлетворительным. Возможно, повреждения повлекли за собой необратимые последствия и для правого глаза, и нервы уже начали отмирать. Это будет очевидно со временем. Пока что все проверки показывают в обоих глазах стопроцентную слепоту.
– Ясно. Спасибо за честность.
– Я бы рекомендовал госпитализацию для снижения давления и наблюдений. И снизьте физическую активность. Я бы не рекомендовал вам тренировки и спорт. По крайней мере еще несколько лет.
– Ну я пока еще не хочу превращаться в растение или тряпку. Так что с нагрузкой придется моему мозгу смириться или сдохнуть от напряжения. И никакой госпитализации.
– Немного отдыха, лечение и…
– Ваш курорт вернет мне зрение?
– Нет. Но…
– Вот когда найдете способ его вернуть, я с удовольствием лягу в этот санаторий.
Прошел по тротуарной дорожке, размахивая впереди себя тростью и стараясь не вытягивать вперед инстинктивно левую руку. Мне казалось, что это выглядит жалко. Я прятал ее в карман и показушно уверенно двигался в сторону флигеля.
А потом услышал шаги, точнее, хруст гравия.
– Кто здесь?
Прошелся из стороны в сторону тростью. Может, кошка. Иногда они шныряли по двору. Шорох послышался снова. Но уже с другой стороны. Я проигнорировал и пошел вперед и… теперь я точно знал, что за мной кто-то идет или крадется. Резко обернулся, и шаги стихли.
– Я спрашиваю, кто здесь? Не отзовешься — вызову охрану и прикажу стрелять.
– Не надо стлелять. Это я.
Если бы передо мной разверзлась пропасть, я бы удивился намного меньше, чем этому детскому голоску. Словно в аду запели птицы. Словно сквозь треск огня послышалось свежее журчание ручья. Я дернулся всем телом… мне стало не по себе. Как будто мои ночные кошмары ожили и ворвались в мое сознание уже днем.
Он снился мне. Мой нерожденный ребенок. Мой сын. Не знаю почему, но мне снился именно мальчик. Я слышал детский плач, иногда гнался за этим плачем по лесу и видел вдалеке силуэт ребенка. Последний раз мне приснилось, как я бегу босиком по разбитым стеклам за ним, а он смеется и петляет за деревьями. В моем сне ему лет пять. И я точно знаю, что впереди есть озеро и оно глубокое. Бегу за ребенком, кричу что-то, но не слышу собственного голоса, зато слышу его крик: «Папаааа, спаси меня…. Спаси меня…». А когда слышится всплеск воды, меня накрывает паникой, и я бегу все быстрее, ветки бьют меня по глазам, и я точно знаю, что их расцарапало и выдрало, и по моему лицу течет кровь. Подбегаю к берегу, я уже совершенно слеп, меня разрывает от боли… и слышу голос детский, он звучит в моей голове, он разламывает мои мозги таким адским страданием, что кажется моя черепная коробка треснет по швам: «Ты не спас… это ты убил меня. Ты убил… меня и маму… тыыыыыыыыы… папаааа…. тыыыы».
Вздрогнул всем телом, потому что мне показалось, что голос из моих кошмаров вдруг проявился наяву, и у меня на лбу выступил холодный пот.
– А можно потлогать твою палку?
Я опешил совершенно и протянул ему трость.
– Ух тыыыы. Как Солвиголова.
Тряхнул головой. Это не кошмар, и все происходит наяву. В доме чей-то ребенок. Скорее всего, прислуги. Мне не кажется, и я не сошел с ума
– Кто такой Сорвиголова? И ты откуда взялся здесь? – спросил хрипло, чувствуя, как дрожит все тело от напряжения.
– Я – Волчонок. Я с мамой плиехал.
– Кто твоя мама?
– Мама Таня, а еще ее баба Устя называет Се….
– Со мной приехал!
Услышал ее голос, и перед глазами появилось лицо Девочки. Вот так просто появилось, и все. Как будто это она говорит… а не какая-то деревенская девка, которая приносит мне завтраки и моет туалеты в моем доме. Черт меня раздери, какая связь? Почему лицо Есении? Почему в сочетании с ней, а не с кем-то другим?
Возникло едкое желание ударить ее… Ту, что надевает на себя образ Девочки. Ударить очень сильно, так, чтоб ощутила ту боль, что ощущаю я. Но голос ребенка отрезвлял, утихомиривал гнев, успокаивал. Мне нравилось его слышать, у меня внутри появлялись какие-то светлые пятна. Нет, не перед глазами, а именно внутри. Там, где всегда темно, сыро и воняет гнилью. Моему сыну могло быть столько же лет, сколько этому малышу… Если бы он был жив… Он мог бы так же называть Девочку мамой и звенеть, светиться, разрываться от нескрываемого обожания к ней. А я… я бы обожал их обоих.
И ярость начала утихать, растворяться, таять. Ее ярко-красные сполохи бледнели до светло-розового, пока не погасли совершенно.
Ярость исчезала, а боль нарастала все сильнее и сильнее, пока не стала невыносимой. Мне до зубовного скрежета, до адского безумия захотелось прикоснуться к Девочке именно сейчас. До ломоты в пальцах и до дикого желания, от которого хочется резать вены. И эти навязчивые образы, настолько нестерпимо яркие, что меня всего корежит… и сердце то бьется быстро и болезненно, разрывая грудную клетку, то замирает и холодеет от понимания, что я просто вижу иллюзию. Я ее рисую сам себе…. и она реальна, только потому что я ей позволяю быть реальной.
Как этому ребенку, сидящему за моим столом и задающему непрекращающиеся вопросы о шахматах и фигурах. Тем голосом, который в моих снах называл меня убийцей или молил о спасении. Конечно, я просто не слышал других детских голосов, и мой мозг провел параллели. Когда ребенок находился рядом, боль стихала, я обманывал сам себя и купался в этой лжи, пытаясь продлить ее как можно дольше, удержать скрюченными пальцами мечту, вцепиться в нее и не отпускать. И образ девочки, которая принесла нам обоим гренки… Я так и видел перед собой ее силуэт с распущенными рыжими волосами и легкую улыбку на губах. Только она умела смотреть на меня с такой отчаянной любовью. С таким блеском в глазах словно я единственный мужчина во всей Вселенной.
Я даже не знаю, зачем спросил какого цвета у Татьяны волосы. А вдруг… вдруг они тоже рыжие. И что? Что б мне это дало?
Несчастный безумный идиот. Это не Девочка! Не она! Нет ее больше. Ты лично закапывал ее. Опознавал, забирал тело… Это не девочка и не твой ребенок!
И я вижу сквозь туман выписку из заключения о смерти, где написано о гибели плода и матери. Стало душно в кабинете. Захотелось орать и биться головой о стены.
Не знаю, как я вышел туда… Никогда не ходил к ним. К розам. Не потому что не хотел вспоминать. А потому что не мог их увидеть. Когда приказал посадить еще надеялся, что оно вернется. Зрение. И сейчас невыносимо захотелось к ним прикоснуться, ощутить под пальцами лепестки, зарыться в них лицом, как будто прикоснуться к самой Девочке, как будто сжать ее лицо и жадно искать ее рот губами.
Услышать голос позади себя и… позволить иллюзии опять завладеть собой, расползтись по всему телу теплом, просочиться в каждую пору и унять на некоторое время боль.
Вот она… стоит позади меня. Моя Лисичка. На ней платье, то самое – красное. И ветер развевает ее длинные рыжие волосы. Полыхающий огонь на кроваво-красном. Она говорит, куда мне идти… Направляет меня, и я верю ей. Если бы была жива, стала бы моими глазами. Я бы пошел на ее голос куда угодно.
Я что-то спрашиваю, и она отвечает. Мой разум продолжает общение, а слепые глаза видят совсем иные картины. Видят лицо – тонкое и бледное. Видят ядовито-бирюзовые куски моря, россыпь веснушек на щеках и на плечах, открытых осеннему ветру. Если я протяну руку, я могу ощутить шелковистость ее кожи, почувствовать ее волосы, тронуть золотистые ресницы, провести пальцами по губам. Она ведь сейчас живая. Стоит в нескольких метрах от меня. Если зарыться лицом в изгиб шеи, туда, за ушком, я почувствую запах тела. Он там сильнее всего. Он там настолько сумасводящий, что у меня сводит скулы от желания сделать это прямо сейчас.
Отрезвил запах роз. Ворвался в мою эйфорию, водрался в мой сон наяву и заставил проснуться, ощутить, как возвращается боль и ноет ампутированное сердце. Его ошметки раскиданы где-то там среди этих кустарников. И я все еще цепляюсь за иллюзию, за похожий голос, за похожий образ. Пока он окончательно не тает, и меня не накрывает огненной волной, выжигая любой след иллюзии.
Мне надо, чтоб она ушла… чтоб этот суррогат исчез, иначе я способен его разломать на куски.
И броситься туда, в запах роз, в шипы, которые колют пальцы, дерут их до крови, заставляя чувствовать себя живым среди царства ее мертвых роз. Сожрать эту боль и этот запах, подавиться им, набить полный рот лепестками. Жевать их, ощущая сладкую горечь во рту, отрезвляя себя, вырывая из плена иллюзий, глотая собственную боль.
Но она не утихает. Она царапает сердце. И запах роз смешивается с запахом ландыша. И отчего-то второй сильнее первого. Он настоящий. Не мертвый. Он живой, и он совсем рядом. Навязчиво лезет везде, пробивается сквозь запахи ужина, сквозь ароматы сырости и пожухлых листьев.
Вернулся к себе. Расстегнул рубашку, выдернул ремень из штанов и сдавил кожу изрезанными и исколотыми пальцами. И перед глазами Девочка, опрокинутая на капот машины… ее белые ягодицы со вздувшимся рубцом от удара. Возбуждение и злость, смешанные с болью в адский коктейль, вспороли вены кипящим адреналином. И я опять гонюсь за суррогатами… за обезболивающим. С ума схожу постепенно и везде вижу ЕЕ. В прислуге. В шлюхе… Везде. Черт бы меня подрал!
ГЛАВА 19
Относить ему завтраки – это какой-то интимный ритуал, и я настолько начала ждать каждое утро, что подскакивала раньше будильника. Одевала Волчонка в садик, выводила к машине и бежала обратно в комнату – одеваться, собираться. Да, как на свидание. Меня засасывало в эту опасную игру под названием – Захар Барский. Я не просто играла с огнем, я влезла в него совершенно голая и стояла босыми ногами на углях, и при этом совершенно наивно и глупо надеялась, что я не сгорю.
Его отношение ко мне изменилось. С того дня, как он познакомился с нашим сыном, Барский стал каким-то другим. Он был похож на того Захара, который жил со мной почти целый месяц перед нашим расставанием. Тогда я его узнала совсем с другой стороны, узнала, как он может улыбаться, как может доводить до истерического смеха своими шутками, узнала, каким заботливым бывает этот мужчина и как нежно умеет любить или притворяться, что любит. Захар никогда не говорил мне о любви и запрещал это мне. Каждый раз, когда я пыталась сказать ему заветные слова, он обрывал меня, прикладывая палец к моим губам.
«Неееет, не надо все портить, Девочка. Это слово придумали идиоты, которые ни черта не смыслят в этой жизни. Не разочаровывай меня, ведь я только начал верить, что в твоей маленькой головке присутствуют мозги. Никакой любви. Само слово вызывает у меня истерический смех».
Отрезвлял, как ушатом холодной воды, и в ту же секунду так неистово ласкал мое тело, так жадно брал меня, что я забывала обо всем, даже об этих словах. Что это, если не любовь? А это была игра, которая скоро наскучила мэру, и он избавился от надоевшей игрушки… Потом, конечно, я еще долго ненавидела его за эту человечность и за то, что посмел показать мне, каково это – что-то значить для такого, как он.
Но сейчас я снова забывала об этом. У Барского была редкая способность очаровывать людей, если он этого хотел, привораживать и гипнотизировать своей харизмой, заставлять их млеть от восхищения, от дикого восторга, что ЕМУ интересно проводить время с такой серостью, как я. Слепота совершенно не мешала Барскому оставаться таким же властным, величественным и неприступным. Оставаться на своем пьедестале, вокруг которого всегда толпились обожающие его фанаты. А ведь я была одной из них… Глупой, раскрывающей широко рот на каждое его слово, преданной и сумасшедшей фанаткой, по спине которой не раз прошлись хлыстом, а потом проехались танком, а она выползла из грязи и ползла за своим кумиром следом, внимательно следя, чтобы этой грязью не заляпало его самого.
Но кто вспоминает об этом, если утром Барский отвлекается от своего ноутбука и встречает меня своим извечным:
– Доброе утро, Татьяна. Я тебя ждал. Позавтракай со мной.
Когда он сказал это впервые, я застыла как вкопанная. В то утро я принесла ему извечные гренки и шахматную доску под мышкой. И эти слова ввели меня в ступор. Он произнес их так по-настоящему, так обыденно, так невероятно просто.
Ждал меня… Неужели это правда?
– Я…я даже не знаю.
– Что ты не знаешь? Садись со мной пить чай и есть твои гренки. Я, кстати, говорил тебе, что они чертовски вкусные?
– Не говорили… но я догадалась.
Улыбнулся открыто и искренне, и светло-голубой лед заискрился, как будто на солнце. И я завороженно смотрела в его глаза, и сердце отнималось, а потом снова билось с утроенной силой. Как это удивительно и все же унизительно. Погладил взглядом, как собачонку, и я уже захлебнулась от счастья… и ничего не могла с этим сделать. Разум отказывал напрочь.
– Догадливая какая. Присаживайся. Наливай чай.
– Там…там одна чашка.
– Я, как истинный джентльмен, уступлю ее тебе.
Потом я всегда приносила две чашки. Одну ему и одну себе. Когда я положила перед ним шахматную доску, и он прошелся по ней кончиками пальцев, я увидела, как Захар чуть повернул голову вбок, слегка улыбаясь одним уголком рта. Ему понравилось, то, что я сделала. Потрогал первый квадрат, вздернув одну бровь.
– Когда ты успела так выучить язык слепых?
– Я быстро учусь. Всему.
– Действительно, быстро. Прочти, что здесь везде написано.
Я повела пальцами по доске, а он вдруг накрыл мою руку своей, и меня подбросило, как от удара током. Невинное прикосновение. Ведь до этого он касался всего моего тела, но вот это прикосновение оказалось острее любых самых интимных ласк совсем недавно.
– Зачем тебе это?
Сдавил мою кисть так сильно, что у меня почернело перед глазами.
– Что?
– Вот это все. Чай, гренки, шахматная доска, язык слепых?
– Чай и гренки вы приказали, а доска… вы говорили, что будете учить моего сына играть в шахматы. Он очень этого ждет и…и ему больше не с кем… У него нет, – голос дрогнул, и я попыталась выдернуть руку из ладони Барского, но он не дал, – у него нет отца, и общение со взрослым мужчиной пойдет ему на пользу. Он говорил о вас целый вечер.
– Правда?
Барский слегка ослабил тиски, и я медленно выдохнула.
– И что он говорил обо мне?
Тон изменился, и взгляд снова потеплел. Лед начал таять.
– Что вы похожи на волка. Умного и очень сильного. Что он хочет вырасти и стать таким, как вы.
Барский усмехнулся и выпустил мою руку, отвернулся к окну.
– Так и сказал?
– Да… так и сказал.
– Однажды меня уже называли волком… Чертовски давно. Совсем в другой жизни.
Сердце болезненно сжалось и тихо-тихо забилось снова.
– Кто называл?
– Одна девочка.
– Ваша дочь? – едва слышно спросила я, чувствуя, как перехватывает горло, словно спазмом.
– Нет… Просто моя девочка.
– Ваша?
– Скорее, ничья, – ответил сам себе.
Я старалась дышать ровно, старалась не всхлипнуть и ничем не выдать своего дикого волнения, не дать ему услышать в моем голосе слезы. Но он и не слышал. Он вдруг ушел в себя, куда-то глубоко в свои льды, и я видела, что эти льды как будто плавятся, как будто корчатся под яркими лучами солнца, и это причиняет ему боль. Или мне кажется. Больше он ничего мне не сказал. Я для него исчезла. Попятилась к двери, но Захар резко обернулся.
– Я тебя не отпускал. Садись. Я хочу, чтоб ты поела со мной. И приведи вечером своего сына. Если обещал – значит научу играть.
– А меня научите?
– Бесплатно? Я разве похож на кого-то, кто занимается благотворительностью?
Выдохнула и тихо извинилась.
– Научу, если ты поможешь мне с этим дурацким языком Брайля. То ли у меня пальцы со слоновьей шкурой, то ли мозги не так заточены, но эти проклятые точки никак не хотят выстраиваться в моей голове.
От радости перехватило дыхание. Как неожиданно. Я до сих пор не могу привыкнуть к его контрастности и непредсказуемости.
– Помогу. Это легко. Вы быстро запомните. У меня даже есть алфавит и очень удобная программа для компьютера.
– Даже так? – снова эта ухмылка, и я не понимаю – он доволен или злится. – Как ты серьезно подошла к устройству на работу. Всегда такая ответственная?
– Да… всегда. Я ведь с детьми работала. Без ответственности никак.
– И кем ты работала?
– Аааа..эммм, тренером по танцам.
– Как интересно. – снова какое-то легкое замешательство с его стороны, уход в себя на мгновения и потом опять возврат ко мне.
Пока мы ели, Барский задавал вопросы о моей жизни в деревне, кто я и чем занималась. Врать было опасно, он мог послать туда кого-то, чтоб узнали, и я говорила почти правду. Даже сказала, что у Устиньи появилась не сразу, а жила до этого в городе. Он выспрашивал о танцах. Ему почему-то это было дико интересно. Он словно удивлялся всему рассказанному мной и иногда с каким-то неверием качал головой.
– Невероятно. Все это как-то…. невероятно, – смеется и качает головой, отпивая чай.
– Что? Вы мне не верите?
– Почему? Верю. А разве должен не верить? Ты в чем-то мне солгала?
– Нет. Не солгала. Вы ведь можете проверить.
– В том-то и дело, что могу. Умная девочка… – выдохнул и поставил чашку на стол, – ты просто очень мне кое-кого напоминаешь.
Осторожно, словно ступая кончиками пальцев на его хрупкий лед:
– Кого? Ту…ту девочку?
Он кивнул и сдавил пальцами десертную ложку.
– Она тоже умела танцевать… красиво танцевать. Жить в танце.
Его опять уносило, как будто он видел то, что говорит. Видел в своем «в никуда» танцующую… МЕНЯ!
– И где она теперь?
– Ее нет, – голос сорвался, и ложка звякнула о край чашки, – она теперь танцует там, – кивнул головой куда-то наверх, – не для меня.
– Она…она умерла? – и следующий вопрос вырвался сам собой, и я себя за него возненавидела. – Вы ее любили?
Он ничего не ответил. Его лицо исказилось, и он весь дернулся, как от резкого удара. Я прикусила губы, чтобы не задавать еще вопросы. И не могла понять – ему эти воспоминания причиняют боль от того, что он ее (меня) ненавидел, или… или ему больно, что меня нет? Но этот вопрос так и остался без ответа.
***
Теперь мы завтракали вместе каждый день. Потом он открывал ноутбук, и я помогала ему с очередным уроком по Брайлю, а он учил меня играть в шахматы. В эти моменты я забывала обо всем. О том, что он сделал со мной и с моей жизнью, о том, что у волчонка нет отца и сам Барский желал ему смерти, едва узнал о нем. Глядя на них обоих, на то, как радостно смеется наш сын, когда Барский ему поддается и тот выигрывает. С каким восхищением смотрит на Захара, и тот рассказывает ему какую-то поучительную историю. Боже, у него их было так много, что я не знала – он придумывает их или на самом деле где-то слышал или читал.
– А давай обыглаем маму? Она у меня вечно выиглывает!
– А давай!
Когда Волчонок нагло влез к Захару на колени, я бросилась к ребенку и схватила его под мышки, стягивая с колен Барского. Такая наглость меня просто поразила и даже напугала.
– Ты что творишь? Кто тебе разрешал? Это что за наглость такая?
Барский вдруг схватил меня за руку:
– Спокойно. Я разве что-то сказал или запретил? Не надо за кого-то решать!
И потом уже обращаясь к Грише с улыбкой спросил:
– Она всегда такая нервная и злая?
– Нет. Только когда ты лядом. Она на меня злится!
– Ну она ревнует тебя ко мне. Боится, что я тебя у нее утащу, как злой и страшный волк.
– Ты не стлашный!
– А какой?
– Ты сильный и очень холоший!
– Как волк?
– Дааа! Как волк! – восхищенно подтвердил Гриша.
– Но волки хорошими не бывают. Они опасные хищники.
– А ты холоший!
Захар расхохотался и усадил своего сына к себе на колени, а я прижала руки к груди и изо всех сил сдерживалась, чтобы не зареветь. Как же потрясающе они смотрятся вместе и как сильно похожи. И Захар… рядом с Гришей он совсем другой. Он словно и не он вовсе. Я его таким никогда не знала и даже не подозревала, что он может таким быть.
– Садись. Сейчас мы будем у тебя выигрывать. Готова?
– Это мы еще посмотрим!
Они выиграли. Все три раза. Потом приехал Макар, и Захар уединился с ним в кабинете. Но перед этим попросил меня спуститься с ним вечером в сад.
Вначале я шла где-то сбоку, подсказывала начало ступеней, где стена и бордюры. Ступала рядом и не сводила с него глаз. Пожирала грозный профиль, густую седоватую бороду, чувственный изгиб губ, хищный нос с горбинкой и широкие, тяжелые веки светло-ледяных глаз, его большой и высокий лоб с зачесанными назад волосами. Какая адская сила и энергия живут внутри него, бурлят и кипят, как огненная лава – затаилась под коркой льда и внушает дикий страх, что однажды вырвется наружу и сожрет меня, и даже костей не оставит.
Так засмотрелась, что подвернула ногу и чуть не упала, невольно схватилась за Барского, а он подхватил и сдавив прижал к себе, чтоб не свалилась мешком к нему под ноги. Это был самый дикий и невероятный момент за все последние дни. Так близко… так невыносимо близко, что у меня закружилась голова и я…. я не сделала ни одной попытки освободиться, а он не разжимал руки, держал за талию под толстой кофтой, которую отдала мне Раиса для этих вечерних прогулок. У меня не было ничего из теплых вещей.
– Кто из нас слепой? – спросил хрипло и подался чуть вперед, словно принюхиваясь к моим волосам. Он них несет этим ужасным ландышевым шампунем, и мне неловко, что он почувствует это. Но Барский не торопится отпускать, и да… он принюхивается ко мне, а я даже не дышу. Впилась в его плечи обеими руками и не хочу отпускать мгновение. Оно слишком долгожданное, слишком настоящее, чтобы его разрушить.
Подул ветер, и Захар вдруг отпрянул от меня, сам разжал пальцы. Даже оттолкнул от себя, не сильно, но с какой-то едва скрываемой злостью, пошёл быстрым шагом в сторону роз.
– Иди спать! Все! Прогулка окончена! Я хочу побыть один!
Вот так резко, словно звонкие пощечины. Конечно. Ободранка деревенская. Прислуга. Но не ушла. Так и смотрела, как он опять к своим розам пошел.
Присел на корточки, трогал их руками, гладил. Что-то шептал. И…и меня вдруг ослепило ревностью. Дикой ревностью к этим проклятым цветам и той, для кого они посажены. Он ведь кого-то вспоминает, когда трогает их. Одну из своих любовниц? Или жену, которая его бросила и вышла за его друга?
Хотела уже взбежать по ступенькам, но он вдруг обернулся ко мне и позвал меня.
– Не ушла еще? Знаю, что не ушла. Ты спрашивала – умерла ли она? Да, умерла. Она умерла. Эти розы посажены здесь для нее. Их ровно столько, сколько исполнилось бы ей сейчас… если бы она была жива.
Я сжала руки в кулаки и сильно зажмурила глаза, так сильно, что они заболели и перед ними пошли разноцветные пятна.
– А теперь убирайся. Пошла вон! Я хочу побыть здесь один. Ты мне мешаешь!
Я бежала прочь, бежала по ступеням наверх и рыдала, меня трясло, меня лихорадило с такой силой, что казалось, я не выдержу этой лихорадки. Это ведь не могло быть правдой. Он не мог меня помнить… не мог быть таким. Не мог сажать здесь свои розы ради меня. Он же Монстр! Он не умеет любить. Не умеет жалеть и чувствовать.
***
Утром, после того как я посадила Гришу в машину и помахала ему рукой, за мной пришел Макар. Он сказал, чтоб я одевалась. Хозяин хочет со мной куда-то поехать.
Пока мы сидели рядом на заднем сиденье, Захар не произнес ни слова. Рядом с ним лежал букет оранжевых роз, а сам он, во всем черном, смотрел как всегда внутрь себя или в никуда. Глаза стали не просто ледяными, они замораживали даже воздух, и мне казалось, что он потрескивает от морозных узоров. Словно самого Барского окружила стена, и стоило попробовать к ней прикоснуться – можно было обморозить руки.
Когда я поняла, что мы приехали на кладбище, у меня перехватило дыхание и стало страшно. Я быстро посмотрела на Захара, потом на водителя. В окно били крупные капли дождя.
И я вдруг вспомнила тот день, когда в такой же дождь ехала с ним в машине... и размазывала слезы по лицу.
«У меня все еще хлещут слезы по щекам, а он молчит, музыку на всю врубил и смотрит вперед ошалелым взглядом… а я всхлипываю и снова в слезы. И нет… не от боли физической, а от дикой обиды… мой мозг рисовал мне страсть, я думала, что будет, как тогда… думала, что он захочет меня. Несмотря на тепло в машине, меня лихорадило. Барский швырнул мне свой пиджак, который валялся на заднем сиденье, и включил обогрев. Я натянула его по самый подбородок, не глядя на него, прислонившись воспаленным лбом к стеклу.
А потом ощутила, как его ладонь легла мне на щеку, дернулась, чтобы сбросить его руку, но он тут же сжал мой подбородок, разворачивая к себе, а я сдавила его запястье, посмотрела на бледное лицо с заостренными чертами, со следами моих ногтей на шее и на скуле. Повернулся ко мне, взглянул на меня своим свинцовым взглядом и… этот взрыв произошел, меня сотрясло дичайшим возбуждением от этого дикого взгляда. Потому что, глядя в его глаза, я прочла в них свой приговор… он победил, я раздавлена, я поставлена им на колени и измучена этой войной. Я хочу совсем другого… Я любви его хочу, какой бы лютой она не была. О Боже! Бойтесь своих желаний….
Обхватил мой затылок и потянул к себе, одной рукой удерживая руль, а другой зарываясь в мои волосы, жесткие губы касаются моей мокрой от слез щеки, а я всхлипываю, и хочется разрыдаться еще сильнее.
– Тшшш…. – кончик языка поддевает мокрые дорожки, спускается ниже к моим губам, и меня трясет от этой ласки. Я вся дрожу, как оголенный нерв. Размазывает мои слезы, нажимает на губы, и я чувствую, как большой палец проникает ко мне в рот, и невольно обхватываю его потрескавшимися губами. Барский шумно втягивает в себя воздух и ласкает мой язык, мою губу, меняя большой палец на указательный и средний, и я задыхаюсь от нахлынувшего возбуждения, от едкого сумасшествия… и меня подбрасывает от острых пронизывающих тело иголок голодной жажды. Дрожу в неконтролируемой срасти, в каком-то безумии на грани с истерикой. Так хотеть до невозможности, до необратимости, до дикой животной потребности… сумасшедшая, он же только что отхлестал меня ремнем.
Вытащил пальцы из моего рта и скользнул ими вниз… к разодранному вороту кофты. Заставляя меня выдохнуть и выгнуться, подставляя его ладони грудь с затвердевшими до боли мокрыми сосками…
Посмотрела ему в глаза, все еще заплаканная, сквозь пелену слез с бессильным осознанием, что это конец… мой. Как личности, как кого-то, кто еще пытался считать, что свободен. А нет никакой свободы, и дело не в том, что Барский меня держит насильно рядом. Дело в том, что я уже не могу без него. Я стала зависима от этого мужчины, и это страшно. Это уже необратимо. Это было первое настоящее понимание того, что я больна этим человеком».
Вздрогнула, когда машина остановилась, и мои глаза блестят все еще от слез. Я ведь, и правда, больна им. Больна до такой степени, что кажется, эта болезнь уже сожрала меня саму и ничего мне не оставила кроме горечи и осознания, что агония слишком близко, и я точно не выживу второй раз. Ремиссия окончена в тот момент, когда я увидела его фото в газете и меня заново накрыло волной моей адской любви к этому жестокому и непредсказуемому Монстру.
Мы пошли по тропинке, вдоль могил. Сами. Охранник шел на большом расстоянии от нас. Барский даже не раскрыл трость. Казалось, он знает эту тропинку наизусть.
С каждым шагом мне становилось все страшнее. Как будто я увижу там нечто такое, что меня окончательно сломает.
Мы подошли к ограде, выкрашенной в белый цвет, и я задохнулась, увидев там памятник с девушкой, сидящей на корточках рядом с лисичкой. Она словно сидит в высокой траве и гладит животное. У девушки рыжие волосы, такие же, как и шерсть лисы. Она во всем белом, и этот белый резко контрастирует с рыжим. Вся могила засажена оранжевыми розами. Барский привычным движением открыл ограду и вошел внутрь.
Какое-то время он стоял там один, а я позади него. Тяжело дыша, смотрела на памятник… Смотрела и чувствовала, как задыхаюсь, как меня разрывает на части, как хочется заорать, и я не могу. Это ведь я там… я с этой лисой, которая так же олицетворяет меня. Барский стоит без зонта, и дождь хлещет по его лицу, стекает по вискам и по бороде.
– Вот она – моя Девочка… И да, я ее любил!
Слезы потекли по щекам вместе с дождем. Сердце взорвалось болью, раскрылось внутри, превращаясь в цветущую рану, распахнувшую свои лепестки. Еще секунда, и я не выдержу, я брошусь ему на шею и….
Но Барский хрипло добавил:
– Это я ее убил. Осознанно, намеренно и жестоко. Ее и моего нерожденного ребенка!
Нет… рана не закрылась, из нее потоком хлынула кровь, а руки сжались в кулаки, царапая ладони. Значит, это правда… он действительно приказал нас уничтожить.
ГЛАВА 20
– Я клянусь, никто не узнает. Ни одна живая душа не заподозрит, что это мог бы быть твой ребенок. Дай мне просто уйти. Я просто исчезну из твоей жизни, и ты никогда меня не увидишь… Пойми… у меня никого нет. Это единственное родное. Мое. Моя кровь. Захар… умоляю тебя. Сжалься. Он ведь крошечный. Он ничего тебе не сделал. Ты никогда меня не увидишь… после того, что ты совершил… с моими родителями. Пожалей моего малыша… Не убивай!
Когда я сказала о родителях, он изменился в лице, побледнел еще сильнее и отшвырнул меня от себя.
– Собирай вещи. У тебя, – посмотрел на часы, – полчаса. Через три дня вернешься домой и забудешь об этом. Будто ничего и не было. Начнешь жизнь сначала.
Нет, кого я прошу? В нем нет ни капли сострадания. Он же похож на каменное изваяние, на лед, который невозможно растопить.
– Ты не человек. Ты – дикий, взбесившийся зверь… Нет… хуже. Ты – монстр. Даже звери не трогают своих зверенышей, а защищают до последней капли крови… а ты даже не зверь. Ты нечто жуткое и бессердечное. Ты… чудовище!
Но чудовищным было то, что я узнала… и то, что тогда узнал он. Я уже не сомневалась – Захару сказали, что… О ГОСПОДИ! Сказали, что я его дочь. Вот почему так внезапно. Вот почему так жутко и больно.
– Моя маленькая девочка. Как же я скучал по тебе каждую секунду. Посмотри на меня. Дай кусок счастья.
– Этого отродья не станет… ЭТО уберут из тебя!
– Ты идеальна. Когда я прикасаюсь к тебе, я снова оживаю, ты понимаешь, Лисичка? Ты делаешь меня живым.
– Я не спрашивал твоего мнения. Если будешь мешать, усыпят и все равно вычистят. Сделай все по-хорошему, Есения, не зли меня, не своди с ума.
Я тихо заскулила, обхватывая голову руками и сползая на пол. За мной следом посыпались фотографии. Расстилаясь ковром у моих коленей.
Та самая, которую мне прислал аноним, упала мне в подол платья. И вдруг меня подбросило. Словно ударило током. Я схватила одну фотографию, другую, третью. Подносила каждую из них к глазам. Потом содрала с себя кофту, лихорадочно расстегнула платье, спустила с одного плеча ткань и тронула пальцем родинки. Тронула, глядя на то фото, где этих двух родинок не было.
Но на том фото, которое мне присылали… там они точно были. А здесь их нет ни на одной фотографии.
«Их для тебя нарисовали. Нарисовали, чтоб ты поверила, что являешься дочерью Назаровых…. Ты – не Есения Назарова!».
А кто я?
В висках вдруг возникла едкая боль, и я, поморщившись, сжала их пальцами.
И кто… кто это чудовище, которое спрятало здесь все фотографии?
Я снова спустилась в подвал… За второй коробкой. Первую принесла обратно и поставила на пол. У меня так сильно дрожали руки, что я не сразу смогла спуститься по лестнице, а потом подняться обратно.
Дальше я смотрела на фото и чувствовала, как шевелятся волосы на затылке и немеют пальцы на ногах. Рядом с Людмилой Назаровой на фотографиях была Раиса. Где-то вместе. Где-то в кругу других людей. Или по отдельности. Перевернула одну из фото и прочла заплетающимся языком вслух:
«Любимой тете от Люси».
Выронила фото и шумно, широко открытым ртом хлебнула сырой воздух подвала. Дальше смотрела, как зомби. Перекладывая фото. Пока не увидела Людмилу на фото с Макаром… Кажется, в этот момент я получила удар под дых и даже схватилась за ребра.
«Любимому братику. Как же я соскучилась. Возвращайся поскорее». Макар на фото выглядел иначе. Моложе намного, и у меня опять заболела голова, заболели уши, и я тронула нос – кровит.
Зажала голову руками и застонала от боли. Она пульсировала в висках с такой силой, что у меня темнело перед глазами. Я наклонилась вперед и, тяжело дыша, пыталась справиться внезапным приступом боли… а перед глазами появилась картинка. Живое изображение. Как будто смотрю видеосъёмку… Только не со стороны. А я сама все это вижу.
– Сто баксов? Это все, что ты мне дашь за нее? Сто баксоооов?
Скрипучий женский голос срывается на истерический визг.
– Мне не хватит надолго… дай больше. Это же девка. Ее скоро трахать можно будет. Моя дочь, между прочим… я свою кровиночку от себя отрываю. Дай хотя бы триста баксов.
– Мама, не надо. Мамаааа, – этот детский голос. Я его знаю… Не вижу, кто говорит… Это мой голос. Мой голос в детстве? А женщина с желтыми зубами, с всклокоченными рыжими волосами и жуткими синяками под глазами… Мне больно ее видеть. Так больно, что я рыдаю и мне страшно. Я бросаюсь к ней, пытаясь ее обнять. – Мама, не надо. Не продавай меня. Я буду искать деньги. У меня получится. Мамаааа.
– Пошла вон, сучка... вон! Всю жизнь мне испортила. Ты и ублюдок отец твой! Как хорошо, что он сдох от передоза!
Но я обнимала ее, вонючую, грязную. Я жалась к ней всем телом. Но она меня отшвырнула с такой силой, что я покатилась по грязному полу…
Вспышка ослепила, и видение исчезло. Я застонала, вытирая нос, глядя на фото молодого Макара и чувствуя, как меня трясет еще сильнее.
Они все это сделали. Это они писали мне анонимные письма… Они каким-то дьявольским образом нашли меня и выдали за Есению Назарову, а потом подсунули Барскому.
И… сейчас он там с ними. Это ведь они. Все это сделали они. Шатаясь, вылезла по лестнице вверх. Несколько секунд стояла посреди кухни, пытаясь хоть немного собрать свои мысли. Мне надо уходить отсюда. Как можно быстрее. Но куда? Я с Волчонком. Куда мне его тащить? К кому?
К дороге подъехала машина. И я тут же подскочила, словно током меня ударило. Увидела женский силуэт с зонтом. Я попыталась задвинуть крышку погреба, но она не поддавалась, ее как будто заело. Холодея от ужаса, я дернула еще раз, но крышка не двинулась ни сантиметра. Я натянула коврик, закрывая дыру.
Снаружи послышались шаги, и я лихорадочно начала открывать ящики столов, выхватывая нож. Потом бросилась в комнату к сыну, но дверь уже распахнулась, и на пороге я увидела Раису. Она поставила мокрый зонт на пол и сняла плащ.
– Ну и погодка. Ты как? Освоилась? А я решила к тебе с утреца приехать. Молочко по дороге купила для Гриши.
Посмотрела на меня и поставила пакеты на пол у стены.
– Что такое? На тебе лица нет. Бледная, как смерть.
– Устала, напереживалась. Пройдет. Вы зачем так рано ехали?
Незаметно сунула нож за пояс штанов, поправила свитер.
– Ну как зачем? Волновалась за тебя и за мальчика. Не чужие вы мне. Сколько времени с ним провела.
Она сняла грязную обувь и пошла в комнату, где спал Гриша, я за ней. Стараясь унять бешеное сердцебиение и ничем себя не выдать. Лихорадочно думая, как теперь уйти и как скоро ее племянник объявится здесь, чтобы убить меня… И вдруг мне до дикости стало страшно – он вначале убьет Захара! Он ведь может с ним сделать что угодно!
– Спит наш ангелочек. Такой милый. Эх, жаль детей у меня нет. Племянница была с дочкой, но они погибли. Одна я совсем.
– А как же та ваша родственница из садика?
– То мужа родня. – она погладила Гришу по голове, а у меня внутри все сжалось до невозможности.
– Идемте чай пить. Я нашла здесь печенье. Чайник еще горячий.
Когда зашли на кухню, я посмотрела на ковер – сердце грохнулось вниз, словно оборвалось – я не поправила его до конца. И потом перевела взгляд на нее, но Раиса достала как раз чашку и на меня внимание не обращала.
– Лютует Монстр. Уволил несколько человек, на Макара сорвался. Все утро по дому бродил, рычал на всех. Думаю, к вечеру отдаст приказ тебя искать.
Она так умело маскировалась, так искренне все говорила, что мне стало не по себе – насколько человек может лицемерить и скрывать свою истинную личину.
– Я думаю, здесь не найдет. Я несколько попуток сменила и следы запутала.
– Молодец. Тебе лучше здесь отсиживаться. Может, даже пару месяцев, пока не стихнет все. Чайник остыл. Надо снова нагреть.
Поставила чайник на плиту, зажгла огонь и прошла с чашкой мимо дырки, поставила ее на стол, а я смахнула бисеринки пота со лба. Раиса всплеснула руками:
– Вот же ж, забыла пакеты в коридоре.
– Я принесу.
– Сиди. Я сама.
Ступила на край дырки, споткнулась… Резко вскинула голову, ее глаза округлились, а я изо всех сил толкнула ее вниз и не знаю, с какой дикой силой дернула крышку на себя, задвигая ее. Подтянула на погреб холодильник. Какая-то дьявольская сила появилась в руках, во всем теле. Снизу послышался стук и крики:
– Ты что творишь? Совсем сдурела? Открой сейчас де! Чокнутая!
Я ей не отвечала. Теперь я лихорадочно одевалась, собирала в пакет все, что мне могло бы пригодиться в дороге. В самую последнюю очередь заберу Волчонка.
– Открой! Ты что творишь? Танюшка! Я не враг тебе. Слышишь? Давай все обсудим. Это Макар сюда фотки притащил. Все не так, как ты думаешь, было. Открооой, я все расскажу.
Но я ее не слушала. Я одевалась, натягивала ботинки, кофту.
– Открой, дрянь! Тебе не сбежать! Куда ты пойдешь?! Кому ты нужна на хрен! Я б позаботилась о тебе! Я б не дала ему тебя убить! Он Монстра пристрелит, а я тебя в обиду не дам! Там на дороге он без меня все провернул… я не знала! Я б не позволила убить! Ты же на внучку мне похожа была! Скажу, чтоб с кладбища в аэропорт ехал. Открооой, дура несчастная, я твоя единственная Есения!
– С какого кладбища? – я наклонилась над погребом, а в висках пульсирует, бьется, горит: «Это не он…. не ОН… О Боже! Не он убить хотел… Захааар…!»
– Где он тебя похоронил! Идиот! – она расхохоталась. – Макарушка и его там пристрелит! Отомстит за всех нас! А я тебе денег дам и скрыться помогу. Открывааай! Мы еще сработаемся. Ты богатой можешь стать! Несметно богатой! Есении Назаровой половина денег была отписана! Никто не знает, что это не ты! Откроооой!
Вскочила на ноги, схватила Волчонка, который едва глаза открыл, натянула на него свитер, курточку и выбежала на улицу, оглядываясь по сторонам. Я не думала ни об одном ее слове. Я подумаю о них позже. Я потом начну собирать по крупицам весь этот чудовищный пазл. Сейчас я до ломоты во всем теле боялась, что с Захаром что-то сделает эта тварь.
ЭПИЛОГ
Я почти не помню, как добежала до дороги, как ловила попутку опять, прижимая к себе сына, ежась под противным моросящим дождем, забыв в доме все наши вещи. Только в кармане какая-то мелочь. Но на попутку мне хватит. А потом… я не знала, что будет потом. В эту секунду у меня было только здесь и сейчас.
– Куда подбросить красавицу мамочку?
– На кладбище!
Улыбка с лица водилы исчезла.
– На какое?
– За окружной, недалеко. Я покажу.
– Куда мы едем, мама? Куда?
Гриша теребил мой воротник, трогал ладошками мое лицо.
– К… К папе твоему едем.
– Плавда? К папе?
– Правда.
– Я сейчас его увижу?
Кивнула несколько раз, глотая слезы и моля Бога, чтобы мы успели, чтобы, и правда, успели и чтоб старая гадина ошиблась. Чтоб не было там никого...
Я бежала между могилами, прижимая к себе Волчонка. Бежала так быстро, как могла. По памяти, а точнее, даже не помня, куда надо бежать. Оглядываясь на кресты и памятники. Пытаясь вспомнить, куда он меня вел. Ветер и дождь хлестали по лицу, и мне казалось, что каждое мгновение растянулось на вечность. Каждая секунда равна одной жизни. Жизни без него. Без моего Монстра, который жил в самом диком аду, какой обычный человек выдержать неспособен. Вдалеке послышался звук выстрела, и в небо взметнулись вороны. Я бы закричала, но не смогла. У меня сдавило грудную клетку железными обручами, и кажется, я бежала на несгибаемых железных протезах.
С облегчением выдохнула, зарыдала беззвучно, когда увидела одинокий черный силуэт у белоснежного памятника. Захар стоял у могилы… в которой была похоронена наша любовь… и он сам. И я больше не хотела, чтоб он там оставался. Я хотела вытащить нас обоих оттуда.
Рядом с ним, откинувшись на спину и глядя широко распахнутыми глазами в небо, лежал мертвый Макар. Барский его застрелил… Вот почему я услышала выстрел.
Но мне было наплевать – я смотрела на Захара. Я хотела закричать, но не могла. У меня свело спазмом горло. А потом увидела, как Захар дернул затвор и приставил пистолет к виску. Раздался выстрел… и я упала на землю закрыв уши руками и содрогаясь от рыданий. Он все же застрелилися…..
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ
Продолжение истории в третьей части. Ничьи любимые.
15.03.2019
Харьков
Вот и закончена еще одна книга. Спасибо, что были рядом со мной, поддерживали меня, писали для меня ценные комментарии, жили жизнью героев и подпитывали меня своими эмоциями. Вы мой бесценный Муз, мое вдохновение и мое все. Я вас всех очень сильно люблю.
Теперь вас ожидает третья книга и скоро она появится на ЛН.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




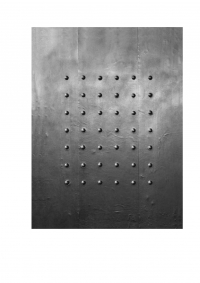
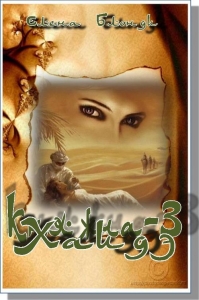



Комментарии к книге «Ничей ее монстр», Ульяна Соболева
Всего 0 комментариев