Владимир Острин
Солнце Тартарии
Повесть
Над Тартарией не восходит солнце. Не видят жители Тартарии и луны. Из-за дыма от бесчисленных пожаров здесь не видно даже горизонта. Но народ не сетует на такое положение дел – он давно привык и попросту мирится с неизбежным. Летом местные носят легкие рубашки, зимой – кутаются в теплые тулупы и повязывает на шею тугие шарфы, но когда бы и куда бы ни выходили они из дому, никогда не забывают надеть хороший респиратор. И давно уже не пытаются отличить, что падает с неба – снег или пепел.
Окраины Тартарии пестры и многолики, но центральная часть – особенно это касается местных пейзажей – столь статична и монотонна, что некоторые иностранцы теряются в здешних местах и годами блуждают между одинаковыми городами не в силах определить свое истинное местоположение. Некоторые пропадают навеки. Здесь нет лесов и гор, степей и лугов – лишь бело-зеленое море борщевика, простирающееся на многие сотни километров, ядовитыми волнами колышется от горизонта до горизонта. А в этом море – то змеей тянущаяся речушка, то острова левиафанских помоек, то серый город, связанный с другими такими же городами вновь и вновь зарастающей трассой.
Причем борщевик в Тартарии не простой, а особенный. Когда-то выведенный недальновидными селекционерами на корм скоту, он вырвался из тесных загонов цивилизации, и принялся исподволь заселять местные просторы. Страшная внутривидовая конкуренция помножилась на химические раздражители от свалок, уже тогда в обилии разбросанных по стране. Так стебли стали еще толще, листья еще шире, сок еще ядовитее, а страшные ожоги от него еще опаснее. Говорят, некоторые экземпляры, достигают десяти метров в высоту. А распространяться борщевик стал еще быстрее и на новых землях укоренялся так крепко, как никогда ранее.
В общем, когда спохватились, было как всегда поздно. Международные организации помогать в решении проблемы отказывались – не напрямую, конечно, а произнося непонятную мантру, сплошь состоящую из экономических и ботанических терминов – и ограничились контролем сорняка у границ Тартарии. К тому же зарубежные активисты развернули масштабную кампанию в защиту прав растений, и как-то раз даже закидали тартарское посольство семенами борщевика.
Вдобавок в государстве грянул экономический кризис. Природные ресурсы, которые Тартария экспортировала за границу, обеспечивая тем самым сравнительно безбедное существование для некоторой части населения стали мало кому нужны – мировая энергетика перешла на новый уровень и потребности тоже изменились. Если никель и алюминий у Тартарии еще худо-бедно покупали, то нефть и газ вежливо предложили оставить себе. Растерянные элиты во главе с непревзойденным и мужественным кормчим, почти исчерпав возможности своего стратегического планирования, все же нашли выход.
Часть территорий продав партнерам, – ради легальности сделок пришлось откопать в пыльных архивах договоры вековой давности – правительство предложило использовать неохватные просторы для утилизации мусора. И со всех частей света потекли в Тартарию поезда, баржи и фуры, нагруженные бытовыми отходами, устаревшей электроникой, различными химикатами и продуктами деятельности атомных электростанций. По всему государству росли огромные циклопические свалки, настолько токсичные, что даже борщевику не удавалось их колонизировать. И тянулись к помойкам бесчисленные караваны наполненных доверху самосвалов. Так воплотилась давняя мечта кормчего о единении на необъятных просторах Тартарии Востока и Запада, и с тех пор пост верховного правителя государства стал именоваться не иначе, как лордхан.
Разумеется, столь радикальные реформы не могли не отразиться на политической жизни. Едва народ узнал о новом положении дел, как начались бунты, демонстрации, стычки с полицией, строительство баррикад. В некоторые города даже пришлось вводить танки. Но вожаки протеста, к сожалению, были людьми безвольными и трусливыми и не смогли бы взять власть, даже если бы та сама упала в их потные и липкие от страха руки. Восстание не закончилось ничем и через пару месяцев люди разбрелись по домам. Лордхан, издавна славившийся восточным коварством, пообещал всем бунтовщикам прощение и отпустил их с миром. Даже сказал что-то сочувствующее. Дескать, сами понимаете, мы сделали, что могли, сами тут волосы на голове рвем, сил уж никаких нет.
Но едва волнения утихли, жестокое сердце правителя окрепло, и он без толики милосердия покарал всех, кто посмел бросить ему вызов. Первыми схватили организаторов. Показной суд транслировался на всю страну. Для большего эффекта в стулья обвиняемым вмонтировали электроды. Проходило действо примерно так.
– Признаете свою вину, обвиняемый? – задавала вопрос судья в строгой черной мантии и грозно сверкала глазами.
– Нет.
– А теперь? – она нажимала кнопку под столом, и человека ударял разряд тока.
– Не признаю! На помощь!
– А сейчас? – разряд еще большей силы бил беспомощного человека.
– Признаю, только перестаньте.
– Виновен! Следующий.
Суд приговорил всех зачинщиков к смерти, но лордхан – вновь проявилось его восточное коварство – неожиданно объявил о помиловании. Ссылаясь попеременно то на права человека, то на христианское милосердие, он заменил казнь выдворением из города. К слову надо сказать, что заросли борщевика к тому моменту уже не просто подступили, но даже окружили большую часть тартарских городов и только тонны химикатов, систематически распылявшиеся у городских стен – теперь на их производство работала добрая четверть населения – спасали города от безжалостного сорняка. Итак, хотя все знали, что означает изгнание, отныне никто не осмеливался сказать и слова поперек. Толпа покорно аплодировала мудрости и милосердию вождя и всеми силами выражала энтузиазм. Вождь благодарно улыбался, а однажды и вовсе прослезился.
Скорбная участь зачинщиков вскоре постигла и прочих несогласных. Благо, умные видеокамеры еще во время протестов устанавливали личности подавляющего большинства бунтовщиков, так что уполномоченные сотрудники загодя составили проскрипционные списки. В конечном счете изгнание людей на борщевичные поля стало массовым и систематическим явлением. Многие возвращались к городским стенам и умоляли помочь, впустить их обратно, но в итоге умирали в жутких и страшных мучениях, не удостоенными даже ответа и все покрытые волдырями. Лордхан приказал не убирать мертвецов от стен – в назидание всем остальным. «И так будет до тех пор, пока не найдется Моисей, который раздвинет для вас борщевичные моря», – вновь и вновь шутили сотрудники спецслужб, отлавливая по переулкам и квартирам неблагонадежных граждан. Впрочем, сюда нередко попадали и те, кто просто не желал давать взятку. Отныне скупой платил не дважды, а единожды, но зато жизнью.
Так продолжалось несколько лет. И хотя Моисея не нашлось, зато некоторые изгои выжили и, пусть через страшные муки, – многих из них теперь преследовали жуткие головные боли и бессонница – но все же приспособились к новым условиям. Кожа их стала бледного, едва ли не молочного цвета, волосы почти пропали с туловища и разрослись – у мужчин, разумеется – на бороде. Цвет глаз стал более блеклым, и теперь в основной массе преобладал светло-зеленый, почти мятный оттенок. Борщевичным людям отныне не был страшен ядовитый сок – казалось, он наоборот стал излечивать их раны. Изгнанники связывали чудесные изменения с собственной праведностью и теперь поклонялись мифическому Царю-борщевику. А оставшиеся в городах тартарцы поплакали обо всех, кто не вписался в новое общественное устройство, да и забыли, словно никогда таких и не было.
– Нам не дают жить, ну и не надо. Мы сами возьмем, – сказали борщевичные люди и плюнули на Тартарию.
Такая позиция не могла не разгневать власть. Слухи о попытках изгнанников построить собственный социум встретили целую бурю негодования. Даже потенциальной конкуренции небожители позволить не могли. В некотором смысле, для власть предержащих была страшна уже сама мысль о том, что где-то в Тартарии есть сила, способная организоваться самостоятельно, не оглядываясь на бесчисленные указки сверху.
– Они хотят засадить борщевиком весь мир, а всех, кто в таком мире жить не захочет, выгнать в резервации, – заголосили идеологи на зарплате и принялись обличать зверства «коварных гуннов» и «бездушных варваров».
И даже лордхан прекратил изгонять людей в борщевичные поля, объявив такой метод негуманным. «Как-никак, там обитают кровожадные дикари» – прокомментировал он и вскоре получил международную Премию мира.
Поначалу борщевичные люди еще пытались возражать пропаганде, но все было бесполезно. Слова из их темных нор и сырых подземелий не шли дальше ядовитых зеленых полей и, по гамбургскому счету, никому, кроме самих несчастных, и не были нужны. «Впрочем, чем не политическая программа?» – подумали борщевичные люди наконец, устав от бесполезных споров с властью. – «Уж лучше такая программа, чем вообще никакой». Наверно, это – хотя, может, и что-то другое – и дало властям повод перейти Рубикон. Изгоев объявили «дикарями» и «нелюдями», покушающимися на конституционный строй Тартарии, и под покровом ночи по одному из известных убежищ был нанесен авиационный удар. Хотя истинные результаты бомбардировки проверять не стали, ограничившись никуда не годными аэрофотоснимками, лордхан, проникнувшийся чувством собственного величия, заявил об окончательной победе – реляции об окончательных победах вообще были его слабостью – над ордами врагов. Так, без ультиматумов и нот протеста, власти Тартарии объявили борщевичным людям жестокую войну, рассчитывая, по всей видимости, что изгои попросту разбегутся при первых звуках пальбы. Но этого не случилось, и конфликт перерос в затяжную борьбу, то затихающую, то вновь разгоравшуюся, в которой ни одна из сторон не имела возможности получить решающий перевес.
Полыхали свалки, полыхали заросли, полыхали яростью сухие сердца бюрократов, и над бескрайними полями поднимались черные клубы токсичного дыма. С каждым годом все больше детей рождалось инвалидами. Среди жителей Тартарии распространялись болезни почек, легких и желудка. Из-за постоянных отравлений массовым стал иммунодефицит, который в итоге приводил к тому, что люди покрывались гнойниками и вообще мерли, как мухи. Но были у такого положения и положительные стороны. Так, на ежегодных пресс-конференциях лордхан регулярно отчитывался о росте рентабельности аптечного бизнеса. За столь мудрую экономическую политику главы международных фармакологических концернов выразили ему особую благодарность. Вскоре лидер получил вторую Премию мира, а внутри страны ему присвоили титул Легитимнейшего. Да и вообще, стоит признать, что с тех пор как Тартария сделалась всемирной помойкой, отношения с другими странами у нее заметно улучшились. А местные пропагандисты удостоили соотечественников гордого звания «народа-мученика».
Быть может, когда-то в Тартарии и была иная жизнь, но к моменту описываемых событий о тех временах плохо помнили даже старики, а тем, кто смел вслух рассуждать о давно минувших днях, не верили и поднимали на смех. За самыми ретивыми приезжали серые люди на серых машинах и увозили в большие серые дома, из серых труб на крышах которых шел серый-пресерый дым. О дальнейшей судьбе несчастных почти ничего неизвестно, но жуткие слухи об их печальной участи имели столь широкое хождение среди простого люда, что даже имена тех, кто имел дерзость вспоминать, старались поскорее забыть. Впрочем, не всегда это происходило своевременно. Заботящиеся о статистике чиновники, – а именно от положительной статистики зависели размеры зарубежных инвестиций, на которых и держалась экономика Тартарии – нередко привозили на место без вести пропавших людей жителей сопредельных с Тартарией республик, нарекая вновь прибывших именами исчезнувших.
Порой это приводило к забавным казусам. Так, одна девушка, приехав навестить отца, с ужасом и изумлением обнаружила, что ее папаша не один человек, а сразу трое, изъясняться способен исключительно на каких-то южных языках, а репродукции передвижников, которые некогда рисовал на досуге, теперь использует вместо клеенки при поглощении вкусного и жирного плова. Так стоит ли удивляться, что некоторые «столетние» старики в Тартарии стали выглядеть на сорок, а то и на все тридцать лет, а работать за четверых? В связи с таким долголетием, свидетельствующим о необычайно высоком уровне жизни, высочайшим указом лордхана пенсии в Тартарии были упразднены. Оставлен сей архаичных институт был лишь для чиновничества, которое, как ни странно, не продемонстрировало общей тенденции к увеличению продолжительности жизни.
И все же, несмотря ни на что, жизнь продолжалась. В сорока километрах к северу от столицы, на Великом полночном пути, вновь прорубаемом каждую весну в зарослях борщевика, расположился провинциальный городишко Лжинск. В седой древности ямщицкая застава, а затем индустриальный моногород, теперь Лжинск с гордостью именовался местными властями «мусорной столицей» региона. На это и правда были основания – в редкие бездымные дни целые холмы отходов были видны даже из центра города. Они образовали вокруг города гряду в виде полукольца и даже были нанесены на карту, а военные теперь называли эти горы мусора естественным рубежом обороны.
Здесь, в Лжинке, и жил Серафим Серафимович Бородин, герой двух военных кампаний, – тогда они еще проводились за рубежом – потерявший на последней из них ступню, и затем списанный в утиль инвалидом. Иными словами, приговоренным к существованию на нищенское пособие, которого едва хватало на оплату коммунальных платежей. Впрочем, Бородин был совсем не прост. Иначе бы он здесь не выжил.
Подключив нескольких сослуживцев и пару столичных приятелей, Бородин соскреб все скромные свои накопления и провернул несколько успешных сделок, что позволило ему сколотить какой-никакой капитал. Невзирая на боевой опыт, Серафим Серафимович был человеком осторожным и без надобности в пекло не совался. Завязав с сомнительными авантюрами, в родном Лжинске он открыл небольшое производство по ручному пошиву обуви, где и стал трудиться с удвоенной силой. Конечно, были у отставного военного и свои недостатки – бытовая склочность и тяга к спиртному. Но Бородин и сам это признавал, быстро отходил, и обычно люди прощали его неуравновешенность, списывая все на перенесенные тяготы войны.
Годы шли, и хотя Бородин уже не бедствовал, но в жизни его становилось все меньше и меньше смысла. Семью он не завел, – так и не сошелся ни с кем из-за своего тяжелого характера – цели в жизни не видел, и только одно еще радовало глаз Серафима Серафимовича, когда с тяжелыми гирями на сердце он утром шел на работу.
На выезде из Лжинска возвышался старый заброшенный особняк, давно без стекол, обшарпанный и разваливающийся. Дом по-настоящему древний. Было видно, что в свое время он постоянно достраивался – каждый следующий хозяин добавлял что-то свое. Дотошный знаток архитектуры при желании смог бы различить колонны в духе классицизма, барочную лепнину, прямоугольные окна с висячей гирькой в типичном неорусском стиле и еще много чего. Были даже барельефы с пшеничными колосьями – когда-то особняком пользовалась одна массовая детская организация. Но для Бородина этот огромный старый дом был символом величия, мощи и страстной, манящей, хоть и не до конца понятной ему свободы. Через этот дом Бородин соприкасался с сакральным, с внеисторическим, с чем-то – а он не боялся этого слова – божественным. Почесывая уже седеющую бороду, Серафим Серафимович мечтал, как вернет особняку былую красоту и первозданную свежесть. И однажды, проснувшись морозным зимним утром и выглянув в окно на улицу, впервые за долгое время не затянутую дымом, Бородин понял, что пора. Потому что иначе жизнь его окажется прожитой зазря.
Особняк пребывал в самом плачевном состоянии, и лишь одна подслеповатая бабка еще гоняла малолетних вандалов, все норовивших исписать стены здания бранью. Впрочем, больше, чем угроз подростки пугались ее вида и какого-то жуткого, хриплого голоса, а между собой называли ее старой горгульей. Вместе с этой бабкой и еще несколькими местными жителями, помогавшими по мере скромных своих сил, принялся Серафим Серафимович восстанавливать памятник архитектуры. И даже борщевик, уже начинавший пробиваться на приусадебном участке, смог вытравить, за что получил отдельную благодарность – пусть и чисто формальную – от лжинского муниципалитета.
На восстановление дома ушло без малого десять лет упорной работы – столько ахейцы брали Илион. Многочисленные вложения сильно пошатнули и почти разорили бизнес Бородина. Серафим Серафимович неоднократно переезжал в жилье подешевле и наконец продал квартиру в утлой пятиэтажке. Питался он и вовсе едва ли не водой и хлебом. Впрочем, к моменту продажи последней квартиры он уже мог перебраться в особняк и жить там в эдакой антикварной обстановке. Дело в том, что жители Лжинска и окрестных городков, заслышав о реставрации особняка, с радостью отдавали Бородину старинные предметы быта, картины давно забытых героев и различную мебель. Неоднократно переписанное прошлое местные жители не любили и боялись. Так что темными ночами мужчина передвигался по коридорам с золоченым подсвечником, а скромный обед свой ел серебряными приборами из большой серебряной тарелки, украшенной мрачными эпизодами из скандинавского мифа о Дикой охоте.
Порой к дому приезжали местные чиновники с журналистами – снимать репортажи о развитии региона. «Мы создаем такие условия жизни, в которых тартарскому гражданину выгодно и легко трудиться. Посмотрите на этот прекрасный дом – его мы строили не в одиночку, а с помощью местных энтузиастов. И когда я гляжу на благодарные лица горожан, то понимаю, что жизнь проживаю не зря» – говорили буквоеды, нервно поглаживая второй подбородок, и уезжали в столицу получать медали. Ходили слухи, что бюрократам даже удалось пару раз получить деньги на реставрацию. Только никто, кроме них, этих денег не увидел. Бородину на весь маскарад было глубоко наплевать. Его не трогали – и слава Богу. К тому же он был уже немолод и понимал, как здесь все устроено. И потихоньку продолжал реставрационные работы.
Бабка, помогавшая Серафиму Серафимовичу, в край захворала и померла, завещав поставить в доме ее старое, черное от времени зеркало высотой с человеческий рост. «Зеркало это – моя совесть. Подойдешь, бывает, посмотришь – стыдно али нет за прожитое? Вроде, нет» – прохрипела она, когда Бородин видел ее живой в последний раз. На похороны женщины пришел только он один и долго, в скорбной задумчивости наблюдал, как могильщики засыпают комьями промерзшей насквозь земли дешевый пластиковый гроб.
Меж тем, и над головой Бородина начали сгущаться тучи. От знакомых он услышал, что восстановленным особняком заинтересовалась местная чиновница Галина Андреевна Чайкина, не так давно ставшая главой Лжинска и прилегающих территорий. Это была женщина сорока лет со светлыми крашеными волосами, хитрым круглым лицом, издевательским прищуром и длинным послужным списком. Разумеется, все бюрократические проволочки вокруг особняка реставратору уладить не удалось и Серафим Серафимович до сих пор жил в деревянном флигеле полулегально. Что называется, на птичьих правах. И все же просто так его выгнать из дома не смогли: Бородин зарегистрировал флигель как свое единственное жилье и законы Тартарии – а лордхан кичился тем, что его государство было социальным – не позволяли выселить жильца.
Поначалу Галина Андреевна действовала мягко – предложила реставратору переезд в ветхую пятиэтажку неподалеку, в сырую крошечную малосемейку. «Там перебои с отоплением, но в бездымные дни вы даже будете видеть наш особняк в окно!» – аргументировала она без задней мысли. Прожженной интриганке даже в голову не приходило, что кто-то может заниматься делом бескорыстно, руководствуясь исключительно любовью к Красоте и причастностью к чему-то вечному. Галина Андреевна была человеком рациональным и верила, что Бородин просто скрыл свою выгоду, а когда тот наотрез отказался от переезда, захлопнув перед ее посланником дверь, укрепилась в этой мысли окончательно.
Опытная чиновница Чайкина знала, насколько бумажки важнее реальных дел и свои фланги тщательно прикрывала. План отъема особняка был хорошо продуман. «Как чайки кружатся над помойками, так Чайкина кружится над особняком» – даже иронизировал кто-то из ее подчиненных. Серафима Серафимовича было решено задавить политически. Неформальным поводом стало отсутствие в доме техники, при помощи которой можно было следить за его обитателями. После войны Бородин и правда предпочитал книги пошлым и пустым видеороликам и уже тогда отказался от разного рода очков дополненной реальности. Огромную часть бытовой техники он продал, занимаясь реставрацией, и с тех пор жил крайне аскетично. Все это дало властям повод предположить, что мужчина прячется от всевидящего ока, чтобы заниматься подрывной деятельностью. Итак, дыба репрессивного аппарата заработала.
Бородин ел пареную репу со свой украшенной скандинавскими мотивами тарелки и слушал карельскую сюиту Сибелиуса, когда в комнату без стука вошли серые люди. Незваных гостей было пятеро: лейтенант, сержант и трое рядовых. Не представляясь, старший по званию произнес:
– Гражданин Бородин, вы подозреваетесь в незаконной деятельности. Сейчас здесь будет проведен обыск.
– Ордер на обыск при вас? – только и спросил Серафим Серефимович и выронил вилку.
– Вот, – сержант полез в карман, но вместо документа предъявил ошеломленному Бородину кукиш.
Минут пятнадцать серые люди перерывали флигель, – в других частях дома искать поленились – пока находчивый лейтенант не обратил внимания на необычные узоры, выведенные на серебряной посуде.
– Богато живете. Серебро, особняк, – произнес он как бы невзначай. – А что это у вас такое интересное на тарелке нарисовано?
– Сцены из древнескандинавской мифологии, – ответил Серафим Серафимович простодушно. – По всей видимости, из легенды о Диком Гоне.
– А знаете ли вы, гражданин Бородин, что у борщевистов тоже есть похожий миф? Якобы над Тартарией взойдет однажды солнце, пробьются лучи через клубы дыма, и начнется тогда Дикий Гон и погонят дикари легитимную тартарскую власть аж до самой границы! Но перед тем они должны устроить кровавое жертвоприношение по мистическим борщевистским обрядам. Не хотите дать объяснения в участке?
– Но позвольте, лейтенант! Какое отношение имеет к этому мифическая охота Одина, выдуманная древними германцами?
– А в этом будут разбираться компетентные специалисты!
– Тут явно попахивает разжиганием социальной вражды в отношении социальной группы тартарского чиновничества, – подхватил понятливый сержант и цокнул языком. – И неподчинением законным представителям власти!
– А ну-ка, пройдемте с нами, гражданин, – произнес довольный лейтенант.
Несмотря на инвалидность, Бородин оставался сильным мужиком и просто так даваться не собирался. Так что серым людям пришлось накинуться на него всем скопом, чтобы повалить, скрутить и потащить прочь. Гладковыбритый лейтенант даже держал Бородина за бороду – шибко сердила она этого человека, для которого устав был чем-то вроде священного текста. Серафим Серафимович быстро понял, что дело дрянь и настоящее его преступление отнюдь не в тарелке с орнаментом. В последний раз он взбрыкнул, когда его уже повели на выход, и упал, принявшись сучить ногами. Случилось единственное, что могло произойти в такой ситуации. Итак, случилось чудо. Но не доброе, красивое, рождественское, а мрачное, пугающее и зловещее. Чудо, от которого за версту несло хтоническими безднами.
Серафим Серафимович Бородин начал врастать в стену. Сопротивляясь обидчикам, он ударился ногами об участок серого, непокрытого еще ни обоями, ни штукатуркой бетонного блока и попросту ушел туда по колено, словно то было не твердое тело, а некая неизвестная жидкость. Обратно вытащить увязшие конечности не удавалось. Поначалу опричники испугались и отпрянули. Но лейтенант не растерялся и опытным путем установил, что заколдованная стена равнодушна как к неодушевленным предметам, так и к его подчиненным. Только Бородин ей приглянулся. Впрочем, заглотив часть ног, стена словно насытилась и принимать в себя оставшуюся снаружи часть тела еще не была готова.
Дубоголовый сержант предложил отпилить несчастному ноги, но его более сообразительный начальник сразу откинул столь гнусную и недальновидную идею. Вместо этого он позвонил Чайкиной и доложил о случившемся. Сначала та не верила и даже обрушилась с волной негодования, но когда лейтенант отправил ей видеофакты, успокоилась и велела наблюдать динамику. Впрочем, вечером сама приехала проведать подчиненных, но, увидев все своими глазами, тут же исчезла, не желая больше воочию наблюдать трагедию. А динамика показывала, что каждый день тело Бородина погружается в стену на расстояние от четырех до девяти миллиметров. Так что Чайкина решила подождать.
Сперва Серафим Серафимович даже обрадовался случившемуся: от него отстали серые люди, и появилась возможность поразмыслить над своим положением. Но чем глубже его затягивало в стену, тем мрачнее делались думы, но никакого четкого плана действий в голову не приходило.
В рамках помощи то ли беженцам, то ли переселенцам, а скорее всего по протекции кого-то из знакомых, в дом заселили семью, какое-то время назад переехавшую в Тартарию из какой-то то ли братской, то ли панибратской республики. Семейство состояло из четырех человек: матери и трех сыновей. Ильназ, мать, толстая женщина с мозолями на руках и распухшими икрами, ходила в экзотическом костюме, какие носят где-то на юге и выглядела как человек, которого удивляет все, что происходит вокруг. На лице ее словно застыла какая-то оторопь, которая рассеивалась лишь во сне и за едой. К миру Ильназ относилась осторожно, если не с опаской, и когда увидела вросшего в стену Бородина, смотрела на него долго, молча, с тупым страхом. Она так и не смогла вписать это феномен в свою картину мира, а потому страдалец стал для нее как бы частью стены – теперь она его просто не замечала. Старший сын, Ильшат, шестнадцати лет отроду, спортсмен и переросток с избытком тестостерона, брившийся едва ли не дважды в день, оказался известным любителем демонстрировать окружающим свою удаль. Средний, Галымжан, на год младше, сутулый и скромный, даже немного забитый, человек комнаты. А самого младшего, двенадцатилетнего, звали Замам – он унаследовал удивленно-непонимающее выражение лица матери и во всем равнялся на Ильшата. Отец семейства, дальнобойщик, погиб несколько лет назад в несчастном случае на дороге.
Как оказалось, семья теперь должна была следить за порядком в доме: мыть полы, протирать мебель, облагораживать территорию и делать небольшой ремонт. Заниматься этим стали по преимуществу мать и средний сын. Ильшат целыми днями пропадал со своими новыми друзьями, а Замам был еще мал и вообще не всегда хорошо соображал.
Впрочем, но фоне остальных проблем вселение неизвестных людей мало заботило Бородина. Он судорожно искал выход из сложившейся ситуации. «Не может быть так, чтобы у нас не было технологий, способных меня вызволить» – справедливо подумал мужчина и принялся писать во все доступные инстанции. Через знакомых, еще не отвернувшихся от него, он отправлял бумажные заявления в различные союзы ветеранов, общества помощи инвалидам, благотворительные организации, и дублировал свои просьбы в электронном виде. Бородин пытался достучаться до официальной власти в обход Чайкиной, но, в конечном счете, его жалобы с пометкой «разобраться местным властям» вновь попадали к ней, как главе Лжинска. В итоге Серафим Серафимович получал лишь бесконечные отписки и отказы. Самыми кощунственными были ответы от администрации Лжинска: то они писали, что мужчина пишет не на то имя, то требовали от него анализ материала стены, то заявляли, что помощь Бородину не предусмотрена конституцией Тартарии. Знакомых его и вовсе хорошенько припугнули, так что мужчина потерял последний источник помощи.
Как-то раз к Серафиму Серафимовичу все же пришел человек, занятый защитой граждан. Он был среднего роста, в прямоугольных очках и вельветовом пиджаке, с небольшой щетиной и вывалившимся вперед животиком.
– Добрый день, – прогнусавил человек, напустив на себя важный вид. – Меня зовут Эдуард Клецка. Я – правозащитник.
– Здравствуйте! – воскликнул Бородин обнадеженный. – Вы даже представить не можете, как долго я вас ждал!
– Очень приятно мне ваше радушие, но подскажите, где здесь живет мать с тремя сыновьями?
– В западном крыле, насколько я знаю. А мне как-то помочь можете?
– Понимаете ли, это не в моей компетенции. Я отдаю предпочтение правам меньшинств, а застрявшие в стене люди в круг моих интересов не входят.
– И что же вы хотите от этой семьи?
– Ну как же? Что за странные вопросы? Узнать, как к ним относится местное население. Не притесняет ли, не оскорбляет ли кто по этническому признаку. Сами понимаете, народ у нас не очень цивилизованный. А вы, значит, врастаете?
– Как видите.
– Ну, ничего, не переживайте. Все там будем, – и Клецка ушел, а Бородин плюнул ему в спину.
Основным развлечением Бородина стало общение с Галымжаном – мальчишка был смышленый и по меркам подростка много читал. Отставной военный рассказывал подростку про Ликурга и Шарлеманя и даже посоветовал несколько книг для общего развития. Из благодарности Галымжан делился с мужчиной едой и приносил из библиотеки книги. Иногда жаловался на старшего брата, вечно норовившего побить или унизить подростка и запрещавшего читать ту или иную литературу. Выслушав, Серафим Серафимович старался убедить юношу прекратить жалеть себя и научиться, наконец, давать отпор обидчику. К несчастью, безрезультатно.
Ильшат же, если и заходил к Бородину, то смотрел на него с презрением и попрекал даже тем, что Серафим Серафимович ест с их стола. Впрочем, близко подходить к мужчине не решался – боялся отставного военного – и говорил с ним с почтительного расстояния. Оттуда, где был уверен в собственной безопасности. Это не мешало Ильшату выставлять себя героем и рассказывать, как в школе – ее, надо отметить, он прогуливал безбожно – побивает всех. «Захожу, все сторонятся, глаза в пол прячут» – говорил. А однажды дохвастался до того, что разболтал свою главную тайну:
– У меня есть схрон в подвале. Я туда ношу все, что может мне пригодиться.
– Для чего?
– Для войны со всеми вами. С такими, как ты.
– Ты к борщевистам примкнул, что ли?
В ответ на это Ильшат только рассмеялся, а через несколько дней мимоходом обмолвился, что борщевичных людей считает за таких же животных, как и Бородина. А меж тем Серафим Серафимович продолжал врастать в стену и врос по самую грудь. В возможность что-то предпринять он уже не верил и смирился со своей участью – то, что никто не собирается его вызволять, было очевидно даже распоследнему глупцу. Внутренне Бородин уже готовился к смерти, моля Господа единственно об отмщении.
А Галымжан все больше жаловался на старшего брата, временами напоминавшего изверга. Бородин, у которого с детства развилось стойкое отвращение к унижению достоинства, стал порой прикрикивать на Ильшата, когда тот проходил мимо. Обычно акселерат отвечал оскорблениями, но внезапно, одним разом перестал. Несколько дней вел себя сдержанно, не докучая ни мужчине, ни подростку. Серафиму Серафимовичу даже показалось, что мальчишка подумал, наконец, над своим поведением. Впрочем, длилось это недолго. Близился вечер, когда Ильшат с сочувственно-виноватым видом подошел к Бородину и тихо сказал:
– Давай принесу твою книгу, все же мы люди.
– Ну, спасибо, Ильшат. Тогда будь любезен, принеси мне «Три разговора» Владимира Соловьева, – ответил мужчина любезно.
Ильшат ушел минут на сорок, и когда Бородин уже не надеялся его дождаться, вернулся с томиком в руке, держа книгу как-то странно, кончиками двух пальцев. Как только Серафим Серафимович взял «Три разговора» в руки, то сразу испачкался в чем-то масляном.
– Ты что сделал? – холодно и грозно спросил Бородин.
– Это чтоб к Галымжану не лез со своими лживыми книгами! – крикнул подросток, ожесточившийся на весь мир, и чиркнул зажигалкой.
Тут же книга воспламенилась и хотя Бородин сразу ее откинул, огонь все же перекинулся на руки. От боли мужчина закричал, обматерив последними словами малолетнего негодяя, и принялся тушить руки о стену. Пламя погасло, но ладони, как прежде щиколотки, теперь тоже приросли к серому бетону.
– Ах ты, маленький неблагодарный ублюдок! – крикнул Бородин и выругался, едва сдерживая крики о помощи. – За что ты так? Кто тебя таким вырастил? Разве не я строил дом, в котором ты теперь живешь?
– Да если бы твоя воля, нас бы сюда никто не пустил! Мы сами взяли, что у нас теперь есть, – огрызнулся подросток и убежал, а у Серафима Серафимовича впервые за долгие годы к горлу подступили слезы.
С тех пор жизнь его окончательно превратилась в страдание. Когда у Бородина в стену вросли руки, Ильшат окончательно почувствовал себя хозяином в доме и уже не боялся подходить к беспомощному человеку. Однажды даже подпалил тому усы, за что, впрочем, был больно укушен.
Последнюю свою неделю, перед тем как окончательно врасти в стену, Серафим Серафимович ничего не ел и ни с кем не говорил – забитому Галымжану лишь несколько раз удалось принести ему воду тайком от старшего брата и вечно ябидничавшего Замама. Напоив Бородина, Галымжан сразу же убегал. Когда снаружи осталось одно лицо, Ильшат с Замамом и вовсе закрыли его огромным старым шкафом. Чтоб не докучал. Однажды утром со стороны стены раздалось жуткое глухое мычание. Когда шкаф отодвинули, поверхность была девственно чиста. Серафим Серафимович Бородин врос в стену.
Узнав о событии, радостная Галина Андреевна лично приехала осмотреть свое приобретение. История с Бородиным ее вообще не смутила, у чиновницы были дела поважнее. Полным ходом шла подготовка к важнейшей сделке в ее жизни, сулившей баснословные барыши. И Чайкина хотела, чтобы договор был подписан именно здесь, в замечательном трехэтажном особняке. Несколько часов обильно напомаженная женщина гуляла по жилищу и прилегающему участку: разглядывала колонны, смотрелась в зеркала и оценивающе щупала статуи и барельефы, как обычно щупают на рынке яблоки. Вообще, в чиновнице было что-то базарное. Хотя возможно, что это была общая особенность ее поколения.
– Каковы хоромы! Не дом, а дворец! – восторженно вскрикнула Чайкина и от удовольствия зажмурилась. – Вот заживу!
Галина Андреевна тотчас взялась доводить особняк до ума. Первым делом обнесла черным шестиметровым забором, сплошь утыканным видеокамерами, перед ним натянула два ряда колючей проволоки. Установила дорогую иностранную сигнализацию, воздухоочистители, вставила бронированные двери и пуленепробиваемые окна, настроила различные защитные экраны и приспособления против взлома. Поначалу она хотела установить в дом множество умных систем и даже планировала заменить семью Ильназ какими-нибудь роботизированными устройствами, но интеграция высоких технологий в древнее здание заняла бы несколько месяцев, а работ и так было запланировано выше крыши. Чайкина решила заняться этими вопросами уже после того как будет подписана сделка ее жизни.
Не лишилось внимания чиновницы и внутреннее убранство. Галина Андреевна, чрезмерно падкая на эклектику, облагородила ряд помещений в соответствии со своими вкусами, а прямо напротив главного входа повесила два портрета – себя и лордхана. Сначала даже подумывала насчет мозаик в византийском стиле, но так и не нашла мастера, который бы взялся за столь тонкую работу. Так или иначе, к грядущему мероприятию особняк был готов.
Однако стоит упомянуть о причинах и целях готовившейся сделки. Дело в том, что за несколько лет до описываемых событий один тартарский химик пришел к невероятному выводу. Проанализировав состав отходов, вывозимых на свалки в течение десятилетий, он заявил, что продолжительные процессы гниения и разложения образовывают в недрах помоек новые органические вещества, которые попросту невозможно получить в иных условиях. Необычной идеей заинтересовались в высших кругах Тартарии, и лордхан лично дал добро на исследование нескольких особо перспективных мусорных гор. Первые же замеры окрест Лжинска дали ошеломительные результаты – химик попал аккурат в яблочко. Лабораторные испытания дали основания полагать, что новые вещества способны устроить переворот в целом ряде отраслей от ракетостроения до биопротезирования. Хотя и состав, и цвет, и свойства, и даже агрегатное состояние ископаемых разнились от помойки к помойке, в народе распространилось единое название «свалочная нефть». А иностранные компании уже выстраивались в очередь к тартарским бюрократам за разрешением на разработку. Лордхан по столь знаменательному поводу даже провел внеочередной парад.
Так что для Чайкиной мусорные горы оказались золотыми. Злые языки порой утверждали, что пост главы Лжинска она получила именно под разработку окрестных месторождений. По крайней мере, почти все время, свободное от пиар-акций и внутренних интрижек, чиновница уделяла мусорному бизнесу. В итоге, одна из зарубежных компаний даже запустила экспериментальный комплекс по добыче свалочной нефти, и когда он начал приносить плоды, решилась на более масштабные инвестиции. Теперь Лжинск из «мусорной столицы» должен был превратиться в «столицу свалочной нефти».
Впрочем, не все пошло так гладко, как хотелось. Удешевление способа добычи привело к тому, что выбросы уже от одного экспериментального комплекса приводили к странным осадкам, вызывавшим у жителей облысение. К тому же город периодически накрывало облаком вонючих испарений. И хотя жители Тартарии давно были отучены от любых проявлений неповиновения, письменные жалобы – последняя отдушина в тартарском законодательстве – снежной лавиной обрушились на городскую администрацию. А надо отметить, что на жалобы чиновники отвечали вручную – с одной стороны, это позволяло «быть ближе к народу», с другой, обосновывало необходимость содержания огромного штата бюрократии. Так что теперь свет в продолговатом трехэтажном здании администрации, напоминавшем огромный кирпич, горел круглосуточно. Недолго думая, Чайкина решила, что так дело не пойдет. Связалась с руководством местных организаций, дала указ привезти людей на главную площадь, заранее украшенную вывесками «Свое – не пахнет!», и выступила с речью.
– Запах есть, но он полезен и приятен! – произнесла чиновница с трибуны. – Не стоит поддаваться провокациям и раскачивать лодку. Лучше подумайте, кому это выгодно. Только врагам! Более того, ответьте, сколько уже нас с вами травят и никак перетравить не могут? Давным-давно, когда наши предки хлебали выбросы от производств, разве лучше было? Да и привыкли мы к противогазам! Даже на лжинский герб добавили. Так что администрация приняла постановление, согласно которому жалобы на новые заводы отныне будут обрабатываться в автоматическом режиме.
Иными словами, Чайкина сказала, что теперь строчить отписки будет не чиновник, а программа. Ибо нечего людей от работы отрывать. В ответ на речь со всех сторон раздались возгласы одобрения и радостное ликование. Надо отметить, что аплодировали и громогласно поддерживали Чайкину все присутствующие и на всех митингах. Это началось после того, как умные видеокамеры научились распознавать в толпе угрюмых и недовольных. Если оказывалось, что таковые работают в бюджетных учреждениях, коих в Тартарии абсолютное большинство, их тотчас увольняли.
До сих пор читателю, как человеку стороннему, недостаточно знакомому с повседневностью Тартарии, могло казаться, что страна эта отсталая и отсталая она во всем. Но это не совсем так. Вернее, лишь отчасти. У системы есть свои проблемы, но это не значит, что надо ее дочиста разрушать, как любил говаривать отец-основатель Тартарии.
Тартария делает неплохое оружие, в ней здравствует сфера услуг, цветет и пахнет химическая промышленность. Пока космодромы не заросли борщевиком, прорывали небесную твердь ракеты с тартарскими космонавтами. Но в чем это государство по-настоящему преуспело, так это во внедрении средств контроля и слежки за своими гражданами. Едва ли не каждая улица напичкана видеокамерами, распознающими лица. Огромные базы данных хранят результаты работы многочисленных микрофонов, установленных повсеместно: в кафе, магазинах, туалетах, общественном транспорте. Затем информацию анализируют нейронные сети и без вмешательства человека распознают реальных оппозиционеров и потенциальных недовольных. Первых сразу арестовывают. Вторых берут на галочку и включают для них режим усиленной пропаганды. Это несложно – благо, каждый второй человек даже по улице ходит в очках или линзах дополненной реальности. Вот ему и подсовываются нужные новости, нужные видеоролики, нужные картинки. Нужные режиму, разумеется. К той же системе слежки и анализа настроений подключены и все средства коммуникации, а также умная домашняя техника, давно доступная тартарскому среднему классу. Особое внимание тартарские элиты уделяют средствам информационной защиты своих данных. Да и тело свое они защищают с удвоенной силой и по-настоящему могут расслабиться лишь за границей, где и проводят большую часть времени. А все потому, что уж слишком пекутся о народном счастье.
Власти Тартарии хотят видеть перед собой идеального гражданина. А идельный гражданин для них – голый, безоружный, тихий человек, на которого нацелена сотня камер и который при малейшем упоминании о начальстве испытывает помесь чувств из восторженности и благоговейного ужаса. Идеальный гражданин обязательно монопат, то есть квалифицированный специалист в одной узкой области, но форменный дегенерат за ее пределами – такими людьми управлять легче всего. Впрочем, он может и ничего не уметь: водители самосвалов и кассиры тоже нужны, ведь автоматизация этих областей по неясным причинам тормозится. С особой тщательностью весь этот опыт тартарский истеблишмент перенимает у восточных партнеров. Еще идеальный гражданин должен быть по максимуму закредитован – так, чтоб остающихся средства едва хватало на еду. В таком случае любое ухудшение материального состояния становится кошмаром наяву, и простая потеря работы ужасает похлеще ядерного апокалипсиса. Так, кредитное закабаление начинается с самой юности, когда молодой человек берет свой первый кредит на учебу. Этот прогрессивный опыт элиты позаимствовали уже у западных коллег.
В образ идеального гражданина, давно покорявший сердца элит самых различных государств и являвшийся гордостью и национальным брендом Тартарии, Чайкина влюбилась если не с первого взгляда, то с первого чиновничьего поста. И последовательно реализовывала свою мечту в прозаичных тартарских реалиях, нарекая свое мировоззрение то «идеологией без идеологии», то «лидерством без лидерства», неиллюзорно отсылая к идеям равенства и терпимости. По крайней мере, она так считала.
Время шло и день Д, наконец, настал. Долгие переговоры завершились успешно, схемы вывода и дележа денег были продуманы, многочисленные второстепенные детали прописаны.
Тонуло в клубах густого дыма сырое августовское утро. Воздух был горек на вкус. Едва рассвело, как по прополотой в борщевике дороге в Лжинск въехал длинный кортеж из черных внедорожников и серых бронетранспортеров, медленно прополз по безлюдным улицам и остановился напротив особняка. Дверь одного из автомобилей открылась, и оттуда вылез мужчина в твидовом костюме.
Мужчине на вид было около сорока. Высок, гладко выбрит, надменен. Окидывая окружающих взглядом своих водянистых глаз, он излучал такое презрение и брезгливость, что людям хотелось либо смущенно потупиться, либо перегрызть гордецу глотку. Звали мужчину Мэтью Смюрдофф, урожденный Матвей Смердов. И был он мажоритарным акционером и региональным главой одной иностранной компании, душившей цепкими лапами финансовой soft power не одну банановую республику. В свое время отец господина Смюрдоффа – на тот момент Фрол Смердов – преуспел в новых видах бизнеса, процветавших тогда на тартарских просторах. То распродавая на металлолом целые заводы, то выдавая микрозаймы под хищнический процент, то вкладываясь в желтую прессу и поп-музыкантов, романтизировавших образ жизни сутенеров и наркоманов, Смердов-старший сделал серьезное состояние даже по мировым меркам. Постарев, Фрол Смердов наконец решил упрочить свое положение и окончательно покинул Тартарию ради страны, гарантировавшей неприкосновенность честно заработанного состояния. Чтобы стать частью цивилизации, перед которой всю жизнь благоговел и преклонялся, он пожертвовал солидным куском капитала и не погнушался пару раз слезно раскаяться в былом сексизме. Вскоре семейство Смердовых перекрасилось в благозвучное Смюрдофф, чем гордилось едва ли не больше, чем нажитым добром.
Впрочем, вскоре Смердов-старший помер, а Матвей, уже ставший Мэтью, окончил престижный университет и старался позабыть, что детство провел в столице Тартарии, а не какой-нибудь более успешной страны. Впрочем, окончательно порвать с Тартарией не удалось – она манила не как родина, но как вотчина. Из других мест деньги текли в руки Смюрдоффа как-то неохотно, и он словно проклятый возвращался туда, где каждая травинка ему казалась враждебной. Здесь он ненавидел все, но и понимал здесь тоже все.
Итак, Мэтью Смюрдофф вышел из автомобиля, окинул презрительным взглядом пейзаж, закашлялся от едкого дыма и быстро двинулся по длиннющей аллее к входу в особняк, внутри которого его уже ожидали. Дом поначалу поразил его, – такую красоту он редко встречал даже за рубежом – но финансист одернул себя и плюнул на землю. Дескать, и не такое видали.
У парадного входа Смюрдоффа встретила Надюша, – она же Надежда Михайловна Стреножина – раболепная помощница Чайкиной, положившая жизнь ради карьеры и готовая поднять свое толстое и рыхлое тело в любое время суток, лишь бы угодить начальнице. Надюша, привыкшая к тяжелому нраву Галины Андреевны, лебезила и заискивала перед финансистом, спрашивала про его впечатления и всячески старалась угодить. Тот отвечал односложно, но чаще просто кивал головой или игнорировал. Наконец, перед Мэтью открылись двери в просторную залу с мраморным полом, несколькими колоннами и круглым столом посередине.
– Хорошо устроились, Галина Андреевна, – заявил он сходу. – Во всей Тартарии сложно сыскать что-то лучше.
– Рада, что вам понравилось, – ответила Чайкина и мягко улыбнулась. – Сейчас подъедет нотариус, а пока позвольте я представлю гостей.
Помимо прочих, в зале было еще трое. Один – правозащитник Эдуард Клецка в прямоугольных очках и с вываливающимся животиком. Только вместо былой щетины были теперь отращены усы. Его Галина Андреевна пригласила сама, ради фона, дабы продемонстрировать зарубежному гостю свою просвещенность и цивилизованность. К тому же, этот старый приятель чиновницы, привыкший клянчить деньги на различных благотворительных банкетах, давно напрашивался на какое-нибудь мероприятие, где мог бы подыскать спонсора. Дело в том, что Клецка готовил очередной информационный проект, посвященный то ли жертвам вербальной агрессии, то ли правам растений.
Вторым человеком был Николай Свиристелов, столичный идеолог и журналист, не гнушавшийся роли ведущего. У него было свое собственное шоу, – одно из самых популярных в стране – в котором пропагандисты, эрзац-политики и прочий сброд подобного рода до хрипоты в голосе спорили на различные животрепещущие темы. Свиристелов – крепкий, неплохо сложенный человек с квадратным подбородком и короткой стрижкой – был одет в черные брюки и черную рубашку с запонками. Напросился он на встречу сам, – не без помощи влиятельных структур, разумеется – и Чайкина была не очень рада гостю, хотя вида и не показывала. У прозорливой чиновницы были все основания думать, что Свиристелов прибыл сюда в роли шпиона: конкуренция за власть и влияние в последнее время обострилась, и далеко не каждый мог рассчитывать на долю от свалочной нефти.
Если Клецка и Свиристелов бросились к финансисту едва ли не наперегонки, заискивающе улыбаясь и заливая уши елеем лести, то третий человек проявил себя куда сдержаннее. Налысо бритый мужчина с серо-стальными глазами и бескровными губами, одетый в идеально подогнанную серую форму, двинулся медленной и уверенной походкой.
– Майор Безродов, – произнес он с ледяной улыбкой, пристально глядя в глаза Смюрдоффу, и пожал тому руку. – Я представляю тартарские спецслужбы.
– Очень приятно, майор, – ухмыльнулся финансист и повернулся к чиновнице. – Галина Андреевна, дорогая, я, кажется, настаивал, чтобы все лишние люди остались вне здания. Как и средства коммуникации. Мы договорились о полной конфиденциальности.
– Майор – не лишний человек. Он представляет орган контроля, без которого в Тартарии теперь не делается ничего. Это не в моей власти.
– А Тартария год от года прогрессирует, как я вижу.
– Я вам не помешаю, будьте уверены, – выговорил Безродов с нажимом. – А господа Свиристелов и Клецка подождут нас наверху.
Столичный идеолог глянул на серого человека исподлобья, но ничего не сказал. Лишь тихо буркнул что-то себе под нос.
– Долго придется ждать, – сказал Смюрдофф.
– Мы терпеливы, – подобострастно ответил правозащитник. – В конце концов, вам же нужна компания, чтобы отпраздновать столь важную веху в модернизации нашего государства.
Как бы то ни было, в особняк прибыл человек, выполнявший роль нотариуса и Чайкина со Смюрдоффом приступили к долгой процедуре подписания документов. Формальности соблюдались тщательно, пункты договора зачитывались вслух и за всем этим бесстрастно наблюдал майор Безродов, застывший на своем венском стуле, словно каменное изваяние. Друг за другом следовали многочисленные биометрические подписи, каждая из которых предполагала, что на документе остается крохотный кусочек биоматериала. В некотором смысле договаривающиеся стороны подписывали документы собственной кровью.
А правозащитник со столичным журналистом расположились в гостиной на втором этаже и попивали крепкий чай, пахший черной смородиной. Эдуард Клецка вновь и вновь обдумывал как бы поделикатнее ему выпросить финансирование, Свиристелов же не мог отделаться от мыслей о Безродове. Они уже встречались ранее – тогда серый человек объяснял идеологу, в каком ключе стоит интерпретировать информацию о пытках недовольных. Несмотря на невысокое звание, майор обладал определенным влиянием и был поверенным лицом одного очень крупного чиновника. Краем уха Свиристелов слышал, что на Безродова у начальства очень большие планы. В целом же о майоре ходили слухи, как о холодном и безжалостном человеке, готовом выполнить любой, даже самый отвратительный приказ.
– Давно так не горело, – нарушил тишину Эдуард Клецка, тщетно вглядываясь в серый дым за окном. – Метров на пять видно, не больше.
– Это надолго. Военные опять чудачат. Борщевичных дикарей жгут, – зевая, ответил Свиристелов и покосился на собеседника. – Дикари нынче в опале. Прямо как ваши подзащитные.
– Ну что вы такое говорите? – взвился Клецка. – На правозащитников незаслуженно клевещут! Говорят, что мы якобы защищаем всяких мерзавцев. Но это все ложь!
– Я знаю, вы защищаете исключительно честных и порядочных людей, – ответил Свиристелов с нескрываемым сарказмом.
Клецка не сразу сообразил, что над ним насмехаются, и сперва даже воссиял, – больно падок он был на чужое признание – но увидев выражение лица собеседника, скуксился и насупился.
– Позвольте же, – правозащитник даже изобразил обиду. – Мы защищаем меньшинства! Мы не должны отстаивать привилегии тех людей, которые здесь и так хорошо устроились, все эти варварские массы. Я уж не говорю о дикарях борщевистах – эти давно перешли все границы и перестали быть людьми.
– Легитимнейший вас держит затем, чтобы демонстрировать загранице, что и здесь идет какая-никакая демократизация. Но если без обиняков, то это вопрос дипломатии. Я ничего не имею против конкретно вас, Эдуард, но давайте смотреть правде в глаза: вы – пятое колесо в мчащейся тартарской телеге.
– Без демократии Тартарии никогда не стать полноценным государством! – с вызовом ответил Эдуард, и показалось, что он, быть может, даже верит в свои слова.
– При настоящей демократии нас с вами повесят на фонарных столбах где-нибудь на Великом полночном пути. Вас – на левом, меня – на правом, а посередине проедут на танке прямиком к чьей-нибудь столице! Спасибо, не надо. Хватило уж всем. А фальшивка у нас и так есть. Для Галины Андреевны, как-никак, выборы проводили. А Легитимнейшего я и знать не знаю, сколько раз переизбирали.
– Но вы же понимаете, что именно настоящая демократия укрепляет власть царя над народом, – неизвестно, оговорился ли Клецка, но поправляться не стал. – А наш правитель рискует упустить наиболее совершенные решения.
– Можно поподробнее? – нахмурился Свиристелов.
– Ходят слухи, что Легитимнейший вообще не живет в Тартарии. Якобы он управляет государством из-за границы, и большинство первых бюрократов тоже. Я понимаю, что он очень многое сделал для страны: остановил ее распад, модернизировал экономику, многие годы он стоит на страже нашего мирного неба, не допуская революции и гражданской войны…
– А как же борщевистское восстание? – надавил идеолог, думая прижать собеседника к стенке.
– Из ваших сюжетов я знаю, что это лишь разрозненные банды дикарей, – выскользнул Клецка, чем даже раздосадовал Свиристелова, который от неудовольствия скривил губы. – И все же, если все сказанное соответствует действительности, почему он бросает народ? Это наводит… Это может навести недальновидных людей на мысль о том, что Легитимнейший – представитель своего рода колониальной администрации на землях Тартарии. А если такие люди вобьют себе что-то в голову, то не вытравишь потом. К тому же, управляя из столицы, наш правитель был бы еще эффективнее.
– А был ли мальчик? – хохотнул Свиристелов, вдруг одернул себя и резко оглянулся, подумав, что в комнату мог бесшумно войти майор или кто другой из серых людей.
Не то, чтобы идеолог сильно боялся Безродова, но по опыту знал, как такие люди могут даже из случайно оброненного слова сплести веревку, на которой потом тебя и повесят. Но майора за спиной не было. Свиристелов вновь повеселел и продолжил:
– Понимаете, Легитимнейший правит страной почти полвека. Мы недавно проводили соцопрос и выявили, что три четверти людей откровенно не знают, является Легитимнейший отцом-основателем Тартарии или это разные люди. Признаться откровенно, даже я не знаю, так как на эту тему написано слишком много противоречивых трудов. А сам я родился уже после его прихода к власти. Мне сорок четыре.
– На что вы намекаете? – Эдуард Клецка хотел, чтобы его визави сам закончил мысль и тот понимающе улыбнулся.
– Я говорил с ним однажды, но все было чересчур официально. А ведь грамотные специалисты могут без труда сделать голограмму. Мне показалось, что голос шел откуда-то не оттуда, да и за руку со мной здороваться Легитимнейший тоже не стал. Так, махнул лишь.
– А все его встречи и командировки?
– Знали бы вы, Эдуард, как мы манипулируем общественным мнением. Мы даже войны придумываем. У нас целый отдел занимается постановочными расправами над мирным населением!
– Как вы так можете? Мы же все хотим прозрачности! Без нее не будет прогресса! – воскликнул Клецка, но в его словах сквозила фальшь.
– Нам даже удалось вписать борщевичную напасть в контекст национальной идеи, – гордо заявил Свиристелов.
– Неужели? – удивился Клецка.
– Представьте себе! Разросшийся сорняк делает существование маленьких городков крайне проблематичным – помощь из центра не всегда приходит, а надо постоянно обороняться. Иначе попросту зарастет все. На защиту от борщевика уходят все силы трудоспособного населения, и в итоге жители попросту не могут себя прокормить. Так, все мелкие городки активно вымирают, а люди из них уезжают в мегаполисы, в крупные деловые центры.
– И что же из этого?
– Ну как? Централизация происходит! А тут и про крепкую руку, и про порядок, и про то, как столица всех спасает и кормит можно добавить. Раздолье! У меня сын даже диссертацию пишет «Борщевик как скрепа национального сознания Тартарии».
– Голь на выдумки хитра! Кстати, давно хотел спросить. А почему вы так на Ленина в последний год набросились? Дела давно минувших дней, как-никак.
– Тут все пляшет от военных. Как дикаки-борщевисты ориентируются в своих джунглях? Правильно, по памятникам Ленину! Только они еще торчат из зарослей, остальное все уж развалилось давно. Дикари даже додумались устанавливать на эти памятники фонари. Типа маяков. «Лампочками Ильича» их называют. Я сам видел, как в ночи сверкает.
– Так из-за этого? – рассмеялся Клецка.
– Конечно. А год назад мы ленинские тропы этих пионеров мочить начали! Ну и памятники заодно сносятся – так связь между их поселениями нарушается. На одного Ленина, кстати, две противотанковых ракеты уходит. Вот как умели строить! Но порой новые Ильичи возникают. Есть даже теория, что они как грибы прорастают.
За разговором время летело незаметно. Эдуард Клецка, несмотря на то, что формально занимал противоположную идеологическую позицию, тайно завидовал Свиристелову. Правозащитник мечтал именно себя почувствовать в центре внимания, ведь в свое время как раз для этого он пошел в адвокаты. И все же, ему не хватало решительности, смелости, находчивости, и он не помнил ни одного судебного разбирательства, которым бы мог гордиться. Как ни странно, именно эти качества Клецки позволили адвокату обрести свое место в тартарской судебной системе. А еще роман с дочерью одного олигарха – ныне, кстати, женой Свиристелова.
Наступил вечер. Ритуалы были проведены, договора подписаны, нотариус отпущен и удовлетворенные взаимовыгодным соглашением господа и дамы двинулись наверх, в гостиную. Клецка со Свиристеловым издалека услышали высокий голос Чайкиной – та раздавала указания помощнице. Спустя несколько секунд в комнату вбежала полная и грудастая Надюша в синем в облипочку платье и принялась суетливо что-то поправлять на столе. Столичный идеолог смерил ее презрительным взглядом, а Галина Андреевна, лишь войдя в гостиную, тут же прикрикнула:
– Что ты возишься? Внизу из ресторана уже еда привезена, шампанское, закуски всякие. Неси скорее, вечно из-за тебя проволочки!
– Может, официанты сами все занесут? – робко проговорила Надюша.
– Сами? Ишь чего удумала! – Чайкина аж взбеленилась.
– Наденька, к чему нам лишние глаза и уши? У нас же дружеская беседа, – мягко добавил Смюрдофф, и погладил Галину Андреевну по плечу, как бы купируя приступ ярости.
Так, Надюша побежала вниз, а Чайкина достала замысловатой формы ключ, открыла встроенный в стену огромный сейф, напоминавший антиквариат родом из начала двадцатого века, а не современное высокотехнологичное устройство, и положила туда договор.
– Здесь наши документы будут в сохранности, – сказала Галина Андреевна и повернула ключ.
– Что за ретроградство? – Смюрдофф насмешливо поднял бровь. – Чем плох биометрический замок, который откроет сейф, просканировав ваше лицо?
– Как ни странно, Мэтью, но Галина права, – с легкой улыбкой проговорил майор. – Это у вас цивилизованная страна. А здесь – Тартария. Злоумышленники воруют трехмерные оттиски лиц из наших баз данных, иногда обманом снимают их с жертв. И потом воспроизводят личность перед биометрическим замком.
– Неужели? Какой ужас. И правда, Тартария!
– Раньше воры использовали голограммы, а когда наши системы научились различать иллюзию и реальность, то эта мразь принялась печатать трехмерные макеты головы на принтерах. Причем точность поражает! Вплоть до малейших пор, до волосков. А теперь они даже имитируют мимику при помощи встроенных в такую голову специальных электродов.
– Находчивая сволочь тут обитает, в общем, – ухмыльнулась Чайкина. – А мой ключик никому просто так не воспроизвести. Он особенный, – и спрятала ключ в сумочку с биометрическим замком.
– Ну, сумочку могут свистнуть, – проговорил Клецка с застенчивой улыбкой.
– Товарищ майор, что ли? – вставил Свиристелов, и вся компания захихикала. – Некоторые моменты из договора, впрочем, стоило бы прояснить. Для общественности, так сказать.
– Не стоило бы, – грозно произнес майор, и в воздухе тотчас повисло тяжкое молчание.
Меж тем на стол было подано. Нет смысла перечислять яства, которыми баловала себя Чайкина и ее почтенные гости. Одно лишь можно сказать, что, сильно устав за день, они приступили к ужину с двойным аппетитом. Оттрапезничав и подняв пару тостов за успех сделки, вся компания развалилась в креслах и на мягких венских стульях и пустилась в непринужденные беседы.
– Отчего у вас форма такая серая, майор? – спросил Смюрдофф. – У нас вот вовсю переходят на универсальный камуфляж, который сам подстраивается под цвет местности.
– У нас немного иные задачи, – майор потупил взгляд, и внимательный наблюдатель мог бы заметить, что он смутился. – Наша серая форма тоже в некотором роде универсальна. Как вы знаете, в Тартарии повсюду дым и смог – горят то свалки, то заросли борщевика, которые мы безуспешно пытаемся выжечь.
– В нашем правительстве подсчитали, чего будет стоить уничтожение борщевика, – добавила Надюша. – Мало того, что это приведет государство к экономическому краху, так еще и весь мир – к экологической катастрофе. Либо из-за химикатов, которые с осадками распространятся по всей планете, либо из-за последствий пожаров. Если внезапно заполыхают все заросли тартарского борщевика, то это поднимет в воздух такое количество дыма и пепла, что наступит что-то наподобие ядерной зимы. Да и мы тут все задохнемся. Потому все, что лордхан может делать, это ставить кордоны и заграждения на границах Тартарии, чтобы не допустить распространения борщевика в другие страны и в те районы нашей страны, которые еще не охвачены бедствием. Благо, нам помогают развитые страны.
– В Тартарии от этого жить легче не становится, – вставил Эдуард Клецка, с опаской покосившись на майора Безродова, но тот проигнорировал реплику.
– Наверху лучше знают, – и Надюша развела руками, как бы демонстрируя свою покорность и общее бессилие.
– Я могу рассказать вам про операцию против дикарей, в которой я участвовал недавно, – с вызовом сказал Безродов и насупился.
– С удовольствием послушаем, – ответила Чайкина, подливая в бокалы гостей шампанское.
– Дело было месяц назад. Мы знали, что эта сволочь прячется в катакомбах, надежно скрытых под зарослями этого проклятого борщевика. Недавно дикари напали на самосвалы, которые везли столичный мусор на помойку.
– А ведь раньше их мужчины искали на свалках, чем поживиться! Какая неблагодарная мразь! Значит, мы их кормим со своего стола, а они нападают! – гневно воскликнул Свиристелов.
– Больше кормить не будем! Теперь мусор посыпают специальным отравляющим веществом, которое делает жизнь дикарей просто невыносимой. Дохнут пачками. Чем ближе к свалке, тем больше. Мы находили трупы с такими раковыми опухолями – жуткое зрелище! И главное, действует не сразу. Целыми племенами их выкашиваем.
– Ну, правильно. Подрываете экономическую базу борщевистов. Побочные продукты нашей цивилизации – это их хлеб! – одобрил Мэтью. – Впрочем, как только полным ходом начнется добыча свалочной нефти, наши ЧВК защитят помойки от всего этого дикого сброда, загонят его обратно в заросли!
– Так или иначе, три машины при первой атаке сгорело. Еще два десятка застряло на борщевичных полях. Тоже потом сожгли. Вернулось всего две. У врагов же какая тактика? Посеять панику среди водителей. Сожгут пару самосвалов, – в начале и в хвосте колонны – остальные с перепугу дают деру в поля. А когда застрянешь среди пятиметрового борщевика, то что делать? Даже направления не разберешь, куда идти. Я уж не говорю про ожоги от ядовитого сока. Выйти из машины в таких условиях – верная смерть. Жуткая смерть!
– Ужас! Где мы живем? Где мы живем? – произнес Эдуард Клецка, вперившись глазами в одну точку и закручивая ус.
– Но вы же правозащитник, господин Клецка! – хитро прищурившись, ответила Галина Андреевна.
– Я нормальных людей защищаю. Таких, как ваша Ильназ. Таких, как вы! А тут какие-то изверги, обезумевшие животные.
– Ну не суть, – примирительно махнул рукой Безродов. – Очертили мы район. Напалмом – раз! Отрезали пути к отступлению. Высадились. Одна группа – у реки, а наша – прямо на свалке, на самый высокий холм. Видели бы вы, как это все выглядело! Стою я со своими ребятами прямо на вершине мусорной горы. На нас – новенькие серенькие костюмы, специальные защитные скафандры. Стройные стоим, в рядочек. В километре справа – стена огня, в километре слева – стена огня. Пылает борщевичок. Впереди – река, вижу, как наши там высаживаются. Ну, мы на господствующих высотах турели поставили, построились и вперед, заросли прочесывать.
– А по вам турели не попадают? – с недоверием спросил Клецка.
– Милый человек, на нас же датчики специальные! – рассмеялся Безродов. – Плюс у турели очень грамотная система распознавания «свой – чужой». Нас она отличает, а как кого чужого заметит, сразу огонь. Но заросли борщевика, конечно, очень портят малину. Умеют дикари там прятаться. У них свои методики. В общем, с первым их постом соприкоснулись у сожженного самосвала, пара дикарей за ним спряталось. Открыли по нам огонь из своих доисторических автоматов. Я огонь турели сразу на самосвал направил, прижал уродов к земле. Группа слева, группа справа, каждая по десять человек. С флангов окружили, прихлопнули. Потом еще несколько похожих постов взяли. Но у входа в свои пещеры они, конечно, знатно окопались.
– Что же могут противопоставить нашей передовой армии какие-то животные с автоматами? – усмехнулась Чайкина.
– Во-первых, минные поля. Во-вторых, эти чудики хоть и дикари, но очень хитрые. Выдумали излучатель, воздействие которого вызывает особую химическую реакцию в материале наших скафандров. Разрушаются вещества, защищающие тело от сока борщевика, и тогда яд медленно начинает просачиваться на кожу солдата. Боец думает, что это испарина или пот и не придает значения. Ну а потом все понятно. Пару лет назад мы так полностью потеряли несколько отрядов. То есть возвращается с зачистки отряд целиком, без потерь. А через три дня все помирают в госпитале, мучаясь от страшных ожогов. Потери доходили до ста процентов.
– Да как эти животные могли такое выдумать? Они даже наших роботов какой-то электромагнитной пушкой выводят из строя. Это им все заграница поставляет. Хотят расшатать нашу государственность. У нас за рубежом много завистников, – выпалил идеолог.
– Кто же покусится на вашу борщевично-свалочную державу? – злобно и, не скрывая высокомерия, произнес Смюрдофф. – Какая уважающая себя страна? Тартарии помогают исключительно затем, чтобы ее зараза на других не перекинулась!
– А вот вы, например, покусились, – Свиристелов прищурился и поглядел на финансиста в упор. – Свалочную нефть захотели к рукам прибрать? Захотели! Наш рынок сбыта захотели получить? Захотели! И наше государство создало все условия, чтобы такого экономического потенциала достичь!
Мэтью Смюрдофф схватился за живот, закатил глаза и принялся ойкать.
– Ну не смешите, не смешите меня! Вы передо мной еще своей статистикой похвастайтесь.
– А я похвастаюсь, я похвастаюсь. У вас люди чуть что, так на улицы бегут права качать. Раз в неделю – митинг. Раз в две – погром. А у нас государственность такая, что никто носу высунуть не смеет. И я, кстати, хотел бы напомнить о вашем происхождении, Матвей.
От слов о происхождении глаза Смюрдоффа загорелись яростью. Мэтью поглядел на Свиристелова так, что журналист сразу же понял, какого врага нажил своим длинным языком. Испугавшись далеко идущих последствий, тартарский идеолог сразу дал на попятную:
– Ну не обижайтесь, Мэтью. Это я так, красного словца ради. Вы уж отвыкли от тартарских шуточек, а мы никак не изживем свой провинциальный юморок. Кто, в конце концов, не желает как вы, стать частью настоящей цивилизации? Это же, наоборот, показатель выдающейся личности!
Смюрдофф презрительно хмыкнул, и в воздухе повисло бы неловкое молчание, если бы пуще прежнего разволновавшийся Клецка не спросил:
– Так вы раздавили гадину в итоге?
– Разумеется. Иначе бы я тут не сидел, – ответил повеселевший маойр. – Мы заставили дикарскую оборону демаскировать себя и отступили. Остальное сделали подоспевшие беспилотники. Прицельным огнем выбили гадов с позиций, и те отошли в катакомбы.
– Там их, наверно, и не достать. В этих жутких пещерах.
– Наоборот. Теперь у нас есть специальные бомбы для таких пещер. После взрыва по подземным каналам проносится мощная ударная волна, которая уничтожает все живое. Жуткий перепад давления.
– Тартарские инженеры делают. Брали мы недавно анонимное интервью у них, – вставил Свиристелов довольно.
– Как только борщевисты отступают в пещеры, наш отряд берет местность и ставит на входах в катакомбы специальные маркеры для таких самонаводящихся бомб. Потом отходит и вуа-ля, дело в шляпе! Мы бы не рисковали людьми и били сразу по пещерам, но враги слишком хорошо маскируют входы. А зимой и вовсе наверх носа не кажут. Разведчика к ним подослать тоже, как вы понимаете, трудно. А еще добавьте сюда общую задымленность. Так что приходится действовать вслепую.
– За победу! И за нашего доблестного майора! – произнесла Галина Андреевна и подняла бокал.
– За победу! – громыхнули голоса кругом.
Впрочем, долго пить и веселиться этим успешным людям не пришлось. Буквально через минуту после тоста в коридоре раздался топот и рыдания, потом удар, – человек то ли упал, то ли уронил что-то тяжелое – затем вновь рыдания. Наконец, в дверь гостиной постучали. Быстро, нетерпеливо. Затем еще раз. И опять. Все это перемежалось всхлипами и причитаниями. Майор уж взялся за пистолет, но Галина Андреевна остановила его, сделав жест рукой.
– Голос похож на Ильназ, домработницу, – сказала она и крикнула: – Ильназ, это ты?
– Я, Галина Андреевна, – глухо раздалось из-за двери. Затем вновь послышались рыдания, еще что-то на непонятном гостям языке, снова рыдания. – Откройте, я прошу. Помогите!
Чайкина осторожно подошла к входу, разблокировала замок и повернула ручку. Едва дверь отворилась, с губ чиновницы сорвался вопль. Так надрывно она не верещала даже на похоронах матери. Гости тоже бросились к входу. Побледневший Смюрдофф еле успел подхватить готовую упасть в обморок Галину Андреевну.
А в руках Ильназ держала обмякшее тело ее среднего сына. На груди его зияющей каверной алела колотая рана, а по белой тишотке все еще стекали ручейки крови. Галымжан был мертв. Убит. Зарезан.
– Какого борова дотащила, – сухо заметил Свиристелов, а Клецка ухнул грудным голосом и закрыл дрожащими руками лицо.
Пока майор на пару с финансистом пытались оказать запоздалую помощь несчастному подростку – впрочем, делать это было уже бесполезно, так что старались они скорее затем, чтобы успокоить безутешную мать – Ильназ сбивчиво рассказала, что же случилось с ее отпрыском. Оказывается, ее старший, Ильшат, любитель подраться, повыкобениваться и вообще большой сорвиголова, давно не любил тихого и спокойного Галымжана, предпочитавшего проводить время в одиночестве и за книгами. Ильшат злился, постоянно пытался контролировать брата, порой побивал и величал того то «ученым», то «теологом». Причем из уст старшего сына это звучало как самое настоящее оскорбление. А после того, как Ильшат связался с непонятной квазирелигиозной организацией, сильно оказавшей влияние на его еще на оформившееся мировоззрение, жизнь Галымжана и вовсе превратилась в ад. Любая книга, которая не нравилась старшему брату, теперь рвалась в клочья. За слово поперек новой веры Ильшата полагалась затрещина. Еще Галымжана начал смущать и унижать тот факт, что теперь и самый младший из троих, Замам, смеялся и презирал родственника, который не может за себя постоять. Мать, по ее словам, не могла – а на деле, быть может, и не хотела – ничего поделать. В общем, сегодняшний вечер не был бы исключением из всех вечеров неблагополучной семьи, если бы Галымжан не решился отстаивать свое мнение до самого конца. Ильшату это понравиться не могло и он решил хорошенько припугнуть брата. Достал из кармашка заточенный ножик. Как обычно, слово за слово. Мать вошла в их комнату слишком поздно. Впрочем, а могла ли она помешать? Так или иначе, Ильназ твердила, что роковой удар произошел случайно.
– Когда он увидел, что сотворил, заплакал: «Братик, братик, не умирай! Прости меня!», – говорила Ильназ сквозь слезы. – А потом: «Это дом! Дом проклятый виноват! Шайтан в этом доме живет»
– Перекладывать ответственность все горазды, – прокомментировал Безродов и бросил тщетные попытки спасти подростка.
– Он не хотел, товарищ военный.
– Никто не хочет. А почему-то получается. Лучше скажите, где он сейчас?
Безутешная мать вскочила со стула и посмотрела на Чайкину, виновато и со страхом. Затем – так же на Безродова и что-то запричитала на своем языке. Кажется, молитву. Майор нахмурился и посмотрел на женщину в упор. От такого взгляда ту пробрало до костей.
– Он сказал: «Раз в доме шайтан, надо шайтана сжечь». И убежал, – выдавила она через силу, то и дело переводя умоляющий взгляд с майора на чиновницу и обратно. – Я прошу вас, не троньте его. Я найду. Я не дам ему.
– Успокойтесь, я вам верю, – Безродов даже изобразил участие, но что-то песье – то ли волчье, то ли шакалье – проскользнуло в выражении его лица. – Скажите, где он? Это для его же блага. Я помогу ему, верите мне?
– Я не знаю. Но я найду его! Я найду его, не троньте его! – и женщина бросилась прочь из гостиной с такой прытью, что даже Безродов не пытался ее удержать. Только махнул рукой – мол, пусть делает, что хочет – и потащил труп Галымжана в другую комнату прочь с глаз. В гостиной повисло напряженное молчание.
– Что же делать? Надо найти ее сына. А то еще взаправду подожжет что, – прошептала Галина Андреевна, представила всю опасность положения и закрыла глаза руками.
– А давайте лучше выпьем. У нас такое шампанское! – ответил оклемавшийся от шока Смюрдофф. – А если паршивый особняк загорится, оно и к лучшему. Вы только посмотрите на эту безвкусную лепнину! Что-то есть в этом такое… Даже не знаю. Непрогрессивное, патриархально-реакционное.
– Истину глаголите, дорогой мой. Коль и полыхнет, всегда успеем сбежать. Дом-то здоровенный! – весело поддакнул столичный идеолог, хохотнул и принялся наливать Смюрдоффу шампанское, игнорируя негодование, отразившееся на лице Чайкиной.
Эдуард Клецка и вовсе отошел куда-то в угол и всеми силами делал вид, будто происходящее его не касается.
– Дурачье! – закричала Чайкина. – Мы же тут все сгорим!
– Ой ли? – хохотнул уже изрядно пьяный Смюрдофф.
– Я пришью отморозка. Пусть он только попадется мне на глаза. Вот только где его искать? – прорычал вернувшийся майор.
– Довольно насилия, майор! Вам бы только убивать. Не хватало нам еще одного мертвеца, – чиновница обвела комнату взглядом и взялась за голову. – Что же делать? – вдруг взор ее упал на Надежду Михайловну. – Надюша, ты же неплохо знаешь дом. Сходи, помоги Ильназ.
– Как же я, Галина Андреевна? Пощадите!
Чайкиной тоже не нравилась эта идея. Она вновь обвела взглядом остальных гостей – кровожадного майора, раскисшего Клецку и двух безучастных господ, с которыми она очень не хотела портить отношения – и, скрепя сердце, решилась. Напустила на себя гневный вид и приказным тоном отчеканила:
– Ну давай, не митингуй мне тут! Ты лучше возьми мой баллончик, Надежда, и не бойся ничего. Сама же знаешь, какой там газ! От него человек минут на десять вырубается. Тебе не то, что какой-то щенок Ильшат – сам черт не страшен! Главное, в себя не брызни ненароком. И если там что-то серьезное – беги за серыми людьми.
Надежда Михайловна с видом побитой собаки с трудом поднялась из кресла, по которому она по старой привычке растеклась жирным вареником, и еще раз с жалостью посмотрела на свою начальницу.
– Ну чего встала? Бегом!
Бегом значит бегом. Пока доведенная до белого каления мать носилась по западному крылу, а Надежда Михайловна с опаской, боясь каждого шороха, обыскивала залы первого этажа, Ильшат уже начал действовать. Из тайного схрона, устроенного им в подвале – а туда, надо признать, он натаскал всякого – он взял пятилитровую канистру с бензином и потащил ее в деревянный флигель, то есть в наиболее пожароопасную часть особняка. Здесь-то он и развернулся. Осмотрел, цокая языком, словно выбирал на базаре корову, красивую и просторную комнату, облил шторы, ковер, деревянную мебель XIX века и висящие здесь портреты, – особенно досталось генералам Черняеву и Ермолову – и наконец отошел за порог.
– Гори, шайтан! Это тебе за брата, – произнес он с подростковым пафосом, вытер навернувшиеся слезы, чиркнул зиппой – а киногерои научили его, что в таких случаях надо чиркать именно зиппой, так что он давно прикупил одну на блошином рынке – и разжал пальцы.
Зиппа не зажглась. Паленая подделка. Ильшат громко выругался и побежал на кухню за спичками. Впрочем, и спичек на кухне не оказалось – все приборы здесь были электрическими.
– Тартария, страна свиней! – воскликнул он сгоряча и впервые за долгие годы испытал тоску по родным краям, где все было просто и знакомо.
В нерешительности потоптавшись на месте, почти отчаявшийся Ильшат сел на стул и всеми силами принялся вспоминать, чему его учили в школе, которую, как теперь оказалось, он зря столь безалаберно прогуливал. Через пару минут в его голове всплыло пугающее своей простотой словосочетание: «короткое замыкание». Подросток отыскал отвертку, вернулся в комнату, чадящую бензиновыми запахами, и выкрутил розетку. Влил в отверстие оставшийся бензин. Затем осторожно надрезал провода – плюс и минус – и, самодовольно ухмыльнувшись, соединил их вместе.
И правда, иное упорство достойно лучшего применения. Едва провода соединились, как вырвавшаяся искра подожгла бензин. Огненная волна распространилась по комнате даже быстрее, чем помутневший умом подросток почувствовал боль, и когда он бросился вон из комнаты, то уже горел как факел. Он бежал, орущий, объятый пламенем, по коридору и синтетическая одежда – черный спортивный костюм – плавилась прямо на его теле. Упал в непонятно откуда взявшуюся воду, принялся кататься, пытаясь сбить огонь. С трудом, но смог. Впрочем, было уже поздно. Сквозь жуткое невыносимое страдание он чувствовал, как к горлу тянутся ледяные пальцы смерти.
– Ильшат! Ильшат, как же так? – неожиданно услышал он рядом голос младшего брата.
– Замам, братик, отомсти за меня, – с трудом выговорил обгоревший подросток.
– Как, Ильшат? – спросил Замам, стирая бежавшие с лица слезы.
– В моем схроне граната. Возьми… – договорить он не смог, откинул голову, захрипел и умер.
Через несколько минут обугленный труп несчастного нашла его убитая горем мать. Ильназ упала на колени и возопила к небесам. За что, за какие грехи они были столь жестоки к ней? Небеса не ответили. Наверно, не заметили очередную исковерканную судьбу меж миллионов других исковерканных судеб. Едва не обезумев от свалившегося несчастья, Ильназ вспомнила, что помимо двух погибших сыновей у нее есть еще третий, живой, и тоже, по всей видимости, находящийся в опасности. Рыдая и причитая, женщина вскочила на ноги и побежала прочь, искать Замама.
К счастью, пожару не удалось распространиться за пределы флигеля – в течении каких-то двух-трех минут он был потушен. Сработало то ли чудо, то ли противопожарная система. Но если вторая, то не совсем так, как предполагалось. Вместо того чтобы объявить тревогу и вызвать спасателей, она зачем-то заблокировала все бронированные окна и двери, вырубила основной источник электричества и перешла на аварийный. Теперь добрая половина дома погрузилась во тьму. Чайкина предположила, что это связано с общей спешкой в установке и настройке системы, чем, впрочем, слабо успокоила гостей.
– Неужели вся огромная цивилизация, которую мы строили веками, не может защитить нас от какого-то мальчишки со спичками? – воскликнул разозленный Смюрдофф, безрезультатно пытаясь открыть окно. – Вокруг особняка добрая сотня солдат! Давайте позовем кого-нибудь на помощь.
– Не вы ли настаивали на том, чтобы отказаться от всех средств коммуникации? Прослушки боялись, – ответил Безродов, не скрывая своего презрения.
– Так посигнальте в окно!
– Дым, – беспомощно ответил Клецка. – Ждать нам теперь до завтра. Найти бы хоть маленькую форточку, чтобы позвать на помощь, да нет тут.
Немного погоревав и осознав всю патовость своего положения, компания решила приняться за десерт и выпить еще шампанского.
Крики во флигеле услышала Надежда Михайловна. Поначалу, когда только вырубился свет, она струхнула и даже заперлась в одной из комнат. Но начальницу подвести Стреножина не хотела. Вернее, очень боялась. И слегка приободренная вспыхнувшими островками аварийного света, двинулась туда, откуда услышала звуки.
Сжимая в руке газовый баллончик, и жутко потея от страха, Надюша настойчиво двигалась к своей судьбе. Она обыскала пол крыла, пока наконец не нашла выгоревшую изнутри просторную комнату во флигеле. Коридор перед ней был заполнен водой без малого по щиколотку. Вдобавок запах от этой жидкости шел наимерзостнейший, свалочный запах тухлых яиц. Удовлетворившись находкой, женщина решила убраться подобру-поздорову и уже вышла из затопленного коридора, когда ее окликнули.
– Ох! – от испуга она едва не упала в обморок. – Кто вы?
– Не бойтесь, – произнес человек в серой форме, безучастно переводя взгляд с Надюши на обгоревший труп Ильшата, лежавший у его ног. – Я представляю власть.
– Ах, товарищ капитан, – произнесла Надюша медленно, с трудом разглядывая в полумраке отметки на форме незнакомца. Что в нем было удивительного, так это неуставная борода и подсвечник с погасшей свечой, зажатый в руке. – Как же вы меня напугали!
– А он? – кивнул серый человек на мертвого подростка.
– И он, – только сейчас она осознала, что случилось с Ильшатом. – Господи, какой ужас! Какая жуткая смерть. Кто это сделал?
– По всей видимости, он сам.
– Неужели? И, главное, зачем?
– Может, вы тоже помогли?
– Как же? Чем же? Да как у вас язык на такое поворачивается?!
– А вдруг? Давайте проведем небольшой эксперимент.
– Я не понимаю, о чем вы, товарищ капитан. Кто вы такой и откуда вообще здесь взялись?
– Не глупите, Наденька. Это приказ, – произнес серый человек медленно, глядя ей прямо в глаза. – Откройте верхний ящик комода, что стоит перед вами.
Находящаяся в замешательстве, испуганная и обескураженная Надежда Михайловна дрожащей рукой открыла ящик.
– Что видите?
– Револьвер. И патрон.
– Возьмите револьвер.
– Зачем? – в глазах Наденьки проскользнул ужас.
– Берите! – капитан прикрикнул, и, когда женщина взяла в руку пистолет, добавил мягче: – Теперь заряжайте.
– Готово, товарищ капитан. Но я не понимаю…
– А теперь, Наденька, приставьте пистолет дулом к виску.
Надежда Михайловна медленно, не отводя взгляда от глаз капитана, подняла револьвер и приложила холодное дуло к голове. Прямо туда, где под толстой кожей беззаботно пульсировала синяя жилка. Со лба ее начал струиться пот и даже на жирных ляжках выступила испарина.
– Теперь медленно нажмите спусковой крючок.
– Зачем, товарищ капитан?
– Так надо, Надюша. Следственный эксперимент.
– Я не хочу этого делать, товарищ капитан, – проговорила Надюша с трудом, и слезы потекли по ее щекам.
– Вам ничего не будет, Надюша. Там же холостые. Жмите.
Серая форма капитана, его уверенный голос и твердый взгляд, манера держаться и умение говорить с оттенком какого-то отеческого сочувствия повлияли на человека, привыкшего не раздумывать над приказами. Надежда Михайловна нажала на спусковой крючок и буквально через мгновение львиная доля ее мозга переместилась из черепной коробки на стену с зелеными вензелями. И когда облако крови и серого вещества вместе с пулей уже вылетело из головы Надюши, то на какую-то жалкую долю секунды оно уподобилось по форме своей листку борщевика, как бы проросшему из благодетельной, но безвольной землицы-матушки. Из мягкой, жирной, страдательной почвы. Смерть была мгновенной, и бездыханное тело с грохотом и треском повалилось на дочиста отполированный паркет.
Выстрел услышали в гостиной. Бокал с шампанским выпал из рук Галины Андреевны и разбился, гости вскочили с мест, а серый майор выхватил мгновенно пистолет. Он и остановил начавшуюся было панику:
– Отставить! – заорал Безродов так, что все сразу притихли. – Значит так. Мужчинам взять что-нибудь, чем сможете обороняться. И за мной!
– Я не останусь тут одна! – воскликнула Галина Андреевна жалостливо.
– Идите посередине, – ответил майор после секунды промедления. – Я – первый. Матвей, у вас тоже оружие? Будете замыкающим. Вперед!
Мэтью Смюрдофф не заметил, что его назвали Матвеем. Он был настолько испуган и ошарашен, что даже забыл снять пистолет с предохранителя. Это не укрылось от глаз майора, и тот презрительно харкнул на пол, прямо на дорогой персидский ковер. Впрочем, с Клецкой все было еще хуже – на его лице явно читалось, что только животный страх перед Безродовым удерживает его от того, чтобы броситься наутек. Единственным, кто еще хотя бы пытался изображать присутствие духа, был Свиристелов. Хотя и тот делал это лишь тогда, когда видел, что на него кто-то смотрит. Зато все разом протрезвели. Наконец, разношерстый отряд во главе с серым человеком, стараясь не шуметь и часто оглядываясь, двинулся во флигель на звук выстрела.
Тела погибших были обнаружены почти сразу и майор – опытный в таких делах человек – заявил, что все признаки указывают на самоубийство Надюши. Касательно мальчишки вопросов и вовсе не возникло. Вся компания прошла мимо жутко вонявшего свалкой и гарью, наполовину затопленного коридора и расселась на небольшой кухне, выложенной белым и черным кафелем.
– Но почему? Неужели из-за этого дебила Ильшата, убийцы и поджигателя? Она же и не знала его толком! Какая жуть, какая жуть, – бессильно причитала Галина Андреевна, одним и тем же платком вытирая и глаза, и губы – от увиденного ее тут же вывернуло наизнанку.
– Вряд ли, – произнес Безродов хмуро. – Нечисто тут что-то. Полагаю, это инсценировка.
– Не думаете же вы, что это борщевичные люди? – с дрожью в голосе произнес Смюрдофф.
– Борщевичные люди – кучка дикарей, которых мы утюжим где и когда захотим, – огрызнулся серый человек. – Максимум, на что способны эти животные, это грабить людей из засад и препятствовать транспортировке мусора на свалки. Города для дикарей неприступны. Здесь что-то гораздо худшее.
– Надо бежать отсюда. Это какое-то гиблое место, – выговорил после долгих раздумий Клецка. – Если здесь замешаны местные аборигены, то пусть с ними разбирается армия. Для чего я плачу налоги, в конце концов?
– А защищать этих аборигенов потом будете? – спросил Свиристелов, явно стремясь подцепить правозащитника. – Или в кусты?
– Я защищаю людей, а не этих чертовых выродков! Не этих животных, которые оккупировали здешние земли и с чего-то вдруг решили, что вся территория за пределами столицы принадлежит им!
– Успокойтесь, – произнесла Галина Андреевна устало. – Еще драки нам не хватало.
– В общем, я с дорогим Эдуардом не согласен, – примирительно сказал Свиристелов. – Не надо убегать. Гораздо грамотнее – выбрать место внутри дома. Место, которое мы сможем контролировать. Запремся там наглухо, потерпим до утра. Ну, может до послезавтра. Рано или поздно нас хватятся и вызволят. Я предлагаю восточное крыло.
– Там, где расположились вы со своим барахлом? – язвительно заметил Смюрдофф.
– Идеи ваши бредовы, как и вы сами, – не дал продолжить спор Безродов. – Из восточного крыла вас выкурят на раз-два.
– Как же?
– Огнем.
– Поджигатель-то мертв.
– Только один, – и майор смерил идеолога презрительным взглядом. – А теперь насчет бежать. Как, если все двери и окна заблокированы?
– Через катакомбы, например, – тихо ответил Клецка, и серый человек усмехнулся.
– Это правда, – выговорила Галина Андреевна медленно. – Под домом есть тайный ход, сделанный еще в восемнадцатом веке. В него можно попасть через подвал.
– Куда ведет ход? – насторожился Безродов.
– Неизвестно. Но, предугадывая ваш вопрос, сразу скажу, что на нем стоит защитный экран, который не пускает никого вовнутрь. Лишь наружу.
На минуту Безродов задумался. Он окинул Эдуарда взглядом и попробовал прикинуть варианты развития событий. Если Клецка выйдет наружу живым и невредимым, то сможет вызвать какую-никакую подмогу. А если нет… На нет и суда нет. Жизнь и работа серого человека не располагает к сочувствию. Тем более что правозащитник Безродову откровенно не нравился: из мертвого Клецки выходила эффектная жертва борщевичных людей, живой Клецка вечно путался под ногами мелкой, но громко тявкающей собачонкой. Вслух майор произнес:
– Иногда надо признавать свои ошибки. Иногда храбрость, мужество и отвага проявляются там, где совсем не ожидаешь их увидеть. Я удивлен, Эдуард Клецка. Это единственное, что я могу сказать, – и дружески похлопал правозащитника по плечу. – Если вы нас спасете, медаль я вам гарантирую.
– Вы рискуете его уничтожить, – шепнула на ухо майору Галина Андреевна, но ледяной взгляд в упор положил конец ее и без того робким возражениям.
Впрочем, Клецку уже было не остановить. Он готовился к великим свершениям и явно переоценивал свои силы. Как просто чье-то одобрение наполняло уже немолодого мужчину восторгом на грани опьянения. Как просто удавалось Безродову разжигать его самолюбие довольно пошлыми и нелепыми комплиментами, почти не прилагая усилий. И когда вся злосчастная и злонамеренная компания выпроводила своего товарища в катакомбы, экзальтированный взгляд Эдуарда Клецки пылал так, как не пылал Сагунт, взятый Ганнибалом.
Такое положение дел, впрочем, продолжалось недолго. Вооруженный налобным фонариком, разделочным ножом и револьвером, найденным у тела Надюши, – Безродов благородно поделился с правозащитником шестью патронами – Эдуард Клецка прошел по темному тоннелю всего двести или триста метров перед тем, как ужас, медленно поднимавшийся откуда-то из брюха, сковал его глупое сердце. Теперь в каждой тени Клецке мерещились смерть, а каждая капля, падавшая с потолка, заставляла сердце отбивать ритм, которому позавидовали бы и африканские барабанщики. Эдуард не выдержал и бросился обратно, в особняк. К несчастью, защитный экран был уже закрыт и встречал попытки правозащитника прорваться внутрь ударами тока, каждый раз отшвыривая настырное тело обратно. Напрасно Клецка вопил и звал на помощь – Безродов предусмотрительно закрыл все возможные двери, чтобы избежать лишних вопросов. Через час Эдуард, так и не дождавшийся помощи и значительно растративший духовные и физические силы, смирился со своей участью и двинулся во тьму тоннеля.
Меж тем менее наивный Свиристелов, который прочувствовал сущность майора гораздо лучше, и всю историю с Клецкой наблюдавший отстраненно и как бы равнодушно, выйдя из подвала, чинно распрощался с остальными и, несмотря на уговоры Чайкиной и психологическое давление Безродова, отправился в восточное крыло. Столичный идеолог тщательно осмотрел свои комнаты, запер биометрический замок и принялся в одиночку осушать две бутылки аргентинского мальбека, специально припасенные им на случай меланхолии.
Остальные отправились в гостиную, по просьбе Смюрдоффа, панически боявшегося оставаться в одиночестве, завернув в уборную. В сам туалет – хоть и не без тревоги – финансист отправился в одиночестве. Справив свои потребности, пошел помыть руки. И встал у раковины как вкопанный. На зеркале чем-то вроде черного маркера было выведено «Тартария будет свободной и великой», а внизу подпись «Царь-борщевик».
– Прекрасно! Просто великолепно! Это именно то, что я ожидаю увидеть в особняке цивилизованного человека! – воскликнул Смюрдофф, забыв даже про страх.
Он так рассерчал от незначительной надписи, что не нашел ничего лучше, чем попросту стереть надпись ладонью. Причем сделал это так неаккуратно, что субстанция, при помощи которой была выведена надпись – оказалось, что она напоминает пыль или мелкие песчинки – насыпалась ему в рукав. Плюнул, выругался, небрежно помыл руки и вышел к своим спутникам. Произнес с ноткой укора в голосе:
– Знаете, когда я был на востоке, видел там множество статуй и барельефов, изображающих один и тот же сюжет. Теперь он очень распространен в тех краях. Выглядит все это так. Некий андрогин – в ряде вариаций и вовсе андроид – с завязанными глазами размахивает огромным, неимоверных размеров мечом. От местности к местности исполнения сильно разнятся – где-то меч обрушивается на толпу, где-то на этакое «дерево жизни». Туристы думают, что это местный аналог Фемиды, но на самом деле это памятник Прогрессу, слепому и беспощадному. Это они пытаются осмыслить последствия модернизации. Забавно, не находите?
– Что же тут забавного? – спросил Безродов.
– Все страны, кроме Тартарии занимаются рефлексией, – ответил Мэтью. – Не всегда успешно, разумеется, но все же. А Тартария рефлексию лишь имитирует. Вот что забавно! Шовинистский народ с имперскими амбициями! Хорошо хоть у руля стоят люди более или менее цивилизованные, которые этот сброд держат в узде.
– Господин Смюрдофф, только что Надюша умерла. То ли совершила самоубийство, то ли была убита. А вы тут черт пойми о чем разглагольствуете! – ответила Чайкина.
– Вы бы так не говорили, если бы увидели послание, которое сторонники борщевистов оставили в туалете!
– Где?! – воскликнули в один голос чиновница и серый человек.
– Я его уже стер. Там было написано «Тартария будет свободной и великой» и подпись «Царь-борщевик». Так-то! Видимо, не только дикие борщевисты у вас безумны, но и все остальные. Буду знать, если кто-то еще скажет мне про диалог с тартарским народом.
– Вы дурак, Мэтью! – рявкнул майор. – Там мог быть яд или черт пойми что еще. Молитесь, чтобы вам повезло.
Финансисту сразу же расхотелось продолжать тираду. Слово «яд» вытеснило все остальные мысли, и мужчина лишь пробубнил что-то невнятное. Безродов проверил туалет, но по делу ничего не нашел. Чайкина попыталась списать все на детей домработницы, и троица отправилась в гостиную. Веселиться или даже просто говорить уже никому не хотелось. В тяжком молчании сели они в кресла. А Смюрдофф и вовсе принялся горевать. Тайный ипохондрик, он искал у себя признаки отравления: то необычными казались ощущения в боку, то слишком быстрым сердцебиение, то чудилось, что ему тяжело сглатывать слюну. Смотреть на свое тело Мэтью не отваживался. В конце концов, он принял антидепрессант, закрыл глаза и начал глубоко дышать.
Зато не унывал в восточном крыле столичный идеолог. Когда первая бутылка вина опустела, Свиристелов понял, что пить вторую в одиночку не желает, а возвращаться к Безродову опасается. Так, журналист принялся искать собутыльника в собственных апартаментах. Он выбирал между своим отражением и портретом Мирабо, когда случайно заметил бюст Радищева на старом буфете красного дерева.
– Вот так встреча! – радостно воскликнул Свиристелов.
Журналист перенес бюст на стол, аккуратно вытер его рукавом рубашки, поставил перед ним второй бокал и налил туда бордового цвета напиток.
– За правду! – прогремел он.
– И как я пить буду? – ответил на это бюст, и Свиристелов упал со стула.
Поначалу столичный идеолог подумал, что допился до белой горячки, пару раз ударил себя по щекам и ущипнул за кожу. Но бюст Радищева не угомонился и произнес:
– Ну что вы, милейший, сразу падаете? У меня же нет рук!
Свиристелов еще раз осмотрел бюст, дабы убедиться, что это не видение и не голограмма, принялся искать признаки электроники, но когда бровь из холодного камня недовольно нахмурилась под его теплыми пальцами, лишь удивленно промолвил:
– Как вас, Александр Николаевич, в эти края занесло?
– Да вы же меня сами только что с буфета сняли! Лучше помогите промочить горло. Я с тысяча восемьсот второго не пил.
– Что так?
– Да как-то противно было, знаете ли.
Свиристелов поднес к губам бюста бокал. Вино Радищеву не особо понравилось, – в его годы Новый Свет в чести не был – но свои полбутылки все же выпил. А выпив, принялся укорять идеолога:
– Что же вы не по чести живете? Что же придумываете всякие глупости, чтобы народ несчастный одурачивать? Неужто не испытываете чувства долга перед Отечеством?
– Знали бы вы, Александр Николаевич, как тяжко мне живется! Выбора у меня особого и нет. Допустим, я правду начну говорить – меня же на первом столбе повесят. Либо одни, либо другие. Да и народ наш темен, не образован, проникнут рабской ментальностью.
– Не вашими ли стараниями, дорогой мой?
– Не только моими! Это азиатская народная сущность пробивается, сформированная еще древним игом. Да и о каком Отечестве может идти речь, если Отечество наше давно на куски разодрано, распродано и разным царькам в личное пользование отдано? Знай себе, плати оброк и повинуйся тому, кто сверху.
– Слушаю я вас и понимаю, что большая часть ваших бед от того, что не понимаете, кто вы есть на самом деле!
– Мы в смысле лично я?
– И лично вы, в том числе. Раз уж мы так удачно встретились, давайте сыграем в игру.
– Мне уже страшно, Александр Николаевич.
– Да не бойтесь. Я – человек чести, в отличие от вас. Игра не смертельна. Более того, это даже не больно. Я задаю вам вопрос: кто вы есть? Отвечаете неправильно – пьете, как вы говорите, штрафную рюмку. Попыток три. Водка в буфете.
Какое-то время идеолог колебался. Но в итоге любопытство пересилило опасения, и Свиристелов достал из буфета серебряный поднос с тремя серебряными же рюмками, стоявший около загадочного вида бутылька. Про себя отметил, что поднос – дорогая и утонченная вещица: на нем были изображены жутковатые сцены с шестого круга дантовского ада.
– Итак, кто вы есть? – спросил Радищев, когда идеолог присел.
– Тартарец! Гражданин Тартарии.
– А борщевичные люди граждане Тартарии?
Журналист улыбнулся и промолчал, как бы давая понять, что не поддается на провокации. А бюст продолжил:
– Современная Тартария – это финансовый проект по утилизации отходов и добыче природных ресурсов. Какова во всем этом идея Тартарии? Что стоит за вашей спиной, когда вы опираетесь на идею Тартарии? Что осталось от вековой миссии, кроме сказок пропагандистов? И главное, связываете ли вы свою судьбу с судьбой Тартарии?
Свиристелов опустил к низу уголки губ, усмехнулся и опрокинул рюмку.
– Хороша, – прокомментировал. – Тогда я – журналист, политтехнолог.
– То есть вы лишь набор возможностей, функций и умений, которыми ограничивает вас профессия? Эдакая шестеренка в дьявольской машине общества? И только? Пейте и давайте последний вариант.
– Тогда я – человек и родина моя – весь мир, – произнес идеолог, довольно улыбаясь. – Угадал?
– Это еще что? – в край возмутился Радищев. – Сказать «я – человек» все равно что сказать «я – примат». Что значат столь абстрактные понятия человека и человечества? Единого человечества нет, но есть множество групп, борющихся друг с другом. А внутри них есть еще более малые группы и так далее до отдельного индивида. А глубже индивида копнешь, так и вовсе в метафизике, в архетипах увязнешь. Так что за словом «человек» можно скрыть все что угодно. Отвечая на вопрос «кто я?» стоит искать ту глубинную сущность, что делает вас человеком и личностью.
– И каков же тогда правильный ответ? – Свиристелов допил последнюю рюмку.
– Аз есмь сущий, – ответил бюст. – Вы есть существо, наделенное волей и причастное к этому миру. Вы не ограничиваетесь ни эмоциями, ни слепой рассудочностью. Вы не ограничены элементарными законами выгоды и рациональности. Вы есть существо, способное делать выбор и нести всю тяжесть его последствий, а не робот, связанный по рукам и ногам написанной кем-то программой. Вы – субъект!
– Это когда вы к таким выводам успели прийти, Александр Николаевич?
– Уж было время подумать. Вы бы тоже порой задумывались над тем, что делаете. Та же Тартария – это результат деятельности вполне конкретных людей, а не что-то данное раз и навсегда.
Свиристелов устало махнул рукой и понес рюмки с подносом, чтобы убрать в буфет. По пути упал, – настолько он был пьян – поднялся и хохотнул. Но убрав поднос, не закрыл дверцу, а достал оттуда странный бутылек, который заметил ранее. Пузырек был полон бесцветной жидкости неизвестного происхождения, а на дне его лежал какой-то ключ. Впрочем, не какой-то. Идеолог открыл крышку и попробовал вылить содержимое, но жидкость словно застревала в горлышке. «Одно из многочисленных умных устройств, которые препятствуют пролитию» – подумал Свиристелов, а вслух произнес:
– Что это за жидкость?
– Тоже водка. Но уже моя. Вам не рекомендуется, – ответил Радищев недовольно. – Лучше оставьте и проспитесь. Утром дом откроют ваши слуги.
– А что на дне? Что за ключик?
– Ключ от ада, я могу предположить.
– Знаете, я уже видел этот ключ. Он ведь открывает сейф Чайкиной. Сейф, в котором лежит один очень интересный документ, содержание которого хотел бы знать не я один, – сказал идеолог. – Мистические дела творятся в этом доме! Но ничего, мать меня с детства учила, что из всего можно извлечь выгоду. Тем более из сил стихии, слепых и безрассудных.
– На правах литературного классика и аристократа я призываю вас не доставать ключ и не пить эту жидкость! Просто ложитесь спать!
Свиристелов заливисто рассмеялся и хлопнул в ладоши. Он поднял пузырек как стопку и громко произнес:
– За вас, Радищев! За вашу честность, которая не ведет никуда! И за ваши наставления, не нужные никому, кроме древних!
Идеолог осушил пузырек залпом и вытряхнул ключ на ладонь. Это и правда был ключ от сейфа. Но что-то пошло не так – будто огонь разливался вниз ото рта через пищевод к желудку. Страшная боль пронзила внутренности журналиста.
– Это не водка! Ты соврал! – прохрипел Свиристелов, хватаясь за брюхо, которое будто выгорало изнутри.
– Водка, просто царская.
Ревя, словно раненый медведь, спотыкаясь и падая, но не выпуская из рук злосчастный ключ, бросился Свиристелов прочь из своих комнат. Вместо крика о помощи из его рта доносился странный звук, – нечто между хрипом и бульканьем – и когда он, уже издыхая, упал у входа в гостиную, то ничего не смог объяснить ошарашенным людям, выбежавшим на помощь. Смюрдофф обомлел и сделался белее снега, Чайкина закрыла лицо руками, и лишь Безродов еще сохранял спокойствие.
Майор проверил состояние идеолога, быстро сделал вывод о химическом ожоге, достал пистолет и бегом бросился в комнаты страдальца. Здесь он не нашел ничего необычного. Лишь бюст Радищева был зачем-то поставлен на стол, а губы мыслителя приняли странный фиолетовый оттенок. Словно каменное изваяние только что пило вино. Отбросив фантастические версии и, второпях обыскав комнаты Свиристелова, майор вернулся обратно ни с чем. Журналист меж тем уже пускал пену изо рта и дергался в ужасающих конвульсиях.
– Как же помочь? – бегала вокруг Чайкина.
– Его не спасти. Еще пара часов страданий и ваш журналист – труп, – произнес майор без тени эмоций. – Если не облегчить участь уже сейчас.
Финансист понимающе кивнул, а чиновница разразилась рыданиями. Раздался выстрел. Свиристелов отошел в мир иной.
Итак, в доме было четыре трупа и никакого понимания, что происходит. Если гибель Надюши еще можно было списать на случайность, то смерть идеолога убедила троицу в том, что кто-то на них охотится и делает это особо изощренным способом. Безродов лихорадочно прокручивал в голове самые различные версии и не мог остановиться ни на одной. Финансисту же и вовсе становилось не по себе, хотя признать это он боялся.
– Это было зажато у Свиристелова в руке, майор, – тихо произнес Мэтью, когда Галина Андреевна успокоилась, и показал ключ от сейфа. – В сумочке мы проверили. Там пусто. Так что этот ключ – оригинал.
– А что с сумочкой?
– Повреждений нет, – ответила чиновница. – Биометрический замок не открывался с тех пор, как я после сделки положила туда ключ. Я проверила.
– То есть ключ просто утек? Испарился? – Безродов оскалил зубы так, что ей стало жутковато. – Госпожа Чайкина, это ваш дом! Это вы его обустраивали! И вы настаивали на том, чтобы сделка прошла именно здесь. И это ваша прислуга пыталась поджечь дом!
– Вы хотите сказать, что я намеренно это подстроила? И Надюшу, с которой работала многие годы, тоже я подставила?
– Возможно, ваша прислуга, которую вы устроили по протекции. Мы же всех проверяли и знаем эту историю.
– Всех проверяли, а на выходе вот это вышло! – закричала она. – Зачем мне это? Мне, главе города, состоятельному человеку, заслуженному чиновнику!
– Отсутствие понятных мне мотивов – это единственное, что вас спасает, Чайкина. А еще подозрение, что в дом проник диверсант. А вот как он проник – из-за чьей-то халатности или же по злому умыслу – это вопрос поинтереснее.
– А вы что молчите, Мэтью? Поддержите же меня! Вы мужчина или кто? –чиновница постепенно впадала в истерику.
– Понимаете ли, Галина Андреевна, мне последние полчаса как-то особенно нездоровится. И я не знаю, что это такое.
– Что с вами? – обеспокоенно спросил майор.
– Слабость и тело, почти половина тела странным образом немеет около кожи. Я даже не знаю, как описать. Будто тебя кусает целый рой пиявок. И немота распространяется, распространяется, распространяется…
– Быстро раздевайтесь!
Мэтью скинул пиджак, портупею с пистолетом, снял наконец рубашку и посмотрел на свою кожу. Обомлел. Огромная часть кожного покрова была поражена непонятным грибком, распространявшимся так быстро, что это было видно невооруженным глазом. По краям, в тех местах, куда грибок только приходил, его цвет был болезненно-белым, как цвет погребального савана, но ближе к эпицентру становился все краснее и краснее.
– Знаете, грибы этой плесени похожи на маленькие такие борщевички. И они напиваются моей кровью, – проговорил Смюрдофф негромко, разглядывая свое тело безучастно, словно это были не его руки, грудь и живот, а какой-нибудь террариум с экзотическими гадами. – Видимо, надпись, которую я стер, была выложена их спорами.
– Я слышал про похожую болезнь. В наших кругах ее называют компрадорит, – шепнул Безродов на ухо чиновнице. – Правда, распространена она была в двадцатом веке преимущественно в латиноамериканских и африканских странах. И поражала жертву гораздо медленнее.
– Последствия модернизации? – беспомощно спросила Галина Андреевна.
Оцепенение финансиста продолжалось недолго и следующие десять или пятнадцать минут превратились в ужасную агонию умирающего. Чайкина просто-напросто спряталась в шкаф, майор же наблюдал с почтительного расстояния, периодически подбадривая Смюрдоффа тем, что тот обязательно будет отмщен. А бизнесмен катался по полу, вместе с кожей срывая с себя глубоко въевшуюся плесень, пальцами давил грибок, белые шляпки которого от впитанной крови быстро становились ярко-алыми. Однако на месте раздавленных вскоре появлялись новые и обратно отвоевывали утраченные территории, логикой своего развития уподобляясь каким-нибудь нефтяным компаниям. Словно держатели неких дьявольских активов, подгоняемые невидимой рукой рынка, грибы стремились освоить все новые и новые территории на теле Смюрдоффа и выкачать из них всю жизненную силу. Паразиты впрыскивали под кожу что-то вроде анестетика, так что ужас, поразивший финансиста, был гораздо сильнее его физических страданий. В конце концов, крови в его сосудах осталось слишком мало, чтобы продолжать жизнедеятельность. Беспомощно подергавшись на полу, Мэтью Смюрдофф – он же Матвей Смердов – финансист, предприниматель и прогрессивный деятель в последний раз вздохнул и провалился в пучину небытия. На банковских счетах он оставил миллиарды долларов, а на отполированном паркете – литры крови.
Бесславная кончина Мэтью расставила все точки над i. По крайней мере, для Безродова. Он окончательно пришел к выводу, что во всем повинны борщевичные дикари и решил, что живым им не дастся. Единственно верным планом он находил тот, который предполагал уничтожение противника.
– Я ничего не понимаю, – надрывно верещала Чайкина. – Как такое вообще возможно?
– Значит так, слушай сюда, – прорычал майор. – Доставай из сейфа договор и держи рядом с собой. Если войдет неизвестный, кричи что есть мочи. Все поняла?
– Не оставляйте меня, майор! Умоляю!
– Все поняла?
Чайкиной не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться. Она вытерла размазанную тушь, достала из сейфа договор и села на краешек стула, готовая к тому, что в любой момент окажется один на один с каким-нибудь хтоническим чудищем. А Безродов, вооруженный пистолетом и клинком, отправился обыскивать особняк. Этаж за этажом, комнату за комнатой, метр за метром.
Чайкина не могла удержаться и тряслась от страха, Безродов с трудом удерживался, чтобы не начать трястись от ярости. В своей голове он уже составлял план расправы над борщевистами, которых встретит. Обследование особняка продолжалось долго, раза три майор даже натыкался на Ильназ, искавшую сына. Завидев серого человека, та быстро убегала прочь. И все же, никаких следов диверсантов майор так и не нашел.
Итак, Безродов уже устал и почти разочаровался в поисках, когда произошло нечто странное. Что-то, что он не мог – да и попросту не желал – объяснять. Это произошло в одной из полупустых комнат на третьем этаже. Стены в ней были еще не отделаны, а из мебели присутствовал лишь стул да почерневшее от старости зеркало. Прямо из этого-то зеркала и вывалился на Безродова голый по пояс мужчина. Поначалу майор слегка испугался и выпрыгнул из комнаты, но быстро сообразил, что странный пришелец то ли находится без сознания, то ли пребывает в гипнозе неизвестной природы. Осмотрев человека, Безродов возликовал.
Перед ним лежал беспомощный дикарь-борщевист со всеми характерными признаками: бледной кожей и мятного цвета глазами. Правда, без бороды. Сердце майора билось все чаще и чаще в предвкушении садистско-некрофильского экстаза. Безродову было наплевать, может ли он что-то узнать от пленного. Безродовым двигала исключительно жажда расправы. Майор привязал мужчину к стулу и отправился вниз, в кладовую за инструментами. Когда вернулся, жертва уже пришла в себя.
– Да ты знаешь, кто я? – выкрикнул борщевист с вызовом, едва дверь открылась.
– Ага, а как же? – Безродову даже понравилось, что тот сразу начал выкобениваться.
Майор медленно обошел жертву так, чтобы та разглядела и серую форму, и молоток, зажатый в его руке. На лице пленного возникла помесь недоумения и страха, и перед тем как молоток опустился на его колено, лишь успел жалобно вскрикнуть:
– Подождите, я такой же, как вы!
– Мне плевать, что ты знаешь. Буду честен с тобой. Я делаю это ради удовольствия, – произнес Безродов и гнусно усмехнулся.
Нет смысла описывать все низкие и отвратительные способы, которыми заплечных дел мастер истязал свою жертву. Нет смысла рассказывать о чинимых палачом пытках, которые во все времена допускали в отношении беспомощных людей лишь отъявленные изверги и колониальные распорядители. Первые – из-за морального уродства, вторые – потому что не могли воспринимать туземцев за людей. Укажем лишь, что когда изувер перерезал связанному горло, тот был столь измучен, что не мог кричать.
Пытая, серый человек так вспотел, что скинул с себя и китель, и рубашку. Лишь закончив и вытерев со лба испарину, майор Безродов пригляделся к лицу замученного и произнес, насмешливо опустив уголки губ: «А правда похож, чертяка!» Сходство настолько заинтриговало, что серый палач даже пододвинул стоявшее рядом зеркало. Впрочем, его всегда удивлял даже факт, что у тех, кого он считал за «недочеловеков» было две руки и два глаза. А допущение, что хоть кто-то из дикарей может быть похожим на человека его положения, и вовсе воспринимал как оскорбление.
Безродов смотрел на отражение, поигрывал окровавленным ножом и ухмылялся. А зеркало чернело, и время с пространством с каждой секундой все больше напоминали пластилин. Майор проваливался во тьму, как проваливаются в сон.
Очнулся он в той же комнате, где и был, только теперь на стуле сидел он. Трупа рядом не было. Вдобавок майор сам оказался раздет до пояса и к тому же привязан к стулу. Черная ярость вскипела в его груди и подступила к горлу. Когда дверь сзади скрипнула, и кто-то вошел в комнату, он выкрикнул, не раздумывая:
– Да ты знаешь, кто я?
– Ага, а как же? – ответил странно знакомый голос.
Человек обошел майора кругом, и Безродов увидел на незнакомце знакомую серую форму. В руке неизвестный сжимал молоток.
– Подождите, я такой же, как вы… – начал Безродов растерянно, но тут же получил удар по колену.
Что-то в ноге хрустнуло, что-то треснуло. От боли в глазах потемнело.
– Мне плевать, что ты знаешь. Буду честен с тобой. Я делаю это ради удовольствия, – усмехнулся незнакомец, и Безродов наконец рассмотрел его лицо.
Словно из зеркала на майора смотрел он сам. Лицо незнакомца было лицом Безродова. Казалось, тело отделилось от майора и теперь жило отдельной жизнью. Все самое презренное, что было в Безродове, теперь глядело на него как бы снаружи. Серый человек вновь посмотрел в темное зеркало, единственного свидетеля расправы над беззащитным человеком, не понимая, как могла случиться дьявольская метаморфоза. Увы, фарш не провернуть не обратно.
– Это какая-то ошибка! Я – это ты! – успел прокричать он перед тем, как новый удар обрушился на уже раздробленную ногу.
И когда через какое-то время нож перерезал горло Безродова, палач, уже неотличимый от жертвы, разглядел единственный способ разорвать замкнутый круг мучений в скорейшей смерти обоих.
Одновременно с тем разворачивался финал другой трагедии. В подвале искала последнего живого сына домработница, а он – наивный и малоумный – в свою очередь искал тайник старшего брата. И даже зная, где находится схрон, нашел не сразу – тот был спрятан за несколькими слоями кирпича и завалами стройматериалов в части строения, еще не тронутой реставрацией. Тайник представлял собой небольшую пещерку, в которую еще следовало как-то пролезть. А пролезть было совсем непросто. По крайней мере, взрослый человек точно бы не смог. Но мальчишке удалось. Внутри Замам обнаружил скудный набор из околорелигиозных брошюр, нескольких заточек, финского ножа, двух фонариков, пистолетного патрона, а еще маленькой деревянной коробочки. Ее он и открыл. Внутри, надежно обложенная ватой, лежала старая граната, вроде тех, что использовали в конце двадцатого века. Ребенок осторожно взял боеприпас в руку и вылез наружу.
В подвале воняло сыростью, местами капала вода, а каждый шаг отдавался гулким эхом. Убитая горем Ильназ несколько часов бродила по темному особняку, а теперь исследовала подвальные помещения. Чем дольше она ходила по дому, тем явственнее чувствовала, что он словно обладает собственной волей. Волей грозной, сумрачной, дионисийской, иррациональной. Дом будто смотрит, взирает на своих гостей, причем не столько на их внешность, сколько внутрь, заглядывая вглубь больных душ. Конечно, Ильназ не углублялась в размышления о сущности здания, а скорее чувствовала все это интуитивно.
А еще она чувствовала, что сын где-то рядом. Иногда матери казалось, будто слышно его прерывистое дыхание. Ильназ была уверена, что ребенок прячется поблизости и долго наворачивала круги около одного и того же места. В итоге Замам сам окликнул мать.
– Я боюсь, мама, – произнес мальчик, медленно выходя из неприметного темного угла.
Но что-то с ребенком было не так. Личико его было заплакано, одежда порвана, сам он – чумаз и весь в пыли. И что-то держал в руке.
– Что у тебя в руке, Замам?
– Это граната, мама. Не моя. Ильшата.
Сердце Ильназ ушло в пятки. Такого ей не снилось в самом жутком кошмаре.
– Отдай, отдай сынок, – и она сделала робкий шаг навстречу ребенку.
Ильназ медленно приблизилась, осторожно взяла руку сына и потихоньку разжала, медленно сняв палец со скобы. Заплаканный ребенок отпустил гранату и всхлипнул.
– Молодец. Молодец, милый мой, – выговорила Ильназ тоже сквозь слезы.
– Но мама…
– Что, сынок?
– Я уже выдернул чеку.
Взрыв оторвал Ильназ руки и нашпиговал ее грудь и живот целой уймой острых осколков. От Замама и вовсе осталась лишь кровавая каша. Так, неистовый нрав старшего сына погубил в итоге всю семью. Целую семью со своими надеждами, мечтами, традициями. Что послужило скрытой причиной поступков Ильшата так и останется тайной. Кто-то может сослаться на личную волю подростка, кто-то укажет на жестокую идеологию и гормональный взрыв, кто-то и вовсе будет рассуждать об исторической логике. Найдутся и те, кто обвинят злой и негостеприимный особняк, восстановленный Бородиным. Так или иначе, разрозненные фрагменты сложились в мозаику, разобрать которую уже не представляется возможным.
А громоподобный звук был слышен в каждой комнате особняка и чем дальше от эпицентра взрыва, тем – вопреки всем законам физики – сильнее. Стены дрожали, штукатурка сыпалась с потолка, со стен падали картины и гобелены. В одной из зал лишь неизвестно откуда взявшийся здесь портрет Талейрана смог удержаться на стене. Кусая ногти, то рыдая, то матерясь, в ужасе и отчаянии вскочила с дивана и бросилась наворачивать круги по гостиной Галина Андреевна Чайкина. Из-за слез текла тушь и покраснел нос. Помада на губах размазалась, взлохмаченные волосы развевались при каждом резком движении.
– Господи, что же это происходит такое? Чем же я это заслужила? За что мне это все? – чиновница металась по комнате как загнанный зверь в тайной надежде, что кто-то невидимый и всемогущий услышит ее стенания и посочувствует. – Тем, что всем помогала? Что о сиротах и старушках пеклась? Что ночи бессонные о немощных думала?
Решено! Надо бежать. Бежать и молить о спасении. Галина Андреевна сменила каблуки на кроссовки и бросилась прочь из гиблого места. Пусть все двери и окна заперты, но она вдруг вспомнила, что на чердаке вроде бы оставалось одно крохотное не застекленное оконце. Или не оставалось? Впрочем, другого выхода не было. И пусть по крыше, по опасной и скользкой черепице, рискуя свалиться вниз, но еще можно было выбраться из проклятого дома.
Залы, коридоры, лестничные пролеты. И, наконец, черненькая, закопченная, годами не мытая дверь на чердак. Едва чиновница потянула на себя ручку, ржавые петли натужно заскрипели, и перед ее взором открылось пыльное и мрачное помещение. Окно грязное настолько, что потеряло прозрачность, пришлось поискать. Но усилия были вознаграждены. Чайкина отщелкнула задвижку и в лицо ей ударил поток воздуха, всколыхнул и без того растрепанные волосы и вдохнул в сердце новую надежду. Проем был узок, но чиновница могла пролезть. Она была спасена. Долгожданный выход располагался на расстоянии вытянутой руки. Стоило лишь решиться.
Ни на что она, разумеется, не решилась. Галина Андреевна помрачнела, громко и смачно выругалась и повернулась кругом. В гостиной остался чемоданчик со всеми документами по вчерашней сделке. Просто поразительно! Ведь обладая изумительной памятью, за последние пять лет она не забыла ни об одной назначенной встрече, наизусть знала свой график на две недели вперед и даже секретаря держала исключительно ради статуса. Просто поразительно! Пару минут постояв в растерянности, чиновница все же решилась. Подперла каким-то хламом дверь на чердак и бросилась обратно в гостиную, прокручивая в голове шарманку о своей непорочности, рассчитанную единственно на Бога.
Бежала долго, задыхаясь и еле слышно, себе под нос, матерясь. Перенервничала, не там свернула, в итоге заплутала и еще долго бродила по восточному крылу. Наконец, вышла к нужному месту. По крайней мере, ей так показалось. Резким движением отворила дверь комнаты и ворвалась внутрь. Увы! Галина Андреевна стояла не в теплой и светлой гостиной, а в сырой коморке размером четыре на четыре метра.
– Твою мать! – воскликнула чиновница свирепо. Лицо ее исказилось, побагровело, и от бессильной ярости она заблажила: – А-а-а! Сволочи! Вы мне за это еще ответите! Я самолично сожгу этот вонючий лабиринт, снесу его экскаватором, еще и проедусь на бульдозере. А потом построю тут свой личный особняк! Нет, торговый центр в пятьдесят – нет, в сто! – этажей. Гады!
Выпустив пар, – в нее словно вселился бес – Галина Андреевна развернулась и дернула за ручку успевшей закрыться двери. Безрезультатно. Еще раз. Никак.
– Этого еще не хватало! – и она принялась что есть силы колотить и бить в дверь, дергать ручку и даже попыталась снять дверь с петель.
Все бесполезно. Чиновница оперлась о стену и, то крестясь, то матерясь сползла по ней вниз. Когда истерика закончилась, Галина Андреевна наконец огляделась. Невысокий потолок, отклеившиеся местами синие обои с инфернально-фиолетовыми вензелями и белесая, вся в пыли лампочка, еле освещавшая комнату тусклым зловещим светом. Посреди комнаты стояли металлический табурет и обшарпанный деревянный стол. На последнем – стопка бумаг и ручка на пружинке. К стене напротив входа был прибит большой черный ящик наподобие тех, куда спускают бумажные письма. Но вместо надписи «Почта» на ящике было выведено белой краской «Для жалоб». Чиновница поднялась и подошла к бумагам. Все они, кроме одной, были абсолютно чистыми и лишь на верхней напечатано: «Ты знаешь, что делать».
– И что делать? Жалобы писать? – она фыркнула и усмехнулась.
Веселье чиновницы закончилось, когда она почувствовала в кроссовках что-то холодное и мокрое. К тому же в комнате начинало смердеть помойкой. А все потому, что коморка медленно, но верно заполнялась водой, мерзко вонявшей отходами. Так, словно жидкость притекла сюда прямиком со свалочных гор.
Реакция Чайкиной была предсказуемой. Она метнулась к выходу, принялась колотить в дверь, браниться и звать на помощь. И лишь когда воды было уже по колено, бросилась обратно к столу. Сразу же встал вопрос: на чье имя писать жалобу? Будучи человеком практичным, написала одновременно и Богу, и дьяволу. Попросила прекратить подачу воды и откачать все обратно, а затем бросила в ящик «Для жалоб». Ответы последовали быстро – вылетели из той же щели прямо в лицо чиновнице. Первая инстанция заявила, что спустила вопрос вниз, вторая ответила, что займется Чайкиной чуть позже. Меж тем вода все прибывала и прибывала, и от зловоний у Галины Андреевны закружилась голова.
Понимая всю неординарность ситуации, женщина принялась жаловаться в самые необычные инстанции, нередко мифического или метафизического рода. Писала Галина Андреевна царю Соломону и в орден розенкрейцеров, гегелевскому Мировому духу и трем китам, на которых держатся материки. Написала даже Пушкину, в союз пионеров и на деревню дедушке. Безрезультатно. Отовсюду Чайкиной приходили одни отписки – то она неверно писала имя уполномоченного, то ее перенаправляли в другую структуру. Три кита, на которых когда-то стояло мироздание, как оказалось, убиты браконьерами и ни за что теперь не отвечают. От Пушкина и вовсе пришел издевательски похабный стишок. Хорошо еще, что не додумалась написать Маяковскому или Хармсу. В общем, черный ящик, особняк и сама жизнь словно насмехались над чиновницей.
В конце концов стол оторвался от пола и сделался чем-то вроде спасательного круга, за который держалась Чайкина. Она еще пыталась писать жалобы, но засунуть их в ящик на стене уже не получалось. Течением ее относило то к одной стене, то к другой, а в итоге даже из самого ящика для жалоб хлынула в комнату мерзкая черная жижа. Уже прижатая к потолку, Галина Андреевна возопила к небесам и перед тем как горькая и зловонная вода, разившая всеми тартарскими свалками одновременно, заполнила ее глотку, чиновница Чайкина услышала, как содрогаются стены, и доносится из каждой щелочки злой и грозный смех Серафима Серафимовича Бородина.
Так, в мрачном особняке не осталось ни одной живой души. Лишь правозащитник Эдуард Клецка брел где-то в потемках за километры от места, куда приехал утром прошлого дня. Темный тоннель давно кончился и теперь изрядно уставший мужчина ходил по странным темным помещениям, изнутри похожим на заводские цеха. Правда станков здесь не было. Зато наличествовали остатки расколоченных кроватей и столов, хаотично разбросанные предметы быта. К тому же все было покрыто толстым слоем пыли. Выглядело это так, будто когда-то давно тут прошелся ураган и с тех пор люди покинули злосчастные катакомбы. Местами проходы между помещениями были перекрыты завалами, и часто правозащитнику приходилось искать другой путь.
Надо сказать, что фонарь теперь работал с перебоями и часто мигал, пистолет Клецка где-то потерял, а нож выглядел в лучшем случае нелепой декорацией. Ни теней, ни звука капель, ни шорохов Эдуард Клецка уже не боялся. Внутренние переживания в первый час похода были столь сильны, что теперь мужчина сомневался, сможет ли он после своего приключения испытывать нормальные эмоции. А мысленно уже подыскивал себе психоаналитика и антидепрессанты на случай панических атак. В целом, внутри у него было пусто и глухо.
Так он и бродил. Нырнул в очередной проход, напоминавший вход в шахту, но, пройдя пару десятков шагов, вновь обнаружил непреодолимое препятствие. Вновь завал принуждал повернуть обратно. Клецка тяжело вздохнул и оперся спиной о стену.
– Вряд ли вы здесь пройдете, – раздался тоненький детский голос откуда-то из темноты.
От неожиданности Клецка вздрогнул и резко развернулся. В нескольких метрах от него стояла девочка лет двенадцати с молочно-белой кожей и мятного цвета глазами. Она глядела на него робко и с опаской, нервно теребя подол своего оборванного синего платьица.
– Почти все проходы завалило после взрыва. Знаете, они, – она показала пальцем вверх, – используют такие особые бомбы против катакомб. Внутри все погибает.
– Значит, взрослых тут нет? – только и нашелся спросить Клецка.
– Большинство погибло, а выжившие ушли.
– Как же ты тут выживаешь?
– Человеку, который пришел снаружи, это сложно объяснить. Если ты не выезжал никогда из столицы или из других городов, то никогда не поймешь, как выживают люди вроде нас. Но мне гораздо проще. Я здесь вроде хранительницы.
– Хранительницы чего? – спросил Эдуард.
Девочка не стала отвечать на этот вопрос. Она только пристально, с любопытством посмотрела в лицо Клецке и лукаво улыбнулась.
– Меня зовут… – и девочка выговорила труднопроизносимое слово, по звучанию напоминавшее старославянский язык времен какого-нибудь Аввакума. – Это значит «снова человек».
– Новый человек? – переспросил правозащитник.
– Нет, снова человек.
– Ладно, – Клецке было не до того, чтобы вдаваться в значение имен. – Лучше подскажи мне, как отсюда выбраться, раз все выходы завалены.
– Один все же есть, но с ним не все так просто. Там тоже кое-кто живет. Если хочешь, покажу.
И Клецка с девочкой – явно из борщевичных – отправились прочь от завала. Они прошли через несколько просторных зал, забрались вверх по длинной ржавеющей лестнице, и еще какое-то время петляли по тоннелю с торчащими из бетонных стен арматурами. Наконец, перед путниками замаячил просвет. Девочка радостно рассмеялась и бросилась вперед к тусклому свету, а Клецка остановился в нерешительности. Заряд фонаря почти кончился, а нож мужчина выкинул – иллюзий насчет своих сил он не питал, и считал, что оружие будет лишь провоцировать и нервировать того, к кому его ведут. Вздохнул тяжело, досчитал до пяти и решился, двинулся навстречу судьбе.
Там, где очутился Эдуард Клецка, не было ни ламп, ни прожекторов, ни факелов. Источником тусклого света оказались многочисленные яркие светлячки – синих, зеленых, красных оттенков – по замысловатым траекториям кружившиеся вокруг. Они плавно двигались по непонятным зигзагам и еле слышно жужжали. Клецка попал в эдакий подземный цирк, карстовую пещеру, напоминавшую огромную воронку, сужающуюся книзу. По краям ее спиралью тянулась узкая тропа, уходящая куда-то вверх, во тьму. А из самого дна воронки, совсем недалеко от места, куда вышел правозащитник, росло оно. Вернее, Оно.
– Ну, здравствуй, Эдуард Клецка! – раздался громоподобный нечеловеческий голос откуда-то сверху.
– Откуда ты знаешь мое имя?
– Так ли важно, откуда знает твое имя тот, кто знает все имена?
– Кто ты? Что ты? – от страха правозащитник упал на пол и отполз за огромный валун, теперь наблюдая говорившего из-за укрытия.
– Так ли важно, во что воплощаться? Но коли тебе угодно, зови меня Царь-борщевик!
То, что предстало перед Эдуардом Клецкой сложно описать словами. Циклопических размеров растение высотой никак не меньше двадцатиэтажного дома. С гигантским стеблем, охватить который не смогли бы и пятеро, и огромными листьями толщиной с человеческую ладонь, которыми Царь-борщевик имел возможность еще и двигать произвольно. Например, девочка, что привела сюда правозащитника, ни капли не испугалась и без тени сомнения запрыгнула на один из листов, который тут же унес ее куда-то наверх. Напрягая глаза, смог Эдуард Клецка рассмотреть и силуэты многочисленных зонтиков, спрятавшихся где-то под сводом пещеры. Рос Царь-борщевик из небольшого озера со светло-зеленой водой.
– Что вы хотите? Плоти моей отведать? – спросил Клецка у гигантского разумного полурастения-полуживотного высоким от волнения голосом.
– Не бойся, Эдуард Клецка. Если бы хотел я тебе навредить, неужто бы ждать стал? При моей-то силушке! Представь на минутку, сколько у меня семян, грозных детишек. Вот я как дуну, как плюну – и зарастет ваша столица вмиг, глазом моргнуть не успеете!
– Чего же ждете, Царь-борщевик?
– Солнышка жду красного. Как же на войну уходить, да на солнышко ясное не взглянуть ни разу? – хохотнул исполин. – Но я тоже хочу задать тебе вопрос, Эдуард Клецка. Не то, чтобы я не знаю на этот вопрос ответ, но я хочу, чтобы ты тоже подумал над этим. Я знаю, ты много печешься об угнетенных, заботишься о правах меньшинств. Но отчего же с таким презрением и равнодушием относишься к тем, кто вырос с тобой на одной почве, а теперь страдает на богом забытых окраинах? Не с твоей ли помощью власть загоняла тех, кто всем сердцем любит солнце и свет, в мрачные подземелья? Ведь это ты кричал, что они – непросвещенное быдло, которому нельзя давать свободу. Что твой народ не такой, каков якобы должен быть и не оправдывает твоих прогрессивных ожиданий.
– Это ложь! – крикнул Клецка возмущенно. – Я всегда ратовал за цивилизованную демократию.
– Демократию, в которой право голоса признается лишь за немощными и беспомощными, инфантильными и трусливыми? За теми, для кого государство служит костылем, заменяющим их отсутствующую волю? Демократия для рабов, посаженных в Паноптикон с роботизированными надзирателями? Такая демократия, которая настанет, когда на всех, кто в нее не вписывается, наденут ошейники и стерилизуют? Твой грех – лицемерие, Эдуард Клецка. Ты защищаешь тех, кого выгодно. И слишком зависим от одобрения, чтобы помогать тем, кто в этом по-настоящему нуждается.
– Я терпим не только к меньшинствам, я защищаю каждого угнетенного, который попадется на моем пути вне зависимости от его пола, нации, вероисповедания и политических взглядов.
– Но коли ты терпим ко всем, может и ко мне, и к борщевичным людям, и к простому тартарскому человеку тоже станешь терпим? Может, перестанешь народ как скотину какую презирать?
– Никогда не презирал и презирать не буду! У меня дед – рабочий, бабка – крестьянка. Я сам из народа!
– Может, и к борщевику ты терпимее станешь?
– Обязательно! – взвизгнул Клецка. – Я давно вам сочувствовал тайно, но репрессивный аппарат так всесилен и страшен, что в Тартарии слова поперек не скажешь! А так я всегда!
– Однако скоро ты осознал свою ошибку! Может, и к нам сразу присоединишься? – засмеялось чудо-растение. – Окунись трижды в водицу, что у моих корней и сделаешься одним из нас. Снизойдет на тебя благодать и не будут отныне страшны ядовитые соки борщевика. Станешь силен и крепок, смел и хитроумен. И не придется тебе идти против совести. Окунись же!
Мучаясь непростым выбором, правозащитник со страхом посмотрел на озеро с мутной зеленой водицей. С одной стороны, сам по себе Клецка был человеком податливым и к тому же очень боялся грозного Царя-борщевика – особенно после того, как тот принялся всерьез рассуждать о демократии. С другой стороны, стойкое неприятие самого явления борщевизма, – внутренний ментор укорял его за каждую мысль, которая могла как-то оправдать дикарей – и ощущение, что все в этом подземелье, да и вообще в Тартарии чуждо, неприятно, запутанно, иррационально, не давало согласиться на сделанное предложение. К тому же, Эдуард Клецка был не настолько глуп, чтобы связывать себя с периферийными движениями на обочине того, что он почитал за общемировой прогресс. Внутренне готовый к капитуляции перед гневом, правозащитник все же робко произнес:
– Я очень польщен вашей милостью, Царь-борщевик. Но мне бы только выбраться отсюда. Какой вам от меня прок? Отпустите, пожалуйста.
– И только?
– Всего-навсего.
– Твой выбор. Насильно держать не буду. Видишь тропу, что по спирали уходит наверх? Она и выведет наружу. Но как бы тебе не разочароваться в выбранном пути.
– Не разочаруюсь! – крикнул правозащитник и тотчас кинулся наверх.
Заручившись доброй волей Царя-борщевика, бросился Эдуард Клецка прочь из жуткого места. Он бежал по узкой тропе, круто уходящей вверх, с прытью, его годам и телосложению обычно несвойственной. Казалось, в правозащитнике проснулся дремавший десятилетиями атлет, и даже вываливающийся животик двигался в такт с остальным телом. Наконец, мужчина нырнул в узкий проход, спрятавшийся под самыми сводами.
– Зря вы уходите! – крикнула ему вдогонку девочка, до сих пор сидевшая на листе Царя-борщевика, но Клецка только отмахнулся.
Единственное, чего хотел измученный правозащитник, это скорее убраться подальше от сырых и темных подземелий, странной девочки и ужасающего Царя-борщевика в привычный мир светлых комнат, начищенных ботинок, постановочных судов и социологических исследований на гранты международных фондов. Туда, где он мог без труда делать себе имя на громких, но ничего не значащих заявлениях, защищая опальных олигархов и представителей недавно выдуманных меньшинств.
На ощупь пробираясь по длинной узкой пещере, что вела из царства хтони наверх, мужчина почувствовал легкое дуновение ветерка, которое принесло вместе с тем запах гари и помоек. От радости он едва не потерял рассудок, вдохнул ароматы полной грудью и стремглав кинулся вперед, в густые предрассветные сумерки. И пусть здесь воняло отходами, но зато все было просто и привычно.
Увы, не все, что кажется обыденным, на деле оказывается таковым. Клецка не сразу осознал, что очутился на склоне, зыбком и довольно крутом. Первые же шаги дались ему с трудом: земля словно уходила из-под ног. Он споткнулся, какое-то время пытался удержать равновесие, медленно сползая по склону, но все же не удержался и кубарем покатился вниз. Оказалось, что пещера вывела правозащитника к подножью очередной свалки, заканчивавшемуся обрывом. А под обрывом – как и по всей Тартарии – бескрайние заросли борщевика. Скользя вниз, мужчина пытался схватиться хоть за что-нибудь, но коварный склон был сыпуч. Так, правозащитнику не удавалось затормозить, но лишь увлечь за собой какую-нибудь рухлядь или пакет с мусором. И перед тем, как рухнуть, беспомощно барахтаясь в лавине отходов, в заросли борщевика, Эдуард Клецка увидел на горизонте красное марево пожаров и черный-черный дым, тянувший свои лапы куда-то к небу. Марево пожаров, которое во тьме вечной ночи заменяло вольным людям рассвет.
К счастью, ночь не может длиться вечно. Должен же однажды наступить день, который сбросит всепожирающие титанические силы в тартарары, установив, наконец, олимпийское царство света. Царство, где свобода будет не формальной, – в лозунгах и декларациях – а настоящей, живой и светлой, такой, которую можно потрогать руками. Царство личности, опирающейся на свою совесть и волю, а не тиранию жадно-прозорливого коллектива под прессом бездушных общественных институтов.
Утром из особняка не вышло ни души. И долго – до самого полудня – все шло как обычно, все шло как заведено. Самосвалы тянулись на свалки, серые люди в серой одежде обыскивали дома неблагонадежных элементов, кислотные билборды зазывали в многоэтажные супермаркеты купить ненужное никому барахло, а люди повиновались всем и всегда, смирно и без лишних вопросов. Но в какой-то момент произошло нечто невообразимое. Внезапно на улице стало светло. Ненадолго. Буквально на десять или пятнадцать минут. Дым над головами рассеялся и ошеломленные жители, тут же высыпавшие на улицу, увидели ослепительно белое солнце и непорочно-чистое голубое небо.
Кто-то улыбался, кто-то плакал, кто-то обнимал первых встречных, некоторые падали в обморок. Жители смотрели вверх и думать не думали, что скоро все изменится. Что борщевичные люди со всех краев необъятной Тартарии воспримут Солнце как священный знак, как великое откровение, как благоволение свыше. Что через три дня под треск пулеметов возьмут они с наскока провинциальный городишко Лжинск и объявят Первый борщевиковый поход на столицу. Что через полгода каждый третий бюрократ станет заявлять, будто всегда был тайным сторонникам борщевистов, а серые люди начнут заискивать, предлагая свои низкие и подлые услуги против вчерашних хозяев. Что через год Первый поход все-таки провалится, но настолько пошатнет тартарскую власть, что через пять лет уже Второй борщевиковый поход добьется своего. Что прорастут в сердцах человечьих семена суровой и воинственной вольницы. И что на Марсе однажды зацветет буйным белым цветом гордый гигант борщевик.
Но все это будет позже. А пока что над городом Лжинском впервые за многие десятилетия светило красивое и жестокое солнце Тартарии.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


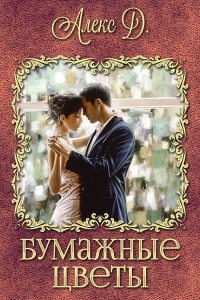








Комментарии к книге «Солнце Тартарии», Владимир Острин
Всего 0 комментариев