Бронислава Бродская ГРАФОМАН
Мгновение осознания своей бесталанности есть вспышка гениальности.
Станислав Лец.Гриша знал, что на улице тепло. Был конец мая, самая приятная на свете погода. Когда-то они пели «Погода шепчет: бери расчет…», и что-то там еще про Сочи. Грише хотелось выйти на улицу, пройти к стоянке и ехать домой, но как раз этого было нельзя. Он сидел на заседании кафедры, в небольшом помещении с наглухо закрытыми современными окнами. Ну да, он был вечным приглашенным, «визитинг» профессором, заменяя любого уехавшего в долгий творческий отпуск коллегу. Сначала, когда он только нашел эту работу, он был невероятно рад и горд за себя, считал, что ему повезло, и что со временем его возьмут в штат. Прошло 10 лет. Грише было за пятьдесят и он давно прекрасно понимал, что в штат его не возьмут, об этом нечего и думать. Он затыкал собой любые дыры, мог преподавать, все, что угодно, начиная с элементарного французского студентам-первокурсникам и кончая специальными семинарами для аспирантов. Пару раз он даже преподавал семинары студентам русского отделения, вынужденный по большей части говорить по-английски о горбачевской перестройке в культуре. Он пытался что-то сказать и по-русски, но это приводило только к необходимости себя переводить. В классе сидели семь странных ребят, побывавших в России, и надеющихся видимо постичь загадочную русскую душу, в существование которой и сам Гриша верил с трудом.
Университет заключал с ним контракт каждый год, и доктор Григорий Клибман был всем очень удобен, на подхвате, ни на что не претендующий, послушно уступающий свои классы и курсы другим. Гриша сначала переживал свое подвешенное состояние, но потом привык и даже находил в свободе некоторые для себя преимущества. Он, как и все, иногда публиковался, выступал на разных панелях, рецензировал диссертации. Выступать было не слишком трудно, читать работы тоже, а вот публиковал он только, если было что, если хотелось и было настроение послать статью в журнал. Хотелось этого ему все меньше и меньше, и для Гриши было просто замечательно не иметь перед кафедрой, или как здесь говорили «департаментом», никаких обязательств. Хочу — буду, не хочу — не буду. Ну их всех к черту с их околонаучной возней.
А насчет преподавания, то Грише было даже проще просто преподавать язык, пусть на любом уровне, хоть грамматику, хоть фонетику. Семинары требовали больше времени на подготовку и ему надоело по полтора часа «тащить за собой» студентов-«французов», которые иногда даже с трудом понимали «интегральные тексты». Болтать умели, а читать — нет. Гриша их за это презирал, но тщательно свое презрение скрывал. На занятиях он задавал умные вопросы, требующие чисто гуманитарной способности к интерпретации кристально понятного всем текста, но студенты преданно смотрели на него собачьими, все понимающими глазами и стыдливо молчали, и тогда Гриша с большим или меньшим энтузиазмом, испытывая смесь брезгливой жалости к «убогим» с привычной тоской, отвечал на свои вопросы сам. Текст они понимали в общих чертах, «кристального» понимания не было и в помине, а без этого литературный анализ был по определению невозможен. Когда-то давно Гриша возмущался, злился, даже разок в бешенстве покинул класс.
— А мы не понимаем — говорили ребята.
— Так поймите! Добейтесь! — бесился Гриша.
— А тут много слов, которые мы не знаем. — упорствовали студенты.
— Пользуйтесь словарем! Что значит вы не знаете слов?
Эти студенты жили во Франции, общались с французами. Они были глубоко уверены, что у них богатый словарный запас, и «заумные» слова и знать-то не надо. Тут не привыкли себя так уж напрягать ради сомнительный пользы. Гриша это понял и давно сдался. От семинаров по литературе по любому периоду он не отказывался, но заранее знал, что в классе к нему опять придут раздражение и презрение и ленивым бездельникам, которые были даже не в состоянии понять суть его претензий. Если надо было прибегнуть к словарю, слово впечатывалось в специальное окошко и компьютер переводил. Какой уж там был перевод … Многие студенты писали зачетные эссе по-английски, потом компьютер переводил текст на французский. Гриша сначала пытался читать абракадабру, потом просто просматривал, стараясь просто уловить смысл, не обращая никакого внимания на язык. Что проку было говорить студентам, что так нельзя. На уровне 3-го года обучения они все языком владели плохо. Сражаться с ветряными мельницами? Дон Кихот не был Гришиным любимым литературным героем.
Гриша давно уже не думал о тяготах своей преподавательской жизни. Ему было плюс-минус наплевать. Сейчас все преподаватели, человек тридцать, сидели за длинным столом, в торце которого восседал профессор Виктор Фернандес, специалист по испанскому средневековью, их теперешний зав кафедрой. Коллеги выступали, говорили подолгу, остальные что-то писали в блокнотах. Гриша видел, что собственно записей никто не вел, просто черкали в тетрадях от скуки, рисовали рожи, обводили какие-то орнаменты. С недавнего времени на кафедре было заведено делать презентации со слайдами. Выступающие передавали друг другу маленький компьютер, куда каждый вставлял свою флешку. Над столом висел проектор, последний выступающий забыл его выключить, и экран тускло светился голубым. Грише это жутко действовало на нервы. Что они проектор-то не выключили … сказать, что ль … нет, не стоит. Другие же тоже видят, но молчат. Он вообще не понимал, для чего коллеги использовали в выступлениях слайды. Не дай бог подумают, что ты не в ладу с современной технологией, то-есть устарел. Это была просто мода. На экране был написан текст, человек его зачитывал, как будто остальные не умели читать!
На исходе был уже второй час последнего заседания, где подводились итоги учебного года. Обычное выступление зав кафедрой: цифры … названия публикаций … проблемы … задачи … Потом директор аспирантуры бубнил про сроки подачи пропозелов, про новые требования к экзамену на степень магистра. Отчеты по предметам, обязательно, что прошло удачно, а что неудачно … Господи, какая тоска. Какой дурак будет правдиво говорить о своих неудачах? Да и сознавали ли коллеги свои неудачи? Вряд ли. Они, как правило, были всегда собой довольны, русское самоедство тут у людей отсутствовало. Планы публикаций на следующий год, трое сдают в издательства книги … статей … сколько-то, монографий … сколько-то. Гриша не мог сосредоточится. В суть явно никто не вслушивался, людей интересовал только факт публикации. Изданная книга была предметом зависти. Ну вот, все встрепенулись, профессор Мартинелли ездил в Рим на вручение ему премии за последнюю книгу, а профессор Хестер была на специальной встрече в Дюнкерке в рамках празднования годовщины открытия второго фронта союзниками. Она специалистка по литературе о войне «глазами очевидцев». Гриша уважал этих профессоров, они оба публиковались в Европе. Из тридцати человек было трое-четверо, которые действительно чего-то стоили, остальные были обычным болтливым и завистливым американским «фуфлом», при этом весьма довольным собой. Гриша спохватился: ну, что у него за манера всех судить и выдавать ярлыки! А они что о нем, русском подозрительном, думают? Да, насрать на них. Вот, вот, опять он в своем репертуаре … Зачем так думать? Гриша знал, что «незачем», но мыслей своих контролировать не умел. Что-то в последнее время ему слишком на многое «насрать». На коллег, на студентов, на преподавание … А на что не насрать? Нет, правда, интересно, на что? На семью? На свои публикации?
Гриша опубликовал в прошлом году статью в заштатном «Australian French Studies» об евреях в оккупации «Антижертвы террора». Литературные персонажи четырех романов представали не в привычной роли жертв, а в роли борцов. Три страницы … Гриша был собой доволен, но кого еще, хотел бы он знать, интересовала эта тема. Все рвались публиковаться, университет всячески поощрял часто публиковавшихся преподавателей, нельзя было получить постоянную позицию без серьезного числа публикаций. И все это из-за коэффициента Хирша, индекса цитирования, так, ведь, в современном мире оценивается ученый. Сколько кто-то в публикациях процитировал твои статьи и книги? Гриша знал, что его коэффициент «ноль». Да насрать. Ага, опять «насрать». Он не был о себе высокого мнения как об ученом, даже, получив докторскую степень в Америке, гордый, что у него это вышло, он всегда при этом думал о себе как о «профессоре кислых щей», не обманываясь насчет своего потенциала. Раньше надо было начинать научную карьеру. Впрочем, никаких особых сожалений о «несбывшемся» у него не было. Ни французский язык, ни литературоведение, компаративное в том числе, его больше не интересовали. Сначала показалось, что в Америке он получил возможность заняться тем, чем ему хотелось заниматься в брежневской Москве, но сейчас ему стало очевидно, что все это «не его». На литературоведение было «насрать» тоже.
В уши фоном лезла интеллигентная «академическая» речь коллег, понимать ее было нетрудно, но слушать никого не хотелось. Гриша знал, что у него на лице застыло внимательное доброжелательное выражение, губы в нужных местах автоматически растягивались в улыбку, он вместе со всеми смотрел на экран, вместе со всеми хлопал. На столе стояли стаканы и бутылки с минеральной водой. Пить не хотелось, но в коридоре-предбаннике конференц-зала стояли подносы с выпечкой, фруктами, нарезанный сыр, ветчина и большие термосы с кофе. Рано утром всем пришлось вместе завтракать, так тут было принято. Гриша сроду на завтрак не ел никаких пончиков, а тут съел два. Люди вообще почему-то жадно ели, поглощали булки, наливали кофе, соки, хватали с подноса кусочки фруктов. «Ой, как с голодного края …, что это на всех находит? Халява — это святое». Наблюдая людей, Гриша всегда внутренне улыбался, часто зло и саркастически, храня при этом «покер-фейс». Почему-то он был уверен, что и другие делают то же самое. Что там у них за этими добрыми светскими улыбками? Снова начинало хотеться есть. Вместо того, чтобы слушать тут всякую муть, он с удовольствием взял бы еще несколько кусочков колбасы или ветчины. Ему представились маленькие твердые виноградины, заливающие соком рот … Впрочем, еду скорее всего, уже убрали и девчонки-официантки доедают сейчас оставшиеся кексы. Да, ладно. Пора домой. Когда уже конец этой бодяге? Еще наверное минут двадцать и … здравствуй лето, за исключением шести недель «летней школы», где Гриша согласился преподавать интенсивный курс французского второкурсникам. Неохота, но от денег он отказываться не привык. Перебьется, ерунда. Маруся будет рада лишним двум штукам. Там и готовиться не надо, только глупости их проверять. Грише стало себя немного жаль, хотя … ничего.
Глаза его скользили по лицам. Фернандес кивает, все ерзают в креслах, видно, что люди устали. Сколько можно. Ага, наступает завершающая, наиболее неинтересная часть … про деньги. Сколько заработали, сколько потратили, сколько выделено дополнительно, что сократили, какова будет финансовая политика … Про деньги Грише было вообще до фени. На посещения конференции MLA выделяется … ему-то что. Никуда ему ехать не надо. Налить себе разве что водички? Ой, открытой-то нет. Придется открывать, бутылки уже не холодные, вода запенится и выльется на стол. Ладно, не стоит. Барбара сняла под столом туфли, и в воздухе немного запахло потными ногами. Гриша еле заметно поморщился. Когда-то этого было для него достаточно, чтобы перестать встречаться с девушкой. Потная дурно пахнущая девушка всегда была для них неприемлема.
Гришины глаза автоматически фиксировали жесты сидящих за столом людей. Вот Флоранс закинула руки за голову и потянулась, грудь ее округло обрисовалась под белым свитером. Ничего так у нее грудь, вполне. Евелина достала салфетку и приложила ее к носу. Раньше чуть шмыгающий нос его возбуждал, но … Евелина. Нет, увольте. Натали машинально залезла левой рукой в вырез блузки и поправили бретельку лифчика. Ага, вполне приятный жест, хотя … это тоже зависит от той, кто поправляет. Натали была «ничего». Хотя … черт их знает, этих «академических» теток. У Гриши таких не то, чтобы совсем никогда не было, но … мало, статистически недостаточно, чтобы делать серьезные выводы. Вот сделать бы хорошую выборку и написать статью «Индекс сексуальной референтности женщин гуманитарных профессий». Да нет, данных кот наплакал. Он мог бы использовать данные Валерки … у него их было скорее всего больше этих «натали». Валерка так любил умненьких гуманитарных девочек, всегда говорил, что они сто очков дадут «технаркам». Только с Валеркой можно было бы обо всем об этом порассуждать. Валерка бы врубился буквально сразу: гуманитарки — технарки, потом описания, конкретные случаи, сведенные в таблицы. Валера бы вывел формулу этой самой референтности. Они бы выпили, посмеялись только им одним понятному «приколу», сочинению таких вот воображаемых статей-шуток, где все было, как по правде, смесь гуманитарной и технической абракадабры. Только с Валеркой можно было так интеллектуально развлекаться: научная мысль и нешуточная методология на каком-нибудь сильно эротическом до скабрезности материале.
Гриша стал думать о Валере, мысли его совершенно переключились на прошлое. Он даже прослушал, что собрание закончилось. Все прощались, Гриша шутил, улыбался и всем желал «удачного лета». Как только он уселся в свою машину, улыбки немедленно стерлись с его лица, оно стало усталым и грустным, но контролировать свое выражение уже не было необходимости. Надо было ехать домой, где его сейчас никто не ждал. Маруся была на работе. Она работала на «продленке» частной французской школы, делала с ребятами уроки. Преподавать ее так и не пустили. В этой школе учителями французского могли быть только носители языка. Да и ладно. Ни Гриша ни Маруся уже давно не мучались никакими амбициями.
Дома Гриша достал из холодильника вчерашний салат и немного съел прямо из коробки, запивая соком. Маруся бы сразу стала его стыдить, что он, дескать, ест, как свинья. А вот Валерка бы никогда ничего не сказал. Они часто так с ним ели: из одной сковородки или на куске газеты. Они друг другу многое разрешали, почти всё, хотя в этом «почти» и было все дело. Гриша улегся на диван и прикрыл глаза. Хотелось спать, но он знал, что не заснет. Мысли о Валере не оставляли его, наоборот они оформлялись в строчки. Он писал о друге в своей голове, то-есть вспоминал о Валерке, не понимая, было ли все это с ними в действительности, или он сейчас по большей части придумывал мелькающие в мозгу эпизоды, рисовал их в своем воображении, сочинял диалоги. Сцена первая: два маленьких мальчика на площадке перед старой школой из желтого кирпича. Все строятся. Мальчики пришли в первый класс. Гриша уже мельком Валеру видит, не зная разумеется, что это Валера. Таких мальчиков много, они все похожи, но Валеру Гриша «видит» лучше, чем других, хотя на нём такая же, как у всех, форма, и такой же ранец. Не отдавая себя в этом отчета, Гриша начинает вспоминать от первого лица. Он — герой, маленький мальчик с выбритым затылком и небольшим каштановым чубчиком:
Через калитку мы входим в заполненный толпой школьный двор. Голоса, сливающиеся в гомон, играет музыка. Мы в растерянности останавливаемся, не знаем куда идти дальше. Я жмусь к родителям. Мама держит в руках мой букет из георгин, я отказываюсь его нести, и тем более дарить учительнице. Мне сильно не хочется этого делать, потому что мне кажется, что цветы таскают только девчонки. Папа не пошел на работу и сейчас открывает свой фотоаппарат. Посередине двора дети начинают строиться в колонны. Мама показывает мне на молодую тетю, которая держит табличку «1– Б». «Вот твоя учительница. Иди, милый, вставай с ребятами. Держи цветы, держи, держи, не дури. Отдашь их потом учительнице вместе со всеми.». Мама наклоняется и собирается поцеловать меня в щеку. Я уклоняюсь и она тыкается губами мне в макушку. Идти к ребятам мне совсем не хочется и я продолжаю стоять рядом с родителями. Мама подталкивает меня в спину. Я иду, в руке в меня большой несуразный букет, а за спиною коричневый ранец. Мама хотела купить мне портфель, но я настоял на ранце. Как я был прав, уже встав в строй и оглядевшись, я увидел, что у ранцы были почти у всех мальчиков, а у девочек портфели. Хорош бы я был, если бы маму послушал. Около нас встали взрослые ученики. Девочка-старшеклассница крепко взяла меня за руку. Я стою, как дурак, держась за ее руку, но вырываться не смею. Она нагибается ко мне, что-то спрашивает, вроде, как меня зовут и хочу ли я идти в школу. Вопросы меня раздражают, я вообще не хочу сейчас ни с кем разговаривать, но не отвечать ей я не могу. «Гриша», — угрюмо отвечаю я, оглядываясь на родителей, которых едва видно. Насчет «хочу ли я школу», я отвечаю «не знаю», понимая, что это глупо, но я действительно совершенно не уверен, хочу ли я в школу. Надо было сказать «хочу, но боюсь». Нет, это невозможно.
Немного впереди от нас стоит тот самый мальчик, который все время на меня оглядывается и заговорщицки улыбается. Я вижу, что это он именно мне улыбается и даже делает мне какой-то знак, что дескать … увидимся … потом … как будто он хочет мне что-то сказать, что сейчас не может. На крыльце взрослые что-то говорят в микрофон, я всё пропускаю мимо ушей. Снова заводят музыку, и мы заходим в школу. Я в последний раз оглядываюсь на родителей и вижу пристально смотрящих мне вслед маму и папу. Мама показывает мне пальцем на крыльцо, что мол, буду ждать тебя на этом месте, не бойся, а папа поднимает вверх кулак в приветствии «рот-фронт», дескать «все будет хорошо, прорвемся».
Мы входим в школу, где неожиданно темно и прохладно. Потом долго поднимаемся по лестнице, почти прижавшись к стенке. Перед классом останавливаемся, старшеклассники куда-то деваются, я не вижу, куда и когда они ушли, только потом замечаю, что мы одни перед дверью класса, учительница запускает нас вовнутрь по-двое: мальчика и девочку, сказав занимать крайний ряд у окна. Я тоже вхожу, пару свою я не помню, зато вижу в углу два ведра с водой. Туда велели ставить наши букеты. Наконец-то я избавляюсь от цветов, и мне сразу делается легче. Я сажусь к самому окну, а девчонка к проходу, она тоже хотела к окну, но я «не дал». У окна лучше. В углу большие счёты, они меня пугают. Насчет счёт у меня дурные предчувствия. Учительница уже стоит перед классом и я могу ее как следует рассмотреть. Молодое приятное лицо, одежду не замечаю, и если бы меня спросили, сколько ей лет, я бы ни за что не сказал. Молодая, моложе мамы. Маме тогда было 32 года, но для меня она уже не молодая. «Меня зовут Тамара Николаевна» — громко говорит учительница. «Кто ребята запомнил, как меня зовут» — обращается она к классу. Да что тут запоминать. Мы все бывшие детсадовцы сразу ее имя запоминаем. «Тамара Николаевна» — слышится со всех мест. «Нет, так не пойдёт. Нужно поднять руку …» — улыбается она. Понятно, в детском саду тоже так было. «Мой» мальчик сразу поднимает руку и чётко, ясно говорит: «Вас зовут Тамара Николаевна». Я же тоже знаю, как зовут учительницу, но руки не поднял. Не успел или постеснялся. Мы учимся вставать и садиться так, чтобы не хлопнула крышка парты. Интересное упражнение. Соревнуемся по рядам и наш ряд самый «тихий».
Гришин мысленный монолог внезапно прервался. Он перестал отождествлять себя сегодняшнего с тем маленьким мальчишкой-первоклассником. Голос учительницы замолчал в его голове. Как? Почему вдруг? Он не мог этого контролировать. Почти полвека прошло. Детали ускользают. Потом они что-то еще делали, и наступила перемена. Гриша узнал, что мальчика зовут Валера. А как это произошло?
Гриша видел стайки малышей в длинном школьном коридоре, никто никого не знает, хотя нет … учительница, ведь, со всеми знакомилась. Надо было встать и назвать свое имя. Ребята вставали, но ни единого имени маленький Гриша не запомнил. Его только заботило, как он свое имя назовет, вот сейчас скажет «Клибман» и его спросят «как … как?» Так бывало часто. Но все прошло хорошо. Учительница не переспросила. Она сказала «Спасибо, Гриша. Садись».
В коридоре они подошли друг к другу … и, а вот кто первым познакомился? Вроде он сам, желая «застолбить» нового мальчика за собой, чтобы его другие не перехватили. «Меня зовут Гриша, а тебя?» — вот что он сказал. Какие проблемы, он так много раз делал в детском саду, когда приходил кто-нибудь новенький. «А я — Валера» — ответил мальчик и неожиданно протянул Грише руку. Красиво получилось, солидно, как у взрослых. Гриша почувствовал в своих руках маленькую твердую ладонь. Вокруг них стояли другие ребята, девочки держались все вместе. Маленькая десятиминутная, первая в их жизни, перемена закончилась, но они успели все самое важное друг о друге узнать. «А где ты живешь … а кто твой папа … а где работает мама … а тебя есть … конструктор … а бабушка … брат … сестра … а ты был … на море, а я — был … а я футболом занимаюсь … где … а я …, а я … а ты музыкой занимаешься …, а у вас машина есть …» — тут все опять построились и зашли в класс. Гриша уселся рядом со своей соседкой, имени которой он не помнил. Зато у него был друг, Валера …
Гриша все помнил, ему было приятно прокручивать эти картинки в своей голове, но «тем» пацаном он себя уже не чувствовал.
В тишине резко прозвучал телефонный звонок. Гриша поморщился. Звонок был слишком громким, хотя современных вкрадчивых сигналов мобильников, играющих классическую музыку, или нелепо кукарекующих, он тоже не любил. Надо же, легок на помине: звонил Валерка из Беркли:
— Привет, Валер, я как раз вспоминал, как мы с тобой познакомились …
— Да? И как?
— А ты не помнишь?
— Ну, вообще-то помню. Просто у вас у писателей все в голове не совсем так, как было на самом деле. Я тебе что звоню-то …
— А что, чтобы мне позвонить у тебя должен быть повод?
— Слушай, мы тут про шахматы говорили … там все не так просто … никто не знает, как они возникли, кто их придумал …
— Валер, ты о чем?
— Я о двоичности мира, об единстве и противоположности чёрного и белого начала … Что ты тупишь? Забыл что-ли?
— Ага, я понял. И что?
— Я хотел тебя, Гришка, спросить: ты белый или чёрный? Я-то знаю, но мне интересно, как ты сам себя видишь.
Гриша с полуслова понял, о чем Валерка хотел с ним поговорить. У них как-то никогда не шло банальное «как дела?». Про «дела» они тоже могли говорить, если дела были, но отвечать, вяло делясь мелкими несущественными событиями — это было им обоим невыносимо скучно. А вот позвонить и сходу начать обсуждать философскую проблему, такую важную и понятную им обоим, одновременно мало интересную и туманно-нечеткую для других, это было так для них типично.
Сейчас Валера не был женат, но жил со своей аспиранткой, тридцатилетней японкой Йоко. Ну, что он мог пристать к Йоко со своим «черно-белым» заскоком? Да, дикость, нет конечно. С другой стороны Гриша и с Маруськой в жизни бы не стал о подобном говорить. Маша бы честно задумалась, потом спросила бы, что он имеет в виду, с какой точки зрения нужно себя оценивать, почему ему такое интересно … разве бывает только «белые» или только «чёрные» люди? Ее вопросы были бы такими недоуменными, что всякое желание обсуждать философию у Гриши сразу бы прошло. Да он к женщинам никогда с этим не лез. Для философии и мыслей вслух и него был Валерка. В дискуссию они оба вступили мгновенно, сразу «крещендо», разбег им был не нужен. Гриша уже весь был в «чёрно-белом», он сейчас же забыл заседание кафедры, ситуацию на Украине, семейные дела, планы на лето. Существовало только «чёрно-белое» …
— Да, Валер, я понял … я не знаю про себя, просто не знаю. Про других могу сказать, а про себя нет. Понимаешь, я и про тебя не могу … Не знаю почему.
— Ну да. Ты прав. Мы с тобой … тут все непросто. Тут я вижу три критерия: поступки, мысли и атмосфера вокруг личности … ты понял?
— Да, что важнее, что ты думаешь или что ты делаешь? Я …
— Мы с тобой делали не очень хорошие вещи, но вокруг нас нет тёмной гнетущей тяжелой атмосферы … Мы светлые ребята … Так я нас вижу.
— Да, наверное. Я тоже так думаю, хотя … о себе судить трудно.
— Ну, Гринь, трудно, когда себе врешь, а когда правду думаешь, то все про себя знаешь. Разве не так?
— А Маруська?
— Маруська …? Интересный вопрос. Ну, она простодушна, как многие бабы. Светлая, скорее. Аллку любит. Дети — это уже свет. А я не живу со своей дочкой. И на мне черное облако из-за этого.
— А Саня?
— Саня? Он — чёрный. Так?
— Так.
Гриша немедленно без слов понял, о чём, упомянув о Сане, подумал Валера. Саня был с одной женщиной, ушел от нее беременной, говоря всем, что ребенок не его. Он был в этом так уверен, но … нужно было сделать генетический анализ, а он не сделал. Как-то так … заныкал, зассал. Гриша помнил, как Саня талдычил: «Мужики, это точно не мой … она и сама не знает чей это … понимаете, мужики … что мне его на себя теперь вешать? … Вы меня понимаете …» Они ему ничего не сказали, но … оба не хотели представлять себя в такой ситуации. Традиционный мужской кошмар: женщина «вешает» на тебя чужого ребенка, спекулируя на твоей порядочности. С одной стороны Саню можно было понять. Как себя везти? Рецептов нет: разводка? Нет? Отползти и быть трусом … Для Гриши с Валерой были морально неприемлемые вещи. Это даже не стоило обсуждать. Надо же, Валера вспомнил тут давнюю, обсуждавшуюся ими ситуацию. Кошмар. Гриша поежился. Хотя, интересно, что они оба одновременно решили, что Саня — «чёрный». У дома припарковалась машина.
— Валер, Маруська приехала. Всё.
— Ага. Давай.
Валерка даже не спросил, почему «всё». И так было понятно, что про «чёрно-белую» концепцию при Маше разговаривать нельзя. Ну, не то, чтобы нельзя, а в лом. Валера нагло разговаривал по-русски при своей Йоко, хотя в таком случае девушка норовила деликатно отойти. Она этой своей деликатностью действовала Валерке на нервы. Да, он сам не знал, что ему надо. Как всегда. Они жили с японкой уже год, но по некоторым признакам Гриша был уверен, что скоро Валера опять будет один и в поиске.
Маша зашла в дом и они стали суетиться на кухне. Жена заезжала в магазин. Они раскладывали пакеты, хлопали дверцами холодильника, потом сели ужинать. За едой обменялись новостями, хотя «новости» — это громко сказано. Маша спросила, как прошло заседание кафедры и Гриша ответил, что нормально. Что ей было до его кафедры и зачем только спрашивала. Завтра ему надо было ехать менять масло, о чём он сообщил Маше, предупреждая ее, что он быстренько съездит, пока она будет спать. Гриша знал, что Маша выполнила перед ним свой обычный ритуал «как дела», а теперь наконец имела право взять нить разговора в свои руки:
— Гриш, Алла себя неважно чувствует. Бедная.
— Да? А что ее беспокоит? Тошнит?
— Нет, Гриш, не тошнит … Просто ей плохо.
Гриша так и знал, что Маша обязательно начнет рассуждать об Аллкиной второй беременности. Бабы с этой темы слезть не могут только об этом и думают. Очень интересный сюжет! Ага, Аллку не тошнит. Что еще спросить Гриша не знал. Что там бывает? Шесть, семь недель? Не черта еще даже не видно.
— Что ты молчишь? Тебе нечего сказать?
— Мань, что мне спросить? Я спросил, ты сказала, ее не тошнит.
— Ей просто плохо. Понимаешь?
Гриша не понимал. Не тошнит, ничего не болит … Бабы просто хотят покрасоваться, чтобы их жалели, носились с ними … Но он знал, что говорить этого было нельзя.
— Марусь, я ей очень сочувствую, но дело же того стоит. Наверное скоро все пройдет. Пойдем наверх.
Гриша пошел наверх, Маша гремела на кухне тарелками. Он принялся думать об Аллиной беременности. Волновало его это или нет? Конечно волновало, но меньше, чем Машу. М-да, интересно, это только он такой, или Аллкин муж Коля такой же … ну беременна, и что …? Что тут такого странного? Он знал, что перед самыми родами, он примется нервничать, жалеть Аллку, как там все будет … лишь бы ребёнок был здоров. Он вообще сочувствовал женщинам, что им приходилось проходить через такое неприятное дело. Боже, хорошо, что он не женщина! Когда дочка вышла замуж, Гриша довольно спокойно принял ее мужа Колю. Ему и голову не пришло ревновать к парню свою девочку, он никогда в жизни не думал о том, какой у них секс, как чужой мальчик конкретно это делает с его девочкой … А тут почему-то он вдруг попытался представить себе тот самый раз, когда Коля сделал Аллке этого ребенка. Хорошо ли ей было? И вообще «как»? С каким настроением? Небось и не заметили … он-то никогда не замечал. А потом было это знаменитое «ой» … «надо же». А тогда давно он был рад? Сложное чувство: радость, удивление, страх, гордость, сомнения … Он обнимал Маруську и говорил «как хорошо», но «хорошо» было все-таки каким-то неоднозначным, смешанным с ощущением утраты чего-то важного. Женитьба, ребенок, работа, стремление к карьере … все это отщипывало кусочки от его свободы, у них с Валеркой что-то отщипывало. Он никому никогда об этом не говорил, только Валерке, и друг его утешал, как мог: «Гринь, это же хорошо. Ты же у нас уже большой мальчик. Пора, Гринь …». Ну да, это действительно было так, Валерке Гриша верил. Хотя, хорошо было Валерке говорить, это же не с ним происходило.
Они легли спать, и Маша сразу через пять минут уснула, тихонько во сне посапывая. Гриша еще долго не гасил настольную лампу, читал на ридере небольшой роман Олега Маловичко «Тиски». Отличная книга, замечательная. Трое ребят … их жизнь, книга как бы не про что. Текущие, блеклые события, которые и событиями не назовешь, но всю эту повседневность каждый из троих видит по-разному. Три разных взгляда. Надо же … какой-то Маловичко, Гриша никогда о нем не слышал. Обязательно надо сказать Валерке. А Маше? А Маше он не скажет. Она другие книги любит. Весь этот их «женский почерк»: Рубину, Улицкую, Токареву … Он тоже их читал, но … как-то все «розовато»: а он ей, а она ему … и она рыдает, а он — сволочь. Неужели правда существует «женская» литература? Ну, тогда и «мужская» должна быть! Ну, наверное есть. Скажем Прилепин или Быков, Иванов, или вот этот Маловичко. Захотелось позвонить Валерке. Они не договорили. Нет, уже поздно. А все-таки стыдно, что он Маше о книгах не говорит, получается, что она его не понимает. Но он же даже не пробовал … Не пробовал и не хотел … Как-то не получалось у них с Машкой выйти за рамки «бытовухи». А, ведь, она неглупая баба … что это с ним. Хорошо, что у него есть Валерка. Гриша вздохнул.
Он выключил книгу и свет, но сон к нему не шел. Так происходило уже очень давно, но с каждым днем его бессонница делалась все серьезнее. А ведь когда-то он засыпал мгновенно и просыпался на том же боку, ни разу не проснувшись. Ему даже казалось, что он только что лёг. А сейчас … Гриша знал, что он скоро встанет, будет ходить, пить чай, потом снова ложиться, вставать … ворочаться на смятых простынях, и думать … Думать о ненаписанных текстах, борясь с желанием включить компьютер. Интересно, что у него первично: не спит потому что думает о текстах, или думает о текстах, потому что мучается от бессонницы? Да, какая разница!
Грише задумался, а когда же, с какого времени ему стало интересно писать. Он вроде и ничего не писал. Ну написали они вдвоем с Валеркой пару сценариев в школе, потом поработали «культурниками» в студенческом лагере мединститута, куда их когда-то чисто случайно забросила жизнь. Чего-то они там сочиняли, оправдывая свое халявное купание в море и нехитрую еду. «Творил» какую-то муть а ла капустник, но … не писал. Начал писать уже здесь в Америке, в иммиграции.
По привычке все подвергать анализу, Гриша выделил две побудительные причины: подсознательная зависть к коллеге, желание доказать себе, что «тоже может» и ещё, наверное, одиночество. Письмо — это был шанс поговорить. Хотя бы с собою.
Еще когда он начал учиться в Америке в аспирантуре у них там был чёрный парень, Сильвестр, который ни много ни мало, писал романы. Самое смешное, что романы его публиковались не такими уж маленькими тиражами во Франции, и Сильвестра вся кафедра, включая ведущих профессоров, прямо на руках носила. Как же … они все имеют честь … настоящий, известный писатель … голос чёрной Африки, ее рупор … глубины первобытной аутентичной культуры … легенды и мифы народа Конго … Становление личности, на которую действуют две культурных матрицы … и так далее. Гриша как раз сидел с Сильвестром в одной комнате, они даже подружились. Он вообще был неплохой, неглупый парень, только слишком самодовольный, несколько преувеличенно обласканный славой, принимающий участие во всех франкофонных научных посиделках, и пропускающий по этому поводу школу. Гриша прочёл пару его романов. Нет, они не были так уж плохи. Даже наоборот: хороший современный французский, искренний доверительный тон. Очень нежное отношение к старшим родственникам, особенно к бабушке, подробное описание экзотически-бедного конголезского мира конца 80-ых. Плюс народно-освободительная борьба против колонизаторов и прочее хрестоматийно-франкофонное, модное в Европе и в Америке, но никому нафиг не нужное в Конго. Борец с империализмом Сильвестр никогда не знал крайней бедности, был сыном правительственного чиновника, публиковал свои вещи на языке «колонизаторов» и продавались его книги в Париже, в вовсе не в Конго. Обычная, довольно конъюнктурная история, которая происходила повсеместно, и давно Гришу не удивляла. Здесь он просто оценил качество письма. Неплохо, но ничего такого уж выдающегося. Гриша смотрел на Сильвестра, и понимал, что он мог бы написать о своем детстве и о своей хрущевско-брежневской стране. Он написал бы по-другому, но не хуже. Разумеется Гриша понимал, но «чёрная Африка» в моде, а СССР и Россия — нет. Никто его никогда не опубликует, нигде, да ему этого было и не надо. И тогда он начал писать свою первую книгу о себе, родителях, семье, друзьях, детях, иммиграции. Вся его жизнь … Там было более шестисот страниц. Валера их прочел, и довольно, кстати, быстро. Гриша ждал, что он скажет и тот их, по-поводу книги разговор, помнил дословно:
— Гринь, я прочёл …
— И?
— Классно. Правда. У тебя получилось. Девчонки твои прочтут когда-нибудь. Ты для них писал?
— Для них тоже, но скорее для себя. И для тебя.
— Спасибо, Гриш. Я тронут. Это наверное пока не роман, это хроника. Но, какая хроника! Там есть главное: наше время и наши люди. Гришка, а теперь пиши роман. Ты сможешь. Я знаю. Сейчас пишут километры мути, а ты, Гриш … Я хочу, что ты писал.
— Да, нет, я не смогу, да и для кого, Валера, я буду писать?
— Ни для кого. Ты же, Гриш, знаешь, что все лучшие книги были написаны для себя. Ты же сам мне только что сказал, что ты пишешь для себя. Давай, Гринь …
Валерка просто его взял «на слабо». И сейчас Гриша ходил по комнате, освещаемой ярким неприятным светом фонаря с улицы и думал, про что он будет писать. Знакомое сумасшедшее ощущение зуда: открытая страница на экране компьютера, белая чистая, готовая принять твои мысли. Мысли приходящие в голову бессонными ночами, обретают форму, и ложатся на бумагу, складываясь в предложения, абзацы, главы. Ночь только началась. О чём … о чём … до сих пор Гриша никогда не мучался таким вопросом. Он подолгу думал о проблеме, проблема, как правило моральная, разъедала мозг, не давала покоя, и тогда Гриша подбирал марионеток-персонажей, которые будут жить на страницах повествования и донесут его мысли, его послание другим, пусть и вымышленным читателям.
А вот пора ему писать по-другому. Пусть не опубликуют, а если бы … опубликовали? А если бы? В издательствах сейчас «труба» с деньгами, публикуют только романы в «формате». Детективы, любовные романы, мистику, фэнтэзи, романы-катастрофы, ироническую прозу … вот что берут. Надо вписаться в формат, не вписался … твои проблемы. Никому ты нафиг не нужен. Гриша уже даже и думать забыл обо сне. А если попробовать? Самый нужный востребованный формат? Детектив! Вот что. Гриша прочел сотни современных детективов. Их писали все, кому не лень, кропали десятками, не гнушаясь, видимо, литературными «неграми». Некоторые даже и не считали нужным сотрудничество с «неграми» скрывать, используя свое имя как бренд. Там всеми красками играла интрига. Стиль, герои, композиция, психологическая подоплека событий были разработаны так небрежно, топорно, безвкусно, неграмотно, что Гриша диву давался, как такое может вообще быть опубликовано. Однако публиковалось. Со всеми благоглупостями и вопиющими орфографическими ошибками. Завидовал он им всем? Нет? Или да? Ему же плевать на публикации … а если честно? Можно в интернет выложить … ладно, надо сначала сделать, а потом… видно будет.
Так, так … надо что-нибудь очень невинное … сделать на контрасте … милое … а там, внутри … животный ужас … Гриша секунду фокусировался на своих мимолетных идеях и сразу их отбраковывал, в мозгу стоял мощный фильтр, который не пускал глупости, мертворожденные сюжеты. Сюжеты возникали как вспышки, но ни один Грише не нравился: то слишком броско, а значит безвкусно, то без потенциала, то банально и вторично, то … Мозг работал на полную мощность. Гриша увлекся. Сочиняя интригу, он слышал в голове собственный голос:
— Осторожно … детективная история должна быть идеально разработана. Здесь нельзя будет никаких «а там посмотрим» и «видно будет». Все чётко сбито: интригующее начало, развитие, развязка … А иначе как? Начнешь, а потом не будешь знать, как закончить? Не сойдутся концы с концами? Думай, идиот. Это тебе не про несчастливых мужчин среднего возраста писать, которым «мама в детстве недодала и насолила», и их дочери тоже «несчастные». «А я несчастная — торговка частная». Гриша всегда сам над собой иронизировал, пытаясь быть объективным и критичным. Детектив — это просто чёткая форма, а все остальное приложится. Но он знал, что он так не сумеет. Достоевский в конце концов тоже написал детектив. Убил Раскольников старушку … а его за жопу, только не сразу.
Мозг устал, хотелось спать, но возбуждение не проходило, какой там «спать» … Гриша почему-то вспомнил, что вчера, хотя была только середина мая, он услышал перед окнами мелодичные звуки колокольчиков: по их тихой улице медленно проезжал раскрашенный фургон с мороженым. Ага … Мороженое, вафельные рожки и стаканчики разной формы … Фургон медленно едет по тихим улочкам, останавливается около каждого дома. В открытое окно пожилой благодушный дядька, улыбаясь подает детям разноцветное мороженое. Дети не видят, что там в фургоне. А там совсем узкий коридорчик, и по обе стороны прилавки с дырками, в каждую из которых всунуты длинные металлические пеналы с пломбиром. Дядька залезает в них круглой ложкой и кладет шарик мороженого в вафлю … А можно получить свою порцию в маленьком пластмассовом стаканчике с ложечкой. Пожалуйста, деточка, ешь на здоровье. Дети отходят, у них такой счастливый вид, ребячьи языки слизывают с шарика холодную сладкую смесь … А дядька улыбается и ребёнку и его маме, фургон останавливается около следующего дома. Музыка … её слышно издалека и никто не может противиться звенящим колокольчикам … Под контейнерами с пломбиром лежит сухой наколотый лед, а вот под ним … лежит труп, весь усыпанный колкими холодными кусочками. Как он туда попал? Зачем? Кто убил человека под льдом.
Неплохо! Мороженое, детская доверчивость, колокольчики и … труп! А что … А ничё, через плечо … Идиот! Благодушный добряк-мороженщик — убийца? Почему? Ну, например, потому что … Почему? А? Его сын овердознулся и умер, и он теперь мочит мелких распространителей, подростков, торгующих в школах? Дядька просто свихнулся после смерти сына. Он их выслеживает и … ну, понятно. Потом прячет в фургоне, а ночью … закапывает в лесу. Или так … трупа нет. Он не нужен. Мороженщик бывший ученый-математик. Он кладет яд в один из стаканчиков и один из детей умирает. Яд обнаружить невозможно и ребенок умирает как бы ни с того ни с сего. Происходит это не каждый день. Фургон нарочно ездит в разных районах, и никакой связи с мороженым не улавливается. Злодей очень хитрый. Зачем? Он что-то там такое хочет доказать, связанное с теорией вероятности … Но у меня же нулевые знания теории вероятности … ну это можно у Валеры спросить. Но все-таки зачем убивать-то? Можно же другие вещи делать и тоже эмпирически … в чём фишка-то? Вычурно и соответственно … слабо. Тьфу … прощай, мороженое! Не пойдет. Да и вообще, какой интерес рассматривать патологию?
Гриша вспомнил, как в воскресенье они с Марусей поехали в город на плазу и там видели семью на прогулке … А вот это подойдёт. Он вошел в спальню и лег. Маша спала, она никогда не слышала его ночных перемещений. Гриша спокойно, не ворочаясь, лежал на спине, заснуть он даже и не пытался, понимая, насколько это сейчас бесполезно. В голове всплыла картинка. Только пока картинка, без начала и конца, без диалогов, без психологических мотивировок поступков … да и поступков пока не было. Но однако, оживляя свою картинку персонажами, Гриша безо всякого напряжения опять начать «писать» от первого лица:
Мы быстро, нигде не останавливаясь и ни на что не глядя, прошли через большие залы универмага и вышли на широкую крытую галерею торгового центра, куда открывались двери бесчисленных бутиков, в витринах которых стояли статичные, чем-то пугающие, фигуры манекенов. Воскресенье, народ просто гуляет по магазинам, ничего особо не покупая, просто рассматривая товары. Обычно посетителями плаз были женщины, но сегодня тут были парни с подружками, целые семьи. Пожилых дам сопровождали мужья, покорно несущие яркие полиэтиленовые пакеты. Расслабленная воскресная суета.
Мы увидели их сразу, моментально охватив взглядом всю маленькую характерную группу. Моложавая, довольно ухоженная мама, в дорогих джинсах и свободном кардигане, около нее две девочки, сестры-погодки, оживленно что-то обсуждающие. У них в руках сумки из тинейджерских магазинов. На полшага впереди отец семейства, высокий, спортивного вида мужчина в очках с чуть усталым, интеллигентным лицом. Мужчина толкает перед собой коляску, в которой, сидит аккуратно одетый мальчик в бейсболке и ярко расписанной майке. Сразу видно, что ребенок больной. Ему уже лет шесть, таких детей уже давно не возят в коляске. Мальчик сидит сильно откинувшись на спинку, он чуть съехал вниз, и если бы ремень его не держал, он бы совсем провалился. Голова его сдвинута набок под неестественным углом, рот полуоткрыт в подобии улыбки, а глаза бессмысленно смотрят расфокусированным и одновременно пристальным взглядом поверх голов идущей мимо толпы. Ноги и руки его спазмированы, сжаты, как у паучка. Семья проходит мимо дверей бутиков, девочки с матерью иногда бросают заинтересованные взгляды на витрины, останавливаются, и тогда отец покорно останавливается тоже. Мальчик нетерпеливо издает громкие нечленораздельные звуки, мать с девочками спохватываются и все медленно двигаются дальше, мальчик замолкает и снова бессмысленно смотрит куда-то вверх.
Толпа их обтекает, люди стараются не подходить совсем близко к коляске. Со стороны это выглядит, как несколько преувеличенная вежливость: надо пропускать инвалида. На самом деле все просто шарахаются от этой семьи, как от зачумленных. Кто-то немного замедляет шаг или специально заходит в магазин, куда секунду назад и заходить-то не собирался. Все что угодно, лишь бы оторваться от страшной коляски на безопасное расстояние, большинство не оглядывается, делая вид, что они ничего особенного не заметили. Оборачиваются только дети. Это сильнее их. Они снова и снова поворачивают голову, чтобы смотреть на ужасного мальчика, вобрать в свою память всю неприглядную, но завораживающую картину. Малыши тянут мамину голову вниз и что-то шепчут ей на ухо: мам, что это с ним … почему он такой … мам … ты видела? Матери конечно видели и мысленно поблагодарили бога, что этот ребёнок чужой и зрелище можно выкинуть из головы. Родители используют ситуацию для воспитания: нельзя так на них смотреть, не оборачивайся … нехорошо пялиться … Дети интересуются, выздоровеет ли мальчик, взрослые стыдливо отводят глаза и переводят разговор на другую тему. Толпа жалеет семью, но это не просто жалость. Тут и брезгливость, и острая радость от того, что это случилось с другими, и досада, что воскресное настроение капельку подпорчено, и жадное желание все-таки взглянуть ещё раз … сравнить свое благополучие с их несчастьем, восхититься родителями, несущими свой крест, и примерить ношу на себя, с облегчением понимая, что ноша — это только теоретически, только теоретически.
Гриша тоже всё видел и сейчас вспомнил свои тогдашние мысли. Просто разница между ним и остальными заключалась наверное в невозможности для него картинку забыть. Он впитал ее, оставил в памяти, не стёр усилием воли, она сама засела в мозгу, до поры законсервированная. Сейчас она возникла, намного рельефнее, чем в действительности. Такой вот сочный, яркий, панорамный эпизод, стоп-кадр. Вот что ему надо, вот из чего он вытащит свой детектив с убийством, но не только и не столько в убийстве будет дело.
Не в силах более сдерживаться, Гриша встал, голова его гудела, стало холодно. Он включил компьютер, и резкий голубой свет экрана ударил по его усталым сонным глазам. Гриша сформулировал свой поиск: патологии недоношенных детей. Первая же ссылка погрузила его в мир сухих медицинских терминов. Было начало третьего, Гриша хотел спать, но идея книги не отпускала его. Сюжет обрастал все новыми подробностями. Что-то виделось пока схематично, другое, наоборот, уже писалось в мозгу «на черновик»:
У здоровых небедных родителей две девочки 10 и 8 лет. Отец хорошо зарабатывает, мать тоже профессионалка, но с рождением детей, она оставляет работу, полностью посвящая себя семье, и нисколько об этом не сожалея. Девочки подросли и мать достаточно отдохнула. Теперь можно родить третьего ребенка. Мужу так хотелось бы мальчика. Желанная беременность … радость … 17 недель … ультразвук и … ура, у них будет сын. Маленький братик, которого будущие сестры ждут не дождутся. Мальчик внутри шевелится. И вдруг на 24 неделе начинаются роды. Как … почему? Нет никаких причин … ни с того, ни с сего. Остановить процесс не удается. Рождается крохотный, красный комок плоти, совершенно не приспособленный к жизни. Весу в нем чуть больше 400 граммов. Он почему-то не умирает. Лежит в младенческом отделении интенсивной терапии, подключенный к аппаратуре, ему надо вводить стероиды, чтобы попробовать доразвить лёгкие. Сам ребенок дышать не может. Родителей пускают на него посмотреть. Страшное безысходное зрелище: распростертое тельце, на голове под прозрачной кожей пульсируют сосуды, раскинутые, похожие на куриные, ручки и ножки, отовсюду торчат какие-то трубки. Проходит несколько дней и тон врачей становится всё суше: нет, ребенок не жилец, его надо отключить от вентиляции легких, от питания … Тянуть его не стоит, так как даже, если ребенок выживет, что мало вероятно, его патологии на дадут ему нормально развиваться, справится с ними будет практически невозможно, ребёнка не ждет полноценная жизнь, и будет безнравственным … не жалея красок им об этом говорили каждый день.
Пусть через аппарат, но мальчик дышал, а значит жил … Они смотрели на его безжизненное крохотное личико и не могли его, как им обоим теперь казалось, … убить. Нет, он выживет и всё будет хорошо. Молодые американцы были оптимистами. Их так воспитали. И вообще 21 век на дворе. Ребёнка держали в отделении 4 месяца. Начались проблемы со страховкой и семье пришлось заплатить за больницу бешеные деньги. Потом они его забрали домой и … жизнь благополучной семьи переменилась. У мальчика был ДЦП, детский церебральный паралич, он был слабо слышащий и видящий, умственно отсталый … рос он крайне медленно, мышцы его были спазмированы, позвоночник и суставы деформированы, ни ползать, ни ходить он так не выучился. Интеллект развился очень слабо, ребенок так и остался имбецилом. Его взгляд фокусировался на матери, мальчик был к ней по-своему привязан и нуждался в постоянном надзоре и уходе. Получилось, что их сын так и остался младенцем, но младенцем неприятным с бессмысленными косыми глазами, открытым ртом и скрюченным телом. Он издавал нечленораздельные звуки, а иногда плакал неизвестно почему, давясь от рыданий.
Почему они с мужем не послушались врачей? Не послушались, а теперь винили их за неспособность помочь их сыну. По сто раз в день мать меняла большие дурно-пахнущие подгузники, вытирала ему лицо, усаживала на коляску. Ребёнок стал тяжелым. Он мертвым весом оттягивал руки, и матери надо было всё время помнить, что сына следует привязать. Девочки любить брата не могли, они его только жалели. Их жалость была всегда смешана с раздражением: слишком многого родители им теперь не додавали, к тому же девочки не могли себе позволить приглашать домой подруг. По утрам отец с радостью уходил на работу, а выходные стали для него кошмарным сном, от которого невозможно было проснуться. Матери было хуже всех, она никуда не могла уйти.
Сначала все ими восхищались. Ну как же … семья, чья жизнь превратилась в служение, и они достойно несли свой крест, как и полагалось. Потом постепенно стало заметно, что к ним в дом перестали ходить люди, соседи, друзья, родственники. Даже бабушки и дедушки приходили крайне редко, предпочитая забирать к себе девочек. Первые годы они еще приходили к родственникам на День Благодарения и на Рождество, но через пару лет стало очевидно, что делать этого не стоит. Бесконтрольные крики их сына могли создать такое напряжение, что всем хотелось только одного: уйти! Тогда несколько раз в год приглашалась сиделка и семья шла в гости. Можно было бы приглашать ее чаще, сходить в театр или в ресторан, но им не хотелось, ничего давно не хотелось. Они были вежливы друг с другом, но что-то поломалось, вечером в постели муж с женой просто гасили свет и засыпали, не забыв пожелать друг другу доброй ночи.
Мысль о том, как было бы хорошо и славно, если бы мальчик умер, исчез из их жизни, чтобы все стало по-старому, приходила женщине в голову не так уж редко. Вот она утром подходит к его кровати, а он мёртвый … Тогда все само разрешится. Но ничего не разрешалось, мальчик продолжал жить. Вот они станут с отцом старыми, умрут и тогда … что? Он должен будет остаться на попечении сестер? Ну, выход всегда был … круглосуточная сиделка с проживанием. Сколько же надо будет тратить денег, чтобы длить его никчемную жизнь? Можно поместить сына в специальное заведение … опять деньги и комплекс вины. А главное, почему девочки должны будут тратить деньги … И все-таки кто же был виноват …? Мать в глубине души всегда знала, что … она! Родители всегда говорили ей, не сдавайся, не сдавайся! Ты можешь! Вот, она и «не сдалась», «смогла». Она настояла, она настроила мужа на борьбу, она говорила девочкам, что все будет хорошо, что они должны любить брата … Недавно где-то ей попалась фраза, что «если ошибку можно исправить, то это — не ошибка». Вот она и должна все исправить и она исправит. Она сможет. Мальчик должен умереть, так всем будет лучше, и даже ему самому. Она ему поможет умереть, она же мать! Теперь каждую минуту она обдумывала «как», как это сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Как, как? Бывают ли вообще идеальные преступления? Яд? Несчастный случай? Задохнулся во сне?
… Долгие раздумья по-поводу способа … подготовка … осуществление замысла … Так, это уже другая стилистика: утро преступления. Отец с девочками уехали на целый выходной, она осталась с ребенком одна. Мальчик спит … она подходит и смотрит на его спящее лицо. Во сне он не выглядит дефективным. Наоборот, он похож на сестер, такой же высокий лоб, длинные ресницы, русые волнистые волосы. Она смотрит долго, не может решиться. Вспоминает беременность, надежды, борьбу первых месяцев …радость, что мальчик выжил, потом гордость за то, что крест они несут достойно, потом холодноватость родных и друзей … потом прогулки по улицам, когда каждый взгляд толпы жег их каленым железом. Ох уж эти сочувственные, брошенные украдкой взгляды, люди смотрели на него, а ей казалось, что и на неё тоже: она родила эту мерзость, этот позор, этого ужасного уродца … Во сне лицо сына было нормальным, под одеялом лежал маленький мальчик, который полностью от неё зависел.
Но … наконец она решается, берет лишнюю подушку и плотно прижимает её к спящему лицу. Тело ребенка напрягается, выгибается дугой, он судорожно стучит маленькими пятками по кровати. Слышны сдавленные стоны, сопение … Она держит подушку … держит еще долго после того, как тело перестает двигаться. Она просто не может ее отнять от его лица, увидеть то, что она сделала. Своими руками убила сына … А вдруг лицо посинело? Вот она снимает подушку: нет, ничего особенно не видно. Спит и спит. Женщина звонит в полицию и мужу: мой сын умер, задохнулся, подавился чем-то … не знаю … нет … Полиция приехала минут через десять, следом за ними в доме появились парамедики. Во дворе мигают огни спецмашин, выходит сосед в пижаме. Тело забрали. Женщину утешали, говорили какие-то слова, предлагали сделать седативный укол, спрашивали, сообщила ли она мужу. Да, сообщила, он сейчас приедет с дочерьми. Сможет ли она остаться в доме одна, может пригласить кого-нибудь из близких родственников. Нет, не надо, спасибо …
Женщиной овладели практические мысли. На вскрытии факт смерти от удушья конечно обнаружится. Расследование? Как это могло с ним произойти? Кто был дома? Только она. Ага … Но, она же не дура. Она положила ребенку в рот большую «стеклянную» конфету. Он был беспокоен, и она, чтобы его успокоить, дала ему пососать его любимую карамельку. Ей надо было отойти. Они всегда так делали. Сосание его успокаивало. Семья конечно подтвердит. Как он мог этой конфетой подавиться? Нет, она не видела и не слышала, была в душе … Подавился как-то. Откуда она знает как? Конфету она протолкнула в горло, нет, он уже не мог ее проглотить, он был мертв, конфета застряла, если широко открыть ему рот, то ее будет видно. На вскрытии увидят и … подозрения с нее снимутся. Женщина опять была полна оптимизма. Будут ли они так стараться расследовать смерть больного ребенка. С таким ребенком, ведь, что угодно могло случиться. Сейчас приедет муж, войдет в дверь и … посмотрит на нее долгим пристальным взглядом. Надо этот его взгляд выдержать! Догадается он или нет? А пусть бы и догадался. Она это сделала, он бы ни за что не смог. Так бы и жил как грустный зомби. А с нее хватит. Она смогла. Ее семья этого не заслужила. Она не для себя, она … для них. Да, и для него тоже. Сейчас ей правда так казалось. Зачем ему жить и мучиться?
Притихшие девочки смотрели на нее серьезными глазами. Ну, что ж … несчастный случай. Ваш брат задохнулся конфетой. Я проглядела. Что ж делать. Идите в кухню, надо что-то поесть. Муж ни о чем не спросил. Догадался? Может быть. Ну и пусть.
На вскрытии конечно нашли конфету … странно, но … у мальчика были проблемы с питанием, что ж тут удивляться … врожденная периферическая невропатия, мог ли он адекватно управлять своим глотательным рефлексом? Вряд ли … там был целый букет патологий. Несчастный случай. Зря мать его оставила с конфетой. Ее можно понять, они же всегда так делали… Никакого уголовного дела возбуждено не было.
Финал: инспектор полиции имел серьезные сомнения в невиновности матери, при большом желании он бы даже, вероятно, смог доказать ее виновность в смерти ребенка, но … зачем? Несчастная семья. Обвинять мать в убийстве? У них двое детей. Он представил дело, как несчастный случай и постарался о нем забыть. Родственники собрались в церкви и сидели плечом к плечу на мемориальной службе. Маленький гроб сиротливо стоял на постаменте. Священник говорил что-то о безгрешной детской душе. Больше говорить было нечего. Через год, они развелись … Начать жить с «чистого листа» не получилось. Из жизнь стала спокойной, но радости в ней уже никогда не было.
Гриша все продумал. Ему уже хотелось начинать работать над своим детективом. Впрочем, можно ли было считать идею детективной. Да, просто надо сделать это историей преступления, и «выписать» процесс убийства, потом расследования … Как чисто детективная, идея была ущербна, да что там ущербна … просто дерьмо. Там не было самого главного — интриги-тайны: кто убил? Собственно расследование оказывалось минимальным. Ну, и ладно … Пусть будет психологический роман с детективным элементом. Надо придумать название. Это важно, это знак темы, вызывающий те или иные ассоциации. Заголовок должен быть выразительным и впечатляющим. Придумал же Гоголь название «Мертвые души», и … хочется читать. Заглавие … это сгусток смыслов. Было бы стильно назвать роман одним емким словом: Тупик … Проклятие … Избавление … Нет, не то. Претенциозно. Есть «Западня», «Деньги», «Накипь», «Разгром»… да мало ли … но он же Гриша Клибман, а не Золя. А вот «Желанный ребенок» — это лучше, банально, но уже чувствуется какой-то подвох, хотя … слишком все продастся на первых же страницах. Не годится. Есть броские издательские названия … Гриша усмехнулся. «Игры с темным прошлым» или «Волчья ягода». А как насчет «Дождь тигровых орхидей», «Властелин на час». Он помнил все эти красивые названия, он сам скачивал для Машки подобные книги. От таких названий несло дешевым чтивом. Нет, только не это. С другой стороны, стал бы он противиться, если бы «орхидеи» предложили в издательстве и … опубликовали? Конечно бы согласился. Чёрт с ними с «орхидеями и волчьими ягодами», наплевать. Но у него нет издателя, он просто так сам с собою играет и назовет роман как ему самому нравится. Например … «Системная ошибка». Это компьютерный термин, неустранимая ошибка в системе, когда единственным возможным действием является перезагрузка. Надо попытаться сохранить данные, иначе все пропадет. Женщина попыталась «перезагрузить», но … ей мало что удалось сохранить. А что … ничего. По названию ничего не угадать, оно современно, на слуху, как бы о компьютерах, не о людях. Да, произошла цепь ошибок, необъяснимых, слагающихся из множества факторов и попытка перезагрузки системы была в целом успешна, но некоторые «файлы» пропали … А что было делать? Открытый конец … ничего не объяснять и не комментировать. Каждый пусть сам думает.
Грише вдруг очень захотелось спать, мысли стали затуманиваться. Прежде, чем заснуть, он еще успел пожалеть, что ничего не записал, в надежде, что днём вспомнится. Да, вспомнится, но слишком блекло, схематично, тускло. Ночные мысли отличались от дневных яркостью, рельефностью, силой … Когда он мог вызвать днём свои ночные мысли, тогда писать получалось. Получится ли на этот раз, Гриша пока не знал.
Утром жена ушла на работу, а он остался дома. Летняя школа начиналась еще через две недели. Чем себя занять Гриша особо не знал. Он убрал на кухне, поставил стираться белье, уселся за компьютер и быстро написал на чистом листе ворда «Системная ошибка», затем он постарался набросать схематичный сюжет романа, сохранил документ и все закрыл. Настроение писать совершенно исчезло. Вот так он и знал.
Позвонил Аллке, спросил, как она себя чувствует. Ему она про свою слабость ничего не сказала. Они вообще о новой беременности с ней не разговаривали. Зато она ему рассказала, что внук вчера немного подрался в школе. Ему 8 лет … ничего себе. Тут такое совсем не принято. А что случилось? Мальчик из класса на площадке его толкал, причем нарочно. Не извинился. Антоша просил его прекратить «это делать», объяснял, что ему неприятно. Гриша усмехнулся. Он бы когда-то ничего не объяснял так долго, он бы уже давно развернулся и врезал … Нет, он не был какой-то такой уж особо агрессивный ребёнок, но … по-другому было нельзя, иначе тебя бы всегда все толкали. А здесь Антоша терпел до последнего, но его дружок из класса все-таки перегнул палку. Антон, как тут принято в полиции, предупредил, что … он «будет стрелять», он наконец ударил. За внука стыдно не было. Что-то генетическое в нем сработало, он не оттолкнул обидчика от себя по-девчачьи, он ударил ему в нос. Попал … и из носа пошла кровь. Ну да, так и должно быть, нос вообще сильно кровит. Потом бить уже не стоило, надо было как раз «до первой крови» и все. Что тут поднялось. Забегали, бедняжку в крови к медсестре, Антошу к директрисе, а Аллку в школу …
— Алл, ты что его ругала? Зачем?
— А что он дерётся? Я чуть со стыда не сгорела. Мне пришлось извиняться.
— Подожди, там, ведь, не Антон начал. Это мальчик к нему лез. Это, что не учитывается? Как-то странно.
— Учитывается, пап, но ты не понимаешь. Тут так никто не делает. Сложилась неприятная ситуация, и Антон вышел из нее неправильно.
— Да, а как ему надо было из нее выйти? Тот, видать, по-хорошему не понимает. Это часто бывает. Непонятливых учат …
— Ну, не бить же его по лицу!
— А куда надо было бить? Это честный бой.
— Прекрати, папа. Это ты его научил так себя вести …
— Я? При чём тут я? Нет, а правда, что ему было делать?
— Надо было к учительнице подойти. Или мне дома на худой конец рассказать.
— И что бы ты сделала? Сама бы к учительнице пошла?
— Да, для этого взрослые и существуют. Они учат детей решать свои проблемы мирно …
— Прекрасно. Две взрослые тётки решат пацанскую проблему? Неужели ты не понимаешь, что, когда тебя обижают, выделяется адреналин, а может тестостерон. Тут надо действовать, а не к учительнице идти. Вы бы назавтра «разрулили», но только этого уже ему было бы не надо. Все прошло, обида бы прошла …
— Вот и хорошо, что прошла …
— Это как? Скушать? Антон мужик. Уважаю. Мой внук. Врезал и хорошо. В следующий раз надо снова врезать. Иначе ему все будут на голову срать. Он — мужчина.
— Ладно, пап, я не хочу этого слушать. Пойми, мы живем в цивилизованном обществе. Ради бога, не хвали Антона за подвиг! Пожалуйста.
— Алл, не беспокойся. Я ничего не буду ему говорить. Это в конце концов ваш ребенок. Зачем ты мне это рассказываешь, ты же меня знаешь. Я к учительнице не ходил …
Они поговорили еще о каких-то пустяках и Гриша повесил трубку, с двойственным чувством. Аллка с ее американским политкорректным пацифизмом действовала ему на нервы, а гордость за Антона его прямо-таки распирала. Он про себя решил, что он с ним обязательно как-нибудь к слову обсудит этот «бой», и скажет, что он на самом деле думает. Все эти их американские «сю-сю-сю» были ему совершенно не по сердцу. И сам он в первый раз подрался примерно в этом же возрасте. По поводу гораздо более серьезному. Противный там был повод, и никакая учительница ему бы не помогла. Он это и тогда понимал. Дело было в том, что ему напомнили, что он еврей. Вот по-этому он эту первую в школе драку и запомнил. И еще там с ним был Валерка.
А с какого возраста он, Гриша, вообще понял, что он еврей, то-есть не такой как все. Да вроде он всегда это знал, непонятно откуда, но знал. Приходили родственники говорили особые словечки, вставляли их в анекдоты, смеялись им одним понятному юмору, который окружающие не поняли бы. Гриша словечки понимал, суть анекдотов была ему ясна, это был и его юмор тоже, но ему бы и в голову не пришло употребить все эти семейные словечки с друзьями. Были живы бабушки и дедушки. Мамина мама в разговорах всегда интересовалась кто «аид» и кто — нет. «Аид» — это значит еврей, Гриша очень рано это понял. Он не помнил, чтобы родители проводили с ним беседы о том, как надо себя вести в школе, если обзовут «евреем». Папа не учил его ни ругаться, ни драться. Как отвечать, «если что» Гриша не знал. Хотя нет, знал, но только не от родителей, а от старших товарищей по двору. Все самое главное он узнал во дворе: мат, откуда дети берутся, драка, выпивка, гитарные аккорды, дружба, девчонки, игра в «ножички» и «приступочку», первые выигранные и проигранные копейки …
Мама приходила с работы, забирала его из детского сада и лет с пяти разрешала ему до ужина погулять во дворе одному. Он и по выходным гулял перед домом. Они с соседскими ребятами лепили бабу, кидались снежками. Посредине двора стояла деревянная горка и они с нее съезжали по всякому, хвастаясь друг перед другом удалью, специально валя девчонок, радуясь создавшейся куче-мале. Маме некогда было с ним гулять. А в год перед школой это было бы уже неприлично. В дальнем углу двора стояла беседка, и там вечером собирались старшие ребята, они курили, пили дешевый портвейн, рассказывали истории. Вот от них-то Гриша и узнал, как надо драться. Драться было «надо», чтобы не прослыть маменькиным сынком, чтобы быть своим в дворовой компании. Вопрос «как» был важен, но все-таки второстепенен. Гриша впитал принципы дворовой драки «бить первым», если уж повалят, то прятать голову и живот, стараться сгруппироваться. Правил особых нет, победит тот, кто спокойнее и злее, вовсе может быть не самый сильный или тренированный. Драки могли быть дружиной за «своих» или один на один с врагом или обидчиком. Там ты всегда был только за себя, никто не вмешивался, это было делом чести. Таков закон. Гриша во дворе и начал драться еще маленьким, потом в школе. То кто-то толкнул и он больно ударился, то вдруг ребята забирали ранец и начинали им кидаться, то тетрадь взяли без спросу … Он такое не спускал. Гриша понял, что он не слабее других, и еще он одну вещь понял … стал сознавать, что обидевшись, в заведенном состоянии он был способен ударить не колеблясь, ему не было жалко противника. Потом могло быть жалко, если он сделал кому-то больно, но не в момент удара. Наоборот хотелось сделать, как можно больнее, чужая кровь не пугала, а возбуждала.
Став старше, он потом видел на других постепенно чернеющие синяки на скуле или брови, заплывший глаз и … Гриша спрашивал себя «а тебе жалко?», и сам себе честно отвечал «нет … такому-то поделом». Он с удовлетворением смотрел, как враг выплевывает выбитый зуб. Так тоже пару раз было, а у Гриши в кровь были содраны костяшки пальцев. Ему и самому доставалось. Он приходил домой в рваной одежде, измазанный грязью, с разбитым носом, с кровью на рубашке, и тогда мама ужасалась, первое время рвалась идти разбираться с родителями обидчиков, и потом ругала самого Гришу, кричала, что «ей за него стыдно», «что он только и знает, что руки распускать», называла его «своим наказанием». Отец в таких случаях всегда молчал. Грише хотелось бы его одобрения или хотя бы участия, но нет … отец никогда его за драки не хвалил, хотя и не ругал тоже. Постепенно стало понятно, что драки — это только его дело, родители, особенно мать, тут ни при чем. Ему не приходило в голову жаловаться или жалеть себя. Иногда, уже в средней школе его били сильно, однажды даже сломали запястье, но чем сильнее ему доставалось, тем злее он становился в следующий раз. В их классе были ребята, которые не дрались никогда, но Гриша не хотел принадлежать и их числу. И Валерка не хотел. Им обоим надо было драться. То ли у них в школе это был единственный способ подтвердить свой статус «альфа-самцов», то ли им самим было нужно дать выход избыточной дурной энергии, то ли они тогда сами себя проверяли на «вшивость».
Но тогда … Грише было лет девять. Наверное, не больше, он все еще был в начальной школе, но уже с пионерским галстуком. Галстук Гриша помнил. На второй большой перемене он зашел в туалет. Там были большие ребята, года на два старше. Они были из одного класса, а Гриша был «маленький». «Ой, нехорошо, что тут кроме них никого больше нет. Надо мне уходить и подняться в туалет на другой этаж» — что-то Грише уже подсказывало, что так просто он не уйдет. Ребята стояли, о чём-то переговариваясь. Потом кто-то сказал:
— Слушай, пацан, дай рубль.
Просил полноватый пятиклассник, рыжий с наглыми заплывшими маленькими глазками. Паренёк играл приблатненность, имени его Гриша не знал, знал только кличку: Васёк. То ли его правда Вася звали, то ли он был Васильев. Тон Васька был весьма миролюбив, хотя отказа не предполагал. Парни были уверены, что деньги он им сразу отдаст.
Обычно у Гриши не было с собой денег, тем более, что рубль считался большими деньгами. За завтраки мама платила заранее, а после школы он всегда шел домой. Родители ему в деньгах не отказывали, но Грише каждый раз надо было объяснить, на что он просит. Но однако, как раз сегодня рубль лежал у него в кармане. Была пятница и они с Валеркой собрались идти в кино «Дружба» на Песчаной площади. В голове мелькнуло: «дать им что-ли этот рубль … чтобы отстали … а что будет, если я не дам … почему это я должен им давать … а если не дам … будут бить … или не будут …» Грише тоскливо подумалось, что скорее всего будут … Старшеклассников, которые не допустили бы беспредела, в туалете не было. Валерка был дежурный и на перемену не вышел, мыл доску. Решение пришло само, неосознанно.
Гриша даже не успел подумать, почему он так себя повёл:
— Ничего я тебе не дам. Отвали.
Это было грубо, Гриша знал этикет. Он явно нарывался. Знал бы свое место. Кто он тогда был по сравнению с пятиклассниками? Козявка.
— Ну, как это ты не дашь? Ты не можешь мне не дать. Может у тебя денег, шкет, нет. Бывает … я вот сейчас сам у тебя в кармане посмотрю. Не найду, получишь щелбан и пойдешь … Тон Васька был фальшиво «отеческим», мнимо ласковым.
— Есть у меня деньги, но я не дам …
— Ага, есть, значит. Не дашь, значит … Пацаны, вы слышали? Он не даст. Он нам отказывает. Сопля, а ты хорошо подумал? Я спрашиваю, ты подумал? Я хочу по-хорошему, по-пацански. По-плохому я так и так у тебя все заберу. Слышь … всё. Ты понял, урод? Нельзя быть жадным. Я тебя научу быть добрым … Слышал? Пионер — хороший товарищ … а ты — плохой товарищ, и позоришь нашу дружину. Позоришь, морда?
«Так, ну всё. Я нарвался. Сейчас будут бить. Отпиздят … из-за кого-то рубля. Вот я дурак». Гриша может и взял бы свои слова обратно, но было уже поздно. Как учительница говорила «слово — не воробей», а папа говорил «поезд ушел». Он смог только обреченно повторить «отвали, не трогай меня …». Гриша вообще-то знал, что дело тут было ни в каком не в рубле. Дело было в принципе. Один раз уступишь без боя и всё … что «всё» тоже было ясно. Ты — никто, с тобой можно делать, что угодно. Что тут непонятного. «Надо бы дать ему в нос и … бежать». Гриша знал, что так надо было сделать, но он не смог. Пропустил момент. Сразу пришла в голову трусливая мысль, что все бесполезно: даже, если ему сейчас удасться вырваться за дверь, добежать до класса, все равно они будет его ждать после школы.
Васёк привлек Гришу к себе и толкнул его небольшое тело к приятелю. Гриша инертной массой не больно стукнулся о соседнего мальчика. Тот его толкнул к следующему. Вся группа пятиклассников, человек пять, перебрасывали его от одного к другому, пиная, как мячик. Гриша и сам такое много раз проделывал, заключая провинившегося в круг. Такая вот жестокая мужская игра: «пятый угол». Его мотало в маленьком кружке, как тряпку, он не мог ни затормозиться, ни выйти из круга, ни дать сдачи, тоже кого-нибудь толкнув. Ему не хватало массы.
— Ну, ты не передумал? Это мы тобой в баскетбол играли, а можем — в футбол. Хочешь … в футбол? Ты мячик, я — Пеле.
Васёк пихнул Гришу с такой силой, что он упал на грязный мокрый пол. Васёк рывком поднял его и полез в Гришины карманы. Гриша судорожно попытался этого не допустить, но его карманы были вывернуты, рубль Васёк достал. Больше он ничего не нашел, и был явно разочарован. До звонка оставалось еще минут десять. Васёк больно ударил Гришу в ухо. Ухо немедленно перестало слышать, гудело и начало распухать. Потом кто-то еще ударил его под дых. Гриша сложился пополам, ловя ртом воздух, и держась за живот. Васёк ударил его в лицо, попав по подбородку. Гриша снова упал и сразу инстинктивно поджал ноги к животу. Встать он даже не пытался, было бы только хуже. Они били его ногами, но не слишком сильно. Сейчас главной была не боль, а унижение: правая Гришина щека была прижата к кафельному полу уборной, как раз в лужу. Скорее всего это была просто вода, возможно натекшая из какой-нибудь трубы, но Грише казалось, что это вовсе никакая не вода, а моча. Маленький Гриша был уверен, что кто-нибудь, вроде Васька, специально нассал на пол. Ребята завелись, матерились, но это были ожидаемые знакомые слова. Среди матерных слов Гриша слышал еще и другие, которые ему раньше никто не говорил … хотя Гриша прекрасно знал, что они означают: «давай, парни, бей этого жидяру … как там тебя, кацман … он абраша кацман … так … убил бы жидоёба …»
И тут в уборную вдруг вошел Валерка, собираясь намочить тряпку. На секунду он застыл, а потом с каким-то криком, который Гриша сейчас не помнил, бросился на Васька, безошибочно определяя вожака своры. Пока его не повалили, он успел съездить свой грязной тряпкой Ваську по морде. Они оба лежали в мелкой луже, лицом друг к другу. Гриша заметил, что Валерка не закрыл глаза. Внимание пятиклассников переключилось на Валерку, кто-то больно пнул его по коленкам, а потом еще по шее. Гриша видел, что глаза друга наполнились злыми слезами, но они оба молчали, уставившись друг на друга, моля другого о молчании, заклиная не плакать и не просить пощады.
Раздался звонок с перемены, парням пришлось остановиться, хотя было понятно, что никакой весомой победы они над мальцами не одержали. Ворча, что они с «мелкими сучонками еще разберуться» ребята вышли в коридор. Вид у Гриши с Валерой был жалкий. Мокрые испачканные формы, встрепанные волосы, расхристанные, вылезшие из штанов рубашки, галстук набекрень, красное в слезах лицо, у Гриши затекло и сильно распухло ухо. И все-таки им пришлось идти в класс. А какой у них был выход? Не ходить на урок? Училка бы отправила ребят их искать. Они чуть опоздали и дверь класса уже была закрыта, пришлось стучаться и сразу стало очевидно, что они подрались. Тамара Николаевна поставила их перед классом, ругала, записала «замечание» в дневник. Этим, правда, все и закончилось. Оба уселись за парты и долго шмыгали носом, постепенно успокаиваясь. Был урок чтения, Гриша немного отвлекся, но разумеется не забыл о происшедшем. После занятий он сразу подошел к другу:
— Валер, ну … это … спасибо тебе. Побили они тебя …
— Ну, побили … подумаешь … Ты, что, Гриш, ладно тебе. А что случилось-то? Что они к тебе пристали?
— Они у меня рубль просили …
— А ты не дал? Ну, правильно. Я бы тоже не дал.
— Я-то не дал, но они все равно отобрали. Что я мог сделать? Они большие.
— Да, ладно. Мне мать тоже рубль дала. Да, что теперь говорить. Не пойдем же мы в кино такие грязные. Не чуешь? От нас не воняет ссаками? Гриш, понюхай.
— Да, иди ты, буду я тебя нюхать. Ладно, отмоемся. У меня дома никого нет. Хочешь ко мне пойдем сразу.
— Ага, пойдем. У меня же бабка. Сейчас как начнет: «Валерик, Валерик …». Раскудахтается. Я слышал, как они тебя обзывали. Гады.
Валера был лучшим Гришиным другом, но они никогда с ним про «евреев» не разговаривали, как-то этот сюжет не возникал. Однако после пережитого Гриша почувствовал необходимость на эту тему объясниться. Понимал ли Валера «это самое» про друга? Может он не знал что Гриша …, а вот сейчас узнает …
— Валер, тут все правильно: они меня называли «жидом», а это так и есть … Я — жид, ну, … еврей … понимаешь?
Валерка молчал, то ли не знал, как реагировать, то ли переваривал информацию … Сейчас от его ответа для Гриши многое зависело. Что он скажет — так у них всё и сложится, или не сложится.
— Я знаю, Гриша, что ты еврей, — наконец сказал Валера. Твоя фамилия Клибман … так? Я что, дурак? Ну еврей ты, и что дальше? А «жид» плохое слово, я знаю, я у папы спрашивал … ну … про тебя. Я не позволю так тебя называть. Мы же друзья. Пусть кто-нибудь попробует. Они просто дураки … нет не просто … они — гады и суки. Ты как? Ухо-то как? Лучше?
После Валериных слов Грише стало легко и радостно на душе, он даже был рад, что их сегодня побили, что так все получилось. Валерка за него вступился, он тоже лежал на том обоссаном полу. Ничего, переживут. Главное они не сплоховали, одинаково поняли ситуацию и не ныли. Гриша знал, что если кто-нибудь обидит его друга, он тоже за него заступится, чего бы ему это не стоило. Хотя кто Валеру мог обидеть? Он же не еврей. Но к нему же в туалете пристали не потому что он еврей, а из-за рубля. Такое и с Валерой могло случится. Правильно он все-таки сделал, что не сдался. Валерка его понял. Раньше он об этом не думал, а сейчас понял, что Валера ему настоящий друг, что ему повезло. Настроение стало хорошим, на кино наплевать, и на рубль тоже. И вот они сейчас пойдут к нему домой и … все будет хорошо. Когда Гриша открывал дверь квартиры ключом, он вдруг вспомнил мерзкую рожу Васька, и жгучая злоба вновь затопила все его мысли, даже кулаки сжались. Вечером надо будет объясняться с мамой по поводу синяков и красного уха, но что все это стоило по сравнению с Валерой рядом и несколькими часами одиночества в квартире.
Решено было сначала помыться, а уже потом лезть в холодильник и искать что-нибудь поесть. Гриша открутил душ, задвинул занавесочку и предложил Валере идти первым:
— Давай, Валер. Вот тут мое полотенце возьмешь. Там мамин шампунь, только много не лей. Ладно? Я пойду посмотрю насчет поесть.
— Ага, давай. Я голодный, как волк. Давай … мы с тобой поедим, и может еще в кино успеем. А не успеем … да и ладно.
Гриша открывал дверцу холодильника, поставил разогреваться кастрюлю с борщом, нарезал хлеб. Он слышал, как в ванной лилась вода, представлял Валерку под душем. Он тоже сейчас встанет под горячую струю и наконец отмоется от «ссак». Вдруг он услышал Валеркин голос:
— Гринь, а ты где? Чего тебе ждать? Иди сюда. А то я спешу, а тут такая водичка приятная. Неохота выходить. Иди. Что нам с тобой места не хватит …
Гриша с готовностью поспешил в ванную, где от горячей воды уже образовались легкие клубы пара, каплями оседающего на зеркале. Он быстро скинул с себя форму и белье и залез к Валерке под душ. Восхитительные струи полились по телу, хлестко разбрызгиваясь по сторонам, на кафельную стенку и на занавеску. Валеркино блестящее местами в мыльной пене тело было совсем близко. Валерка шутливо обхватил его руками и коснулся его бедра своей крепкой слегка торчащей пипиской. Валерка принялся орать песню про пионера-героя: «Жил в Ростове Витя Черевичкин, в школе он отлично успевал …» Песня получалась здорово. Гриша даже и не знал, что у друга такой хороший слух, и что он оказывается любит петь. «… и в свободный час он, как обычно, голубей ленивых погонял …» — выводил Валера мелодию, вкладывая в песню все свое радужное настроение. Он вертелся под душем, отфыркивался, набирал в рот воду и делал фонтанчик: «Смотри, Гринь, я — кит» — радостно орал он.
Гриша тоже включился в веселье и баловство друга, он старался ему подпеть, они стали соревноваться, у кого получится фонтанчик длиннее … но в то же время Гриша украдкой рассматривал Валеркино тело. Он видел друга голым в первый раз. Они были примерно одного роста, чуть выше среднего. Пару мальчиков в классе были выше их, остальные гораздо ниже. У Валеры были длинные крепкие ноги, костлявая спина, впалый живот. Гриша подумал, что ноги у него самого, пожалуй, не такие крепкие, но плечи пошире. Но самое главное были не ноги и не плечи, Гришин взгляд, хотя он и пытался его отвести, упрямо упирался в Валеркину пиписку. Теперь она уже совершенно не выпирала, наоборот обвисла довольно длинным обрубком. «А у меня как …? Больше или меньше, чем у него? У него вроде больше … зато у меня … вроде толще … я видел, когда залез к нему под душ, что у него немного „стоит“ … почему так … спросить … неудобно … стыдно … а у кого я еще спрошу … он же мой друг …». Ничего спросить Гриша не успел. Валера внезапно замолчал, а потом задал вертящийся на языке вопрос:
— Слушай, Гришка, а у тебя писюн «стоит»?
Гриша уже совсем было собрался сказать «как это …?», но в последний миг не спросил. Что тут спрашивать, если он сразу прекрасно понял, о чем говорит Валера. Невозможно было тут придуриваться, строить из себя идиота:
— Да. Утром, когда я просыпаюсь. И у тебя?
— Ага, я немного жду и иду писать … а потом проходит. Но, интересно, да?
— А днем бывает?
— Не знаю. Я не замечаю. А у тебя?
— У меня бывает … ты хочешь я тебе покажу, что я делаю …
Гриша вдруг увидел, что Валеркин член опять напрягся. Друг принялся катать его между двумя ладонями, ритмично пощипывать правой рукой кончик, капельку отодвигая вверх кожу. Завороженно смотря на действия друга, Гриша почувствовал, что ему тоже теперь есть на чем попробовать. Он стал делать так же, как Валера и понял, что это очень приятно. Просто приятно, ничего более. Удовольствие, подаренное другом, было ярким и он был Валерке за него благодарен.
— Во, видишь, Гриш, как … здорово, да? Ты только матери по утрам не показывайся, а то она беситься начнет. Точно начнет … лучше, чтобы она не видала.
— Да, нет, мать не узнает. Что я дурак? А правда, Валер, хорошо, что мы с тобой парни. Хорошо. Я бы не хотел быть девчонкой.
— Ну еще чего, девчонкой. Скажешь тоже. Ты за кончик, кончик подержись … ну, что ты там возишься?
— Валер … постой … я почему-то не могу отодвинуть … что-то там держит… мне неприятно, даже больно … а тебе нет?
— Ничего там не держит. Не сочиняй. Потяни осторожно, давай … давай … постепенно. Не бойся.
Гриша послушно потянул и почувствовал минутную острую боль. Кожный хоботок оттянулся вверх, обнажив нежную розоватую ткань головки. Потом у него сразу получилось все вернуть обратно. На секунду ему показалось, что у Валеры возникло поползновение ему «помочь». Мысль, что чужая рука его коснется была невыносима. Нет, только не это. Но Валера и не думал его трогать. Зря он испугался тогда. Все нормально, сегодняшний день был положительно важным в Гришиной жизни. Столько всего случилось. Под душем им стало жарко. Они вылезли, оделись и пошли на кухню, разговаривая уже совершенно о другом. В кино они так и не попали, а Валера ушел домой сразу, как родители вернулись с работы. С этого дня Гриша понял, что нет тем, которые он не мог бы обсуждать с другом. Если уж они про такое говорили … Да, мало ли у него было вопросов, которые он никому не задавал. Какой, например, прок было разговаривать с родителями про «евреев». Что они могли ему ответить, они же были внутри проблемы, да и забыли уже, как это быть единственным евреем среди всех русских. А вот Валера не был евреем, по-этому он ему честно скажет, что с евреями не так … почему их не любят, и что надо делать … Валера же ему уже сказал, что ему наплевать, еврей Гриша или нет. А про … это … утреннее…Идиотом надо быть, чтобы маму об этом спросить. А он не идиот. А папу … тоже нет, Гриша не мог говорить о таких глупостях с папой. Папа бы наверное стал его увещевать, что «просто не надо об этом думать … все хорошо». А как не думать? Легко сказать. Интересно, у папы тоже так? Да он лучше себе язык откусит, чем спросит. Как все-таки хорошо, что у него был Валера.
Потом они росли, ходили вместе в бассейн Динамо, сто раз видели друг друга голыми и уже не имели острой потребности обсуждать друг с другом чистую физиологию. Зато они стали обсуждать девочек, причем довольно рано. Валерка теперь с гордостью показывал свой, как он говорил «стояк», и ухмыляясь говорил, что он «готов» … вот сейчас бы девочку симпатичную. Гриша не спрашивал, разумеется, зачем. Он и так знал. Во дворе старшие ребята ему давно объяснили «на пальцах» что и куда надо совать. Гриша сначала не поверил, обсудил «нелепицу» с Валерой, и друг ему подтвердил, что, да, так и есть. Вот такими они тогда были продвинутыми теоретиками. Гриша улыбнулся, вспомнив себя и Валеру школьниками. Школу они оба вспоминали без отвращения.
Ни у него и у друга не было мучительного унизительного взросления, неуверенности в себе и комплексов. Тут их бог миловал. Мужчинами они стали «без труда», без горьких потерь и душевной боли. В те времена далекой первой юности они оба были счастливы, горды собой, а главное они любили окружающий мир и себя в нем тоже очень любили.
Гриша валялся на диване весь во власти своих воспоминаний. Так, надо вставать … разлегся и ничего не делаю … Он был собою не доволен. Хотя, что ему делать он не знал, дел-то никаких не было. С дочерью и с другом он поговорил по телефону, кому еще тут звонить. Гришин мир в иммиграции довольно значительно сузился, но поскольку это произошло постепенно, то не было слишком заметно. Под «ничего не делать» Гриша подразумевал писание книги. Надо было приниматься за работу и попробовать оживить в памяти такие живые ночные картинки из «детектива» про убийство ребенка. Он открыл «чистую» страницу и сразу увидел новенькое название крупным синим шрифтом «Системная ошибка» … больше на странице он ночью ничего не написал. С чего начать … какая должна быть первая фраза … инципит … Теперь ночные точные мысли казались Грише размытыми, он все уже видел не совсем так, как ночью. Черт. Ничего не писалось. Надо подождать. Убийство ребенка-инвалида показалось пошлостью, да и нестыковки … Гриша с досадой закрыл только что открытый документ. Не выходит? Это потому что он бездарен, вот и не выходит!
Чем-то полезным все равно следовало заняться и Гриша стал рыться в своих многочисленных файлах. Он искал силлабус «летней школы» и нужные раздаточные материалы. Он долго возился, распечатывал тесты, проставлял новые даты в сетку силлабуса. «Вот возня мышиная …» — думал Гриша, пытаясь сосредоточится на старых дидактических материалах, по которым он раньше работал. «А хули мне менять-то эту муть? И так сойдет». Распечатанные странички Гриша сложил в папочку и сходил вниз за яблоком. Чем отмеривать длинный день? Вот к «летней школе» подготовился. Можно ее еще на две с лишним недели выкинуть из головы. Накануне «дня Д», он распечатает список записавшихся студентов и войдет в класс … сейчас думать об этой автоматической деятельности для денег не стоило. Много чести. Гриша себя опять немного пожалел. Коллеги уже все будут в отпусках, многие подадутся в Европу, другие на пляж … а он будет талдычить студентам элементарную грамматику и брезгливо отмывать от мела руки. Что ж … иммиграция. Раньше-то он бы был скорее всего среди тех, кто в Европе. Да, ладно, неважно.
Гриша вдруг спохватился, что Маша перед отходом на работу дала ему кое-какие поручения: сходить в магазин со списком продуктов, начистить картошки и … что-то еще … что? Ах, да, сделать к ее приходу салат, а картошку поставить вариться, слава богу, что они ее здесь перестали чистить. Захотелось есть, причем что-нибудь нормальное русское. Салат из травы его совершенно не вдохновлял. Машка велела картошку сварить … а если пожарить. Гриша уж совсем собрался это сделать, но представив Марусин недовольный вид и увещевания насчет «вредности» жареной еды, раздумал. Черт с ним. По пустякам он с Маней никогда не спорил. Может ей казалось, что он ее слушается. Любопытно. М-да, слушается он ее, твою мать … да пусть она так считает.
Гриша ехал за продуктами и думал о жене. Маша … Ему всегда очень нравилось ее имя. Теща у него была еврейкой и его родители восприняли этот факт с энтузиазмом, хотя он всегда подчеркивал, что, мол, какая разница … Ему казалось, что для него разницы не существует, а для родителей она была … и это было немного стыдно. Маша объясняла, что ей дали, как она говорила, библейское имя. Ну да, библейское, особенно для католиков, уж они-то не перестают возиться с богородицей. Думать о Мане, как о деве Марии было смешно. Но имя действительно было классное. Разумеется на его библейскую суть Грише было наплевать, но зато сколько оно давало вариантов, каждый из которых Гриша в разных обстоятельствах использовал: Маша, Муся, Маня, Маруся, Мари … это были их семейные заморочки, которых остальные не понимали, только может Валерка немножко. Для него Гришина жена была чаще всего Маша или Маруся. Так они ее между собой называли.
Жена была Гришиным институтским знакомством. Она училась курсом младше, тоже на романо-германском отделении ИнЯза. Они виделись в коридорах, но познакомились в студенческом театре. Ну, театр — это громко сказано, так … крохотная группа фонетического кружка. Они занимались практической и теоретической фонетикой и совершенствовали свое произношение на классических текстах. Что-то профессорша с ними ставила, кажется, «Мнимого больного» Мольера. Гриша играл больного, Аргона. Нудил, стонал, хватался за разные части тела, кашлял и сморкался. Маша была его ветреной женой … и кажется принимала фонетический театр всерьез. Гриша репетициями тяготился, просто хотел отличную оценку, которую справедливо надеялся получить. Профессорша была молодая, модная и симпатичная, ему хотелось ей услужить, даже таким, как он сам иронично про себя думал «извращенным» способом, изображая Аргона. Ему нужна была «пятерка» по фонетике для повышенной стипендии. Валера его тогда расспрашивал о модной профессорше и делал грязные намеки. Только этого не хватало! А тут Маша. Какая она тогда была? Грише пришло в голову, что ему теперь трудно об этом судить. Внешне она показалась ему хорошенькой … небольшого роста, со светлым пучком волос, из которого вечно вылезали шпильки. Неплохая фигурка, хотя может на Гришин вкус чуть более, чем полагалось, пухленькая, торчащая грудь, стройные ножки, всегда на каблуках. Маша — стильная девушка, модно одетая в короткое. При знакомстве Гриша по привычке примерил ее на себя в качестве жены. Он всех примерял. Диплом и распределение были не за горами и в мысли о женитьбе уже не было ничего смешного. Умом друзья понимали, что надо иметь семью и детей, так было принято, но … но им хотелось «гулять», а жить с одной женщиной представлялось пока трудным, а главное скучным.
Гриша помнил, что сталкиваясь с Машей на репетициях, и холодно оценивая ее стати, он видел ухоженную девочку из «хорошей семьи», симпатичную, в «теле», с большой грудью. Такие быстро «бабеют» и грудь может после первого ребенка стать «как у тёти Миси, по колено сиси». Опасно. Тогда ни он, ни Валера не понимали, что живут не с «сисями», а с человеком. Потом жизненный опыт сделал это очевидным, а тогда у них была только наглая мужская уверенность, что им «все можно», и слепая вера, что все «будет хорошо», а иначе и быть не может. Ну почему они тогда думали о женщинах как о «бабах»? Традиция тех «нефеминистских» времен, или возраст? «Бабы» — это было собирательное понятие. С ними может быть в той или иной степени хорошо, но «бабы» заменяемы по определению, а раз так, то … «гуляй, пока молодой …». Вот что у Гриши тогда было в башке. Ну, что ж… Гриша себя тогдашнего понимал. Пел Высоцкий про «руку друга и надежный крюк …», это было про них с Валерой, а бабы … могли они быть «рукой друга и … крюком?». Нет, конечно. Бабы были «бабы», а не друзья. Что тут непонятного. Такое даже обсуждать не стоило.
Грише внезапно подумал … а сейчас … изменил ли он свое мнение о женщинах? Можно ли дружить с женщиной? «Нет, нельзя» — честно ответил себе Гриша. Можно общаться, изливать душу, жаловаться, или наоборот «распускать хвост», но … чувствовать себя с женщиной на равных Грише представилось невозможным. Дело тут было даже не в уме или интеллекте … дело было в разности на ином, более тонком уровне. Ну, да … все мы — люди, но мужчины и женщины такие разные. Она не может понять мужчину, она — другая. Она просто может сделать вид, что понимает … И женщину с ее биологическими ощущениями, недомоганиями, гормональными срывами, чувствительностью, романтическими претензиями … разве можно по-настоящему понять? Да, как бы не так! Мысль показалась Грише интересной, и как обычно, он решил ее обсудить с Валерой. Не забыть бы только …
Мысли его снова обратились в прошлое: и вот у них премьера, весь курс согнали, даже явку проверяли, гардероб закрыли и не выдавали пальто. Никто, собственно, не удивился. После спектакля поехали к кому-то справлять бенефис. Там и Валера был. Гриша нажрался, и поехал провожать Машу. Валерка, сволочь, ему еще подмигнул. У Маши дома никого не оказалось, он зашел выпить кофе … а дальше … всё обычно, то-есть он «так и знал». Гриша помнил, что был пьяный и устал … и зачем только пошел, дурак. Впрочем, все завертелось. Он лениво и отстраненно тогда отметил, что был у Маши первым. Его это немного удивило и он решил рассказать «прикол» Валерке, у которого никаких «целок», и в помине не было, вообще ни разу. Гриша помнил, что он тогда так о Маше и подумал … целка, которую он «сломал», противно этим гордился, и еще собирался пошло хвастаться другу. Ну, что делать, он тогда таким был.
Маша заплакала, еще раз объясняла зачем-то, где ее родители, но Гриша прослушал. Ему-то что, где они были. Он отрубился, наутро Маша тихонько ходила по комнате, боясь его разбудить. Гриша ушел и его мучил вопрос, как ему дальше быть с этой приличной наивной девочкой? Как она после всего заплакала, а он ее спросил «Что ты плачешь?», а она сказала «сама не знаю». Разве он ее обидел? Почему она плакала? Грише подумалось, что то, что было для него обычным и привычным, представлялось девчонке огромным, краем пропасти, началом или концом чего-то важного, решающего в ее жизни, которую он нарушил и наверное должен был нести за это ответственность. Ему тогда в первый раз это почему-то пришло в голову. Но Маша как-то плохо вписывалась в их с Валерой компанию. Бросить ее было жалко, не хотелось обижать. Гриша решил какое-то время побыть с Машей, а потом … видно будет, он что-нибудь придумает. Больше всего на свете он боялся, что она начнет ему звонить, стараться выяснять отношения, плакать. Девушки, если перестать им звонить, часто себя так вели, почти всегда. Гриша поставил себе за правило никогда не вестись на их просьбы о «последнем» свидании. Ему девок было с одной стороны жалко, но с другой, он их презирал за глупость и навязчивость. Разве непонятно, что он не звонит потому что не хочет, что их «последнее» свидание уже было, что объяснения ничего не дадут, что не надо его загонять в угол, не надо заставлять его действительно им говорить, что … все, он остыл, «накушался», что больше ее не хочет, что у него теперь другая, или не другая, но это неважно, что она ему просто элементарно надоела … он не хотел этого говорить девушке, она не заслуживала таких слов. С Гришиной точки зрения, делать ничего было не надо, надо было просто не доставать, достойно отойти. Зачем девушкам всегда были нужны объяснения необъяснимого? Зачем они всегда плакали и спрашивали «почему?» Да «непочему».
У него еще были свежи воспоминания о медичке Люсе. Неземная бесшабашная любовь, поездка в лагерь мединститута. Они там с Валерой просто замечательно отдохнули, развлеклись. И Люська в модном купальнике, с выгоревшей челкой, ночные купания. А потом осень. Люська почему-то решила, что он «ее», что она имеет на него права. Он был занят, по несколько дней не звонил, а потом слышал в трубке ее недовольный голос, он должен был отчитываться «где был, что делал, почему не звонил …» Ничего себе. Гриша стал звонить еще реже, не звонил даже, когда мог. Люся все еще была ему желанна, классная девчонка, он бы с ней еще долго встречался, приводил в компанию … но она к сожалению начала садиться на голову, он был перед ней кругом виноват и с этим надо было кончать. Он ей так и сказал по телефону, что … «нам, надо друг от друга временно отдохнуть, так, мол, у всех бывает». А потом … Что тут началось! И «давай встретимся, и что случилось, и знаменитое „почему“». Люська стала звонить ему сама. И вот наступает тот самый последний раз, которого он так боялся.
Вот они сидят на лавочке в Александровском садике, золотая осень, поздний октябрь. Она ему что-то долго говорит, Гриша почти не слушает, и украдкой смотрит на часы. Ну, что за пытка! Она плачет, он ей дает носовой платок. До сих пор Гриша помнил, как она ему тогда горячечно повторяла «я люблю тебя, я люблю тебя …» Как это было ужасно. Что он мог сделать? Неужели она не могла сдержаться? Она идет к метро, а он остается сидеть на этой проклятой лавке еще долго, облокотив голову о жесткую спинку. Нельзя этого допускать. Гриша охранял свой душевный покой, и каждый раз, закручивая неземную любовь, уныло думал о конце. Умение изящно расстаться с девушкой — это был высший пилотаж и этому стоило учиться.
Мало ли у него было замечательных романов, но ему и в голову не приходило принимать их за любовь. Он, кстати, никогда девушке и не говорил о любви. Зачем принимать желание за такие высокие чувства. Это было неправильно. Гриша знал, что девчонкам всегда приятно слышать о любви, он ждали его признаний… но не получали. Редко кто не спрашивал «а ты меня любишь?» Гриша уклонялся от ответа, но вопрос его раздражал и девушка, задавая его, начинала все для него портить. Любовь, любовь … женщины были на этом помешаны. Любая девушка, которая интересовалась, любит ли он ее, начинала казаться жалкой и это было началом конца, который обязательно скоро наступал.
Гриша попытался вспомнить, а были ли девушки, которых он любил, но они бросали его? Были … но разница между ним и большинством женщин как раз и была в том, что он рубил моментально, не был способен унижаться и выяснять отношения. Больше того, если он видел, что «что-то не так», он предвосхищал события, избегал сцен. Да и объяснения ему были не нужны. Стал «лишним», она его не ценит… этого было достаточно. Неважно почему. Пару раз в его жизни были девушки, которые создавали в нём комплексы. Такие, оказывается, и у Валеры были. Он шел на свидание, которое заканчивалось перепихоном, который представлялся Грише совершенно замечательным, а потом … всё … как отрезало. Он чувствовал себя разохотившимся, на взводе, звонил ей, полностью уверенный, что она сидит и ждет его звонка, но девушка не подходила к телефону, потом брала трубку и плела какие-то небылицы, не слишком заботясь об их достоверности. В общем все ограничивалось одним разом. Она его использовала и выбрасывала, как мокрый презерватив. Почему? Не понравился? Не соответствовал? Что-то было не так? Но что? Она вела себя, как он мог бы себя вести, и это было невероятно неприятно, хотя … попереживав несколько дней, Гриша о ней забывал, не желая верить, что он мог не понравиться. Не может быть. Там, скорее всего, было что-то другое … и черт с ней. Может быть он не слишком мучался, так как ему тогда не приходило в голову, что он «какой-то не такой … вот его и не любят». Комплексы пришли, только гораздо позже. Скорее всего он просто не любил тогда никого. Разве что Машу?
А тогда его страхи оказались напрасными. Маша не звонила. Странно. Гриша уже и сам не понимал, рад он был этому, или нет. С одной стороны он вроде сам хотел, чтобы не «доставала», но с другой … как же так? Она, что, его из головы выкинула? Ну как это? Ну, было такое с ним раньше, но … Маша? Невероятно. Сам он тоже ей не звонил, хотя и понимал, что чем больше времени проходит, тем труднее будет «вступить в ту же воду». Недели через две он рассказал о своих сомнениях Валере:
— Валер, помнишь Машку?
— Какую Машку? Не помню. Из мединститута, с Пироговки, медсестру? Эту что ль?
— Да, нет. Та была Люся. Машку, с которой мы в спектакле играли. Мы с ней потом ушли … помнишь?
— А … ну помню. Симпатичная девочка. И что? Что там произошло? Ты же говорил, что она … девочка, и что ты … и что дальше? Не знаешь, как от нее отделаться? Так? Ну давай ее с Жекой познакомим. Хочешь? Помочь тебе соскочить?
— Нет, Валер, я её ни разу с тех пор не видел. Понимаешь?
— Нет, Гриш, не понимаю. Не хотел — вот и не видел. В чем проблема-то?
— Не знаю. Сам не знаю.
— Постой … что-то ты не договариваешь. Она не хочет? … Ты влюбился, так? Что ты мне сказать-то хочешь? Говори уже …
— Она не звонит и я не звоню … Что ты сразу «влюбился»? Не знаю …
— О … это серьезно. Ладно, дурака не валяй. Позвони ей сейчас же … наплети что-нибудь и давай … вперед. Если не влюбился, сразу же поймешь … а иначе не поймешь, будешь просто мучаться. Давай, Гриш, ты же не младенец … Звони.
Обычно Гриша никогда этого не делал, а тут позвонил из первого же автомата, Маша была дома, голос у нее был спокойный, она не стала, как остальные спрашивать «почему не звонил, куда пропал …», хотя у Гриши был заготовлен ответ, он, мол ездил в поездку по Волге с французами по линии «КМО, Комитета молодежных организаций» … Нет, ложь не понадобилась. Через три месяца Гриша переехал к Маше жить. Родители ее оказались людьми современными, они приняли дочкиного «бойфренда», хотя так еще почти никто не делал. Гриша прожил в Машиной семье около года и в конце пятого курса перед самым его распределением они поженились. Еще через год у них родилась Аллка. Про свадьбу и вспоминать-то было нечего. Много родственников, ребят из института, Валерка, сначала не отходящий от Гриши ни на шаг, потом куда-то резко смылся. Гриша даже не очень успел заметить с кем. Он тогда даже немного на друга обиделся. Получалось, что его свадьба стала для Валеры просто пьянкой, где он нашел новую подругу.
Интересно, как он сам тогда к Маруське относился? Любил? Вроде, да. Маруся была ему желанна, он ее хотел и они мастерски научились доставлять друг другу удовольствие. Она была умна, каким-то типично женским мудрым тонким умом. Это не был интеллект, эрудиция, широта, скорее интуитивное понимание того, как надо … соблюдение неких правил, принципов и установок. Для создания семьи Марусин ум был достаточен, но … Тогда Гриша и не задумывался ни про какое «но». Не видел он в их отношениях «но», хотя были разные мелочи, которые его временами настораживали. Например, до женитьбы ему казалось, что когда у него появится жена, в его жизни все будет по-другому. Он создаст их особый семейный мир и остальной «большой» мир перестанет его манить, ему некуда будет рваться, он удовлетворится своим счастьем вдвоем. Нет, этого не произошло. Ему было хорошо с Машей, они много времени проводили вместе, совершенно не напрягаясь, но … вдруг ранним вечером, когда убрав тарелки после ужина, они усаживались смотреть телевизор рядом с Машиными родителями, у Гриши возникало острое желание … отвалить. Иногда звонил Валерка, приглашал их вдвоем с Машей куда-нибудь сорваться и приехать … к друзьям, в ресторан, на просмотр фильма … Один Гриша конечно бы поехал, а с Машей … ему почему-то не так хотелось.
Они иногда ездили и Машины родители всегда им вслед говорили «ну, куда же вы на ночь глядя …» Маша никогда его от поездки в бывшую компанию не отговаривала, но … Гриша стал чаще отказываться, чем соглашаться. Ну, зачем ему куда-то ехать, если им хорошо дома. Лень на улицу выходить. Вот сейчас они посмотрят кино и лягут спать, а завтра … завтра будет то же самое. Стабильность прекрасна, но … опять это «но». На самом деле он прекрасно знал, почему он отказывается. Правда была в том, что в их компании у него, у Гриши Клибмана, был особый статус, бесшабашно-холостяцкий, а сейчас статус переменился. Ребята знали его девушек, его выходки, выкрутасы и номера … а теперь он приводил жену, пусть симпатичную, стройную, смешливую, неглупую … но жену. Он не мог уже быть рядом с ребятами тем, кем был раньше. Там у них была разношерстная компания плейбоев, среди которых он был «первым среди равных», а плейбой женатым не бывает. Гриша видел, что друзьям приходится в присутствии его жены играть какие-то роли, они за собой следили и не расслаблялись. Даже Валерка немного напрягался. И зачем это было надо?
Несколько раз Валера приходил к ним домой со своими девушками, но из этого тоже ничего хорошего не вышло. Трудно даже было сказать почему, хотя нет, и Гриша и Валера знали почему, только не захотели этого вслух друг перед другом признать: им по-настоящему хорошо было только вдвоем, или иногда с ребятами, своими. Другой близкий человек, каким, все всякого сомнения, была жена, им обоим был не нужен. Такой, пусть и родной, «третий лишний» мешал. Однажды Валерка Грише даже об этом сказал: «Ничего, Гринь, дай срок, вот я тоже женюсь, и мы будем дружить домами». Такое вот типичное «желаемое за действительное». И тот и другой знали, что вряд ли так получится.
Гриша помнил, что у него тогда не проходило ощущение, что он странным образом по-прежнему свободен. «А что такого … мы взрослые люди … если что … разойдемся и все». Ничто не предвещало в их жизни никакого «если что», но Гриша не мог принять незыблемость своего положения, ему казалось, что все еще можно переиграть. И только, когда у них родилась Аллка, он вдруг понял, что «ставки сделаны», от маленького ребенка он никогда и никуда не денется. Он и от Мани никуда не собирался «деваться», хотя и играл с этой мыслью, но теперь занавес над его семейной жизнью опустился окончательно.
В те времена они с Валерой виделись нечасто. И тот и другой интенсивно занимались карьерой. К тому же у Валеры был невероятно бурный роман с парашютисткой. Он был ею заворожен и, когда изредка встречался с Гришей наедине, мог разговаривать только о своей Тане. Зацепила его тогда эта девушка.
Валера, новоиспеченный выпускник Физтеха, поехал по старой памяти на институтский вечер в Жуковский. Там они гуляли с ребятами-физиками, забрели на аэродром, смотрели авиашоу, какие-то показательные прыжки и … Гриша позже «видел» Валериными глазами его первую с Таней встречу, хотя и не присутствовал на ней. Ну, шоу — как шоу: сначала истребители, фигуры высшего пилотажа, подсвеченные шлейфы реактивных потоков из хвостов. Потом крохотные, отделяющиеся от машин фигурки парашютистов, зависание в воздухе, свободное парение, фигурки берутся за руки … и наконец разноцветные пятна, раскрытых куполов парашютов. Валера увидел Таню в утепленном синтетическом костюме, перевязанную какими-то ремнями, из которых торчали крючки карабинов, в грубых высоких ботинках на шнуровке. Она только что приземлилась, парашют кто-то за нее где-то складывал. А еще она держала в руках шлем, с врезанными туда очками. Валера такие видел на картинках из Маршака. А тут девушка подошла к ребятам, кого-то она, вроде знала, и сказала, что она — Таня и да, конечно, она придет вечером в клуб на вечеринку. Вечером Таня приоделась и уже ничем не напоминала парашютистку, но шлем и ремни Валера запомнил и у него случился один из самых ярких романов его жизни, не закончившийся, правда, ничем. Хотя … почему «ничем», он закончился пустотой и болью.
Валера тогда совсем пропал, и все, что происходило Гриша узнал уже много позже. Они оба тогда только начали выходить из периода какого-то повышенного интереса к женщинам, гона, животных брачных танцев. Этот период начался у них относительно рано, сразу после школы, и даже еще в школе. Он заканчивался, приелся обоим, но все равно представлялся «свободой» и даже сейчас Гриша испытывал ностальгию по их первой «отвязанной» молодости, по их плейбойским победам.
Гриша услышал, как к гаражу подъехала Машина машина. Мысли его сразу переключились на их с женой обычную жизнь. Маша сходу начала обсуждать с ним «какой бессовестный внук Антон, и он, Гриша бессовестный тоже». Алла ей жаловалась, что папа заступался за Антона … а он мальчика в школе ударил. Второй раз все это обсуждать Грише уж совсем было неинтересно. Он слабо отбивался, объясняя, что ничего такого не имел в виду, и что «пусть они сами воспитывают своего ребенка, что он ни при чем». Он вообще не мог понять, почему, обсуждая с ним Антошино поведение, Аллка была уверена, что он будет дудеть с ней в одну дуду. А чего бы он стал с ними соглашаться, если был несогласен? А Маруся? Ну зачем она с ним про это говорит? Что больше поговорить не о чем? Хотя … о чем еще?
— Мань, помнишь Валеркину парашютистку?
— А при чем тут она? Какое это имеет отношение к драке Антона?
— Ладно, никакого. Это я так …
Что это, право, на него нашло? Может дело тут в том, что ее мозг все время в настоящим, а его — в прошлом? Интересно, а о чем Маруся вспоминает? И вспоминает ли? Может он один такой? Мыслями в прошлом. Да, нет, это не так, не только в прошлом. Вот недавно Аллка с мужем и дочерью отдыхали в круизе на прекрасном теплоходе … она была отдыхом не вполне довольна, и потом долго рассказывала почему. Что ей могло не понравиться на этом плавучем острове комфорта? Всем нравится, а ей нет? Он прекрасно понимал, что там у нее было не так. Да и Маруся, надо отдать ей должное, понимала. Гриша тоже когда-то плавал пару раз на таких фешенебельных круизных судах, но у него все было по-другому: он там работал переводчиком, руководителем различных туристических групп по линии КМО. Он был занят и его развлекали романы, ночные прогулки по палубе, ночи в красивых удобных каютах, а Аллка же была там с семьей. Дочь долго и страстно рассказывала о невозможности ни с кем общения, бесконечную озабоченность мужа спортивными занятиями, его беспрерывные дневные сны. Она жаловалась, что там не с кем слова было сказать.
Он «видел» эти разноязыкие развязные толпы невоспитанных туристов, желающих за свои деньги получить удовольствие по «всей программе». Шоу слишком примитивные, усредненно-безликие, как бы на любой вкус. Плоские вульгарные шутки, старые трюки, грубый, тупой гогот. Бесконечная озабоченность едой, разными ресторанами, жующие рты, невкусное и жирное изобилие, нелепо разодетые дядьки и жирно накрашенные тетки, все немолодые. Вечером можно либо дергаться на танц-поле, либо напиваться в баре. Понятное дело, днем люди прохаживаются по палубам, сидят в салонах, валяются на шезлонгах рядом с бассейнами. Они не против поговорить … но этот их американский «смол-ток», болтовня ни о чем. Ну зачем узнавать о чьих-то внуках или детях, о прошлых отпусках, об удачных поездках … Более глубокие беседы не приняты, люди настолько не привыкли друг друга «грузить», что уже и не в состоянии вести более осмысленные разговоры. Ни секунды нельзя побыть одному. Народ везде, и никто не понижает голос, все орут, хорошо, если по-английски. Часто слышен визгливый агрессивный китайский … Алла рассказывала про «прекрасный» теплоход, а Гриша видел «картинку», катал ее в своей голове, и прикидывал, куда ее можно будет встроить? Должно же у него что-нибудь происходить на таком теплоходе.
В такую раму можно вложить «конец любви». Мужчина и женщина расходятся, это их последний отпуск вместе. Они хотели по-человечески проститься, в последний раз пережить свою близость на полном романтики круизе: палубы, белые трубы, легкая летняя одежда гуляющих, развевающиеся по ветру шарфы и длинные вечерние платья, рестораны, музыка, а на горизонте черное небо, усыпанное звездами и за бортом черная вода и кипящий шлейф фарватера … А вот и не вышло ничего … Романтическая картинка сейчас же рассыпается … Конец любви не может быть романтичным. Это боль, горечь, потеря, внутренние обиды, неудовлетворенность, пресыщение, комплексы … И тут как раз и будет нужен этот Аллкин круиз, вся эта гадость, гвалт, вульгарность толпы и непонимание близкого человека, который не видит все так же, как ты … А почему, правда, не начать писать любовный роман? А ничего, что их читают одни тетки? Не мужской это жанр, но … может попробовать и посмотреть что выйдет. «Картинки» из круиза прочно поместилась в одной из ячеек Гришиной памяти: распаренные парни в потных майках на баскетбольной площадке, пьяный дядька с кружкой пива, громко рассказывающий окружающим какую-то пошлую шутку, толстая нетрезвая девка, нелепо качающая бедрами на танцполе, лощеный повар с понтами выносящий блюдо с «фирменными» ребрышками … Он был уверен, что они когда-нибудь ему пригодятся. Не сейчас, так позже.
«Картинки» из жизни представляли для Гриши неизбывную ценность. Он замечал, что с некоторых пор практически любой обыденный эпизод делался для него «картинкой». И еще он был уверен, что для других так не было. Люди просто не видели повседневность так, как он.
Пора было ложиться спать. Муся его, одетая в простую ситцевую ночную рубашку с кружевами уютно устроилась рядом с книжкой. Она читала «Женщины Лазаря» Марии Степновой и ей очень нравилось. «Ты тоже должен прочесть, Гриш» — вот что она ему каждый вечер говорила, стремясь разделить с ним удовольствие. Гриша заранее знал, что книга эта не для него. Ему даже было легче вовсе ее не читать, чем прочитав, говорить Мане, что «нет, не нравится». Она в таких случаях злилась, да и вообще, неприятно говорить близкому человеку, что вам не по душе то, от чего он в восторге. Гриша, кстати, взглянул на этот текст. Степнова была молодец. Замечательный стиль, крепко сбитая композиция, убедительные характеры. Название, естественно, издательское … Вовсе там не про того Лазаря библейского, и никакой особой экзотики. Семейная история, старый умный интеллигентный дядька, две его жены … и внучка. Он мог понять, почему это интересно Мане, а ему … нет. Плевать он хотел на эти нюни … такие книги ни с чем для Гриши не ассоциировались, не заставляли думать. Да, там, собственно и «вечных» вопросов не было. Там были истории, как на идише говорят «майсы». Бабы такое обожают. Гриша поймал себя на том, что давно забытое словечко «бабы» опять всплыло в его мыслях. Вот почитал он недавно новую книгу Глуховского, антиутопию, безжалостную до жестокости, сильную, мощную прозу. Ему бы и в голову не пришло рекомендовать ее Мане. Они читали разное, и Гриша к этому давно привык. Да разве в разности их литературных вкусов было дело? Если ли все было так просто? Подспудно Гриша считал, что его вкус — хороший, а Маня любит всякую сопливую лажу. А что? Лажа, как ни странно, тоже бывает талантлива. Или не бывает? Гриша запутался.
В голову пришли их пересуды об Антошиной драке. А так ли он прав в своем упрямом агрессивном стиле поведения, вынесенном из другой эпохи, из другой ментальности? Это они с Валеркой были драчливы, утверждая себя «альфа-самцами», правильно так было, нет? Здесь, видать, все по-другому, а он не догоняет новых норм. Надо ему просто быть скромнее, не лезть со своими мнениями. Хотя, почему это не лезть? Если не лезть, то надо все время молчать. И все-таки у них с Валеркой все было интереснее и честнее.
Они тогда учились в пятом классе, и уже посещали секцию по самбо. В начале 70-ых они как раз начали открываться. Занимались с удовольствием, были уверены, что им это обязательно надо. Как говориться «на бога надейся, а боксом занимайся». Они с Валерой думали, что они сильные, сильнее всех, а когда на первое занятие пришли, то увидели, что в группе все такие. Валера попал тогда в большую неприятность. Хотя … что школьное начальство могло ему сделать? Почти ничего, но тогда им казалось, что все … выгонят из школы. Валере и детской комнатой милиции угрожали и колонией для несовершеннолетних. Да, не было бы этого ничего, но они, дураки, верили, и очень боялись. Там и драки-то не было, и самбо тоже не понадобилось, до него просто не дошло. И слава богу, иначе было бы еще хуже.
Был уже почти конец учебного года. Сразу после уроков, когда школа еще не успела опустеть, Валера шел в пионерскую комнату за барабаном. Все как раз готовились к линейке 19 Мая, а Валера с удовольствием заделался барабанщиком, такую дробь выстукивал на «вынос знамени дружины». Вожатая как раз собрала знаменную группу и они хотели репетировать. Репетиция обещала быть недолгой и Валера в столовую не пошел, решил потерпеть, но был жутко голодный. Он увидел группу из параллельного 5-А, они стояли у окна и что-то жевали, разложив на подоконнике коробку то ли с печеньем, то ли с маленькими пирожными, скорее всего доедая чье-то угощение по случаю Дня рождения. Валера подбежал и попросил дать ему «откусить». Ничего особенного, так было принято и он не сомневался, что знакомые ребята протянут ему кусочек … И действительно Шемякин, которого все знали по кличке «Мяка», любезно улыбаясь протянул Валере неплотно закрытую коробку. Валера открыл ее и увидел вместо печенья только пустые смятые бумажки. Вокруг загоготали: шутка удалась, Валера повелся … смешно … Шутку спонтанно придумал Мяка, небольшого роста, щуплый, смешливый и хитрый, он слыл «приколистом», выступая в амплуа развлекателя публики, которым он дорожил. Мяка был способен осмеять что угодно и кого угодно, лишь бы вызвать смех окружающих.
Того, что произошло никто, конечно, не ожидал. Валера отшвырнул пустую коробку и без замаха, удара никто не заметил, ударил Мяку кулаком в подбородок, вложив в него всю силу. Мяка упал навзничь, ударившись головой о паркетный пол. Валера не рассчитал своего удара, не думал, что все случится так быстро, он еще планировал вдарить Мяке ногой в голень или локтем в корпус … но ничего не понадобилось. Человека не полу бить тогда было не принято. Мяка подозрительно долго не вставал и не подавал никаких звуков. Валерка говорил, что суету вокруг лежащего Мяки он помнил плохо. Его больше занимала острая боль в большом пальце правой руки. Как потом оказалось, ему даже тренер объяснил, кулак он сложил неправильно, он выбил палец из суставной сумки, а мог бы и вовсе сломать. Короче: у Мяки было сотрясение мозга и Валера сломал ему челюсть. О, что тут началось! И родители, и специальный педсовет, куда пригласили Валеркину маму. Угрозы, отцу на работу письмо написали … Друг был расстроен, испуган, но как Гриша понимал, вряд ли сожалел о том, что он сделал. В результате Валеру заставили просить у Мяки прощения, причем публично в классе. Валера, припертый к стенке, попросил. У него это даже как-то натурально вышло. Страсти улеглись. Мяка долго в школе не появлялся, а потом ненадолго появился и доходил до начала июня, когда всех распустили на каникулы. Говорить он не мог, только мычал. Челюсть его была сжата особыми скобками, сквозь которые он едва просовывал трубочку, через которую пил жидкие супы и сметану. Валера совершенно ни в чем не раскаивался и говорил Грише, что «Мяке-гаду еще повезло, его теперь к доске не вызывают». Потом все конечно забылось. Мимолетный эпизод их жизни, неизвестно почему сейчас вспомнившийся, наверное в связи с Антошей.
Гриша «положил» эпизод с челюстью в память. А если написать рассказ на морально-этическую тему: бить или не бить? Как понятие гуманизма соотносится с понятием чести? Валера нанес свой удар, который получился слишком сильным, но он был взбешен глупой шуткой, которая его перед всеми унизила. Вот сказал бы он тем ребятам и Мяке «что, мол, вы делаете … как вам не стыдно …» и что? Они бы еще больше смеялись, видели бы, что он расстроился и обиделся, … и хорошо: шутка удалась! А так, Мяка запомнил на всю жизнь? Что он запомнил? Боль? Никаких он уроков не извлек. Нет, конечно. Он просто стал Валеру ненавидеть. Никогда он его не простил. Валера сыграл роль кающегося, а Мяка — прощающего. Какая фальшь. Мерзкий спектакль. И все-таки Гриша помнил, что ему было тогда Мяку жалко. Он представлял себя на его месте, свой ноющий неоткрывающийся рот, невозможность ничего сказать, жидкая пища, головные боли по ночам. Мяка неудачно пошутил, так что, убить его …? А что? Что с ним сделать? Ничего? Подобные шутки — это был Мякин конек. Он заряжался от чужого унижения и глумливого смеха, который сам вызвал. Мяка был сволочью, но … искалечить его? Так тоже было нельзя. Они говорили об этом с Валерой:
— Валер, а тебе Мяку не жалко?
— Нет.
— Совсем? Он мучается. Слишком ты его сильно…
— Ну, сильно получилось. Кто ж виноват, что он такой хлюпик. А еще лезет …
— А если бы ты знал, что так получится, ты бы его ударил?
— Да, ударил бы. Я не мог его не ударить. Так со мной шутить нельзя. Пусть знает, гнида, … и все знают …
— Ты хочешь, чтобы тебя боялись?
— Нет, не надо, чтобы боялись, надо, чтобы уважали. Есть разница. Есть или нет?
— Есть, но … ты мог бы его убить.
— Ну, не убил же. Хватит об этом. Что это ты, Гриня, такой добрый? Разнюнился ни с того ни с сего. Я тебя не понимаю. Что сволочь жалеть? Сволочь получила и хорошо. Мяка, он подлый и все об этом знают. Подлость должна быть наказана.
Гриша тоже был согласен, что подлость должна быть наказана, ему нечем было крыть. Валера, получается, был прав. Но … что-то в этой его жестокой, но справедливой правоте было не то. Написать маленький рассказ про мальчишек и поставить этот вопрос. Вопрос, ответа на который Гриша не знал до сих пор. Как тут говорят: все можно решить миром? В большой политике есть дипломатия, правительства обязаны избегать войны любой ценой, но между двумя мальчишками? На кого уповать? На взрослых, на способность прощать, на способность к раскаянию? Вот например тогда: Мяка не понял, что его шутка была злой и унизительной, а Валерка просил прощения, но совершенно неискренне, только чтобы избежать неприятностей … Что, пусть будет фальшь, лишь бы не было драки? Вот подошла бы учительница, пристыдила бы Мяку, он бы пробормотал извинения и все? Публичное оскорбление было бы смыто? Друг смирил бы свою гордость? Гриша не был в этом уверен. А Валерка? Что он сейчас думает? Столько лет прошло. Надо будет у него при случае спросить.
Впрочем они с Валерой еще много раз в жизни дрались, пацифизм в их компании не проповедовался, негласно считался синонимом трусости. Не умели они воспринимать оскорбления философски, не получалось. Ярость застилала глаза, пальцы сжимались в кулаки, и моментально хотелось «крови». Нет, правда, интересная тема, но ее только с Валерой можно было обсудить.
Свет в спальне давно не горел, но сон к Грише не шел. Идея рассказа о мальчишеской драке не выходила у него из головы, а заснул он только с рассветом, за окном уже загоралось сероватое туманное утро.
Выходные прошли в суете. Ездили с Марусей по магазинам, вечером пошли к Аллке на первое в этом году барбекю. Все было отлично, кроме того, что Гриша очень мало выпил, и находился в состоянии неприятной недогуленности. Аллка не пила совсем, зять Коля с Машей пили красное вино, которого Гриша не любил. Ну, не то, чтобы не любил, но считал напитком несерьезным. Вино хорошо пилось под фрукты, сыр, крекеры. А сейчас была такая замечательная обильная еда, как они когда-то говорили «закуска», что Грише стало обидно, что закуска пропадала. Коля родился в Америке, и про водку ничего не понимал. Водка у Аллы в доме была, и при желании ребята достали бы для папы бутылку, делая ему скидку, что папа, мол, русский, но Гриша привык «гулять» в компании, а так получалось, что он пил бы один. От водки у него делалось замечательное приподнятое настроение, хотелось веселья, музыки, даже танцев, а так … зачем такой «взлет»? И петь не для кого, и танцевать не с кем.
В очередной раз Гриша почувствовал себя неадекватным. Как они с Валерой говорили «сейчас бы нам с тобой туда, где расцвела сирень…». Да, какая уж тут теперь «сирень». Он запросто мог бы принять грамм триста, но такая доза Колю буквально убила бы. Он всегда с удивлением смотрел, как Гриша наливает себе пятидесяти граммовую стопку и разом опрокидывает ее в себя. Пять-шесть стопок … под чудесную жареную свинину с картошкой и салатами, а так … Гриша тоже пил вино, они приканчивали на троих уже вторую бутылку, но как и следовало ожидать, у него не было «ни в одном глазу». То же мне … в гости сходил! Вот они когда-то с Валерой … Грише остро захотелось, чтобы друг сидел с ним сейчас за столом. Все было бы по-другому: настрой, атмосфера, беседа, степень вовлеченности в разговоры. Ему стало за себя стыдно: ну что ему еще надо? Семья, маленький внук, будет еще ребенок … Любимые, дорогие ему люди, которым он нужен. «Нет, ну я — мудак … что мне не хватает … Валера, Валера … ну зачем мне сейчас Валера? А без Валеры совсем не можешь обойтись?» — Гриша молча занимался самобичеванием, хотя в глубине души он прекрасно знал, почему ему всегда не хватало Валеры. Только с Валерой он был до конца «собой», а не играл роль благодушного, умного, продвинутого папы и нежного мужа … Вот они разговаривают, Гриша как бы с ними, но разве об этом ему хочется поговорить? Не он направляет беседу за столом, а женщины. Все правильно, так и должно быть. А чего-то не хватает. Настоящего интереса не хватает. Ага, ну понятно, вот Аллка несет большую книжку с картинками про стадии беременности. Тычет в одну из картинок пальцем: зародыш 12 недель, у него уже ручки-ножки, у него сердце, у него мозг, он уже 4 сантиметра в длину. На хрена ему смотреть на зародыша? Нет, ну куда это годится? Увеличенная картинка … и что? Восхищаться? Он смотрел, но даже минимального интереса закосить не получилось.
Вот с Валерой … с ним даже молчать было хорошо, оба знали «о чем они молчали», и почему в эти минуты не нужны слова. Так иногда было и с Маней. Для этого им надо было остаться вдвоем. Сейчас их было четверо, а рядом еще ребенок: три поколения, у всех разное … Грише захотелось домой. Он засобирался, но сразу уйти не вышло. Маня хотела непременно дождаться чаю с тортом. Свое императивное желание идти домой Грише пришлось скрыть. Ну, что я в самом деле взбесился? Прямо … немедленно … выходите строиться! Пусть Маруська пьет свой чай. В последнее время Гриша вынужден был себе признаваться, что он ведет себя, как псих. Надо за собой следить.
В машине Маня опять завела про беременных, картинки с «ручками-ножками» и … опять вечная тема Аллкиного самочувствия. А вот, когда она сама была беременная, было то-то и то-то. Слушать эти подробности было скучно, но Гриша Машу не прерывал. Он и раньше об этом думал: то, что для женщин необыкновенно важно, то для мужчин — никак, и наоборот. Все эти Машины «а ты помнишь, помнишь?» Да помнил он все. Хотя и не так, как Маше хотелось, «неправильно» он помнил, без умиления. Как она тогда вообще залетела? Видимо, случайно. Вовсе он не собирался становиться папой, как-то не ощущал себя готовым. Понимал конечно, что когда-нибудь, конечно … просто «когда-нибудь» наступило вот прямо сейчас. Он жил своей жизнью, секс для него совершенно не ассоциировался с детьми. Он любил свою жену, старался быть осторожным … ну надо же! Машка не делилась с Гришей своими сомнениями, просто через какое-то время после пропуска, как она говорила «менсов», он в такие вещи не вникал, она пошла к врачу. Вечером они легли спать и она ему новость объявила. От удивления Гриша онемел … хотя что ж тут такого было удивительного: не убереглись. Бывает. Он молчал. Перед ним совсем близко было напряженное Машино лицо, с каким-то несмелым, выжидательным выражением, с застывшей напряженной улыбкой: она ждала его реакцию. Пауза затянулась чуть дольше, чем следовало. Бедная Машка. Какой же он был скотиной! Ей даже пришлось его спросить:
— Гриш, что ты молчишь? Ты не рад?
— Рад, Муся, что ты … просто все так неожиданно. Я очень рад.
Гриша как будто отмер, обнял Марусю и они долго лежали обнявшись, не спали. Гриша шептал Маше на ухо нежные слова. И однако огромность новости придавила его. Наутро, проснувшись, он сразу вспомнил что «там у Машки что-то уже растет … и что теперь будет». Странно он тогда не думал ни о ней, ни о ребенке, он думал только о своей пошатнувшейся стабильности. То-есть «что будет со мной? А как же я? А как это я вынесу кричащего младенца и Маню с разбухшей грудью с сочившимся молоком?». Вот о чем он думал, никому не озвучивая своих мыслей. Валерке он не стал звонить специально, сказал при случае, но друг воспринял новость слишком легко, просто сказал «поздравляю … передай Марусе мои поздравления» … и все. Ну да, другу было не до них. Там в Валеркиных мозгах была сплошная, как Гриша с Машей ее за глаза называли, Таня-парашют.
И вот начались Манины недомогания: то ее тошнит, то ее рвет, то у нее сонливость, то ей надо сдавать анализы, … ага, низкий гемоглобин … ей надо есть орехи и гранаты. Тещины «Гриша, езжай на рынок купи Мусе сухофрукты … ей нужен свежий творог … нет не будем есть борщ, Мусе это вредно в ее положении, ей нужна легкая пища …» Как он от этого устал. Они вообще никуда не ходили, Маня лежала на диване в теплых носках, укрытая пледом. Живот начал вырисовываться и жена перестала за собой следить. На ее округлившемся лице появились темные пигментные пятна. Но дело было не в них. Гриша не испытывал к растолстевшей Мане неприязненных чувств. Нет, чего не было, того не было. Впрочем он и не гордился ее животом, просто надо было это неприятное время переждать … все будет по-прежнему. Дома стало как-то уныло. Никаких ни на что отвлечений. Они все работали, но вечером все крутилось только вокруг будущего ребенка. Гриша помнил, что его еще тогда, давно поразила женская завороженность беременностью. «Какой у баб делается ленивый, узконаправленный ум, когда у них в животе ребенок» — угрюмо думал он, выводя отяжелевшую Маню погулять в парк. «Я с ней разговариваю, о она вроде мне адекватно отвечает, но … так рассеянно, лениво, не заинтересовано, как будто делает мне одолжение. Ничего ей сейчас неинтересно, она не перестает прислушиваться к себе: вот ребенок пошевелился, вот … изжога, газы … что там еще бывает … господи! То надо прилечь, то поесть, то встать походить, то … дайте соку, или бутерброд с колбасой…» Женская биологическая сущность во время беременности проявлялась ярко и мощно, Гриша умом понимал, что это нормально, но очень беспокоился о себе.
Маня стала толстая и неповоротливая, она любила брать его руку и прикладывать ее к своему бугрящемуся под халатом животу: «послушай ухом … слышишь, сердце бьется. Видишь, как толкается, прямо видно … смотри, вот наверное коленка или головка». Гриша послушно прикладывал к Машиному животу ухо, поглаживал «коленку или головку», покорно смотрел на перемещающиеся по животу возвышенности. «Правда, это — чудо?» — с нежностью спрашивала Маруся. «Правда» — отвечал Гриша, хотя никакого особого умиления не испытывал. «А может я — урод? Это же мой ребенок там у нее внутри шевелится. Что меня забирает?» — Гриша ругал себя за бесчувственность, но ничего сделать с собой не мог. Вечером за столом Маша ни о чем не могла разговаривать кроме колясок, манежиков и сравнительных достоинств теплых одеял и пеленок. Гриша на все соглашался. Обсуждения одеял его глухо раздражали. Он с надеждой смотрел на тестя, но тот молчал и вяло поддакивал женщинам. Хоть бы быстрей уже … Нет, ему тогда мало не показалось. Гриша улыбнулся: ну, надо же «ему мало не показалось! Машка носила его ребенка, а он … устал». Тогда, впрочем, мысль о собственном эгоизме Грише в голову не приходила.
Потом Маша родила. Он сам отвез ее на такси в роддом и долго ждал в вестибюле около окна информации, ловя себя на том, что мысли его все время отвлекаются от того, что сейчас происходит с Марусей. Ему как раз совершенно не хотелось представлять себе ее корчавшееся от боли тело, слышать ее животные крики. Он почему-то был озабочен тем, что не смог поехать на работу, хотя там у него было важная встреча в обществе Дружбы. Кстати, он все-таки потом туда поехал, уговаривая себя, что «надо, мол, ехать … ничего не сделаешь», а на самом деле, трусливо убегая из вестибюля больницы, от сгустка разлившегося в воздухе напряжения. Гриша подумал, что сейчас в современной Америке мужья присутствуют на родах. Какой кошмар! Кровавая слизь, дымящаяся темно-бордовая плацента, скользкий младенец, Машины разъятые ноги. Гришу даже передернуло. Нет, все-таки хорошо, что ему не довелось видеть любимую женщину в таком виде.
А тогда ему передали в руки красный сморщенный комок, его дочь. Сверток оказался невесомым. Дома они ее развернули и Гриша увидел копошащееся беспомощное худенькое тельце с засыхающим отростком пуповины в коросте с малюсенькой головой с припухшими закрытыми глазами. Грише бросилась в глаза ее женская писька, какая-то слишком для такого маленького тела, большая и настоящая. Девочка перебирала ногами, задирала их вверх, голова ее беспорядочно поворачивалась из стороны в сторону и изо рта что-то текло. Она была хрупкой и очень жалкой. У Гриши сжалось сердце: это существо, его ребенок — какая же это страшная ответственность на всю жизнь. В этом момент он как раз и подумал, что вот теперь он никогда никуда не денется ни от Мани, ни от крохотной Аллки.
В уходе за ребенком он практически не принимал никакого участия, много работал, приходил поздно и крепко спал, быстро научившись не просыпаться от плача. Гриша со стыдом вспомнил, что иногда он задерживался на работе нарочно, чтобы не идти домой и отдалить от себя Аллкины голодные крики, ванную, завешенную пеленками и вечный запах перекипяченного мыла из бака на плите. По выходным он выходил с коляской и прохаживался по двору. Знакомые тетки его останавливали, смотрели на Аллку и противно сюсюкали. Гриша покорно пережидал их излияния. Куда было деваться. Когда Маня выходила с ним, делалось только хуже: по двору следовало идти неспешно, гордо держась на ручку коляски, тетки опять подходили, но их восторги «ах, какая у вас девочка… ах, как она похожа на … тут они, прекрасно зная, что родителей зовут Маша и Гриша, всегда говорили на маму … на папу», прямо зашкаливали за пределы относительной нормы. Но внимание теток было Маше явно приятно и процедура отворачивания одеяла и рассматривания младенца занимала гораздо больше времени. Гриша терпел и натянуто улыбался. Его тянуло присесть на лавочку и почитать, но он быстро перестал это делать, так как тогда его одолевали молодые мамаши с идиотскими вопросами про вес, вскармливание и «а ваша что уже умеет».
Прошло много лет. Грише всегда казалось, что у него так было потому что он был молодым, энергичным, сильным, умным … ну мог ли он тогда жить только грудным ребенком? Ему казалось, что вот уж когда он станет дедушкой, все будет по-другому. Он даже где-то читал, что мужчины проживают чувства отцовства более остро, когда у них рождаются внуки, но … черт, как бы не так! У Аллки родился Антоша и что … а ничего. Гриша проникся, спору нет, но до Маниных и Аллкиных умилений ему было как до луны. Ну не умиляли его младенцы, хоть тресни! Гриша привычно решил обсудить свою «странность» с Валерой. Может он не один такой, что друг скажет. Хотя что он мог сказать, у него же нет пока внуков, а дочь — подросток. К тому он с ней не живет.
Валера позвонил сам, было уже почти 11 часов, поздний звонок даже для Валеры. В Москве-то они друг другу и ночью могли позвонить, но здесь, подчиняясь общей идее «не беспокоить», они так поздно не звонили, по-этому Гриша, увидев на дисплее Валерино имя, насторожился.
— Гриш, у меня тут … Валерин тон не предвещал ничего хорошего: «не здрасте, не привет … наверное что-то с родителями. Кошмар.» — эта мысль промелькнула в Гришиной голове за долю секунды.
— Что? Говори! Родители?
— Гриш, у Йоко … рак.
Гришей овладело странное смешанное чувство. С одной стороны Йоко — молодая, полная надежд женщина, как это … что за дикость? Но с другой, хоть ему и стыдно было в этом признаться, он услышал новость с облегчением: ну, кто в самом деле, ему была эта девушка? Он и видел-то ее всего пару раз в жизни … Тем более, что по некоторым признакам, ему стало казаться, что Валера скоро будет опять свободен, Йоко станет прошлым, просто хорошим воспоминанием. Гриша пропустил момент, когда надо было что-то сказать. Пауза уже выглядела нехорошо, Валера же ему с этим позвонил, а он … просто молчит. А что надо говорить! Ох, жалко девчонку. Тут все талдычили, что «рак — это диагноз, а не приговор» … ага, очередной американский пиздёж, что за бред: заболеешь раком, от другого не умрешь.
— Ну, Валер, что тут скажешь? Ужас. Ты мне ничего раньше не говорил.
— Да, не говорил. Я и сам не знал. У нее в последнее время были по ночам ужасные головные боли, но это казалось обычным делом, а потом ее начало рвать. Думали от мигрени, хотя … я ей все время говорил, чтобы она к врачу сходила. Она пошла, мне ничего не сказала. Сделали томографию и вот … какая-то там мультиформная глиобластома, височная доля … Она сначала переживала, что практически не может работать, какая-то все время сонливость, голова кружится, а сейчас … ей уж не до работы. Она стала плохо видеть.
— Я понял. Что можно сделать?
— Ничего, Гриш, нельзя сделать. Там видимо все поздно и прогноз плохой.
— Что все-таки, что она будет делать?
— Она уезжает к родителям в Токио. Йоко не была воспитана в традиционном японском духе, но, понимаешь, там у них все-таки несколько другое отношение к смерти. Они ее встречают, как бы это сказать, с большим, что ли, достоинством. Она решила быть со своей семьей. Они ей помогут, как она мне объяснила, перейти к другой жизни.
— К какой-такой другой жизни? Она это серьезно?
— Ой, да не спрашивай … я с ней об этом не могу говорить. У них там свое …
— Ну да, ты прав … Ну, а как она? Я вообще не понимаю, как она держится.
— Я тоже не понимаю. Она уезжает в Токио, хочет домой.
— Они там что ли будут лечиться?
— Да, попробуют, видимо, но … Гриш, она и года не проживет. Операция или что там еще можно сделать, просто даст ей временное облегчение, а потом все вернется.
— Гриш, это ужас. А ты-то как?
— Я? А что я? У меня есть перед ней кое-какие обязательства.
— Что ты имеешь в виду? Поедешь с ней в Токио?
— Нет, никуда я не поеду. Незачем. Я, Гриш, все просто за нее доделаю. Она должна успеть защититься.
— Зачем?
— Ну, как … она жила своей работой. Что теперь все бросить? Нельзя. Надо успеть. Считай, что это дело ее жизни. Девка не успела … ни с семьей, ни с детьми … и со мной ей не так уж повезло … Пусть хоть работу свою защитит. Она способная баба.
— Ну, она же будет понимать, что это ты, а не она сама … какой прок-то? Да и будут ли у нее силы защищаться? Может лучше забить на это?
— Не думаю. Я должен сделать все очень быстро. И я сделаю. К концу лета все будет готово. Она не умрет пока не защитится. Осенью все будет … Это мой перед ней долг. Да, собственно, у нее основное уже готово. Я все обобщу. Пусть у нее будет блестящая защита. Хочу увидеть ее счастливой.
— Валер, я если бы … не ее болезнь … у вас все нормально. Я не спрашивал, а ты не говорил. Ты ее любишь? Как ты будешь без нее жить?
— Ладно, Гриш, ты спросил, я отвечу. Нет, я ее не люблю. Я был ей увлечен: молодая, красивая, способная … но сейчас этого уже нет. Понимаешь я понял, что эта девушка должна быть счастлива как-то по-другому, не со мной. Да, и не в ней дело. Дело во мне. Она, Гриш, слишком необычная: не истерит, не плачет, не кричит. Она не то, чтобы не испытывает эмоций, она их не показывает. С точки зрения японцев, их эмоции могут ранить близкого человека, а значит их следует держать под контролем, не терять лицо. Я так не умею, мне это непонятно. Она замолкает, а если на нее посмотреть, попытаться объясниться, у нее на лице появится мягкая блуждающая улыбка. Но что там за этой улыбкой-фасадом? Я не знаю. В последнее время у меня ощущение, что я живу с красивой, хрупкой, фарфоровой куклой. Она убирает, готовит еду, подает мне все … почему она это делает? Любит меня, или такова ее роль в японском структурированном обществе? Она так себя ведет, потому что так надо вести себя с мужчиной. Я не привык к таким женщинам, и уже не привыкну. Слишкой она японка. Да, я хотел от нее уйти, созревал. А она сама от меня уходит, это горько, я не хотел этого, видит бог…
Гриша не прерывал Валериного монолога. В первый раз друг говорил с ним об Йоко. Валера уже целый год жил со своей аспиранткой, помогал ей, у них была общая цель и интересы. Валера был увлечен и Гриша ему немного завидовал: друг обладал девушкой, в которой сочеталась современность и экзотизм. Йоко, изящная статуэтка с мощным научным потенциалом … Да, надо честно признаться: у Валеры женщина 25 лет, а у него Маруся 52 лет … Аллка старше, чем Йоко … Валерка — везунчик. Как всегда. И вдруг … «я живу с куклой». Валерке вовсе не было так уж хорошо. А теперь еще и это …
— Я слышу тебя, Валера. И вот я тебя спрашиваю: как ты? С тобой как? Как ты будешь жить?
— Да, при чем, Гриш, тут я? Хорошо я буду жить без нее жить. Прекрасно. Наверное скоро забуду. Постараюсь забыть. Я же — эгоист. Вот в чем ужас! Она умрет, я — нет. Вот так я тебе честно говорю.
— А она тебя любит?
— Не знаю. Азиаты — другие. Кто я для нее? Мужчина ее жизни, отец ее будущих детей? Учитель? Я так и не понял. Может я для нее «сенсей»? Какое сейчас это имеет значение. Не думал я, что с ней так все будет закончено.
— Валер, мне приехать?
— Нет, ее не будет, а я буду все лето работать. Может на ее защиту приедешь … посмотрим.
Гриша повесил трубку и еще очень долго не спал. Звонок друга взбудоражил его. Молодая женщина обречена. Гриша сразу стал видеть в этой ситуации себя. «А я?» — вот что его интересовало. Смерть? Он боялся не столь смерти, сколь сопутствующих ей страданий. Если ты способен думать, размышлять о происходящем, о тех, кого ты оставляешь, тогда да — уходить невыносимо, но если твоя жизнь превращается в невыносимые мучения, ты делаешься комком боли, то, нет, жить уже не хочется, смерть кажется избавлением. Что тут думать, это так. А вот, если бы он был на месте Валеры, если бы его девушка … А тут все сложно. Гриша и не заметил, что совершенно перестал думать о Йоко и Валере, его мысль приняла размытый характер проблемы в целом: терять любимую девушку. На свете же уже есть маленький роман Эрика Сигала «История любви»: молодой парень теряет любимую, которая умирает от рака, как говорится «у него на руках». Но в том-то и дело … про «любимую» — романтично, а про … уже нелюбимую? … как? Уже не в силах сопротивляться желанию писать, Гриша встал, пошел к компьютеру и немедленно, очень быстро, ничего не стирая, начал набрасывать схему будущей книги:
— Экзотическая любовь: молодая японка, для которой ты — наставник и Учитель, с «большой буквы». Она смотрит на него снизу вверх в прямом и переносном смысле. Он ее выше на полторы головы, вдвое тяжелее и старше. И знает в 5 раз больше, и опыта у него в 10 раз больше. Он — ее идол.
— Долгий, длиною почти в год, период наслаждения маленьким хрупким желтоватым матовым гибким телом, идеальным, хотя и не в европейском смысле: ноги не длинные, чуть кривоватые и слишком плотные. Зато узенькая спина, тончайшая талия, миниатюрное точеное лицо с пристальными глазами-стрелами, нежная, ровная, без изъянов кожа. Наслаждение своей властью, авторитетом, доминирующей силой.
— Осознание разности между нею и собою, взаимного глубинного непонимания. Невозможность постичь «чужого». Глухое раздражение несовпадением. Речь сводящаяся только с правильному английскому иностранцев, другой культурный и жизненный опыт, другой менталитет, полное отсутствие чувства юмора, взаимное грядущее неприятие их семей.
— Одиночество вдвоем, самое страшное и безысходное, потому что другой не дает поводов для конфликта, нет разрядки, напряженность не уходит, а только копится. Каждый день приближает к концу, но предлога поговорить и попытаться объяснить ситуацию не находится. Да, и поймет ли она «ситуацию»? А ей хорошо? Видит ли она, что что-то не так, или всем довольна? А вдруг она всем довольна? Тогда он причинит ей боль! Больнее всего — не понимать «почему и за что?» Вдруг так будет. Как ее прогнать? Как ее обидеть? Легко было уйти, когда ты обижал и оскорблял, но получал тоже самое в ответ. Разрыв всегда был избавлением, а сейчас было бы не так. Мог ли он обидеть эту женщину-ребенка? А может она вовсе не ребенок? Почему он ее так видит? Может она мудрее его? Но это неприятно, не нужно ему. Не нужно и все …
— Надо ждать до ее защиты … Он ей «должен». Он всегда завершает начатое. Ничего, можно потерпеть, но как трудно быть неискренним … а ничего, потерпит, не умрет … И все-таки ужасно, что он любил, а теперь терпит … страсть заменилась покорным терпением, но тут ничего не поделать … Он умеет терпеть, но не умеет становиться жертвой, не считает нужным. Он даже придумывает отличное себе оправдание: он в итоге расстанется с ней для ее же блага. Не стоит держать девушку. Он не может сделать ее счастливой. По сути он всегда такое для себя придумывает, чтобы было легче уйти, чтобы без моральных мучений и комплексов вины. Он вообще не любит считать себя виноватым.
— С ней что-то не так. Она больна? Она переутомилась? Она в депрессии из-за него, из-за работы? Ага, ну тогда он должен ей помогать активнее, чтобы все ускорить. Да, побыстрее: она защитится и он … свободен. Он сделает для этой девушки все, что может. Любви до гроба у него, как обычно, не вышло. В 54 года наивно ее ждать. Все кончится и он снова будет в ладу с собою.
— Катастрофа! Девушка умрет. Все умрут рано или поздно, но тут получается, что «рано», до конца этого года. Она уйдет из его жизни, но проблема в том, что она вообще уйдет из жизни. Он не виноват, но … Он этого не хотел. Он будет свободен, но какой страшной ценой.
— Моральные сомнения: надо ли быть с ней до конца? Ехать в Японию, внедриться в ее семью, сидеть у ее постели? Поможет он ей? Хочет ли она этого? Имеет ли он право, прожив с ней год, изображать из себя убитого горем жениха? Может его присутствие будет там в чужой культуре нежелательным? А похороны? Ехать? Должен? Изображать из себя безутешного вдовца? Стоит ли? Он не знает и мучается. Иногда ему кажется, что он — трус, что он все это у себя самого вопрошает, только потому, что ему хочется выйти из жуткой ситуации, а это — трусость. Какой же он урод: все жизнь берег и бережет себя, ограждая от моральных травм. Он такой?
— И последняя часть схемы. А если бы у него спросили, что ты хочешь: свобода ценою ее жизни, или она жива, но ты «несешь свой крест», делающийся все тяжелее. Ты покупаешь ее жизнь, платя своей несчастливостью.
Конкретные страдания конкретной Йоко перестали Гришу тревожить, он и сам не заметил, что Валера и Йоко стали просто прототипами его книжной истории, они перестали для него существовать сами по себе. Надо сделать открытый конец: альтруисты выберут жизнь девушки, а эгоисты — свою свободу. Никто никому ничего не должен, нельзя вмешиваться в судьбу! Или можно и нужно? Мы вообще «должны» или «не должны» другим? Гриша не мог спать: он все записывал, боясь потерять мысль. Все забывается. Он уже не думал о Валере, сюжет книги, ее морально — этические проблемы полностью завладели его мыслями. Когда в новом файле все было подробно изложено, Гриша снова лег в постель рядом с мирно посапывающей Маней и сразу заснул. Будильник уже показывал 3 часа ночи. Перед тем, как провалиться в сон, Гриша на секунду подумал, что «он» его романа — это все-таки Валера. Эгоист, на страже своего душевного покоя, одинокий волк, с блестящими талантами, друг, готовый для него, для Гриши, на все! Он напишет эту книгу, но надо быть осторожным. Чего только в Валере не намешано.
Два недели пролетели, ничего совершенно не происходило. Пару раз Грише пришлось съездить с Марусей по магазинам. Он отрешенно проходил по залам больших универмагов, покорно ждал у примерочной кабинки, пока Маня примеривала на себя ворох одежды. Она выходила показаться ему в чем-нибудь новом и победоносно улыбалась, ищя его одобрения. Гриша совершенно не мог понять, зачем Мане новые шмотки, у нее, вроде, и так всего было навалом, но женскую суть накопительства он за всю жизнь так и не смог постичь. Что-то звало женщин в магазин, новая одежда их возбуждала, давала вкус к жизни. Старые вещи заменялись новыми не потому, что они рвались или выходили из моды, они просто «надоедали» … Надо же, как просто. Замечательная юбка … но она надоела.
А Маруська-то его еще ничего, вполне. В юности он так боялся, что она будет толстая, но нет … не стала. Маша конечно раздалась, но была в хорошей форме, подтянута, ухожена, ей бы даже никто не дал ее 52 лет. По старой привычке Машка всегда подкрашивалась перед выходом на улицу, Гриша это видел, но косметика была наложена настолько умеренно и умело, что просто придавала лицу свежесть. «Все-таки стильная у меня жена. Молодец!» — подумал про себя Гриша. Ему бы следовало Мане это почаще говорить, но он не говорил. То ли забывал, то ли ему было лень, то ли считал комплименты в их отношениях излишними? И тем не менее Марусин победоносный вид, когда она выходила из кабинки, обсуждая с ним цвет и фасон, делали Гришу податливым. Он просто не мог разрушить ее радужное настроение, ее желание нравиться и платил за все их общей карточкой, уже второе воскресенье оставляя в магазинах по сто с лишним долларов, и потом тащил вслед за женой ворох пакетов.
Его Маня была типичная женщина, барахольщица, всегда озабоченная своим видом, способная часы проводить в магазинах, расстраиватьися из-за прыща, поломавшегося ногтя, пары лишних килограммов, не «того» оттенка помады. Она не любила заумных разговоров, ей была безразлична политика и философия, ей по-сути ничего кроме семьи было ненужно. Маруся с неохотой, только под его нажимом, смотрела арт-хаусные фильмы. Были же на свете и другие женщины, вполне безразличные к тряпкам, косметике и здоровым диетам, чтобы не набирать вес. Может с ними ему было бы интереснее? Гриша подумал, что у них на кафедре были такие, но он их не хотел. Вроде все при них, но чего-то все-таки нет. Валера таких называл «слишком умные». А разве можно быть умной «слишком»? Ума много не бывает. Или бывает? Не в уме дело. Маша вовсе не была дурой, Гриша не смог бы с дурой жить. Просто ее ум был «женский» со скосом в эмоциональность, интуицию и мудрость, не в «голый» интеллект. А потом … Маня, ее смех-колокольчик, звонкий, откровенно зазывный, ее рыжие волосы в небрежном узле, а главное глаза … там всегда было обещание и избирательная доступность, готовность разделись удовольствие, знание чего-то тайного, женского, которое звало … но не всех, а только его, Гришу. Он же когда-то угадал все это в глазах совсем молоденькой неопытной девчонки. Угадал … и ее волосы рассыпались по спине для него. Прав Валерка: такие женщины, как Маня, были умными, но не «слишком умными». Этому не существовало определения, да оно им с Валером было ни к чему. Они и так понимали, о каких женщинах речь.
Проблема была в том, что они с другом очень многие вещи понимали одинаково и однажды их единомыслие дало сбой. Гриша не любил об этом вспоминать, не разрешал своим мыслям сворачивать в эту сторону. Но как не думать? Женская суть его завораживала, ее было очень интересно понять. Почему баба ищет любовника? Зачем ей другой мужик? Зачем? Муж плох? Ну тогда понятно. Тут другое: к чему искать от добра добра? Что ведет в таких случаях мужчин было понятно, тоже мне тема! А вот бабы … А если написать что-нибудь на эту тему, но от лица женщины?
Гриша ехал на занятия и думал о новом рассказе или небольшой повести: он-она-конец любви. Про встречу с классом он не думал совсем. Класс оказался сложным, т. е. двадцать с лишним человек не представляли никаких проблем, но среди нормальных доброжелательных ребят затесалась одна, как Гриша про себя думал, «гнида». Типичный кошмар преподавателя. Такие студенты попадаются нечасто, но если уж не повезет, так не повезет. Коллеги с полу-слова поняли бы о чем речь. На этот раз сзади села высокая красивая девушка, с неподвижным лицом и несколько коровьем выражением. Было видно, что она себя «несет» и считает много выше среднего, поэтому ей многое дозволено. Там все ясно: избалованная девчонка из небедной семьи, не привыкшая себя ни в чем подстегивать. Если трудно и не получается, то виноваты все, только не она. В Москве Гриша таких не встречал, а здесь их было хоть пруд пруди. Сначала цаца задавала много ненужных с подковыркой вопросов, потом Гриша получил от нее пару имейлов с раздраженными сетованиями, что она «ничего не понимает … и не мог бы он …» Гриша знал, что она неспособна серьезно работать, начнет заваливать все тесты, и обвинять лично профессора Клибмана в своих неудачах, призывая, кстати, других подтвердить ее недовольство, пытаясь создать против него коалицию «недовольных». Раньше Гриша нервничал, но давно понял, что лучший способ оградить себя от таких цац — это нажать, самому пойти а атаку. А где ваша тетрадь с заданием? Не знаете? Странно… вот страница в учебнике, где об этом этом говорится. Меня не поняли? И учебник тоже не поняли? И так далее. Способов было много. Такие никогда не грозили пожаловаться, они просто жаловались у преподавателя за спиной, сгущая краски, выгораживая себя, и призывая в свидетелей весь класс. Ничего такого бояться не стоило. Начальство было на каникулах, и даже если бы какие-то «разборки» состоялись, так с Гришей один раз было, «гнида» ничего бы не доказала, попала бы в калошу, к тому же кафедра традиционно, не считая каких-то вопиющих случаев, брала сторону своего преподавателя. Нет, Гриша эту мерзкую Хейли не боялся, но просто знал, что целых две недели ему придется терпеть в классе ее злую морду, невежливые фырканья и демонстративные захлопывания тетради. Да, хрен с ней.
Гриша полностью переключился на свою «неверную жену». Он стал «ею» и перестал что-либо вокруг себя замечать, с досадой предвкушая, что занятия сейчас его вынужденно отвлекут от писания в голову своего рассказа, схема которого уже полностью у него сложилась. Ему хотелось оказаться у своего компьютера, а не у доски. Гриша вздохнул, и начал парковаться. Было еще совсем рано и прохладно. Паркинг был практически пустым.
Гриша вернулся домой после трех. Быстренько поел и пользуясь Маниным отсутствием, уселся к компьютеру. Он открыл чистую страницу, торопясь немедленно вылить на нее свои мысли.
Награда за страх.
Название придумалось как-то сразу. Итак … схема:
Она, молодая еще женщина, симпатичный муж, двое детей. Живут с ее родителями. Она — бывший геолог, но поскольку это начало 90-ых (не забыть указать какую-нибудь веху времени), ей приходится работать в геологическом магазине «Самоцветы», где она просто продает камни и изделия из них, может дать желающим консультацию. Работа ее устраивает, но она ее не любит. Муж часто в командировках, но у них все хорошо. Дети — школьники младших классов. Где-то она встречает военного, майора, он служит в московской военной прокуратуре. У них роман. О романе вскользь … роман и роман. Военный ею идеализируется, ему приписываются какие-то качества из романов о дуэлях и белогвардейских романсов. Он — офицер и связан для нее с опять же книжным понятием «честь». Получается, что она любит форму, человека она в форме не видит. Получается, что ее муж обычный скучноватый инженер, а ее «душка-военный» — «голубой князь». Устоять она не может.
И вот … сюжет: она оставляет с мамой детей и сломя голову бежит на свидание с «князем». Князь всю ночь «дежурант» по Москве, будет на службе с 7 вечера до 7 утра. У него времени — вся ночь и он звонит и приглашает ее к себе на работу. Она, все бросив, идет … Там все происходит пошло и банально. Она уходит и тут … взлет нарратива, кульминация: возвращаясь домой, ей приходится пережить самый большой страх своей жизни. Даже не страх, а животный ужас, который ее полностью излечивает от наваждения. Лечит от адюльтера жестоко и веско. Она возвращается домой другим человеком, по-новому оценив то, что у нее есть и полностью до отвращения, разочаровавшись в своем майоре.
Начало рассказа, кто да что, Грише писать сейчас не хотелось. Он начнет сразу с кульминании, а там … все приложится. Гриша принялся печатать почти без ошибок. Желание передать эпизод «страха, как лекарства» было непреодолимым. Он только боялся, что кто-нибудь позвонит и отвлечет его:
Валя и не подозревала, что вдалеке за новыми голубыми башнями, построенными в самом начале Хорошевки вместо давно снесенных домиков, которые после войны построили немцы, был колоссальный пустырь. Вернее, не совсем пустырь, там были какие-то цеха, сараи, приземистые ангары, огороженные высокими каменными заборами. Неопрятная, безлюдная, темная индустриальная зона. Было еще светло, но быстро смеркалось. Валя шла быстрым шагом, все дальше удаляясь от оживленного подземного перехода, в которой она только шла вышла из метро. Она никогда не была на работе у Алексея, понятия не имела, где находилась эта его загадочная Военная Прокуратура. Широкая тропинка, петляющая между домами, уводила ее все дальше от цивилизации. Вале уже даже трудно было себе представить, что пустырь, по-которому она шла, был Москвой. И однако ни пустырь, ни сгущавшиеся сумерки, ни мерзкая сырая промозглая погода, подтаявший черный снег по бокам тропинки, не могли испортить ее радостного приподнятого настроения: Алеша ей сам позвонил домой, попросив к телефону Валентину Степановну. Она просила его это делать только в самых крайних случаях. Обычно он звонил ей на работу, а тут … домой.
Муж был в Воскресенске, в командировке. Так что ничего. Мама взяла трубку и позвала Валю, не задавая лишних вопросов. Наверное маме очень хотелось спросить «а кто это?», но она не спросила. Молодец у нее мать. Валя была даже плюс-минус уверена, что мама бы, если что … не продала бы ее мужу. Однако все это матери не касалось, и Валя просто сказала, что ей надо на два-три часа уйти. Ничего такого. Если бы мать спросила «зачем», Валя приготовила ответ. Но мать снова ничего не спросила, только многозначительно на нее посмотрела. Ой, да ладно, пусть.
Валя даже не заметила, сколько минут она добиралась от метро до приземистого одноэтажного здания Военной Прокуратуры. Сразу за дверью был КПП, т. е. отгороженное помещение с небольшим окошком. Молоденький военный, Валя не разбиралась в солдатских лычках, спросил ее, куда она идет. Валя ответила, что к «майору … такому-ту», мальчик вышел и проводил ее до Алешиного кабинета, идя на полшага впереди и все время на нее оглядываясь. В помещениях было пустынно. Два военных на КПП и Алеша. Все уже ушли, остался только «дежурант» и его два подчиненных. Вале нравилось, как Алеша говорит «дежурант». Она знала это слово, но никто его не употреблял, а вот Алеша так себя и свою должность на эту ночь называл. Красиво. Когда Валя вошла, Алеша пил чай, но сразу встал, такой высокий, стройный, шикарный, одетый по-другому, чем обычно: заправленные в высокие сапоги галифе, портупея, ремень.
— Что ты на меня смотришь? Я — другой? Это полевая форма. Я же сегодня дежурю. Вдруг выезд? К полуночи начнут звонить из Комендатуры. Начнется.
Валя покосилась на дверь, хотя и слышала, как Алеша сказал солдатику «свободен». Парень вышел и плотно затворил тяжелую, обитую дермантином дверь. Да, никого нет. Она подошла к Алеше и крепко обняла его, заводя руки за его крепкую, обтянутую гимнастеркой, спину. От Алеши пахло табаком и вареньем, которое он мазал на хлеб. Кажется клубничное. Алеша сильно прижал Валю к себе. Руки его, скользнув по груди, опустились ниже спины и Алеша по-хозяйски, хищно и цепко ее ухватил. Ее упругие небольшие ягодицы полностью уместились в его ладонях. В кабинете было жарко и Вале стало душно в пальто и шапке. Она сняла верхнюю одежду и положила ее на стул. Алеша не предложил ей ни раздеться, ни сесть. Она бы тоже выпила чаю, но он ей и чаю не предложил. Оторвавшись от нее, он подошел к большому ящику на полу.
— Смотри, какую мне штуку привезли. Это компьютер. Ни у кого еще нет, а у меня будет. Знаешь, для чего это?
Не обращая внимания на Валину реакцию, Алеша долго распространялся о пользе компьютера, как ему покажут, как им пользоваться и вот тогда … В другое время Вале может и было бы интересно все это послушать, но сейчас она пришла для другого. Алеша видимо почувствовал ее настроение. Он прервался буквально на полу-слове и снова ее обнял. Он обнимал ее крепко и властно, безо всякой нежности. Вале казалось, что ему сейчас она сама была совершенно безразлична. Ей тоже всегда хотелось Алешу чисто физически, но было неприятно, что все у него нарастало столь быстро. Что уж так … с места в карьер? Она оставила детей на маму, уйти вечером из дому ей было непросто, он ни о чем ее не спросил, ничем не поинтересовался, даже чаю не предложил. Про «чай» ей почему-то было особенно обидно. Алешины руки становились все более настойчивыми, через грубую брючную ткань Вале было заметно, как он напрягся. «Я тоже его хочу. Что ждать. Я же для этого сюда и пришла …» — Валя отбросила все свои, как ей теперь казалось, мелочные обиды, и полностью отдалась моменту. Алеша развернул ее спиной, облокотив о свой письменный стол, стал тяжело дышать и Валя почувствовала, как он расстегнул ширинку на своих галифе, задрал ей юбку и уже нетерпеливо спускал с нее колготки с трусами.
— Ой, а вдруг сюда кто-нибудь зайдет? — успела спросить Валя.
— Не зайдет … — уверенно, задыхающимся голосом ответил Алеша.
И Валя почувствовала, как он в нее входит, мощно и грубо насаживая на себя, стараясь достать как можно глубже. Еще несколько сильных качков, и Алеша застонал так громко, что Валя испугалась, что это услышат ребята на КПП. Он отошел, поспешно застегивая брюки. На все не ушло и пары минут, ну максимум трех.
— Прости, Валюш, что так быстро. Давно мы с тобой не виделись. Дай мне десять минут и я уж …
— Да, ладно. Все это неважно. Не беспокойся за меня.
Валя поправила одежду. В трусах было неприятно мокро, хотя она знала, что Алеша надевал презерватив. В этом он был скрупулезен. Ей стало страшно обидно, что все так получилось. До такой неэстетичности они с ним еще никогда не доходили. Зачем это было надо? Что это на них нашло? Ведь это нельзя было назвать любовью, это было совокупление, даже случка, он ее как курочку потоптал, как кобель на сучку вскочил. Вале приходили на ум самые грубые сравнения. Ужас. На Алешу вновь нашло довольно деловое настроение, про второй раз он уже не думал. Снова подойдя к ящику с компьютером, он принялся вытаскивать из него тяжелую машину. Валя вдруг почувствовало, что ему уже не до нее, что ему даже хочется, чтобы она ушла, чтобы не мешала устанавливать компьютер на стол. Вот она уйдет и у него начнется его обычное дежурство. И компьютер он сможет подключить и опробовать. Ее функция на эту ночь исчерпалась, и непонятно, что она тут еще делает. До Вали внезапно дошло, почему Алеша был так уверен, что, как он их называл, «бойцы» не зайдут в кабинет. Конечно не зайдут. К начальнику на дежурство пришла баба, понятно, зачем. Между Алешей и «бойцами» давно было заключено джентльменское соглашение не беспокоить его в таких случаях. «Не беспокоить» — это был приказ. Валя потянулась за пальто, и Алеша с готовностью ей его подал.
— Ну, мне пора. Уже поздно.
— Да? Ну, пока. Я тебе позвоню, да? Ты моя дорогая, любимая. Мне так с тобой хорошо. Алеша потянулся ее поцеловать.
Обычно он спрашивал «а тебе было хорошо?», но сейчас не спросил, видел же, что вовсе «нехорошо», но ему было наплевать. На его красивом лице с небольшими холеными усиками было написано нетерпение, ему хотелось, чтобы она ушла.
Валя вышла в вестибюль, Алеша ее провожал, а «бойцы» молча прощаясь, вскинули руки под козырек. Вале показалось, что на губах одного из ребят играла еле заметная ухмылка. Хотя, ей наверное это только показалось. На улице Алеша сказал ей «осторожно, не поскользнись», еще раз наскоро обнял, и сразу зашел обратно в здание. Вечер стал более сырым, на пустыре, как в аэродинамической трубе дул, завывая, холодный ветер. Вале было не холодно. Её раздирали противоречивые чувства. Она обиделась на Алешу, он встретил ее слишком по-деловому, не проявил ни участия, ни заботы. Просто отымел, как девку-проститутку. Ну, как же так? С другой стороны, Валя пыталась придумать ему оправдания: а что такого? Он по ней соскучился, специально позвонил, и … да, захотел и получил, прямо в кабинете. Ну нет в кабинете условий для любовной неги. Вот так и происходит с брутальными мачо. А что она хотела? Разве в этой грубости не было шарма? Был. Ну, не кончила она … и что? Наплевать сто раз. А вот Алеша от нее балдеет. Валя все ускоряла шаг, движение помогало ей думать. Через какое-то время она полностью мысленно оправдала своего Алешу. И даже их скоропалительное прощание уже не казалось ей неприличным. Он на службе. На нем весь город. Что там ей еще было делать. Все правильно.
Вале казалось, что она идет по тропинке уже долго, но высоких башен у метро даже еще не было видно. Господи, где же они? Валя прислушивалась к воющему ветру, но через секунду она поняла, что это вовсе не ветер никакой. Выли собаки. Страшный вой перемежался хриплым захлебывающимся лаем. Так наверное лаяли злобные лагерные овчарки, натасканные на человека. Лай становился все громче, Валя поняла, что собаки выли и лаяли за забором, мимо которого она как раз проходила. Когда она шла туда, окрестности казались ей неприятными, но безлюдными, а теперь они уже не выглядели безлюдными. Метрах в ста от тропинки горел высокий костер, вокруг которого сидела толпа из неряшливо одетых мужчин. Наверное бомжи. Они громко разговаривали и смеялись, но ветер доносил только звуки грубого гогота, самих слов было не разобрать. Одна фигура отделилась и пошла от костра в сторону. Человек увидел Валю, и что-то ей закричал, показывая на нее товарищам рукой. Еще несколько человек поднялись.
— А вдруг они ко мне пойдут? Что им надо? Я не убегу … не смогу.
Но дядьки дальше не двинулись, видимо вернулись к костру. Валя шла, не оборачиваясь. У нее за спиной послышался резкий свист. Какие-то два парня шли за ней, то отставая, то приближаясь.
— Ей, тёлочка? Куда ты так бежишь? Замёрзла? И мы замёрзли. Погреешь? Эй, постой! Мы ж тебя по-любому догоним. Эй, девушка! Мы хорошие … просто замёрзли. Остановись, мы тебе ничего не сделаем. Мы по-хорошему, если с нами по-хорошему. Эй, ты … стой, тебе говорят.
Валя побежала, задыхаясь, понимая, что ей от них не убежать. Кто они такие? Что здесь на пустыре делают? Что им надо от нее? Она не сможет с ними … и тогда они ее убьют. Это же очень легко. Она будет лежать на этой тропинке, завтра ее найдут в луже крови, в порванной одежде, со спущенными колготками. Как глупо, нелепо. Их не найдут. Муж даже никогда не поймет, что она в такой час на этой тропинке делала. Это необъяснимо. Зачем она сюда пошла? Разве их корявый трах стоил того?
Шаги и голоса за ее спиной заглохли. Парни скорее всего отстали. Валя не решалась оглянуться, но что-то ей говорило, что непосредственная опасность миновала. Вокруг было темно, никакого уличного освещения. Фонари горели кое-где, шатаясь от ветра над заброшенными постройками, выхватывая из темноты то груду кирпичей, то куски арматуры. Вале показалось, что она видит вдалеке голубые четырнадцатиэтажные башни Хорошевки, она уже начала чуть успокаиваться. Однако внезапно, оторвавшись от стены с облупившейся штукатуркой, перед ней выросли фигуры парней, которые шли сзади и, как ей казалось, отстали. Один подошел к ней спереди, другой сзади, сразу умело зажав ее в «карман». Валя резко остановилась и ничего не говоря, попыталась их обойти, но не тут-то было. Парни раскинули руки, им хотелось с ней поиграть, не выпустить из круга. Они то отходили подальше, создавая у Вали иллюзию свободы, то приближались к ней вплотную, протягивали к ней руки. Она чувствовала на лице их, пахнущее спиртным, дыхание, цепкие пальцы одного из них залезли ей в пах. «Сейчас они меня повалят и … всё …» — Валя замерла, инстинктивно решив не сопротивляться, иначе они ее убьют, пырнут ножом и она так и останется лежать в грязной замерзающей луже. Наутро ее найдут … дети сироты, бедные родители, муж … как все глупо. Из решения молчать ничего не вышло: «не надо, не надо» — шептала Валя, и слезы катились у нее по щекам.
— Да, что «не надо». Мы же тебе ничего не делаем. Мы с тобой играем, греемся. Ладно, иди. Сладкая ты тёлочка. Да, не не ссы ты. Мы пошутили. На тебе конфетку. Иди, иди … Как ты сюда одна попала, дура …
Парни разом ее отпустили, видимо достаточно позабавившись и удовлетворив свое извращенное желание унижать и пугать. Они, скорее всего, не собирались валить ее на мерзлую землю и насиловать. Очень уж было холодно. Да, кто их разберет. Две темные фигуры удалялись за угол, а Валя так и стояла с дешевой конфетой в руках, не решаясь ее при них выбросить. Она не могла поверить, что свободна, что может уйти, что ничего с ней не случилось. До метро оказывается было рукой подать. Через пять минут она уже сидела в довольно еще полном вагоне. Люди стояли, держась за поручень, читали вечерние газеты. Ярко освещенный обычный вагон, повседневная московская жизнь. Валя чувствовала себя в безопасности, но радости никакой не испытывала. Шок был слишком сильный. Зачем она подвергла себя такому испытанию? Ради чего? Как Алеша мог отпустить ее одну? Не мог пойти проводить до метро, ну послал бы с ней одного из «бойцов». Нет, не послал. А вдруг бы им всем надо было на выезд. Да, как он вообще позволил ей идти одной по этому пустырю, как посмел? Он не беспокоился потому что ему на нее наплевать, и всегда было наплевать. Просто она этого не замечала, а сейчас заметила.
Дома родители смотрели Новости, дети спали. «Ты не поздно … хорошо. Пей чай» — сказала мать. Валя вошла в детскую, дети мирно спали. В половине одиннадцатого позвонил муж.
— Валь, как там вы? Я соскучился. Я тут все закончил, и завтра приеду. Слушай, тут перчатки кожаные продаются. Купить? Какой у тебя размер? А у мамы?
— Да, купи, пожалуйста. У меня шесть, а у мамы шесть с половиной. Ладно, ждем. Пока.
Какие-то кожаные перчатки … милая повседневность с заботами и тихим вниманием мужа. Дети спят, родители … Валя легла в постель и заплакала. С Алешей было покончено, но это надо было еще пережить.
Гриша перечитал написанное, кое-что исправил. Нет, это будет не рассказ, а небольшая повесть. Теперь ему хотелось писать экспозицию. Показать, как все вышло, что ей, этой Вале, которая уже не выходила у него из головы, было надо … Эта тема его интересовала и вот … пора подумать над тем, что «бабу толкает …»
Он устал, сегодня уже ничего писать не будет. Скоро придет с работы Маня. Его летняя школа закончится и Маша на следующей неделе уйдет в отпуск. Поехать куда-нибудь? Может к Валерке? Хотя другу сейчас не до них. Маша будет свободна и тоже захочет ехать в Калифорнию, но Гриша знал, что по-настоящему хорошо им с Валерой было только вдвоем. Оставить Машу одну дома … нет, невозможно. Надо что-то придумать.
Преподавание в летней школе подходило к концу. Пресловутая Хейли успокоилась, сидела тихо, и писала все свои тесты на самую низкую отметку, которая все еще не считалась «завалом». Гриша давно не думал, пожалуется она на него или нет. Он просто знал, что жаловаться эта самовлюбленная идиотина не будет, хотя бы потому, что он с ней оставался для дополнительных занятий, и мамзель видела, что он добросовестный преподаватель и не стоит на него «гнать», иначе ей же будет хуже. Включался примитивный инстинкт самосохранения. Гриша это знал заранее, тем хуже, что тупость Хейли стоила ему пары часов в неделю. Черт с ней. По дороге домой он ее сразу выбрасывал из головы. Они с Марусей решили съездить в Париж. Лето, там сейчас не очень-то: жара, толпы туристов, дорого … но в голубой дымке недоступности. Когда-то юные Гриша и Маша все бы отдали лишь бы туда попасть, Париж все еще казался им обоим самой привлекательной заграницей. Билеты Гриша пока не купил, они казались дорогими, он все еще не был уверен, что так уж туда хочет.
Надо же, теперь, чтобы им отправиться в Париж, нужны было просто потратить деньги, а раньше … Гриша помнил, как еще в институте, его «отобрали» в поездку. Как он готовился к прохождению разных партийных и комсомольских комиссий, как учил имена всех первых секретарей компартий, да ничего не понадобилось. На что он надеялся с фамилией Клибман в 79 году? И однако надеялся, дурак, верил, что он подходит: и активист, и учится хорошо, и делегации сопровождает по линии КМО, посещает кружок синхронного перевода. Когда комсорг курса поставил его в известность, что его фамилия уже не в списке, Гриша удивился, расстроился, и даже зачем-то спросил «почему?». Комсорг замялся и обещал разузнать. А дома он сказал родителям, что его не пускают, возмущался, даже говорил, что может еще «все образуется». Папа по обыкновению промолчал, а мама вздохнула: «Гришенька, успокойся. Бог с ними. Не лезь никуда». Как это не лезь? Конечно он прекрасно понимал, что мать права, что ничего тут не сделаешь, и все-таки он не мог с этим смириться. Звонил Валере, горько жаловался, «вот, мол, видишь, Валер, что делается. Совсем, сволочи, обнаглели». Валера не стал его разуверять, что «не может быть», знал конечно, что «может». Он молчал, а потом вдруг в конце разговора сказал: «Ладно, Гриш, не переживай, мы с тобой еще везде побываем. И не будем ни у кого спрашивать разрешения. Они просто не смогут нас с тобой „отпустить или не отпустить“. Не будет у нас никаких „они“. Ты понял?» Грише было 19 лет, и ему было очень трудно себе представить жизнь без «них». А Валера уже, выходит, представлял. Об иммиграции они тогда еще и не говорили. Какие-то евреи вокруг ехали, но друзей это не касалось.
Если не считать мелких огорчений насчет выезда за рубеж, то в этот период конца 70-ых начала 80-ых, у них была «сладкая» жизнь, самый пик их мужской плейбойской карьеры, прямо какая-то «звезда пленительного счастья». Звезда и потом не закатилась, но компании, выпивки, женщины, вся эта пьянящая свобода первой юности, потом уже не могла достичь накала того десятилетия, доставить того первозданного удовольствия упоения своей молодостью, властью, привлекательностью и силой.
Гриша ехал из спортклуба, где он занимался на тренажерах бок о бок с гораздо более молодыми мужчинами. Рядом тягали тяжелые штанги мальчишки не более 16-ти. Он себя с Валерой такими очень хорошо помнил.
Интересно, с кем их можно было бы в этом возрасте сравнить? С петушками, щенками, молодыми львами, голодными волчатами. Всего в них было понемногу от этих животных. Вот им по 15 лет, позади девятый класс, впереди 10-ый, последний год, надо будет поступать. Сейчас последние каникулы, что-то должно случиться, хватит быть детьми, пора взрослеть. Как они тогда с Валерой понимали взрослость? Ну, первое — это свои деньги. Ребята их возраста не стремились и не умели зарабатывать. Кому-то из их ровесников может и хотелось лишних денег, но … разные «но» никто решить не мог, а они с Валерой решили. На улице Панфилова был большой овощной магазин, там работала директором мать их одноклассницы, которой Валерка помогал по математике, а после урока у нее дома, немного тискал, унося ноги перед самым приходом с работы ее матери, приятной крашеной блондинки. Валера там у этой Галочки часто обедал, валялся на диване, но мама хотела его как-то посерьезнее отблагодарить. Денег она дочкиному репетитору предлагать стеснялась, а тут случай представился.
Поздно вечером в магазин привезли какой-то дефицит, грузчик валялся в подсобке сильно пьяный и тетя Наташа позвонила Валере, что «мол, не согласится ли он разгрузить грузовик с апельсинами…нужно очень быстро и аккуратно, товар дорогой … она в долгу не останется … да, да, конечно, можно с Гришей Клибманом. Еще лучше, если вдвоем … да, да и Гришу она тоже отблагодарит … какой разговор …». Через 20 минут ребята были на заднем дворе магазина, подъехал грузовик и Гриша с Валерой играючи вытащили из кузова 40 ящиков апельсин, получив по 3 рубля, что было прямо-таки по-царски. Теперь разгрузки были поставлены на поток. Дура Галочка за этим следила, инстинктивно уважая «работающих мужиков».
Валеркин папа был летчиком и летал на международных рейсах, его девочки-стюардессы привозили из рейсов кое-какие вещи. Шмотки они продавали сами, а вот, мелочишку, типа жвачек, презервативов, хороших сигарет и разовых зажигалок, они не могли быстро продать, этим и стали заниматься Валера с Гришей. Продавали всегда понемногу и никогда в своей школе. Музыкалка, спортивные школы, двор, дача … все равно было опасно, но … зато они имели 30 % от сбыта. Вполне по-честному. Папа, как знал Валера, тоже привозил шмотки из рейсов, но он бы никогда в жизни не привлек сына к таким делам. Валерка познакомился с папиным экипажем, бортпроводницы летали с ним разные, но он их знал, и девочки симпатизировали симпатичному «сынку». Ребята, правда, сразу договорились, что «если что», они скажут, что сами выпросили зажигалки у иностранцев, и … что им будет? Подумаешь. От природы осторожный Гриша, всегда умолял Валеру не брать для продажи сразу много: «Не вздумай, Валер … дело не в „боишься“, просто мы можем загубить наш гешефт». Валерка уже знал те же слова на идише, что и Гриша. Так было легче. Гриша просил друга не «швыцать», называл кого-то «шлемазолом и поцем». Партия дешевых презервативов с усиками называлась «мыция». Валера кивал и понимающе улыбался.
Кроме денег нужна была «крутость». С этим у них обоих все было в порядке. И дрались, и ругались, и шмотки умели носить, и джинсы фирменые, батники, широкие ремни у них были. А еще они умели очень хорошо играть на гитаре и петь. Потом-то к началу 80-ых они это делали вообще классно, но и тогда в 15 лет уже умели. К «крутости» относились достижения в спорте. Гриша был перворазрядником по самбо, а Валера вскоре после случая с Мякой самбо бросил, но стал кандидатом в мастера по волейболу, он играл в юниорской сборной Москвы. Нужно было быть привлекательным, обязательно бриться, душиться хорошим одеколоном. Все это после 9-го класса было при них. Папа подарил Грише на Новый год электрическую бритву «Эра», а Валера брился станком, куда клал фирменые лезвия «Жилет», которые всегда привозил его папа. У него и крем для бритья был специальный и особый лосьон, который замечательно пах. Юношеские прыщи у них были, но быстро прошли в начале 8-го класса. С этим им повезло. Даже мамин рецепт этилового спирта не очень Грише понадобился. Занимаясь спортом, оба научились принимать душ и пользоваться дезодорантом, что еще не было у мальчишек их возраста распространенным умением.
Оба любили и умели выпить, путем проб и ошибок, нащупав свой «дозис леталис». Тут у них выработалась целая теория: пить много или мало, в зависимости от количества закуски, от самочувствия, т. е. «как пошло», от планов на этот вечер, от компании, от наличия или отсутствия в компании девушек. Главное — не напиться, т. е. потерять способность себя контролировать, начать быть неинтересным для окружающих, потерять лицо … Никогда не вестись на подначки, на «слабо», уметь остановиться, не заигрываться … Это была целая наука и друзья ее постепенно постигали. Конечно в то лето 75 года, они были только в начале пути, и напивались к сожалению еще не раз. Мальчишки … что с них возьмешь.
Смешно, но они тогда часто свои стати обсуждали, смеясь вспоминали Пушкина «чего ж вам боле? Свет решил, что он умен и очень мил.» Это про Онегина так говорилось, а Онегин был «крутой». Хотя, «боле» было нужно! Самого главного в то лето после 9-го класса им не хватало. Нужно было быть с женщиной. Быть по-настоящему. Поцелуи и тисканья в темноте — это было уже несерьезно. Вот о чем Валера и Гриша говорили, и не могли наговориться. Вот что их по-настоящему занимало. Первая женщина была «билетом» во взрослость, остальное не считалось. Да, они были готовы, хотели и могли, но … с кем? Вот это было проблемой. Девчонки из класса не подходили. Влюблены друзья ни в кого не были, а так … проблем не оберешься, тем более, что от старших они усвоили принцип, который казался правильным: «не живи, где работаешь». У них тогда в голове много было намешано дешевых сентенций.
Случилось это событие с ними почти одновременно, у Валеры в начале лета, а у Гриши в конце. У Валеры раньше, зато у Гриши интереснее.
Гриша почему-то стал в последнее время часто вспоминать их грехопадение, потерю невинности. Многие люди это помнят, женщины и мужчины, скорее всего, по-разному. Про женщин Гриша не очень понимал. У него за всю жизнь, кроме Муси, и девственницы не случались. А как она тогда все восприняла, он никогда не спрашивал. Все-таки какие-то темы-табу, к лучшему или к худшему, и них были. Ну не мог он Маню об этом спрашивать, тем более, что «героем» он сам и был. Почему-то у Гриши была уверенность в том, что она ему откровенно о этом все равно не скажет, да если бы и сказала, вряд ли бы он понял. Гриша мог думать о «первом разе» у мужчин и женщин умозрительно, но ощутить … У женщин там внутри какая-то то ли пленка, то ли перегородка, которая «не пускает». Надо порвать, а это наверное больно, девушка боится, стесняется, зажимается … что там еще? Кто их знает. Говорят, в первый раз им не может быть хорошо. Кончают они, нет ли? Умеют ли «закосить»? Или этому они позже учатся? Да, значительное событие, но уровень и глубина этой значительности была у девушки не такой, как у него. Скорее всего, для него — это просто первая зарубка на прикладе, а для нее — это любовь? Или и для нее тоже «зарубка»? Могла ли Маня его тогда так уж любить? И может она влюбилась, но он ничего не замечал? Могло такое быть? Нет, женщины были до сих пор для Гриши непостижимы.
А вот про себя и про Валеру он понимал. Да и что тут понимать! Они открыто тогда с Валерой о таких вещах говорили, не боялись признаваться в самых своих сокровенных мыслях. Почему-то Грише казалось, что так было не у всех мальчиков. Это просто им с Гришей повезло друг с другом. Остальные были по большей частью одиноки в своих страхах. А вот они были уверены в своей силе, не испытывали жгучего страха не «смочь», не соответствовать. То ли наглые были, то ли дураки. Но даже в их наглости были мелкие трещинки боязни облажаться.
Гриша много раз пытался разложить на составляющие природу той легкой неуверенности, от которой можно было избавиться только попробовав. Теоретиками оставаться было уже невозможно. В школе старшие ребят уже «пробовали» и это было каким-то образом по ним заметно. А вот некоторые из их собственных одноклассников взахлеб в туалете и после школы в школьном саду, куда все ребята выходили покурить, рассказывали о своих подвигах, кому сколько раз «дали», и «как он ее», и какая девушка «вообще улет, а какая … рыба и бревно», шел счет на «палки, которые они кинули». Все это было неправдой. Парни врали. Врали, чтобы казаться взрослыми. Их никто не разоблачал, не подвергал «подвиги» открытому сомнению, но Валера с Гришей знали, что это — россказни, пошлая и дешевая брехня. Любопытно, что они сами потом никогда публично не делились с другими победами, которыми были совершенно реальны. Тот, кому было о чем рассказать, делался сдержан. Это они сразу поняли, увидели, что ребята хвастались от комплексов, у настоящих «мужиков» хвастаться не было необходимости.
В то лето они готовились … Валера откуда-то принес затертую книжечку, перевод с немецкого, что-то там о молодой семье, «Вопросы семьи и пола», так она кажется называлась. Уж как они ее читали, прямо до дыр. Там даже были схематичные картинки, которые их будоражили и настораживали. А уж текст … такой, якобы, задушевный разговор об «этом». Каждую главу друзья штудировали, валяясь у Валеры дома на диване. Его бабушка тогда еще была жива и звала внука из своей комнаты: «Валерик, Валерик …», Валера нехотя отвечал «что, баб?», но все-таки нехотя отрывался от жгучих тайн и шел узнавать, что ей было надо. Бабушка Марина сидела на кресле, но вовсе не была парализована, просто с переломом шейки бедра. Передвигалась она с костылем, с большим трудом, а загнанный в бедро гвоздь доставлял ей ужасные неудобства. Бабушка сохранила ясность ума и была весьма любопытна. Гриша был с ней знаком, даже иногда не прочь был поболтать, но не сейчас, не вместо же книги про секс. Ох, если бы бабушка знала, чем они занимаются, что читает ее Валерик с другом Гришенькой, мальчиком из хорошей семьи.
В главе «дебютанты» говорилось о проблемах, с которыми они могут столкнуться и о том, что все, якобы, ничего, и проблемы можно преодолеть. Читать про проблемы было неприятно. Все эти дурацкие «преждевременные эякуляции», т. е. можно даже не успеть донести … не дай бог такая лажа. А ничего, не надо волноваться, — успокаивала книга, это бывает от волнения, а еще из-за гиперчувствительности «головки полового члена». Да откуда они с Валерой тогда знали, «гипер» у них головка или нет. А вдруг «гипер». Хотя там было написано, что такое бывает у мужчин, склонных к неврозам. «Да, ладно, Гринь, мы что с тобой, неврастеники? Хорош волноваться» — Валера был спокойнее Гриши. Еще там было о «неспособности поддерживать эрекцию», но этого страха у друзей не было. Их эрекция как раз поддерживалась сколь угодно долго. Не вопрос. И вообще все, вроде, у них было в порядке, нашелся бы объект приложения умений, надоело уж быть теоретиками.
Интересно, что в те времена, ни Гриша ни Валера не думали о любви, не мечтали по-настоящему влюбиться, им нужна была женщина для того самого «дебюта», о котором писалось в книге. Надо же слово какое придумали «дебют». Разумеется женщине следовало быть привлекательной, иначе … что ж, себя не уважать, но … любить ее? Это было необязательно, и даже может быть нежелательно, потому что в том-то и была вся фишка — женщин у них будет десятки, если не сотни. Друзья хотели начать, но ни в коем случае не останавливаться на одной. Еще чего.
Гриша улыбнулся, вспоминая себя тогдашнего. Дурак он был, хотя… в этом возрасте все такие. Полные сил, надежд, иллюзий. Все правильно.
В июне 75 года после экзаменов за восьмилетку Гриша с Валерой были полны предчувствий: «это» с ними случится совсем скоро. Никто не знал, как и с кем, но оба знали, что они готовы, а раз так, то случай представится. Ну, да, так и было. 15 лет и …, как писал, любимый ими тогда Ив Монтан, «солнцем полна голова».
Та его первая женщина, все детали их встречи, жесты, слова … ничего не забылось, как будто это случилось вчера. Да и Валера все ему подробно рассказал, разжигая его воображение, растравляя, мучая, маня. Гриша так другу завидовал, даже самому стыдно было. Сколько раз Грише хотелось о «первых женщинах» написать, но он не писал, не мог решиться. Вот уж совсем собирался, но в последний момент решимость его оставляла. Конечно он вряд ли стал бы писать текст от первого лица, придумал бы «героя», но все равно … а вдруг его исповедь, такие интимные переживания и ощущения прочтут Аллка с Маней. И тогда ему не поможет ни отстраненный повествовательный тон, ни маска персонажа. Его девочки его сразу узнают, поймут, что это о нем самом, что наглый мальчишка из рассказа — это их муж и отец. Хочет ли он этого? Точно не хочет.
Единственный человек, которому он хотел бы дать почитать текст о тех первых бабах, был Валера, только Валера оценил бы портреты ненасытных, искренних и самонадеянных пятнадцатилетних школьников, которыми они тогда были, а другим всего этого знать необязательно … Гриша не писал, не мог решится, но сейчас эпизоды того далекого лета явственно проявились в его памяти и это было приятно, потому что он любил себя «того», смешного маленького мачо, трогательного нахального соплячка.
Валера после экзаменов за восьмилетку совсем озверел. Он на «отлично» сдал письменную алгебру и устную геометрию, за диктант по русскому получил «четыре» и «четыре» за русский устный. Родители его ожидали большего, и на обещанное море Валерку не отправили. Мать должна была с ним поехать в Туапсе, но что-то у нее не так вышло с отпуском и они не поехали, считалось, что из-за «четверок». Но вряд ли это было так на самом деле. Валере было предложено ехать в лагерь, но он отказался, что он дурак в лагере балдеть, когда лето было таким горячим временем для «фарцы». Он решил денег заработать, а там можно что-нибудь, как он надеялся, придумать. Валера носился с идеей поехать на байдарках по горным рекам Кавказа. Что он себе в голову брал, непонятно. Никуда бы его родители не отпустили одного. На две недели в конце августа Валера собирался на спортивные сборы со своей командой.
Иностранных туристов в Москве было действительно много. Они им толкали значки, шапки и пионерские галстуки. Около гостиницы Космос на ВДНХ у ребят были знакомые милиционеры, которые за определенную сумму охотно закрывали на «пионеров» глаза. Валерка приносил им иногда банку заграничного пива и менты были на него не в обиде. Делиться выручкой с ними не хотелось, но это было лучше, чем все время оглядываться и трястись. К сожалению в летнее время бизнес во дворе и спортивных школах затихал. Большинство ребят разъезжались, по-этому жвачки и прочее раскупалось хуже. И однако Валерка регулярно ходил к своей стюардессе за, как он говорил, товаром. Он вообще очень любил к ней ходить. Дело было не только в товаре. Молодая девчонка Наташа всегда встречала его, как равного партнера, не делала попыток указать Валере на его возраст, угощала хорошими сигаретами и варила специально для него кофе в турке. Валерка важно сидел за столом на ее кухне, пил кофе, закусывая едой, которую Наташа регулярно приносила с рейса. Конечно она Валере нравилась. Да и как она могла не нравится: синяя обтягивающая форма, фирменные шмотки, умело наложенная косметика, а главное маленькая однокомнатная кооперативная квартира на Алабяна. Квартиру ей оставил муж, с которым Наташа развелась. «Классная она девка» — так Валера характеризовал Наташу. И Гриша, тоже Наташу знавший, был с определением совершенно согласен. Веселая, деловая, взрослая: короткая модная стрижка, стройные ножки, круглая попка, упругая небольшая грудь. Ну откуда они тогда знали, что Наташа была родом из подмосковной деревни Лобня, что ее мать работала на ферме, отец пил и давно уже вообще не работал, а старший брат отсидел пару лет в тюрьме за «хулиганку», а вот Наташа выбилась в люди, стала стюардессой на международных линиях. Обалденная карьера, ребята и сами были в этом уверены. В те далекие времена все так думали. Радзинский со своей пьесой постарался.
В общем у Валеры сложились с Наташей дружеские доверительные отношения, которыми он дорожил. Однажды вечером, это уже было после экзаменов, Валера зашел к нему с товаром. Мама пригласила его к ужину, а потом, когда они уединились в комнате, Гриша заметил, что Валера не в себе, расстроен, чем-то недоволен. Он передал Грише пакет с товаром, улегся на Гришину тахту и угрюмо молчал.
— Валер, ты что такой? Что-то случилось? Неприятности? Ты с товаром попал? Говори уже.
— Да, нет, дела тут ни при чем, тут другое … Да, ладно, не важно. Пошел я … пораньше спать лягу.
— Ну иди. Я к тебе в душу не лезу. Не хочешь говорить, не говори … Ты же знаешь, если я могу помочь, я тебе всегда помогу.
— Не нужна мне твоя помощь.
Валера сказал это с патетическим надрывом и Гриша понял, что друга надо дожать, что ему хочется что-то рассказать, но это нелегко. Если он ничего рассказывать не собирался, то ему следовало сейчас немедленно картинно уйти, но Валера не уходил и продолжал лежать на тахте и курить. Их матери сначала пытались бороться с курением, но это было бесполезно. Валеркина мамаша помалкивала, а Гришина мать только просила не курить в комнате, Валерка это прекрасно знал, но … курил. Гриша не стал ему ничего говорить. Он тоже молчал.
— Тут дело в Наташке … понимаешь?
— При чем тут Наташка? Ты, что, с ней поссорился?
— Да, нет. У меня с ней чуть-чуть не было …
— Иди ты! — Гришиному удивлению не было предела. Ничего себе. И что? Было или нет? Что?
— Ничего. В том-то и дело.
— Как это? Можешь ты толком рассказать. Говори, не томи.
— Понимаешь, пришел я к ней сегодня как обычно. Жара, сам знаешь. Наташка в халатике, шелковом таком, коротеньком, на голое, видно, тело. Сечешь?
— Секу, — ошеломленно ответил Гриша.
— Ну, вот, то да се. Сидим мы кофе пьем, потом по сигаретке, потом она мне ликерчику налила. Зачем, ликерчик, думаю. Наташка ногой болтает. Жарко страшно. Я тоже рубаху почти до пояса расстегнул. Наташка пошла еще кофе сварить, сзади ко мне подходит и … знаешь, так меня легонько по щеке погладила … «хороший, ты, говорит, мальчик, на папу своего похож».
— Ну, а ты что?
— Я? Я встал, говорю ей «сейчас» и в ванную пошел, рот прополоскал, лицо ополоснул и вернулся. Наташка за столом сидит. Я тоже сел и ее к себе на колени потянул. Она села, за шею меня обняла. Сидит, под халатом голая. У меня голова кругом пошла. Джинсы распирает. Я в карман за гондоном. С этим я, видать, поспешил. И что я резинку достал? Как будто потом не мог … Наташка встрепенулась. Быстро встала и говорит: «Спокойно, Валер, это невозможно».
— Так и сказала? Почему? Почему невозможно? Она же у тебя на коленях сидела, значит хотела, нет? Я не понимаю. Ты что не дожал ее? Что ты ждал-то? Мало ли, что она сказала. Они все так говорят. Любят, что б уговорили. Что б силой и лаской …
— Да, я сначала полез снова. Но как я ее тянуть бы стал, она же сидела. Я на колени встал, руками ее по груди, по бедрам глажу, халат хотел распахнуть, но она не дала. Опять свое твердила «невозможно и все». Я видел, что ей хотелось, но она боялась чего-то.
— Да, почему невозможно, ты спросил?
— Спросил. Она сказала, что «оно того не стоит». Я сказал «стоит», а она «тебе стоит, а мне — нет». Я потом понял почему. Она говорит, «если твой папа узнает, он меня убьет». И сколько я ее не уверял, что он ничего не узнает, она так и не согласилась.
— Да, как бы твой папа узнал? Кто бы ему сказал? Это же только вы бы с ней знали, я — не в счет.
— Гринь, а ты не понял? Папаня ее сам поёбывает. Точно.
— Да, ладно тебе. Откуда ты такое можешь точно знать? А мать?
— Гриш, не будь идиотом. При чем тут моя мать? Сейчас это между ними или раньше было, не знаю. Но было точно. Кто бы моему папане не дал? Точно, точно. Можешь не сомневаться. Ну, да, зачем нам такой инцест? Я даже правда не знаю, что было бы, если бы он как-то узнал. По закону подлости такие вещи всегда узнаются.
Друзья молчали. Что было говорить. Грише было Валеру жалко, но … может и правильно, что у них с Наташей ничего не было. Иметь с отцом на двоих одну женщину? Неправильно.
— А если бы ты точно знал, что папа ее … того … но если бы она все равно согласилась, ты бы стал? Скажи честно.
— Да, Гриш, стал бы. Женщина того, кто смог ее взять. Ты не согласен?
Гриша был согласен. Почему он тогда не запомнил этих Валеркиных слов, почему так быстро и бездумно согласился. Хотя, может Валера был прав. Извечное право сильного. Трудный вопрос.
— А зачем она тебя провоцировала? К чему? А потом остановилась?
— А потому, что сама хотела. Я же видел. Но, понимаешь, она смогла остановиться, а я бы не смог. Может все женщины умеют останавливаться? Или не так уж хотела? Я не знаю. Она на самом деле поняла, что что-то не так сделала. Извинялась. Предлагала мне проститутку снять в гостинице, но … еще чего? Что это я стану за это платить? Ни за что. И вообще это не ее дело.
И знаешь, никогда уже у меня с ней по-старому не будет. Что-то будет не то. Просто товар-деньги-товар. Ничего личного. Жаль.
Валера докурил свою сигарету, и сразу ушел. Окно было открыто, дым быстро выветрился, но мать все равно заметила, что они курили в комнате и занудно расшумелась: «Сколько раз просить, сколько раз просить. Ты в грош не ставишь мои просьбы». Если бы мать знала, насколько Гриша все пропустил мимо ушей.
Гриша помнил, что с тех пор Валера осатанел, прямо с цепи сорвался, очень уж расстроился из-за стюардессы Наташки. Жил он в большом сталинском доме ГВФ, с аркой, где у них была трехкомнатная квартира. Гришины родители имели двухкомнатную в «генеральском доме», прямо рядом с метро, в их доме на углу был большой гастроном. Весь Сокол был их вотчиной, улица Алабяна с выходом на Панфилова, старый поселок художников с деревянными дачами и садами, железная дорога, и над ней большой мост. От этого края их район простирался до Песчаных улиц, Ленинградского сквера и дальше до площади Марины Расковой. Иногда ребята гуляли на «той» стороне, выход из метро к «Головановскому переулку». Там был целый большой район каменных пятиэтажек, общаги разных институтов. Это был их Сокол, который они знали, как свои пять пальцев. Родители мало контролировали «гулянки» сыновей и каждый уголок Сокола был друзьями обжит: их детские спортивные школы, парки, пустыри, футбольные поля, хоккейные площадки, маленькие стадионы, дешевые кафе, три кинотеатра: Дружба, Ленинград и Сокол. Потом в подвальном помещении «Сокола» открылся Камерный музыкальный театр, который ни Гришу, ни Валеру не интересовал. Музыку они любили, оба были воспитанниками маститой музыкальной школы им. Дунаевского, но … опера, нет, это было не их искусство.
У Валеры во дворе жила девочка Света, охотно покупающая у него жвачки и другие мелочи. У нее была белая большая собака, которую Света водила на небольшую собачью площадку недалеко от входа в Ленинградский парк. Валера повадился ее туда провожать. Света не училась в их 705-ой школе около бань, а ходила в 706-ую на Песчаный переулок. Объясняла она это тем, что там был какой-то другой производственный «уклон», то ли чертежников, то ли радиомонтажников. Ребятам это было диковато, так как ни один ни другой не собирались работать по специальности «уклона», и по-этому на производственные специальности плевали. Светка была яркой блондинкой, с серыми глазами, довольно худенькая, совсем маленького роста. Ее крепкие прямые ножки были явно коротковаты, и на Гришин вкус толстоваты. Света, тогда уже закончившая 9-ый класс, была миловидна и привлекательна. Впрочем сейчас Гриша понимал, что Валерина тогдашняя подружка была все-таки очень простецкой девкой, с оттенком вульгарности. Папа ее служил в милиции, а мама работала в паспортном столе. Светка любила свой маленький рост, зимой ходила в невысоких сапогах на низком каблуке, их голенища тесно облегали ее толстенькие аппетитные икры. Высокий спортивный Валера ей явно нравился, рядом они смотрелись неплохо: Света едва доставала ему до плеча.
Знакомы они были давно, но по-настоящему обхаживать ее Валера начал только тем примечательным летом. Он ходил с ней два раза в день на собачью площадку, швырял там палку собаке, они ездили все вместе купаться в Серебряный Бор, ели чебуреки и пельмени в разных забегаловках, лениво валялись под кустами с одуряюще пахнущей черемухой. Света ценила Валеркино общество, девочки вообще к нему тянулись. Его мужские стати: внешняя привлекательность, сила, координация, музыкальность, известная наглость, приобретенная от общения с Наташкой-стюардессой, остроумие еще только развивались, с каждым годом все больше оттачиваясь, но и в 15 лет Валера не мог не нравиться. С другой стороны Света была на год старше, и ей казалось правильным давать Валере понять, что ему еще надо «сто лет говном плавать…». В ответ на ее не слишком умелые и умные подтрунивания он молчал, ожидая своего часа. Грише даже казалось, что друг увлекся Светой всерьез, а чего там было больше в этом увлечении, романтической любви или желания стать наконец взрослым, этого они тогда не понимали.
Произошло все весьма предсказуемо. Света пригласила Валеру «зайти». Родители ее были на работе, и ребята расслабились. Света по-хозяйски пожарила картошечки, они ели ее с сосисками и малосольными огурцами. Потом пили чай с пряниками. Никакого алкоголя. После еды, как потом рассказывал Валера, они сразу пересели на диван и начали обниматься. Потом улеглись и целовались, не силах друг от друга оторваться. Тогда никаких эротических подробностей друг ему не привел, но Гриша явственно представлял себе картину. Вот они оба лежат на широкой довольно продавленной тахте, в расхританной летней одежде. Валерины джинсы расстегнуты, майку он снял, Светина кофта задрана и он пытается дотянутся до пуговиц на ее лифчике. Потом его рука пролезает ей в трусы, палец скользит в дырку и исследует, как там в глубине. Ее ладонь крепко охватывает его напрягшийся член. Сколько это могло продолжаться? Недолго. Валера прекрасно знает, чего он хочет. Уж сейчас-то он своего упускать не собирается. В комнате светло, Светкина собака подходит к дивану и тычется мокрым носом в их распаренные тела. Света сама стягивает одежду, потом голая идет за тонким байковым одеялом, Валера смотрит на ее тонкую спину и круглую попу. Света раскладывает одеяло на тахте. Валера молниеносно раздевается. На краю его сознания бьется страх, что «вдруг ее родители вернуться, и тогда не стоит раздеваться … и так бы можно …», но потом он решает, что «ни фига, зачем портить себе удовольствие. Родители-то не его, а ее … придут — так придут. Что они ему-то сделают? Хотя … не дай бог». Но осторожность Валеру покидает, ждать он все равно уже не в состоянии. Наконец-то … он жадно входит в девчонку. Это оказывается неожиданно легко, и Валера, хоть и дурачок, понимает, что он у нее вовсе не первый. Вот и хорошо. Он так и хотел. Сопротивление чего-то там внутри, кровь и стоны его пугали.
В общей сложности Валера пробыл тогда у Светки часа три, она стала поглядывать на часы, а потом сказала, что скоро «мама придет». С Валеры было на первый раз достаточно, ему, как он признался, даже самому захотелось уйти. Так что «мама придет» оказалось кстати. Валера тогда сразу пришел к Грише. Он выглядел слегка ошалевшим и усталым, каким-то не таким, как всегда.
— Валер, ты что такой? Что-то случилось?
— Гринь, я Светку трахнул. Честно. Она мне дала … ей-богу.
Гриша ожидал чего угодно, только не этого. Хотя почему он так уж тогда удивился, странно. Он молчал, новость еще не улеглась в его сознании. Ну, Валерка дает! Тогда он не мог бы проанализировать свои чувства. Но несомненно доминирующими были два: зависть и любопытство. Грише хотелось узнать подробности … но он ничего не спрашивал, то ли стеснялся, то ли не хотел интересоваться из гордости. Что-то сказать, однако, требовалось. Валерка, ведь, с нему с этим пришел, специально пришел похвалиться, вместе с другом еще раз пережить огромность события.
— Поздравляю, — выдавил Гриша. Ну как? Лучше чем ты думал, или хуже?
— Не знаю. Понимаешь, тут все по-другому. Мы же с тобой знаем, как кончить. Я имею в виду … знаем ощущение. Но когда ты с девушкой, тут все дело в ней. Она с тобой рядом, ты видишь ее тело, видишь, как она это делает, видишь, хорошо ей или нет … Это интересно.
— А ей было с тобой хорошо? Тебе трудно было …
— Не, не трудно. Она — не целка. Ты думал, целка? Не, Гринь. Врать не буду. Я без труда, вытащил рыбку из пруда.
Гриша заметил, что другом овладело какое-то эйфорическое состояние. Ему хотелось высказать свои впечатления, но он не знал как. Ждал вопросов и было понятно, что он готов ответить на любой. Только спросите … Валера собой страшно гордился.
— Так она что, тоже кончила? Быстро? Ты, что, ее долго держал? Ну, ты, Валер, молодец. Я бы не смог. Я все боюсь, что «не донесу». Правда, ты молодец. Как тебе удалось? Ну скажи.
— Да, что говорить. Я донес, но кончил очень быстро. Она, видать, не успела. Я не понял. Нет, точно не успела. Сразу стала меня ласкать, ну … чтобы у меня опять встал. Минут через пять я уже опять мог ей вставить. Поверишь? Во второй раз уже медленнее получилось. Светка кончила, а потом сразу я. Вместе не вышло.
— А третий раз? Ты больше не мог?
— Да мог я. Там мать ее должна была с работы прийти. Я ушел. Оно мне надо?
— А как Светка … голая? Смотрится? Как это она … днем? Ничего?
— Ничего. Она классная. Я делом занимался, я не рассматривал.
Грише казалось, что друг должен был бы начать описывать, какая Света красивая, это у нее такое, а это — вот такое … но Валера не рассказывал о Светиной красоте. Почему? Еще ему хотелось спросить, о чем они с ней говорили. Но, эти вопросы он так и оставил при себе. На первом месте у него сейчас была все-таки «техника».
— А помнишь мы с тобой читали, что девушку надо подготовить. Ты готовил?
— Не знаю. Ничего я такого не делал. Она сама готова была, вся мокрая. Класс.
— А гондон? Ты надевал? У тебя с собой был? Трудно надеть? Скажи честно.
— Был у меня с собой … да только я его не использовал. Она сказала, что можно … я бы все равно не успел его надеть.
— Ой, Валер …
— Не говори ничего. Сам знаю: зря. Нельзя бабам верить. Залетит и ты вместе с нею … под фанфары. Но, она же сказала … я больше ни в жисть, обещаю … это только сегодня. Ну, дурак я, дурак. Знаю.
Валера остался с ними ужинать, домой ему идти явно не хотелось. Вечером они вышли и вдвоем прошлись по Соколу.
— Что ты Светке своей не звонишь? Может она ждет.
— Не надо. Я хочу один побыть. Ну … с тобой то-есть. Светка успеется.
Это даже нельзя было считать оговоркой: побыть одному для них давно означало «побыть с другом». Все лето Валера встречался со Светой. Он жил на сборах, уехать он оттуда мог только к вечеру, но вечером у Светы были дома родители, а значит … все было невозможно. «Да, не едет он к ней просто так. Ради „дела“ приехал бы, а так — не хотел. Не любит он ее». Для Гриши это было очевидно, но он инстинктивно понимал, что обсуждать это с другом не стоит. Валере было бы трудно тогда признать потребительское отношение к своей первой девушке. Став старше, он подобное охотно признавал, но тогда они оба были еще слишком юные, цинизм им был неведом. До него было еще года полтора.
Странным образом ни зависть к Валере, ни любопытство у Гриши не прошли. Он ложился спать и долго лежал без сна, представляя себе друга со Светой. Валера все еще распространялся о подвигах, но более скупо. Прибавились только три подробности: в гондоне получается медленнее, но не так приятно; они пробовали разные позы, и было так — то и так-то … и так было лучше, чем этак; Светка брала в рот и вот это … вообще улёт. Гриша понял, что рассказывать больше было не о чем. Все повторялось в разных вариациях. И вообще за всю жизнь Валера так подробно рассказывал ему только о Свете, никогда больше он не делился с другом никакими чисто техническими деталями. Между ними это стало неписаным табу.
Еще только раз ребята не отказали себе в желании жадно высказать свои впечатления, сравнить их, подробно смакуя подробности, не стесняясь спрашивать. Это случилось тогда, когда и Гриша перешел в новое состояние, а произошло это с ним в середине августа, через два месяца после Валеры в то же самое знойное дымное московское лето 1975 года.
Шел июль. Со знаменательного московского лета прошло уже почти 40 лет. Сейчас опять было лето, но все было совершенно другим. Грише было решительно нечего делать. Летнюю школу он давно выкинул из головы, насчет отпуска они с Марусей так ничего и не решили. Муся много времени проводила у Аллки. Возила внука в бассейн, на неделю вся семья съездила на море. Совместные гуляния, обеды, ужины с вином. Завтракали порознь: Муся с Гришей и с Антошей, он просыпался рано. Аллка с Колей, пользуясь присутствием родителей, долго валялись в кровати и потом присоединялись к ним на пляже. В орегонском холодном океане купаться было невозможно. Гриша с Марусей чинно по-стариковски сидели на парусиновых креслицах и Гриша вспоминал так же сидевших своих родителей. Они ему тогда совсем молодому казались очень пожилыми и скучными. Ездили они тогда разок в Прибалтику всей семьей. Это было уже после 9-го класса. Гриша играл в волейбол, скучал по Валере. В пансионате на Курше Неринге отдыхало несколько девочек с родителями. Мама все время подталкивала сына к знакомству с ними, но Гриша к тому времени давно не стремился ходить с девочкой за ручку. Как мама была наивна. Он заранее знал, что ничего с женщинами в пансионате ему не светит, мама будет все время начеку, да и девушек подходящих для серьезного романа вокруг он не видел, и пытался чтением и спортом компенсировать недостаток женского общества.
Как давно это было, а сейчас он сам сидит рядом с женою и смотрит на пейзаж … На пляже были молодые ребята, которые играли в волейбол, но Гриша к ним не подходил. Волейбол казался одновременно привлекательным и утомительным. Стоило ли, напряженно скоординировавшись, ждать подачи, выпрыгивать к сетке и ставить блок, принимая на руки сокрушительный удар мячом? Стало казаться, что все это для него миновало и рядом не было Валеры, чтобы его подстегнуть, доказать, что они «еще могут». Может Валерка, у которого не было внуков, а была, наоборот, дочь-подросток, чувствовал себя моложавым. Его женщине не было еще 30 лет. Гриша вспомнил о Йоко и устыдился своих мыслей.
Мысль о поездке в Париж к нему время от времени возвращалась. Надо было решать. Умом он понимал, что следует съездить. Вечный город, мечта их юности. Там спокойно погулять, сходить в пару музеев, покататься на катерке по Сене, посетить окрестности. Может даже взять в прокат машину и смотаться в Нормандию или к Замкам Луары. Почему бы и нет? Они с Марусей о Париже говорили, она вроде согласилась, но почему-то после этого разговора его больше не теребила. То ли ей не хотелось уезжать от Аллки, то ли ей, как и ему, было лень двигаться с места. Собираться, лететь, устать, измучиться от перехода на другое время, с утра до ночи бродить по городу, стараясь как можно больше посмотреть, есть в ресторанах … Никаких реальных шагов Гриша не предпринимал. Пару раз он смотрел на интернете билеты. Они были по-прежнему недешевы, и Гриша откладывал покупку, считалось, что он ждет, пока билеты станут немного дешевле. На самом деле, никакой погоды их удешевление на 50 или даже на 100 долларов, в их бюджете не делало. Просто Гриша ловил себя на том, что ехать ему просто не хочется, и туризм его не интересует. Его это расстраивало как признак старости, ему даже казалось, что ехать они «должны», иначе совсем труба и придется расписаться в том, что он полный старикашка. Ехать стоило еще из-за того, что на будущее лето у Аллки будет новый ребенок и Маша уж точно никуда не поедет. Ему следовало купить билеты, заказать гостиницы и … вперед, но время шло, а они так и сидели дома.
Дни становились короче, в 8 часов уже было темно. Однажды Маня вернулась домой расстроенная, она забыла в магазине кошелек. Вернулась, уверенная, что кошелек отдали в кассу, но никто ничего не отдавал, и Маша была в процессе переваривания и осмысления масштабов неприятности. Когда-то в Москве, чемпионкой по кошелькам была Машина мама. У нее кошельки крали систематически, речь просто шла о большем или меньшем количестве денег, которых она лишалась. Тут все было по-другому: наличность с собой никто не носил, но зато ты терял кредитные и страховые карточки, разные удостоверения, а главное, водительские права. Это не было катастрофой, все с течением времени, заполнив кучу бумаг, ты мог восстановить, что это требовало времени, усилий и нервов. Не катастрофа, а неприятность, причем досадная. Маша плакала, потом звонила в кредитные компании, снова и снова рассказывала Грише о том, как и почему она оставила на прилавке кошелек. По всему получалось, что Маша просто невнимательная дура. Они оба это понимали, бедная Муся себя ругала, а Гриша ее утешал, философски замечая, что «дай, Муся, бог, чтобы у нас с тобой не было больших несчастий». При этом он знал, что доморощенная философия мало помогает. В глубине души он был Машей недоволен: вот раззява, живет как во сне. Хотя по сравнению с тем, что с Маруськой произошло поздней зимой, вскоре после того, как они поженились, потерянный сегодня кошелек, был просто ерундой: ну забыла — и забыла.
А вот тогда … Грише вспомнил о мерзком давнем эпизоде и мысль сделать из эпизода рассказ немедленно пришла ему в голову. Что там было главным? Не сама история, пусть и драматическая. Речь шла о нем, или, скажем, о герое, о том, как он ко этому всему отнесся, о мужском снобизме, с трудом скрываемом, и неизбывном. Такое могло, с точки зрения героя, произойти только с женщиной (читай, бабой-дурой), а с нормальным мужиком никогда бы не случилось. Другие глупости могли бы случиться, не не эта.
Гриша ждал, когда они с Маней выключат телевизор и она пойдет спать. Она к счастью уже давно не интересовалась, почему он сам не ложится. Сейчас он ей просто сказал: «Мань, иди, я еще тут посижу». Она рассеянно кивнула, а Гриша, не силах сопротивляться желанию немедленно начать писать, отправился к компьютеру. От какого лица писать? От лица женщины, мужчины? Нет, пусть будет обычный текст от лица незримого рассказчика, но «видеть» все … будет героиня. У Гриши наступило особое настроение, когда он знал, что напишет свой текст, не прерываясь, почти ничего не исправляя, единым блоком. Он назовет свою Мусю Ирой. Да, пусть будет Ира. А он? А никак … он будет «муж» и все.
Ира нарочно устроила себе выходной в среду вместо субботы. Так ей было удобнее. Дети и муж с утра уходили, а она была полностью предоставлена самой себе. В последний год ей даже рано вставать не приходилось. Дети сами собирались в школу и эту их самостоятельность Ира считала своей большой заслугой.
В это утро она встала в девять утра, лениво пила на кухне кофе с бутербродами с сыром и обдумывала поездку «в город» за вещами. Приближался Новый год, нужно было купить всем подарки, а главное у нее была надежда, что что-нибудь «выкинут», а вдруг … сапоги. Ей так были нужны новые сапоги. Сначала она собралась позвонить маме и подруге, просто так … поболтать, но только что желанные длинные разговоры внезапно показались Ире несвоевременными и ненужными. Все в ней вдруг заторопилось уходить, захотелось попасть в магазин как можно раньше. Опоздаешь, очереди станут слишком длинными, может не хватить, размера не будет.
… Ира залпом допила кофе и побежала одеваться. Шуба на легкую кофту, ничего теплого, в магазине будет жарко, на голову не шапку, а платок, который можно будет развязать и опустить, не заботясь о том, куда его девать. Так … что еще? Книжка, деньги. Деньги Ира вытащила из ящика туалета и положила в кошелек: 70 рублей. Должно хватить на все. Кошелек она уложила на самое дно сумки и накрыла носовым платком. Сумку плотно застегнула на молнию, достав мелочь на транспорт. С деньгами надо аккуратно, рот не раскрывать — сумма большая. Подруги клали деньги в лифчик, но Ире эта мера казалась излишней. У ее приятельницы сумку недавно просто срезали бритвой, но тут уж ничего не поделаешь, мало ли что бывает. Что вообще в магазины не ходить! А может все-таки в лифчик? Ира вытащила деньги из сумки и попробовала запихнуть их за пазуху. Не пойдет: деньги топорщились и кололи кожу. Ладно, ничего не сделается.
В половине одиннадцатого Ира уже выходила из метро на станции Кузнецкий мост. Теперь ей предстояла большая прогулка по центру. Магазин Наташа, ЦУМ, выход на площадь Свердлова. Там ГУМ, магазин Подарки. Она была в приподнятом «охотничьем» настроении. Ну что-нибудь ей обязательно попадется. Ира, полная наэлектризованной силы, особой энергии и азарта прошлась по большим универмагам. Кое-что она отхватила, но по мелочи. Час простояв в очереди в ГУМе, Ира купила два комплекта египетского постельного белья. В ЦУМе шелковую немецкую комбинацию для мамы. Это было уже что-то, но самое главное, на что Ира в глубине души надеялась, ей не попалось — сапоги! Она решила вернуться на станцию Кузнецкий мост и ехать по Краснопресненской линии, чтобы выйти на Баррикадной. Может ее ждет удача на Пресне, в Башмачке.
Она уже изрядно устала, в три часа из школы должны были прийти дети, и Ире следовало к этому времени быть дома. Она уже совсем собралась заходить в метро, но решила напоследок зайти перекусить в кафе. Около театра Ермоловой была маленькая забегаловка. После сосисок и кофе с песочным пирожным Ира почувствовала себя лучше. Впереди по дороге к дому только одна остановка — магазин Башмачок. Около кафе был большой общественный туалет в подвале. Неохота туда спускаться, но надо, иначе не расслабишься.
Внизу на Иру пахнуло спертым застоявшимся воздухом сырого помещения. Там пахло дешевым дезодорантом, хлоркой, потом, мокрой ржавчиной, но все перебивал запах мочи. «Фу, как я ненавижу общественные уборные — подумала Ира. Бумаги тут разумеется нет. Руки нужно будет мыть холодной водой без мыла. Надо бы мне до дому терпеть.» Для таких случаев у Иры в сумке лежали салфетки. В туалете было очень тесно. Двери кабинок беспрерывно хлопали, люди спускали воду, везде было набрызгано, вода в кранах текла, не переставая. Помещение тускло освещали люминисцентные лампы, создавая мерзкое мертвенное свечение. Ира пробыла в кабинке довольно долго: надо было повесить сумки, снять шубу. Еще при входе она заметила в предбаннике небольшую пеструю толпу цыганок. Их было человек шесть, в длинных широких юбках и растоптанных сапогах. Чумазые закутанные в платки дети, мальчики тоже, держались рядом с матерями. Шла бойкая торговля. Ира совершенно не удивилась. Цыганки продавали паленую косметику. Покупали у них провинциалы, самой Ире и в голову бы не пришло ничего тут покупать. Косметика была низкого качества, да и сами нахрапистые цыганки, вечно говорившие, что «у них нет сдачи», были ей неприятны. Она уже совсем собралась пройти мимо них, но вдруг услышала, как одна из теток ее окликнула:
— Эй, девушка!
— Это вы меня? Ира и сама не понимала, почему она остановилась. Выход был виден, и из него тянуло свежим морозным воздухом.
— Тебя, дорогая, тебя … погадать тебе хочу.
— Нет, не надо мне гадать. Я не хочу.
— Ну, как хочешь. Это тебе надо, милая. Я редко гадаю. Ты мне кто? Чужая ты мне, милая. Но я все про тебя знаю. Знаю даже то, что ты и сама не знаешь.
— Да, что вы про меня знаете? Что за ерунда? Мне надо идти … Ире и самой было удивительно, что она вообще вступила в этот диалог.
— Надо идти — иди! Я тебя не держу. Просто хочу тебе погадать. Не бойся, я денег не возьму. Я не должна деньги с людей брать. Иначе не сбудется. Понимаешь? Я не за деньги. Не надо мне твоих денег. Деньги — зло. Ну, согласна? Мне надо, чтобы ты сама захотела судьбу узнать. Я тебя не неволю. Мне-то ничего не надо. Я все про тебя знаю…
— Да, что вы знаете? Как вы можете про меня знать?
— У тебя муж есть и двое детей: мальчик 11 лет, и девочка 7– ми. Так? Ты за подарками родным пришла. У тебя мама болеет. Болеет?
— Болеет … а откуда вы знаете …
— Знаю, милая, знаю. Муж тебя любит, вы с ним неплохо живёте.
— Так?
— Так … Ира была растеряна.
— У мужа друг есть. Ты на того друга часто глядишь. Глядишь?
— А при чем здесь …
— Глядишь, глядишь … Я знаю. Я все знаю.
Ира почувствовала себя механической куклой. Она уже решила никуда не уходить. Да, пусть погадает. Хоть и ерунда, но интересно. Что тут такого …
— Ладно гадайте. Я согласна.
— Ну, ладно. Ты сама сказала. Я тебя, милая, не неволила. Давай правую руку … Нет, погоди. Надо самое главное сделать … Иначе нельзя, я тебе об этом говорила …
— О чем говорили? Что надо сделать?
— Я тебе говорила, что мне не нужны твои деньги … избавься от денег. От них тебе после будет зло. Нельзя гадать на судьбу, если на человеке деньги есть или золото. Собери деньги и положи в платок, я подержу их в кармане. Не бойся, я их тебе сразу отдам. Давай отвернись, чтобы я не видела … вынимай из кошелька, клади в платок и узлом его завяжи. Узлом … денег при тебе быть не должно. Вяжи крепко деньги узлом. И плюнь сверху. Таков закон. А серьги твои … золотые? Нет? Тогда ладно. Не снимай. Нет, нет … отвернись, отойди, я не хочу смотреть на твои деньги … Тьфу на них. Это грех. Завязала? Давай мне платок … видишь, в карман кладу и сразу отдам потом. Главное не бойся, не думай о них … плохо себе сделаешь. Деньги — зло.
Ира механически и бездумно делала то, что ей говорили. Отходила в уголок, отворачивалась к стенке, вынимала из кошелька красные десятки, заворачивала их в платок и старательно завязывала в узелок. На нее никто не смотрел. Потом она отдала платок цыганке и протянула ей правую ладонь. Что гадалка ей говорила Ира помнила смутно: какие-то дела, дальние дороги, болезнь и счастливое выздоровление, муж … много денег, поворот в судьбе … будет плохо, а потом хорошо. Обычная, ни к чему не обязывающая, скороговорка, невнятное многозначительное бормотание … Все вместе заняло не более двух минут. Цыганка вынула из кармана скомканный платок с узлами и протянула его Ире:
— Вот, милая, деньги твои. Держи. Все как было, как и есть. Чуешь? Как ты завязала … так все и осталось. Иди, милая, с богом. Не оглядывайся. Все исполнится. Вспомнишь меня.
Ира положила в сумку узелок с деньгами и одеревенело двинулась к выходу. Остальные цыганки, которые секунду назад и внимания на них не обращали, сейчас резко активизировались и загомонили, обращаясь только к ней, к Ире: «Иди, иди … только не оглядывайся. Упаси тебя господь на нее смотреть. Не оглядываться. У нее дурной глаз. Ведьма она. Делай, что велела, а то худо будет. Зря ты с ней связалась. Иди. Не оглядывайся.» Ира застегнула шубу, поправила на голове платок и вышла на улицу. Шли прохожие, нарядная толпа. Никаких цыганок, гаданий, прорицаний. Ире показалось, что это был сон, дурной неприятный сон, что-то гадкое, стыдное, необъяснимое. На нее что-то нашло, ею манипулировали при помощи гипноза, а она … поддалась. Какой ужас.
В метро Ира в изнеможении села на скамейку и обреченно развязала свой носовый платок. Действительно он был завязан точно так, как она сама его завязала, только вместо денег там лежали плотные скомканные в тугой комок, бумажки. У Иры пересохло во рту, появилось ощущение тошноты, заболела голова. А что она ждала … разумеется, денег в платке не оказалось. Ее умело развели. Такая вот пошлая, циничная разводка, рассчитанная на провинциальных простаков. Ну, как она могла … Она сидела раздавленная, оплеванная, ненавидящая себя, представляя, как она будет рассказывать мужу свой позор. Ни в какой Башмачок Ира не пошла. Настроение резко упала, да и денег, тщательно скопленных и отложенных, у нее не стало. Теперь она вообще не могла объяснить себе своего поведения. Она же знала, что что-то в этой мути не то, никогда не верила в гадания, судьбу узнавать ей было не интересно … цыгане ее пугали … а тут …
Вечером муж пришел с работы, заметил ее подавленное настроение, утешал, распространялся об умелом гипнозе, но Ира видела, что он ее презирает. Это было у него в глазах, в еле скрываемой саркастической усмешке, в чуть раздраженных в десятый раз повторенных уверениях в том, что «это с каждым может случиться». Ира знала, что ему ее жалко, но к этой жалости примешивается брезгливость. С ним бы такого не случилось. Разумеется нет, в мужских же туалетах не стоят цыгане и не предлагают мужчинам погадать. Такое случается только с «дурами-бабами». Он всегда это знал, просто получил лишнее подтверждение бабской глупости. Для него это было и простительно и нет одновременно. Бедные доверчивые, глупые, смешные женщины. Но, ведь, они такими и должны быть. Денег ему было жаль, да … ладно. К ночи Ирин муж об инциденте даже и не вспоминал. А Ира вспоминала и каждый раз ее охватывала волна гадливости, стыда, отвращения к себе. В мозгу стучало: «Ну как же так? Вот, я — дура».
Гриша дописал последнее слово «дура» и перечитал текст, исправляя описки. Это же все с Мусей с его произошло. И да … ей было перед ним стыдно. Она тогда плакала, сначала громко и безудержно рыдала, зажимая лицо руками, а потом долго горько всхлипывала. Манечка его бедная. Грише было ее жалко, но … какая же она все-таки идиотка. Столько лет прошло с того злополучного цыганского эпизода. Может он уже простил Мане ее дурь? Ну, простил … но она все-таки идиотка. Родная его балда несчастная. Не было его тогда с нею. Да разве он бы позволил. А еще Гриша подумал о цыганах. Осуждать ли аферистов? Кот Базилио и лиса Алиса — сволочи, а Буратино — дурачок? Но … жалко ли ему дурачков? Пожалуй, нет.
Когда-то и он сам был «дурачком», просто проявлялось это в других обстоятельствах. Да, надо честно сказать. Им тоже манипулировали, только реже и это было простительно. Уж очень он был молодой по-сравнению с Манькой. Она-то тогда была будь здоров тетенька и он … он был совсем мальчишкой, а произошло это много раньше, чем он узнал Марусю.
Опять Грише вспомнилось знаменательное лето 75 года. Самое начало августа, он отдыхал на даче в Жаворонках. У них у самих дачи не было, в Жаворонках снимала дачу мамина подруга Рая Онищенко. Вот туда к ней родители его и послали. Боже, как же он не хотел ехать. У Раи была дочь Мариночка, было ей тогда лет семь. А больше там и не было никого. Интересно, чем он на этом даче должен был заниматься? Ни ребят знакомых, ни дома отдыха какого-нибудь рядом. Была речка, но мелкая. Там и плавать-то толком было невозможно. Варить с Раей клубничное варенье, загорать, чинно вечером пить чай на террасе? Что это такое? С другой стороны и в Москве ему делать было нечего. В лагере он отдыхал на второй смене, на третью ехать категорически отказался. С родителями этим летом отдыхать тоже не сложилось. Валера был на сборах за городом. Гриша туда к нему пару раз съездил, но время они провели так себе. Валера, не переставая, болтал про свою «классную» Светку, а еще о тренировках и предстоящем сезоне: какие игры, когда, с кем. «Езжай, Гриша. Поживи там. Телевизор есть, речка, лес. Ну что тебе надо? Рая к тебе лезть не станет. Ты ее знаешь. А если надоест, приедешь в Москву» — мать его в результате уговорила.
У матери было не так уж много подруг, но Рая от них ото всех отличалась. Даже непонятно чем. Вряд ли она тогда выглядела моложе матери. Просто мать была мать, а Рая … смотрел он на нее или все-таки не смотрел? Теперь Грише казалось, что «не смотрел». А она на него тем более. Жизнь у Раи была странная. Мать с отцом про нее разговаривали, Гриша специально не слушал, но все равно вся Раина ситуация была ему известна. Работала она в той же больнице МПС, ведомственной больнице министерства путей сообщения, что и мать, в поликлиническом отделении. Мать гинекологом, а Рая рентгенологом. На работу туда они поступили почти одновременно. Мать дружила с Раей в основном на работе, изредка они встречались в центре, куда-то ходили. У них был один на двоих парикмахер, одна косметичка. Но Рая почти никогда не приходила к ним в гости, особенно на разные семейные мероприятия, куда приглашались семейные пары. Рая не вписывалась в такие компании, она, как мама говорила, была «соломенной вдовой». Маленький Гриша не понимал, что это такое, а потом догадался. Она жила без мужа, но он у нее был, просто сидел в тюрьме.
Раин муж Роман Заостровский был по матери еврей, а по отцу — поляк. Грише он представлялся «обалденным», ведь про него шепотом рассказывали, что он играет на бегах и один из лучших в Москве бильярдистов. Раин муж закончил художественное училище, занимался реставрационными работами и, как Гриша понял, перепродавал коллекционерам антиквариат. Сел он по плохой статье: валютные махинации. Кое-какие иконки уходили иностранцам. Романа кто-то подставил, обыск, нашли валюту. Статья была страшная, расстрельная, но долларов тогда в квартире нашли совсем мало. У Романа был дорогой адвокат и он отделался «легким испугом». 7 лет общего режима с конфискацией. Хорошая их трехкомнатная квартира была, слава богу, не кооперативной, и ее отобрать не могли. Отобрали «цацки» и дачу. Дачи было по-настоящему жалко. Рая осталась одна с совсем маленьким ребенком, без работы, так как она поначалу даже няню не могла себе позволить, а родители ее жили не в Москве. Повела она себя мужественно, не распускалась. Сменила фамилию обратно на свою девичью, Онищенко, и стала привыкать жить без Романа. Оказалось, что он, понимая, что сильно рискует, подстраховался, кое-что заначил по друзьям. К тому же он никого не сдал, все взял на себя, и друзья-подельники, как водится, не оставили его семью. Рая с дочкой ни в чем не нуждались. Нашлась няня, Рая вышла на работу и долгими рабочими часами рассматривала бесчисленные рентгеновские снимки … переломы, смещения, затемнения, и прочую неприятную черно-белую фигню.
Рая честно ездила пару раз в год к мужу в колонию в Псковскую область, но по ней каким-то образом чувствовалось, что она живет одна, и не связала никакими семейными обязательствами. Рая прекрасно одевалась, была всегда ухожена, в ровном настроении. Он нее исходило ощущение самодостаточности и внутренней свободы. Гриша все это в ней разглядел только позже, а тогда в августе … нет, Рая была только взрослой теткой, маминой подругой с мало интересным ему ребенком.
Дача была большая старая замшелая, с шаткой лестницей на второй этаж, обширной незастекленной террасой, и маленькими темными комнатками, в которых никто не жил. Гришины родители привезли свое постельное белье, сумки с продуктами, все вместе провели на даче выходные, а потом Гриша остался, а родители уехали в Москву. Жилось ему там скучновато, но дачная скука его не слишком тяготила. Рая ему не докучала, не просила развлекать дочь. У девочки были подружки и она целый день где-то пропадала. В сарае нашелся велосипед и Гриша прокатился по окрестностям. С Раей у них сразу наметилась рутина: утром совместный не слишком ранний завтрак, Гриша ее спрашивал не надо ли чем помочь. Иногда Рая посылала его в магазин, несколько раз они вместе ходили на станцию за овощами или в соседнюю деревню за молоком и яйцами. Один раз Рая никак не могла открыть банку с маринованными опятами, у нее не хватало сил. Гриша открыл ее с первой попытки и Рая сказала:
— Гриш, какие у тебя сильные руки. Мама, наверное, не замечает, какой ты стал большой.
Гриша помнил, как его покоробило слово «большой». Так говорят детям. Значит она считала его ребенком. Зря. Банку открыл … подумаешь. Ясное дело, он сильнее ее. Что тут странного? Он же, как мама говорила, «здоровый лоб».
— Мужчины всегда сильнее женщин. — ответил он тогда Рае. Что за глупое замечание. Лучше бы молчал.
— А ты у нас мужчина? — вот что она сказала. Или что-то в этом роде. Гриша увидел в этом вопросе провокацию или намек и насторожился.
— Ну, Рай, весь мир делится на мужчин и женщин. Ты что имела в виду?
— Смотрю я, Гриша, на тебя и вижу, что ты очень изменился. Я только что это заметила, а мама твоя, я уверена, не видит. Мне заметно, а ей — нет. Это нормально. Ты для нее все еще мальчишка.
— А тебе я — не мальчишка? Скажи. Ты мне не мама.
— Нет, мне ты не мальчишка. Хотя … ты сейчас ни то, ни се … Я не могу пока сказать точно. Мы с тобой друг друга не знаем. Что там у тебя в голове … дело, ведь, все в голове, ни в чем другом. Мужчина и женщина должны общаться на всех уровнях. С детьми мне общаться неинтересно. Скучно делать им скидки, а ты … тебе может уже не надо их делать. Ты такой же, как я, только моложе. Но не всегда в возрасте дело. Понимаешь? Люди или понимают друг друга, или нет. Мне кажется, я способна тебя понять. Я редко о себе говорю, а тебе … готова. Станешь ты меня слушать? Ты вообще умеешь слушать других?
— Умею. Мы с моим другом …
— Да, друг — это хорошо, но он тоже мужчина. С женщинами — по-другому. Женщины другое слышат, им говорят другое, они не столь понимают, сколь чувствуют. И им не надоедает слушать мужчину. Я говорю об умных настоящих женщинах. Другое дело, что ты им за понимание должен всегда заплатить …
— Как заплатить? Я не понял.
— Ну, как чем? Собой. Она взамен должна чувствовать твою руку, твою спину, плечо. Ты сильнее, и она должна это знать. Иначе, зачем ты ей нужен? Вот я сейчас одна. Это неправильно. Не то, чтобы я не могу, не умею быть без мужчины, но … повторяю: это неправильно. Рядом с женщиной должен быть сильный мужчина.
— А раньше?
— Я поняла. Ты о муже моем спрашиваешь. Раньше … всякое было. Роман … знаешь, я сейчас не хочу о нем говорить. Нет настроения. Может когда-нибудь потом. Ты таких мужчин никогда не видел. Он не такой, как твой папа. С такими, как твой папа гораздо легче жить. Ладно …
— А это правда, что он на биллиарде играл?
— Ой, Гриша, он не только на биллиарде играл … Он по сути своей игрок. Иногда крупно выигрывал, иногда проигрывал. Я не о биллиарде или картах говорю. Я о жизни. Он не боялся проигрывать, всегда встречал поражение достойно. Вот в чем дело. Не все это умеют.
Никогда раньше взрослые так с Гришей не разговаривали. Валера — это да, они друг с другом могли обо всем, но надо же, она говорит, что с женщинами все по-другому. А как? Потрясающе интересный манящий его женский мир, недоступный, закрытый, тайный. А Валерка уже что-то знает … через свою Светку? Но, ведь, Светка же дура. Почему-то Гриша был уверен, что друг ни о чем «таком» со Светкой не разговаривает, иначе он бы ему об этом сказал. Одно дело — Светка, другое — Рая … Как их вообще можно было сравнивать. А вдруг она его сейчас спросит о его жизни, чувствах, мыслях. А что он скажет? Скучно, мол, Валерке завидую, у него хоть Светка есть, а у меня — нет … сижу я с вымытой шеей и жду … и обидно мне до смерти, что жизнь несправедлива. Нет, такое он Рае не мог сказать. Тогда о чем говорить? Врать? Она же сразу увидит, что он врет. Как она сказала: надо уметь достойно проигрывать. А он умеет? Наверное не умеет.
Рая тогда ни о чем его не спросила и день покатился дальше. После обеда они все вместе сходили на речку, Гриша купался, они с Мариночкой катались на надутом баллоне, он даже стал забывать об утреннем разговоре, а потом заметил, что Рая на него смотрит. И он тоже увидел свое тело ее глазами: высокий, тонкий, жилистый парень, накачанные плечи, сильные ноги, плоский твердый живот. Мокрые волосы лезут в глаза, крупные, переливающиеся на солнце капли на коже. Так она на него смотрела? Так. Гриша был уверен, что не ошибся. Он, кстати, тоже на нее посмотрел «так». Молодая красивая женщина с хорошей фигурой. Только сейчас не Раина фигура его интересовала, он снова хотел с ней поговорить, впитать в себя ее женскую мудрую откровенную суть, которая ему внезапно открылась. А, ведь, мама хотела его с дачи забрать, он ей сам говорил, что ему скучно. Да, ни за что он теперь не уедет. Рая становилась центром его мира и поделать с этим он ничего не мог.
Вечером они сидели вдвоем на террасе и пили чай. Гриша смотрел на Раю и видел теперь ее совершенно иначе, чем раньше. Ненакрашенное спокойное лицо, тонкие мягкие руки, ноги в носках и тапочках. Вот она встает и идет за шалью от комаров. В шали все ее тело тонет, и так даже лучше. Они молчат, серьезный разговор не завязывается. Да и не надо. С ней и молчать приятно. Мама бы обязательно сказала: «Гришенька, а тебе не пора ложиться?» Как будто он сам не знает, когда ему идти спать. А тут Рая несколько раз зевнув, сама пошла в свою комнату. Она хотела убрать на кухню посуду, но Гриша сказал ей, что он сам … что он еще немного один посидит. Рая ушла, а он вышел в сад. На террасе горел свет, бросающий широкий отсвет на крыльцо, в радиусе двух метров была непроглядная темень. Вокруг не раздавалось никаких звуков, только время от времени слышался гудок электрички. Приторно пахло цветами, особенно цветущим жасмином. Ну зачем она ушла? Гриша спустился с крыльца и направился было к деревянной будке уборной, но раздумал и решил отлить под деревом.
И тут как раз зажглось окно Раиной комнаты, она, видимо, не сразу туда направилась, заходила к дочке. Занавески были закрыты неплотно и Гриша видел, как Рая ходит по комнате: подошла к окну, потом к комоду, потом стала раздеваться. Вот она сняла шаль и бросила ее куда-то на стул … подняла руки и снимает через голову сарафан … Гриша видит верхнюю половину ее тела в лифчике, Рая заводит руки за спину … расстегивает лифчик … поворачивается к окну и в освещенном проеме Гриша видит ее голую грудь. Вот она садится на кровать и исчезает из виду. Потом встает, чуть отходит в глубину комнаты и Гриша видит ее всю со спины.
И внезапно Гришу как кипятком ошпаривает догадка: Рая знает, что он нее смотрит. Она так специально сделала … И что теперь? Что он должен делать? Сейчас пойдет к ней … и попадет в самую глупую на свете ситуацию, из которой он никогда не выпутается, придется уезжать … но если не зайти … она дает ему шанс, а он … не воспользуется? Значит она в нем обманулась, значит он не смог … Как там они с Валеркой пели недавно? «Если взять не можешь, что ты можешь дать?». Тут и думать не надо. Если слишком долго думать, то … не сделаешь … и почему он всегда думает прежде, чем сделать? Все эти мамины «семь раз отмерь …» сейчас не тот случай. Гриша не помнил, как он зашел в дом и рывком открыл дверь в Раину комнату. Вот что он тогда сделал … тем летом в августе.
Распахнув дверь, Гриша четко понял, что правильно сделал: Рая не удивилась, она его ждала. С того момента прошло сорок с лишним лет и вспоминая о Рае, Гриша странным образом не помнил чисто «технических» деталей. Все произошло настолько само собой, что тут и помнить было нечего. Теперь ему казалось, что картинки той ночи заполняют его голову, но он скорее всего их сейчас придумывал. Так, как он «видел», на самом деле не было, картинки он представлял себе, создавая их в своем воображении: он совсем без одежды, прижимается к Раиному телу. Тело теплое, мягкое, податливое. Свет погашен. Кто его погасил? Гриша не помнил. Впрочем и без света в комнате темно не вполне, видна раскрытая кровать с белым простым бельем, его одежда на полу, силуэт двух прижавшихся тел, ветер обдувает его спину, которую обвивают Раины руки. Его бедро вдавливается у нее между ног, он напрягается, упирается членом в ее живот и слышит, как она еле слышно стонет. Тогда он поднимает ее неожиданно нетяжелое тело и опускает на кровать. Она привлекает его к себе: вот … и все.
Гриша даже не помнил, насколько хорошо ему с ней в первый раз было. Единственное, что он осознал, когда кончил — это мгновенное моральное удовлетворение: он не облажался. Слава богу! Они потом долго лежали обнявшись, он ей что-то тихонько говорил, она слушала. Потом он любил ее еще несколько раз, а ушел только под утро. Долго спал, а на завтрак она пожарила им блинчики, значит давно встала. Утра он боялся: как он с ней будет, а вдруг все будет неестественно, не «так». Но боялся он зря. Рая умела себя вести. И все-таки по прошествии стольких лет, Гриша понимал, что он воспринимал Раю как свою первую женщину не на уровне секса, она была его «инициатором» в женский мир. О, как она тогда на него влияла, он буквально впитывал каждое ее слово, каждый жест. Скорее всего он был в нее влюблен. Безусловно, так и было. А она? Любила она его хоть немножко? Зачем он ей тогда вообще был нужен? Вот что было Грише сейчас интересно.
Ну, конечно, он был таким симпатичным мальчиком. Ей за тридцать, ему — пятнадцать. В отсутствии мужа захотелось свежего мальчика? Так? Вряд ли. Что-то Рая тогда в нем рассмотрела. Любила с ним разговаривать, слушать его. А он и рад стараться, болтал о себе, о жизни … Да, сколько он там с ней был? Две недели — вот сколько. И все. На даче он жил как в сне, балдея от ее близости, пользуясь любым предлогом, чтобы только к ней прикоснуться, вдохнуть ее запах, ждал ночи. Как она приятно пахла, дорого … слабые духи, лосьон, крем, шампунь? Откуда он знал. Эти запахи его заводили без меры, он от нее не уставал, был безудержным, ненасытным, жадным. А если бы родители узнали, мать бы как-нибудь догадалась? Все-таки Рая рисковала. Интересно были ли у нее угрызения совести перед подругой? Гриша так не думал. Что она ему плохого сделала? Да, ничего. Не с ней бы, так с другой … Но мама-то и предположить себе такого не могла. Ой, да при чем тут мама. Что ему в голову приходит? Как он тогда собой гордился, как с ума сходил от своей крутости. Раз такая женщина его любит, значит он невозможный. Гриша подумал, что он был в себе настолько уверен, что дальнейший поворот событий его буквально поразил. Какой же он был маленький дурак!
С дачи пришлось уезжать, учебный год был на носу. Гриша вернулся в Москву, полный впечатлений, которые он сейчас же выложил Валере. Он все ему про Раю рассказал, хотя … нет, не все. Никаких конкретных деталей: а ты, а она … сколько раз … как … долго ли … Он видел, что Валерка был бы не прочь его кое о чем спросить, но так и не спросил, видимо почувствовал, что не стоит. Единственный вопрос он все же задал, не удержался: «Гринь, а ничего, что она такая же, как наши матери? Ничего?» Ни черта Валера не понимал в женщинах. Неужели он считал, что его сопливая глупая Светка лучше? Гриша помнил, что он пытался пересказывать другу их с Раей разговоры: «Валер, она мне сказала, что … понимаешь, Рая считает, что самое главное это … мужик, он … должен … для женщины важно, что …» Каждый вечер это горячечное … Рая, Рая, Рая … он как с ума сошел. Понимал его Валерка или нет? Может и нет, у него таких подруг не было, и потом не было, как-то не выходило. Может другу и не нужна была старшая женщина, не нужны были в любви учителя, он органически не умел быть ведомым. А Гриша, получается, мог? Да, мог, единственный раз, но мог.
А потом после дачи уже ничего не было. Началась учеба в девятом классе, все вернулось в свою колею. Рая не проявляла ни малейших поползновений с ним увидеться. Гриша боролся с непреодолимым желанием позвонить ей на работу, и что …? Позвать к телефону Раису Александровну? Там спросят, кто ее спрашивает? Он скажет, что … кто? Гриша Клибман? А почему Гриша Клибман не маме звонит, а Раисе Александровне? Что-то дурацкое придумывать? А почему она сама ему днем не звонит? Нет, она не обещала звонить, но все-таки … что такое? В конце сентября мама за ужином им сказала, что «Рая от них уходит. Нашла себе другую работу в Первой Градской. Жаль. Теперь будут видеться реже, но конечно в Первой Градской гораздо лучше». А что это она увольняется? Зачем? Из-за него? Не хочет каждый день видеть его мать? Гриша, однако, чувствовал, что причина Раиного увольнения вовсе не связана с его персоной. Что это он о себе возомнил? Просто наверное так и было: работа лучше.
Осень долго тянулась. Сначала Гриша ждал Раиных звонков, даже спрашивал у матери про нее, но постепенно стал понимать, что Рая не позвонит. Однажды перед Новым 76-ым годом он встретил ее в метро. Рядом с ней был молодой высокий мужик. Они стояли в середине, поезд качало и мужчина поддерживал Раю, по-хозяйски ее обнимая. Она не стала делать вид, что не знает Гришу. Наоборот, повернулась к нему, объяснила спутнику, что это сын ее хорошей подруги, представлять их друг другу она не стала. Рая была любезна, оживлена, задавала обычные вопросы про учебу, тренировки, родителей. Вот так и должна была с ним разговаривать мамина подруга. Мужчина в короткой дубленке, лощеный, уверенный в себе, она в длинной дорогой каракулевой шубе … и он в коротковатой черной курточке и лыжной шапочке, надвинутой на лоб. Гриша почувствовал себя жалким. Под конец, им надо было выходить на какой-то кольцевой станции, Рая улыбнулась и сказала: «Рада была с тобой, Гриша, повидаться. Передавай маме большой привет.» Она, что, не помнила их душный август? Она же стонала в его руках, он научился ее до этого доводить. А теперь «привет маме» … и все? Ну как же ему тогда было нестерпимо обидно! Зачем она так с ним? Неужели она все забыла? Постепенно и Гриша тоже забыл, то-есть не забыл. Жизнь продолжалась, он изредка вспоминал Раю, но уже без обиды и боли.
Сколько он еще раз в жизни видел Раю? Несколько раз при разных обстоятельствах видел. Она вела себя естественно, не избегала его, но и не давала никаких поводов к новому сближению. Потом, кажется, ее муж Роман вышел из тюрьмы и они уехали в Америку, уже перестройка началась.
Гриша подумал, что если бы он захотел, можно было бы постараться их в Америке найти, но ему не хотелось. Зачем? Она пожилая женщина. Он вспомнил рассказ Моруа на эту тему: герой изредка встречает свою старую любовницу и переходит на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с ней. Она — старуха, с тяжелой походкой и некрасивым лицом, в котором, к сожалению, еще сохранились черты, которые он когда-то любил. Он не желает видеть ее такою, в его мыслях остался ее прежний образ и пусть он будет единственным и дорогим. Гриша улыбнулся: хорошая литература всегда все заранее «знает», и нет ситуаций, которые уже не были бы описаны.
А вот интересно, если сейчас об этом подумать: что Рая ему дала? Что он от нее получил? Повезло ему с первой женщиной? Какая тема! Он бы с удовольствием писал обо всем об этом. Гриша вспомнил одуряющий запах дачных цветов той ночью … вот так бы и назвал «Запах жасмина»… и тут он привычно себя одернул: нельзя! Там где-то глубоко внутри у него стояла «шайба». Он не мог такое писать о себе. Слишком интимные вещи, о которых никто не знает. Даже Валера всего не знает, он всего ему не говорил. А представлять себе недосказанное Валера, скорее всего, не мог, не умел. Только он один умеет «представить» то, что ему не говорили, непережитое, неизвестное, невиденное. И все-таки … про Раю. Почему она тогда так быстро «слилась», обидела его, оттолкнула, как он считал незаслуженно. Не любила?
Вот он дурачок. Конечно не любила. Только мальчишка пятнадцатилетний мог себе такое навоображать. Он был Раиным летним капризом. Отпуск, маленькая дочь, дачная скука, относительное одиночество, пустые вечера, невозможность поехать в город … а тут он, молодой щенок, готовый к приключениям, ждущий их. Гриша не очень верил, что ей так уж льстила роль «учительницы», вряд ли. Дело отнюдь было не в их возрастной разнице. Просто так все сошлось: она была еще такой молодой привлекательной женщиной, а он был уже мужчина, юный, но дерзкий. Вот и вышло. Была она в чём-то перед ним виновата? Да в чём? Она ему тогда не врала. Он ей был интересен, они друг другу дали все, что могли, каждый свое. А почему ушла из его жизни? Ну, правильно сделала. Благородно. Пусть лучше коротко, но ярко, чем длинно, но тускло. Две недели … и хватит. Каждый пошел дальше, жизнь взяла свое. Что их могло в дальнейшем связывать? Ничего. Жасмин под окнами связал, и это всё. Рая была с ним честной, надо отдать ей должное. И мужика в метро она не любила. Мужа, непутевого своего «игрока», любила, вот она с ним и осталась, остальные … Грише и думать про остальные Раины капризы было неинтересно. Написать бы о том лете в Жаворонках. Но … ни к чему. Внезапно Гриша понял, почему он тянет с билетами во Францию с Маней.
Поездка для него докука, она ему не нужна, ему надо только одно — писать. А там он не сможет. Надо будет заниматься туризмом, развлекать Машку: ах, Нотр-Дам, Сакре-Кёр … Скучно все кроме письма. Нет, ну это чистейший эгоизм. А Манечка? Весь год отработала и что, все каникулы дома просидит? Гриша решительно уселся за компьютер и открыл страницу покупки авиабилетов. Спустя короткое время ему стало очевидно, что покупать билеты в Европу поздно. По такой цене ехать было немыслимо, он упустил время. В глубине души Гриша знал, что так и будет, что он нарочно тянул, чтобы никакой Париж не состоялся. На фиг он ему был не нужен. Но все-таки надо совесть иметь. Что там Аллка говорила про Колорадо? Может туда съездить. Никогда не были … дней на пять, не больше. Больше он не выдержит. Нет, не пять, четыре дня — хватит. Гриша купил на послезавтра билеты в Денвер.
Маня была рада. Получилось, что Гриша сделал ей сюрприз. Она ему даже не напомнила о Париже, может ей тоже не слишком хотелось ехать. Странно, для них выпускников ИНЯЗа Париж так и должен был остаться вечной ностальгической мечтой. Но, нет … мечты тоже уходят.
Надо же эта поездка в Колорадо не оставила глубоких воспоминаний в Гришиной памяти. Так, общие впечатления. Колорадо — красивый, зеленый штат. Денвер — обычный американский город с небоскребами в центре, ничего такого. Съездили в Боулдер: пешеходная живописная улица, в туалетах играют классику … немного пошло и противно, явление того же порядка, что и музыка в мобильных телефонах: тьфу … какаешь под Бетховена. Кампус университетский … и дальше что? Мало что-ли Гриша видел университетских городков? Корпуса бывают красные, белые, а тут … желтые. Какая разница. На что смотреть. Гриша таким себя не любил. Увидели горы, первозданные, страшная высота, голые вершины и пики, даже воздух разряженный, трудно дышать. Поднялись туда на крохотном поезде. Туристов настолько много, что почти никакого единения с природой не получается, все для удобства — горы горами, но есть и туалет и кафе, и магазин сувениров, и из-за этого во всем какая-то фальшь. Мотались по каким-то крохотным поселкам, убогим, заброшенным, богом забытым. Одна, максимум три улицы. В каждом доме казино. Чем они живут? Где работают? Страшные места «золотой лихорадки». Дядьки-авантюристы, хищники, готовые на все, обмануть, убить … моют золото в ручьях при помощи лотка и лопаты, создают артели и роют шлихты, строят примитивные дороги. Сколько трупов, шерифы расследуют убийства и виновных вешают … начало 19 века. Гриша смотрел на сохранившиеся в первозданности деревни-призраки и ставит себя на место тех первых старателей. Интересно стал бы он сам подобным заниматься? Нет, не стал бы: тупая работа, не по нему. А Валерка стал бы? Гриша по привычке все перекидывать на друга, честно сам себе отвечал: нет, и Валера не стал бы. Это не их стиль, они всегда рассчитывали не на удачу, а на свою голову, к тому же, деньги, как цель жизни, не были так уж сильно для них значимы.
Гришины мысли уносились в разные стороны. От старателей, от легких денег к ним с Валерой, их отношению к деньгам. Так бы и позвонил, обсудил бы с другом проблему «денег вообще». Но друга рядом не было, но что бы это с Машей не обсудить? Нет, Гриша не стал обсуждать с Машей деньги, и сразу же, проанализировав «почему», решил, что «деньги» — это чисто мужская проблема, ответственность и цель. Что Маня могла ему сказать? Валера сказал бы, и Гриша даже знал что: деньги не могут быть целью, они — средство, их должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы удовлетворять свои желания. Деньги не могут быть интересны сами по себе, за них нельзя купить не одну существенную вещь: ни дружбы, ни любви, ни здоровья, ни … да ничего такого уж хорошего. Грише остро захотелось очутиться с другом, ему его так не хватало. Позвонить? Да, что он в самом деле, четыре дня не мог не разговаривать с Валерой? Ему что Машки не хватает?
Да, хватает, с Машкой Грише было хорошо. Они съездили еще напоследок в Колорадо-Спрингс. Там военная база или академия, Гриша сначала запомнил, но быстро забыл: ничего не впечатлило. Больше всего он запомнил их с Марусей походы в рестораны. В каких они только не были. Вот маленький французский, где они говорили по-французски и к ним немедленно вышел шеф, а вот какой-то а ля русский, где подавали разного цвета крепкие наливки. Гриша смотрел на Марусю: за столиком она оживлялась, придирчиво выбирала еду, подолгу обсуждала с официантом подробности, какой гарнир, десерт, вино, закуски … Манечка его дорогая. Гриша видел, что ей хорошо с ним вдвоем. Маша переставала быть мамой, бабушкой. Она не говорила ни о проделках Антоши, ни о тяжелой беременности дочери … Грише казалось, что они наконец-то действительно вдвоем, дома у них так почему-то не получалось. Маня была еще такая стройная, стильная, ухоженная. Какая она молодец.
А он? Он — молодец? Соответствует? Да, вроде да. Грише трудно было судить о себе самом. После вечернего ресторана они, чуть навеселе, возвращались в свой номер и любили друг друга, как давно у них не получалось. Машка не надевала свою «семейную» ночную рубашку, и Гриша видел, что у него красивая жена, что ему повезло, а Валерке — нет. Ну, надо же, а иногда, он втайне завидовал Валере, его свободе, плейбойству, пусть и затянувшемуся. Валерка не старел, мог себе позволить любую, главное он не потерял интереса к молодым женщинам, гордился своими победами, а он, Гриша … у него был «свой самовар», семья, внук. Он давно жил в тихой гавани, и да, завидовал, восхищался другом. Но сейчас в Колорадской гостинице, он понял, что рад, что у него есть Маня, вовсе не экзотическая, а милая, обычная, родная его женщина, и хорошо, что в его жизни нет ни бурных романов, ни роковых страстей, ни ярких эгоистичных побед. Гриша летел из Денвера и думал обо всем об этом. Да, он — семейный человек, зато он никогда не будет одинок. Удовлетворенный поездкой, довольный и Машей и собой, Гриша расслабленно думал о том, что одиночество ему не грозит, но когда самолет сел, стукнулся колесами о землю, Гриша вдруг понял, что насчет одиночества … всё не так просто. Может он все-таки в чём-то одинок. Да какое там «в чём-то», в творчестве он одинок. Перед чистым своим листом одинок, в своих ночных мыслях одинок. Ему тут никто не мог помочь, да он и не хотел помощи. Писать — было делом одиноким и желанным. Грише остро захотелось добраться наконец до дому и раскрыть свои тексты. Хорошо, что Колорадо кончилось. Тут Гриша со стыдом сам про себя отметил, что он «отделался» от поездки, что он свободен и этой ночью опять сможет писать. Эти четыре дня казались «потерянным временем», которое надо было наверстывать. Все-таки он урод. Гриша признавался себе в этом довольно часто.
Они устали и Маша сразу уснула, а Гриша все ворочался с боку на бок. О поездке он не думал, а вот мысль о своей семейности и Валериной свободе не давала ему покоя. У них обоих за плечами была интересная профессиональная карьера, успешная, хотя у Валеры все-таки более яркая.
Друг после школы сразу поступил в МФТИ, самый престижный научно-технический ВУЗ страны. Да и факультет молекулярной и химической физики занимал в институте особое место. Поступить туда было невероятно трудно, но Валера смог, да кому же там было учиться, если не таким как он. Учился он блестяще и защитился очень молодым в 27 лет. Гриша был на защите, ничего, естественно не понял, да и названия диссертации не запомнил, что-то такое про межзвездную плазму. Довольно скоро Валера свалил. Сначала в Техас, в Хьюстон, а потом он стал работать в Беркли. В качестве профессора Валера зарабатывал не так уж и много, тысяч может 70, но его исследования на стыке нескольких научных направлений, заинтересовали промышленные компании, он участвовал в их проектах и получал довольно большие деньги. Гриша успел в Москве поработать недолго в спецшколе, потом в областном Пединституте, одновременно подрабатывая в КМО. В штат они его не брали, и все понимали почему. Затем он сделал ставку на Академию Педнаук и там защитился. Не так всё плохо и, конечно, профессия — это было важно, но писать о карьерных подвижках Грише было совершенно неинтересно. Когда он думал об их с Валерой прошлом он всегда вспоминал не о работе. Почему-то о своих женщинах ему писать не хотелось, хотелось о Валериных. Интересно, почему? У Валеры всегда были яркие, в чем-то более экзотичные девушки, чем у него самого, но дело было не в этом. Просто Грише трудно было видеть себя самого литературным героем, ему по-настоящему не удавалось отделить себя от персонажа, то-есть получилась бы не литература, а реальная история, слишком личная, неприемлемая как тема рассказа. Он думал о себе и своих женщинах, которых у него было не меньше, чем у Валеры, но писать об этом не хотел. Все сложно.
Упомнить всех Валериных девушек было невозможно, только некоторые, наиболее яркие истории, чем-то примечательные, могли стать темами. Валера иногда превращал свой роман в драму. Вот хоть вспомнить его парашютистку, Таню-парашют. Гриша уже был женат на Мане, и они так ту девчонку между собой и называли, вот сволочи. Даже сейчас он подумал о ней, как о парашютистке. Странно. Неужели, эта ее характеристика и была в ней самой главной? Получается, что так. В остальном Таня была совершенно обыкновенна, не сказать, чтобы очень красива. Валере было за двадцать, он закончил институт, учился в аспирантуре, каких у него только девушек не было: балерина из театра Станиславского, еще студентки хореографического училища, но они погоды в его жизни никакой не сделали. Была журналистка из Московских новостей, молодая артистка из театра Маяковского. Богемные центровые девушки. Артистка еще и пела под гитару и заняла первое место среди поющих актеров. Пение их в свое время и сблизило. Валера был ей так увлечен, таскал всех на ее спектакли и выступления. Они какое-то время вместе прожили, а потом вдруг … Таня. И началось: Валера едет на первенство Союза по ночным прыжкам. То Таня — призерка по точности приземления, то в акробатике. Валера стал спец в парашютном спорте. Гриша помнил, что он им всю голову заморочил прыжками: то Таня выполняла шесть фигур за сколько-то там рекордных секунд, и в третьем зачетном прыжке потеряла очки, потому что … Валера просто не мог остановиться, описывая Танины свершения: «Гринь, это класс … их там 5 человек. Танька направление ветра определяет до раскрытия парашюта, на высоте больше километра. Она приземляется точно в радиусе 2 сантиметров … земли надо пяткой коснуться, иначе очки снимают. Там … мат для приземления, в центре мата — датчик. Если неточность больше 16 сантиметров … всё, прыжок не засчитан. Гринь, ты представляешь?» Валера был в те времена очень занят научной работой, и все-таки мотался за своей Таней то в Ульяновск, то в Челябинск. Она была мастером спорта международного класса. Иногда у нее случались травмы и Валера ходил к ней в ЦИТО, приносил фрукты и бульоны. Одно время Грише казалось, что они поженятся. Связь их достигла пика, когда Таня забеременела. Вот надо же, это и оказалось началом конца. Они не поженились и ребенок не родился, оба, видимо, его не хотели, хотя трудно судить о Валериной готовности. Он бы решился, наверное, считал, что пора …
С самой ранней юности Гриша с Валерой оба часто думали и говорили о «залете». Отношение их к этому было непростым. В разговорах они оба декларировали, что «это, мол, ответственность девушки. Ее проблема, а если что … она сама будет виновата», но с другой стороны друзья понимали, что «если что», им от ответственности не уйти, они будут обязаны ее разделить, а там … будь, что будет. Они знали, что просто не смогут отойти в сторону и по-этому дико боялись попасть в такую, о общем-то банальную по тем временам, ситуацию. Жениться по залету не хотелось, это был бы кошмар, но … а куда было бы от этого деться? Ребята считали себя порядочными людьми, а уйти в кусты могли только подонки. Лучше было об этом не думать. Гриша не попал ни разу, бог миловал, а вот Валера … было дело.
Сначала девушка, Гриша даже теперь не помнил, как ее зовут, расстроенным голосом сообщила Валере, что у нее задержка. Поникший и нервный Валера немедленно позвонил Грише сообщить о своей беде. Они оба учились тогда на первом курсе. Не дожидаясь упреков, Валера сразу стал оправдываться, он горячечно повторял одно и то же: «я сам не знаю, как это могло случиться … она мне сказала … может она врала … ой, Гринь, ну что делать …» Валера звонил из Долгопа, где он учился, каждый вечер, но хороших новостей у него не было. Девушка была его сокурсница, первая, кстати, и последняя Валерина девушка-физик. Гриша ее знал, они вместе приезжали в Москву. Девчонка была из Симферополя, способная, невероятно амбициозная, и вполне ничего внешне, хотя и простенькая. Худенькая, невысокая блондинка. Она была у них в группе единственной девочкой и Грише казалось, что Валера сразу прибрал ее к рукам именно по этой причине: единственная — значит должна достаться ему. Все жили в общаге, пили, играли в карты, не спали ночами, а потом аврально во-время сессии занимались. Понятно — первый курс, все только что выбрались из-под маминого крылышка.
Девчонка из Симферополя с мальчишками в карты ночами не играла и не пила, зато ей подвернулся Валера. Девочка была домашняя, полностью нацеленная на учебу и карьеру. Ей надо было, бедной, все время доказывать, что она не хуже мальчиков. Доказывала, но какими трудами. Тревоги ее были не напрасны, получилось, что ее первый мужчина, блестящий москвич Валера, ее здорово подвел. Девочка не знала, что делать, плакала, ни за что не хотела говорить о неприятности родителям и даже подругам-сокурсницам. Да и зачем было говорить? Валера ее скрытностью не заморачивался. Нужно было делать аборт, причем по блату. Девчонка так боялась пропускать лекции, что перспектива провести три дня в больнице ее угнетала. Время шло, к врачу она не шла, каждое утро приходила на занятия и сидела там одна, бледная, нервная, с несчастными глазами, ее тошнило. Валера все это видел и хотел помочь. Он мужественно предложил ей оставить ребенка, хотел перевестись на вечернее и пойти работать.
— Да, так я ей сказал, Гриш. Пусть думает… — гордо заявил он другу.
— А если она согласится? Ты понимаешь, что будет? — Гриша с содроганием ставил себя на место Валеры. Им было по 18 лет.
— А ты что сделал бы, а? Застрелиться мне теперь, что-ли?
— Тебя родители убьют.
— Да, и будут правы. — понуро отвечал Валера. Я — идиот, я знаю. Я пока не хочу быть отцом, не могу.
— Ага, не можешь … о чем ты раньше думал?
— Да, заткнись ты. Вот уж не ожидал, что ты мне это скажешь! Уж ты бы молчал лучше. Зачем ты мне такое говоришь?
— А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?
— Вот именно, не знаешь, что говорить, молчи тогда.
— Валер, ты сам виноват …
— В чем я виноват? В чем? Ты тоже мог бы на моем месте оказаться. Каждый мог бы … Чистюля ты хренов … Боже, ну почему мне так не везет?
Гриша тогда ничего другу больше не говорил, зачем сыпать соль на рану. И так все было плохо, хотя зря Валера волновался, все рассосалось, именно так, как и должно было. Гриша предложил обратиться к маме и это, видимо, и было тем, на что Валера надеялся, он только боялся, что Гришина мать все расскажет его родителям и они «его убьют». Гриша понимал, что мама как раз и может помочь, мало ли какие она «виды» на работе видала, но просить ее о помощи ему страшно не хотелось. Пришлось. Мама расстроилась, но помогла, не задавая лишних вопросов. У Гриши создалось впечатление, что в глубине души она была рада, что это все случилось не с ее Гришенькой, а от Валеры всего можно было ждать, он всегда портил ее ребенка. Была даже вероятность, что мать, как типичная еврейская «мамалэ», инстинктивно винила в распущенности современных девушек, особенно иногородних, которые только и ждут … Впрочем, ничего такого она Грише не говорило, просто он «читал» ее мысли. Если бы такое случилось с ее Гришенькой, она бы костьми легла, но не дала бы наглой хабалке ломать жизнь ее мальчику. Эх, мать …
Валера привез девчонку в Москву, и к вечеру они вместе уехали в Долгоп. На нее, скорее всего, даже больничной карточки не завели. Девчонка отлежалась, но их с Валерой нежная дружба сразу после этого закончилась без выяснения отношений и упреков. Учеба оказалась для девушки слишком большим стрессом, и ей пришлось уйти в академку. Потом она вроде восстановилась, но Валера больше с ней в одной группе не учился. Бедняга даже какое-то время лежала с депрессией в дурдоме, такое у них в институте бывало, да и аборт не способствовал ее душевному здоровью. Валера этот эпизод вспоминать не любил, но виноватым во всем с ней случившимся себя не считал. Что ж … формально он был прав. Никто девушку с ним спать не неволил. Следовало учиться быть взрослыми людьми.
В институтские времена они с Валерой прошлись по всем на свете общежитиям. Таким как они там было раздолье. Домой никого не приводили. Гриша один раз привел девушку, но опыт был настолько неудачный, что они его не повторяли, извлекли, так сказать, урок.
Сразу после второго курса, успешно сдав сессию, в ожидании отъезда в студенческий лагерь мединститута, Гриша в жаркий летний полдень буднего дня пригласил домой подружку медичку, через которую они, собственно, в тот лагерь и попали. Они поели и решили, что раз уж родители придут нескоро … быстренько … И действительно, успели … Гриша голый валялся в своей комнате на вечно разобранном диване, а подруга пошла в душ. Из блаженной задумчивости Гришу вывел звук ключа в замке, потом он услышал, что пришел папа, который ни о чем не подозревая, рывком открыл дверь ванной, желая просто отлить, родители как раз сделали модный ремонт и соединили туалет с ванной. Вода уже не текла, девушка одевалась … Боже, бедный папа. Как ошпаренный, он выскочил из ванной, ворвался к Грише в комнату и закричал «я ухожу … через 10 минут вернусь, чтобы духу ее не было …» Все произошло так стремительно, что Гриша даже одеться толком не успел. Не то, чтобы он так уж скрывал от родителей своих подруг, но у них был неписаный договор: домой … ни-ни, не водить. А куда ему было «водить»? Девушка сразу ушла, Гриша извинялся, что поставил ее в такое положение. Стыдно ему не было, просто неприятно, но он благодарил судьбу, что пришел папа, а не мама. Ее реакцию было трудно предсказать. Когда отец вскоре вернулся, у них состоялся первый и последний разговор на эту тему:
— Да, как ты посмел? Как ты мог? — папа начал с высокой ноты.
— Пап, перестань. Что я такого сделал? Что значит «посмел»? Это, ведь, и мой дом.
— Вот именно, это твой дом, и я не позволю тебе сюда кого попало водить …
— Почему это кого попало? Ты ее не знаешь …
— Не знаю и знать не хочу … Порядочные девушки не пойдут … Я в твоем возрасте никого …
— Вот именно … ты в моем возрасте «никого». В этом, видимо, между нами разница.
— Да, как ты смеешь? Вместо того, чтобы заниматься такими вещами …
— А тебе не кажется, что это не твое дело. Видит бог, я не хотел, чтобы так вышло. Моя девушка не заслужила твоих замечаний и тебе впредь следует от них воздержаться.
— Я, что, не могу в своем доме …
— Пап, оставь этот тон. Не надо со мной так разговаривать. Я — не ребенок.
— Ax, ты не ребенок? Женщин домой водишь? На это много ума не надо. Если бы мама видела … я ей не скажу ничего. Только этого ей не хватало. Уважение надо иметь …
— Можешь сказать. Мне все равно.
— Как это тебе все равно?
— Пап, хватит …
Что ж, по большому счету отец был прав. Не в том, разумеется, смысле, что Гриша «осквернил свой дом и ему должно быть стыдно», а просто ситуация получилась слишком гротескная, Гриша и сам в нее попал, а главное, ни в чем не повинную девчонку втравил. Это было непростительной ошибкой, повторять ее не стоило.
Время учебы в институте было для них обоих в смысле женщин самым насыщенным. Ребята упивались вседозволенностью, легкостью отношений, тем особым состоянием души, когда можно делать то, что хочется без напряжения и усилий, когда все кажется головокружительной игрой без правил. Как им было легко, интересно играть в плейбоев. Нервная, рискованная, интенсивная, наглая, упоительная игра. Гриша с Валерой привлекали девушек, им почти ничего не надо было делать, девчонки сами шли к ним в руки. Начались одноразовые пьяноватые контакты, когда ребята даже не делали усилий, чтобы запомнить имена подруг. Общежитские комнаты, где посередине всегда стоял неопрятный стол с неубранной посудой, а иногда на соседней кровати кто-то валялся. Какие-то чужие дачи, с остывающей к утру печкой, прогулками по заснеженным дорожкам, или летнему росному саду, ранними электричками с хмурыми невыспавшимися пассажирами. Родители давно перестали спрашивать, где они были, с кем. Единственное, что родителей тревожило — это их учеба. Но с учебой было все нормально, ни Гриша, ни Валера не были дураками, они всегда знали «край». Курили травку, но никогда бы не стали колоться, пили много, но ни разу не попали в серьезную неприятность в невменяемом состоянии, знакомились и расставались с девушками, умудряясь не влипать в затяжное и выматывающее душу выяснение отношений. Девушки, видимо, каким-то образом чувствовали, что «не на тех напали», что не надо воспринимать Гришу с Валерой своими возлюбленными, которые станут их мужьями. Честно говоря, справедливости ради надо отметить, что ни Гриша ни Валера никому не клялись в вечной любви, и никому не предлагали жениться.
Думая об этой поре их жизни, Гриша вспомнил один характерный эпизод. Была компания балетных девочек из хореографического училища, какая-то старая большая квартира на Петровке. Еды было мало, но все крепко выпили. Девчонки хотели танцевать, смеялись над их неловкостью, которая их, видимо, привлекала. Друзья, сильные и спортивные, совершенно не походили на балетных мальчиков. Было уже где-то около двенадцати, люди стали расходиться. Ни Грише ни Валере и в голову не пришло ехать домой. У Валеры был запасной ключ от однокомнатной квартиры Наташки-стюардессы. Тот их давний неприятный эпизод с несостоявшейся близостью был давно забыт. Дружба осталась, они оба ею дорожили, хотя деловое содружество пошло на спад. В институте ни тот, ни другой уже не решались толкать «товар». Опасно и «того» не стоило.
Наташка привезла Валерке в подарок пару новомодных дильдо, тогда они были большой редкостью, невиданной экстравагантной игрушкой, которой можно было девушку и поразить и испугать. На кого нападешь. Все зависело … Валерка в нужный момент резиновую штуку вынимал … шок! Пару раз его девушки жутко оскорблялись, обижались, но большинство соглашались на эксперимент. Валера собрался уходить со своей подругой, и Гриша знал, что, хоть с собой друг «штуки» не носит, но они лежат в Наташиной квартире, готовые к применению. Наташа в рейсе, и им никто не помешает. Он что, рыжий? Почему бы ему тоже не поехать с Валерой и девчонкой?
— Валер, я тоже поеду. Ты не против?
— О … давай. Вместе еще лучше.
— А она?
— Что она? Кто ее спрашивает? Я только не понял, а с твоей подругой что делать-то? Она с нами?
— Не знаю. Она вроде никуда ехать со мной не собиралась. Да пусть не едет. Нам с тобой и одной хватит.
— Гринь, конечно хватит. Что я с другом не поделюсь? Просто узнай у своей, какие у нее планы? Поехали все вместе. Давай скорее, я уже готов отсюда сваливать …
У Гриши зашумело в ушах, как только он представил себе предстоящую ночь. Надо только сначала родителям позвонить … ой, да они могли уже лечь спать. Черт, с утра будут нудить, что беспокоились. Как он мог забыть? Ой, да ладно, не в первый раз. Грише почему-то хотелось, чтобы его подруга не поехала, только втроем было бы лучше. Валерина девчонка была «подходящей», а вот в «своей» он был неуверен. И все-таки они обе с ними тогда поехали. Отошли в угол, шептались, а потом объявили, что согласны ехать «к друзьям», просто утром им надо на занятия. Боже, какие занятия? Завтра же суббота.
Почти четверть века прошло, но Гриша «видел» темную зимнюю пустошь спального района Строгино. Девчонки в коротких шубках, сапогах-валенках, тесно жмутся к его плечам, до которых они едва достают. У него в руках две бутылки, а Валера стоит у самой обочины, высматривая такси. Машину они ловили долго, в результате до Наташкиной квартиры на Песчаной площади их довез за десятку какой-то частник. Валера сел впереди, а Гриша сидел с девушками в обнимку сзади. Валеркину подругу он уже считал «своей» тоже. Так оно и было, просто девушки еще об этом не знали. Валеркина балеринка ему и нравилась больше. Чужое-то всегда лучше. Вот тебе и «не возжелай жену ближнего». Не получалось у них по библии.
А понимали ли до конца девчонки с какой целью они приглашают их уйти к друзьям? Скорее всего понимали. Студентки-провинциалки хореографического училища вовсе не были такими уж наивными, иначе они бы не пошли. И все-таки когда Валера открыл ключом дверь квартиры и девочки увидели, что там всего одна комната и одна кровать, они немного напряглись. Ребята были к этому готовы. Открыли еще одну бутылку, а потом они стали себя вести так, как будто другой пары рядом не было. Пили не вместе, раздевались не вместе, лежали, обнимая каждый свою подругу, отодвинувшись к краю кровати. Гриша с Валерой легли спинами друг к другу, как бы желая скрыть девушек от другого. Валера достал из шкафа лишнюю простыню, и можно было делать вид, что все происходит в автономном режиме.
Гриша знал тело друга, как свое. Он любовался и гордился им. Они оба были тогда привлекательны, каждый в своем роде. Валера, высокий, с длинными стройными ногами, сильной шеей, состоящий из твердых упругих, не слишком рельефных мышц, с узким тазом и широкими развернутыми, чуть-чуть сутулыми плечами волейболиста и он, Гриша, пониже, чуть более коренастый, с начинающей зарастать темными волосами грудью, с мощной рельефной спиною. Они не слишком пытались прикрываться, девочки могли смотреть на их тела, сколько угодно. Девочки на них вроде и не глядели, но это только так казалось. Разумеется они их видели, сравнивали, примеряли на себя. Кто бы сомневался. Гриша помнил свое ощущение: с одной стороны гибкое маленькое балетное тело … убей бог, он не помнил, как ее звали, его руки мнут ее твердую грудь, гладят бедра. Он вплотную прижимается к ее животу, но спиной чувствует Валерку, его спину, ягодицы, рыжий пушок его ног.
Валерка нарочно чуть сдвигается к нему и несильно толкает … знак — пора действовать, хватит валяться, нечего больше ждать. Гриша всей тяжестью наваливается на свою балерину, Валерка делает тоже самое и они оба кончают почти одновременно. Валерка падает на хрупкое девчоночье тело и косит глазами на друга: ты видел? Вот мы даём с тобой! Вот что хочет сказать его хитрый удовлетворенный взгляд. Валера молчит, но Гриша слышит его мысли: это только начало, сейчас пять минут полежим и … вперед … Они понимают друг друга без слов.
Они вставали, ходили голые по комнате, еще пили, потом девчонки поменялись, и можно было сравнить их похожие стати, потом одна ушла в душ, а другая не ушла … Гриша начинал, Валера заканчивал. Принесли новенькие «игрушки» и тут та, которая была в душе, тоже к ним присоединилась. Девчонки стонали, извивались в каких-то несусветных балетных арабесках. Все получили друг от друга по всей программе. Какая была ночь! Она им обоим запомнилась, и вошла в историю под названием «Русский балет». Странно, что больше друзья с этими девочками не встречались. Впрочем, они не жалели, справедливо считая, что «хорошего по-немножку».
Их головы были полны разными несложными философскими концепциями. Например: никогда не возвращайся туда, где тебе было хорошо, иначе тебя ждет разочарование. И прочее в таком же духе. Жизненный опыт еще не подсказал им, что тонкие материи никогда не кроятся «по лекалу», банальных рецептов не бывает.
Так они в начале 80-ых и жили. У Гриши этот этап закончился Маней, а у Валеры — Таней-парашютом. У них тогда случился в отношениях зазор в несколько лет. Гриша продолжал плейбойствовать, а у Гриши родилась Аллка. Когда Гриша женился его почему-то стали бесить Валерины экстравагантности.
В какой-то гостинице он познакомился с проституткой Оксаной. Оксана ее звали или не Оксана — так и осталось загадкой, проститутки придумывали себе имена. Девчонка из Воронежа, очень красивая, тонкой странной, нездешней красотой, даже в какой-то степени в ее профессии излишней. Валера влюбился, как он сам говорил «запал». Ну, запал и запал. Гриша только удивлялся, почему это вдруг Валера «снял» девушку в гостинице, хотя они сроду этого не делали. Потому что одна из их сентенций как раз и гласила, что «покупать любовь — это в падлу», им, дескать, и так всегда дадут. Валера, правда, клялся, что он ей никогда не платил. Может и так … Грише было по-большому счету все равно. Просто Валера стал от него требовать, чтобы он с девчонкой из гостиницы подружился, что у него с ней все серьезно, что она «особая», что он ее любит. Валера его приглашал приехать, можно вместе с Марусей, он даже настаивал, чтобы он приехал с женой, он хотел дружить всем вместе. Гриша отнекивался, придумывал предлоги не ехать, но злился на Валеру все больше и больше, так как плохо видел такую дружбу «домами».
— Нет, Валер, я не поеду. Я вообще не понимаю, зачем ты хочешь нас познакомить? К чему это? Дружишь сам, и дружи на здоровье.
— А что ты против нее имеешь? Брезгуешь? Чистенький ты наш.
— Валерик, ты занимаешься целыми днями своими делами, а девушка твоя каждый день на работу выходит. Это ничего? Ты же, Валерик, тоже для нее клиент.
— Нет, я не клиент … Думай, что говоришь.
— Не клиент? А кто ты? Интересный способ для человека зарабатывать деньги. Что, ничем больше не получается. Только п …?
— Заткнись!
— Да я-то заткнусь. Только что это изменит? Ты мне все говоришь, что она — умный, тонкий, ранимый человек … извини, я в это не поверю. Тонкие люди не дают всем, кто платит. Просто не могут. Она тебе жалких историй про больного братика не рассказывала? Нет?
— Не суди человека, которого ты не знаешь. А ты женат на девушке из хорошей семьи? А моя девушка для тебя грязь?
— Вот, вот. Именно так. Я женат на девушке из хорошей семьи и знакомить ее с твоей подругой не собираюсь. У меня есть чувство меры.
— Да, пошёл ты со своей мерой … Я ее вытащу.
— Что? Ты себя слышишь? Яму в детстве читал. Лавры Куприна тебя покою не дают. Валер, все это банально и старо, как мир. Мы вот с тобой учились, а она? Не учится, не работает. Или она работает? Это просто работа такая. Физический труд надо уважать, я знаю.
Друзья были друг другом недовольны, считали другого неправым, а потом все заглохло. Валера к своей бабочке остыл и перестал о ней говорить. Да собственно и Таня-парашют была очередной Валериной экстравагантностью. Как она тогда Гришу раздражала. У Тани в жизни был парашют и больше ничего. Как только Валера этого не замечал? Вот что было Грише странно. Есть снобское тонкое понятие «человека своего и не своего круга». Не видеть этого можно было только специально. Так вот Таня как раз и не была «человеком их круга»: плохой убогий словарь, почти полное отсутствие чувства юмора, нетонкость, неэрудированность, другие понятия о жизни, о культуре, низкий интеллект. Что еще надо, чтобы понять, что это не твой человек. Валера в результате понял, только до этого еще надо было дожить. Поначалу он своей Таней был до такой степени полон, что они с Гришей даже виделись редко. Валера мотался по соревнованиям, жил с ней в гостиницах, его в команде все знали и он даже чем-то старался помогать. Он тогда интенсивно писал диссертацию и жизнь его была наполнена до краев. Изредка они с Гришей встречались, как раньше, только вдвоем, и Валера пытался рассказать другу о своей Тане. Она для него была не такой, как все девушки. Таня смелая, ловкая, сильная, собранная, предельно внимательная. Гриша искренне недоумевал:
— Валер, а что все эти качества украшают девушку, так ей необходимы? Зачем? Зачем вообще это напряжение всех человеческих возможностей? Я Таню никогда в платье не видел. Тебе же всегда нравились элегантные женщины, а Таня … я бы не сказал, чтобы элегантность была ее форте.
— Гриня, ты прав. Танька — не элегантна. Она вообще — не хозяйка, не обольстительница, не «центровая». Она — другое.
— Что, что … другое? Я хочу понять. Что ты в ней нашел?
— Она, Гриш, романтична. Ей неинтересна повседневность жизни, бытовуха. Ее кайф не в шмотках, а в черном звездном небе. Понимаешь? Ты просто не можешь понять, что значит зависать в воздухе, свободно падать раскинув руки и ноги, почувствовать себя невесомым … птицей … неземным существом. Она живет ради неба.
— Да, я вижу, Валер, ты ее понимаешь. Ты о ней так красиво говоришь. А она тебя понимает? Твою науку, стремления, интересы, друзей, принципы? Что она может с тобой разделить? Если у людей одна жизнь, они всё в ней должны разделить. Она хоть старается? Если парашютный спорт занимает в ее жизни так много места, зачем ей ты? Вы хоть о чем-нибудь разговариваете, спорите, есть темы, которые вас обоих интересуют?
Валера Таню защищал, придумывал ей оправдания, находил во всем ее поведении особую логику. У него была назначена предзащита. Таня не пришла под предлогом, что «она все равно ничего не поймет». Валера обиделся, для него было важно ее присутствие, а не понимание. Вскоре они помирились, поехали вместе отдыхать на Селигер, и оттуда Таня приехала беременная. Гриша был уверен, что это получилось случайно, так как у Валеры еще перед их отъездом в отпуск началось к ней охлаждение, он часто даже при Грише в те редкие разы, когда они были все вместе, на Таню злился и не мог сдержать своего раздражения. Он рассказывал анекдоты, они все смеялись, а Таня — нет. Один раз кто-то из них, говоря о какой-то выставке, сказал «признак позднего ренессанса». Таня спросила «позднего чего?», а Валера ей раздраженно ответил «да, ничего … позднего … и все.» Это было грубо, но Гриша друга понимал, ему самому Танька действовала на нервы. Валера не давал себе труд ничего ей толковать, было видно, что в нём что-то к ней угасло. Танька «не тянула» на определенный уровень, никогда не тянула, но вдруг это показалось Валере явным.
Но замаячивший ребенок все изменил. Валера пришел к Грише, говорил логичные вещи, насчет того, что он «перебесился», что вот, у них с Маней есть малышка Аллка, и ему пора … что Таня — его судьба, как бы это ни казалось странным, что может быть из нее выйдет хорошая мать, что парашюты ей придется бросить, что может это и к лучшему. Гриша помнил, что ему было Валерку жаль. Казалось, что для друга сложилась безысходная, такая всегда неприятная для них ситуация, когда «надо жениться». Именно «надо», а не хочется. Вот если бы Танька сразу на пике Валериного увлечения залетела, тогда все было бы отлично, а так, на излете, когда он начал видеть ее серость, убогость и зашоренность, в их счастье не верилось. Ее молчание в разговоре, ее полную зацикленность на себе, на соревнованиях, призах, местах … он всё бы это принял, но Таня отказала Валере в самом для него к тому времени главном: она отказалась родить ребенка. Какое-то время она колебалась, говорила, что ей надо подумать, а потом …
Валера изложил другу суть их разговора. Она — член сборной страны, на нее рассчитывают товарищи и тренеры … она просто не может себе позволить так всех подвести, и вообще … Когда дело дошло до «вообще», Валера нервно насторожился. Оказалось, что она «вообще» не собирается так менять свою жизнь, что она не видит себя в роли просто матери. Спортивные амбиции Таню буквально сжигали. «А я что буду делать сейчас? Мне через неделю нельзя будет прыгать. Я с тоски сдохну» — вот к чему сводились ее возражения. «Да что ты все „я да я“ … не можешь хоть раз не о себе подумать? Это же и мой ребенок тоже. Как ты смеешь думать только о себе?» — Валера был все-таки поражен такой ее реакции. «Танька, ты с ума сошла? — кричал он. Разве нормальные женщины так поступают? Я предлагаю тебе быть моей женой и матерью моего ребенка. А ты … для тебя твой спорт важнее? Важнее?» Валера не ожидал, что она так ему со всем прямотой и скажет: «да, важнее».
О чем тут было говорить. Таня не просила у него денег на аборт, он не предложил. Аборт она, конечно, сделала, но Валера даже не знал, где и как. Она вернулась к своей жизни, он к своей, тем более, что все свое время он теперь принялся отдавать диссертации, кое-что приходилось переделывать. Защита обещала стать на факультете событием. Но однако Гриша знал, что Таня оставила в Валерином сердце зарубку, может быть самую по-настоящему серьезную.
Очередное американское лето пролетело и Гриша вышел на работу. В этом семестре он был занят: три класса, два простых, а третий — семинар для аспирантов. Он ехал на работу, стараясь настроиться на французских писателей, но про писателей думать не удавалось. Семинар по современной французской литературе не воспринимался животрепещущей проблемой. Гриша думал о Валере и Йоко. Ее защита была назначена на середину октября, через неделю она будет в Беркли. Все было готово. Каждый вечер Гриша боролся с собой: надо позвонить Валере, но сделать это было трудно. Что говорить? О чем спрашивать? Понятное дело Валера сделал все от него зависящее, чтобы Йоко с блеском защитилась, но … нужна ли уже ей была эта защита? Какая-то суета. Может и не стоило ничего делать. Гриша знал, что ничего этого он с другом обсуждать не может, и уже сам не понимал, зачем ему звонить. Может Валера хочет, чтобы он тоже присутствовал на защите? Надо ехать и они все будут делать вид, что все хорошо, что так и надо. Ужас, что придется принимать в этом участие. Ее родители приедут, брат? Скорее всего. Блестящее научное будущее, которого не будет. Хорошенькое дело. Валерка — прав. Он делает, что должен, а остальное …
Ему конечно надо ехать на защиту, он тоже «должен». Ничего не поймет … и ладно. Был же на защите самого Валерки, а как же! Смотрел на Валерку, по сторонам смотрел и слушал … там было что послушать. Непонятные слова, но звучные, красивые, как музыка. Когда-то давно он вот точно так же воспринимал непонятные термины из Жюль Верна. Все эти «грот-топсели, эзельгофты, юферсы». Ну какая разница, что эти термины означали? Ветры морских странствий, южные пассаты … дующие на зюйд-вест или, норд-ост. Так раз непонятность Гришу завораживала. Там на защите он видел, как у Валеры открывается рот, он говорит на русском языке, но уловить о чем нельзя. Друг владел недоступной тайной, которая Гришу буквально завораживала. Валерино знание казалось ему загадочным и полным великого значения.
Гришин семинар со студентами больше походил на лекцию. Как обычно текст все знали слишком приблизительно для серьезной дискуссии, и Гриша привычно долго говорил. На обратном пути он подумал о том, что лето было скорее пустым: Аллкина вторая беременность, поездка в Колорадо, грустные Валеркины дела и все … Да и не написал он ничего, начинал тексты и бросал недописанными. Что это с ним? Исписался? Да, нет, каждую ночь ему в голову приходила идея нового сюжета, он ее записывал, но за новую книгу почему-то не садился. То идея наутро казалась ему дурацкой, то, наоборот, замысел был столь значителен, что Гриша не чувствовал себя готовым к его реализации. Вместо того, чтобы писать, он подолгу возился со словами в своей голове, конкретными сравнениями, не находя их, отбрасывая множество вариантов, ненавидя себя за бездарность.
Вот например, прошлой ночью он лежал и думал о Мане. Почему он о ней думал? А по ассоциации с Таней, с Валериной проституткой … вот Манечка его дорогая, вот ему с ней по-настоящему хорошо. М-да … Валера — плейбой, а он, Гриша — верный супруг, ну не такой уж, откровенно говоря, верный, хотя по большому счету все-таки верный. Мог ли он совершенно честно сказать самому себе, что он совсем никогда Валерке не завидовал и не завидует? Сложно однозначно ответить. Но ему с Маней хорошо, до сих пор хорошо. Она ему … привычна. Да, привычна и желанна. Только с Мусей он спокоен. И вот тут-то и началось … прямо какое-то безумие. Маня привычна, как … как что? А вот и не нашел он никакого приличного сравнения. Привычна … как перчатки? Нет, это нехорошо: сидит, как перчатки. Привычна, как … старые тапки? Фу. Гриша мучился, а потом понял, что это плохо, когда женщина привычна, что в любви — это неуместное понятие, что «хорошо» в любви не должно ассоциироваться с привычкой, что привычка как раз и убивает любовь. Поняв это, Гриша расстроился, потому что в супружестве привычка начинает заменять любовь, это единственно понятное и логичное развитие отношений. Ничего другого и быть не может, но … получалось, что «привычная и спокойная» его Манечка была слабым аргументом в Гришином мысленном споре с Валерой. Старые тапки конечно удобнее новых лаковых туфель, но … кто же в этом признается? Получается, что ты старый и сиди со своими тапками.
Была пятница и ребята привезли Антона к бабушке с дедушкой. Вечером, когда Антон уже лежал в кровати, он вдруг попросил Гришу рассказать ему историю. Гриша предлагал почитать, но внук хотел именно «историю». Пришлось рассказать ему Пиковую даму. Почему бы и нет. Может, если бы Пушкина читать, мальчишка бы и слушать не стал, а так … стал. Реакции его на Пиковую даму Гриша, правда, не ожидал: «Дед, а научи меня играть в карты» — внук явно заинтересовался, да только вовсе не Пушкиным. А может и правда пора ему прерваться в писании серьезных текстов с философской сверхзадачей, надо попробовать сочинить истории, где не будут использованы эпизоды его жизни. Истории нужны. Гриша лег спать и опять вспомнил о Валере, как раз в связи с «историей», которая вырисовывалась в его голове.
Прошлым летом он был в Калифорнии и они с Валерой навещали его дочь. Вернее они приехали в дом, где девчонка жила с матерью и ее новым мужем. Бывшая Валерина жена Янка уехала с мужем в отпуск в Европу, а Валера остался с дочерью. У них был небольшой, но удобный дом в мексиканском стиле в Ирвайне на юге Калифорнии, Валера, кстати, продолжал за него платить. Дочери Монике было лет десять, в куклы она уже не играла, но в доме сохранилась большая игровая комната, сплошь уставленная игрушками, сидевшими среди кукольной мебели в определенном, ненарушаемом порядке: нарядные куклы разных возрастов, плюшевые звери, большая лошадка. Теперь Гриша «видел» эту комнату, странный кукольный мир. А ведь сказочный мир и до него пишущих завораживал. Гофман придумал страшную историю о смертельной схватке Щелкунчика и Мышиного короля. Девочка Мари видит их схватку, но не может вмешаться. Для нее это ночной кошмар. А Одоевский придумал Городок в табакерке. Неодушевленные предметы, игрушки начинают жить своей таинственной и пугающей жизнью. Даже Карем описал куклу в стишке: негодница бегает на бал, и там танцует ночь напролет с сомнительными кавалерами, а днем просто лежит в детской … Гриша уже не мог остановиться: детская — это мир, другой, альтернативный, чуждый детям. Куклы не те, за кого они себя днем «выдают», не те, какими кажутся маленьким девочкам. Они — недобрые, они — мерзкие. Они все маски, личины, надеваемые, чтобы скрыть свою сущность. Надо написать три истории, объединяемые идеей материального мира, который оказывается странно органическим, ожившим и действующим по своим законам.
Вот пусть так и будет: куклы, карты, и шахматы. Отлично: куклы — злые маски, карты — мозаика судеб, причудливо складывающаяся в калейдоскопические узоры, шахматы — единство белого и черного начал, единство, неизменно перерастающее в иррациональную войну, которой никогда не будет конца. С чего начать? Сначала думать, писать еще рано. Гриша теперь знал, что его бессонница получила вектор: он не просто не спит, он не спит, потому что так и надо. Он просто не мог отрешиться от мыслей о куклах, картах и шахматах. Истории «писались» в его голове, он был не в состоянии выйти из этого будоражещего, нервного, взвинченного состояния, которое было похоже на то, как он летом часами сидел в воде. Мама его сердито звала выходить, он замерзал, дрожал, плавать и брызгаться ему надоедало, а выходить все равно почему-то не хотелось. Гриша длил и длил свое пребывание в воде, не решаясь его прервать, и засиживался до синевшей кожи и озноба.
Но даже полностью поглощенный своими литературными исканиями, Гриша с иронией посмеивался на собой, над своей неистовой жаждой создавать текст. «А кто твой текст читать-то будет? Никто не будет. И тогда зачем копья ломать? Ради кого, ради чего?». В постели Гриша каждый вечер перед тем, как выключить свет, читал книги. А потом он невольно сравнивал чужой текст со своим. Выводы у него получались разные. Иногда чужой текст был так хорош, что Гриша был буквально раздавлен собственным ничтожеством. Слова лились у писателя с легкостью, они складывались в чудесные фразы, сюжет развивался, интрига мастерски разрешалась, оставляя потрясающее послевкусие, приглашающее к размышлению. Нет, ему казалось, что он так не может, никогда не сумеет, не дано ему. Так было нечасто.
Зато другие тексты вызывали Гришину досаду и омерзение: надо же … какую хрень опубликовали! У него-то в сто раз лучше. А откуда он собственно знает, что лучше? Ему кто-нибудь об этом говорил? Кто-нибудь хвалил? Ах, он сам так считает? А «сам» не считается. Хотя, ведь, у него был Валера. Валера все читал, и да, хвалил. Иногда Грише казалось, что если бы Валера ничего не читал, он бы и писать не стал. Получалось, что он пишет для Валеры, и только для него. Один читатель — этого достаточно? Глупо. Но Гриша все равно писал, беспощадно осуждая себя за невозможность остановиться, иными словами за графоманство.
Надо же, как все-таки несправедливо. Можно же писать акварели, выжигать шкатулки, шить юбки … все это людьми воспринимается «на ура», ничего, что «дилетанты». В этом слове нет ничего оскорбительного, в этом признаются, «я, мол, дилетант», т. е. просто не профессионал. Ага, ты не профессионал, и тебе прощают слабости, все-равно … ты — молодец, а для непрофессионала … так вдвойне. Только писать книги нельзя! Пишешь? Значит идиот! И к тебе прилипает обидная кличка «графоман», уничижительная, свысока. Как странно: можно плохо шить, рисовать, лепить, мастерить, а плохо писать нельзя. Этим нельзя заниматься для себя: или тебя публикуют и ты — писатель, либо ты графоман, глупый, убогий, зашоренный, смешно отдающийся дурацкой постыдной страстишке. Гриша все это знал, не хотел слыть графоманом, но не мог себя им не считать. Хорошо, что у него был Валера, который любил Гришины тексты. Валера врать не будет, ни за что. Или будет?
Гриша все понимал, сто раз обдумывал, но писал все равно. Когда он в субботу проснулся, Маня уже уехала к Аллке. Гриша наскоро позавтракал и уселся за компьютер, рассчитывая записать канву новых «историй» об обманчивом материальном мире. Он знал, что хоть Маня его будить не хотела, она будет его у Аллки ждать к обеду. Он поедет, только позже. Сейчас он будет писать. И вовсе бы не поехал, но придумать почему он все равно не сможет, не говорить же семье, что он занят писательским творчеством. Нет уж, его не поймут.
Так, сначала … куклы. Все ложатся спать, первый этаж с игровой комнатой освещается только красными точками электрических розеток и маленькими желтыми лампочками по низу лестницы. Впрочем на окнах нет штор, и в окна проходит неясный лунный свет, через входную дверь в дом проникает свет от уличных фонарей. Уделить внимание освещению. Важно показать, как именно в игровой комнате высвечиваются силуэты игрушек. В комнате темно, но не полностью, в углах темнее, некоторые предметы в помещении видно лучше, другие погружены во мрак. Деталей совсем не видно.
Атмосфера театра, поднимается занавес, но сцена не освещена, потом как бы при помощи реостата свет делается ярче, интенсивнее, фигуры игрушек высвечиваются постепенно: яркое рельефное, довольно грубо накрашенное лицо, туловища не видно, потом наоборот: ботиночки, платье, и наконец … лицо и шляпа. Создать ощущение скользящей камеры, которая перемещается от фигуры к фигуре. Все игрушки пока застыли в напряженных позах. В люльках лежат младенцы в пижамах и ползунках, на кроватях куклы-девочки. Рядочком стоят барби-дамы и два их кавалера, куклы-мужчины. Есть куклы, одетые в одежды индейцев, ага, есть и мужчина-индеец, но он вовсе не «кавалер». Подальше милые плюшевые зверюшки: слоники, собачки, тигры, на игрушечном диване свернулась белая кошка.
Стробирующий свет делается все ярче, его лучи пульсируют на застывших лицах, скользят по одежде, мебели, зверюшках. И вдруг … луч выхватывает глаза, куклы моргают, губы их шевелятся, волосы начинают развеваться на невидимом ветру. Застывшая картинка оживает, кукла за куклой встают, потягиваются, зевают, уже слышен неясный говор, кукольный мир приходит в движение. Это движение активно, в нем есть что-то тревожное, нездоровое. Видно, что куклы еле дотерпели до ночи, им хочется двигаться, жить своей тайной жизнью. Куклы начинают ходить по комнате, подходят друг к другу, жестикулируют, что-то говорят, но речь неразличима, даже непонятно, на каком они говорят языке.
Так … первая картинка «видна» и понятна — тревожная, пугающая, жадная агрессия движения разлита по комнате. Днем подобное было невозможно себе представить. А потом … куклы, только что бывшие невинными малышами, грудными младенцами … подбегают к мохнатому большому белому Мишке, карабкаются на него, и начинают впиваться ему в шею. Они тычут чем-то острым ему в глаза и уши, злобно при этом смеясь. Видны их острые крошечные зубки, на губах у них немного крови. Мишка стонет и пытается их с себя стряхнуть, но они убегают от его неловких лап. Большая кукла-тетенька, улыбаясь, снимает «деток» с Мишки и заботливо вытирает им от крови ротики, целует и шаловливо грозит пальчиком. Потом она берет младенцев за ручки и вся зловещая группа приближается к беленькому котику. Кукла «матушка» неожиданно быстро выбрасывает руки к котиной мордочке и разрывает ему рот, потом позволяет деткам ласково погладить котика по белой спинке. Котик горестно мяукает, видно, что пасть его в углах надорвана. Он лижет трещины. Понятно, что целью примерной семейки будет обойти всех плюшевых зверюшек, нанести им вред, поранить, уколоть, укусить, позабавиться их болью и страданиями. Тут важно показать контраст между ангельским видом кукол-младенцев с сосками на груди и их алчной силой, поощряемой и вдохновляемой куклой-тетей. Все плюшевые звери оказываются жертвами, даже полосатый тигр. Кукла-индеец с остервенением бьет его палкой. Видно, что он собирается забить его до смерти. На лице индейца свирепое тупое выражение упоения своей жестокой силой. Большой слон пытается заслонить маленького, но куклы в приличной одежде школьниц, из знаменитого игрушечного магазина «Американ герл» вооружаются острыми длинными ножами и пробуют их острые лезвия на хоботах голубых странных слонов. Они вовсе не собираются слонов убивать, они просто так шутят, одна «девочка» даже идет позади своих приличных подруг в пальто, шляпках и туфельках, и накладывает на раны слоников полоски пластыря. Ага, у нее в руках чемоданчик с красным крестом. Она явно играет во врача.
А барби? Барби не принимают никакого участия в насилии, им интересен секс. Куклы-кавалеры, вам слово! Стройные, сильные, стильные, уверенные в себе парни, в узких брюках, модных куртках не теряют времени даром. Они неутомимы, даром, что куклы. Обе кровати скрипят и проседают под их весом. Девушки-барби стонут под тяжестью их тел, извиваются с искаженными лицами, заламывают руки, стройные кукольные, преувеличенно длинные кукольные ноги обнимают бедра партнеров. Потом парней двое, а кукла одна, потом парни все те же, а дам уже пятеро. Видно, что на них давно нет одежды, один клубок тонких, извивающихся тел. Оргия! Слышны стоны … от боли ли, от наслаждения ли неистовыми животными оргазмами. Оргия привлекает всеобщее внимание, рядом с кроватью толпится кукольный народ, «тетенька с детьми» подошла совсем вплотную к сплетенному клубку. В круглых глазках младенцев — жадное любопытство. Индеец бросает лассо, оно сжимает крепким узлом лошадиную пасть, сжимает все крепче, лошадка хрипит и бьется, падает на колени.
А вот сцена смерти. Такое на поверхности, приходит в голову. Есть же у Чайковского «Болезнь куклы» и «Смерть куклы». Одна из барби лежит на пьедестале, покрытом черным, она в бальном платье, грудь ее бесстыдно открыта. Ее окружают яркие искусственные цветы. Куклы зажигают свечи. Барби-кавалеры раздеваются догола, и по-очереди занимаются любовью с «покойной». Она неподвижна. Остальные срывают с себя одежды и мастурбируют. Черная месса. Вот на что это должно быть похоже. И так дальше, постепенно нагнетая детали кукольных бесчинств, делая оргии похоти и жестокости все мерзостнее. Несколько страниц подобной гадости и все … финал. Светает, куклы чинно возвращаются на свои места. Всё застывает.
Девочка после завтрака приходит играть, разговаривает со своими милыми любимцами. Она не подозревает, какие куклы на самом деле. Про что текст? Про то, что все ошибочно. То, что кажется наивным, милым, добрым, прекрасным … не такое! Нужно быть бдительным. Ну, как-то так …
Гриша поставил временную точку, все перечитал, и подумал, что у него получился не рассказ, а сценарий, такой вот текст-раскадровка. Будущий триллер. Он был собой доволен. Кукольную историю он вчерне записал. Теперь ему хотелось браться за Шахматы. Ничего уж сегодня не выйдет. Во-первых Гриша выдохся, а во-вторых ему пора было ехать к Аллке. Она уже звонила. Надо будет писать не «канву», а сразу текст. Гриша чувствовал, что у него выйдет. Он начнет, только для этого надо было остаться дома одному и чтобы никто не дергал. Уже садясь в машину, он привычно подумал, что он все-таки «урод». Писать свои никому ненужные глупости ему хочется сейчас больше, чем ехать на обед с самыми близкими ему людьми. Оправдания этому он не находил, но и врать себе не хотел. Да, это было так.
Обед прошел замечательно, лучше, чем обычно: вкусная, с любовью приготовленная еда, шутки, ненатужная беседа. Гриша выпил один бутылку вина и был настолько в прекрасном и расслабленном настроении, что ему даже захотелось попеть. У ребят была гитара, они ее принесли, Гриша быстренько настроился, спел несколько песен, привычно выстраивая их в определенном порядке: песни, которые он знал, все будут ему подпевать и песни, которые они будут слушать.
Петь ему хотелось теперь нечасто. То ли аудитория была не та, то-есть дети петь его практически никогда не просили, хотя и были не против, когда он все-таки это делал. Были и другие причины: петь он любил с Валерой, а Валера был далеко, репертуар весь был старый, ничего нового Гриша не учил. Старые песни ему не то, чтобы надоели, но ушли в прошлое, в ту другую жизнь, которая безвозвратно канула. Грише казалось, что когда он поет, он прошлое вспоминает, он не против был вспоминать, но один или с Валерой. Каждая песня была ощущением, эмоцией, настроением, чувством. Кто теперь кроме Валеры мог с ним это разделить? Никто. Муся могла бы, но дело было еще в том, что многое даже Мусе было неизвестно, многое она с ними не разделяла. Когда они поженились, он почему-то почти перестал петь. Интересно почему? Это нуждалось в осмыслении, которым Гриша собирался когда-нибудь заняться. Он знал, что через свое любимое самокопание, найдет ответ.
Понедельник был Гришин любимый день: Маня уходила на работу, а у него был выходной. Он не мог весь день просиживать за компьютером, Маруся всегда давала ему задания «сделать и купить», но несколько часов были его и только его.
Утром после горячего утреннего кофе, Гриша включил компьютер. Ему хотелось работать, он давно ждал этого момента. Открыл чистую страницу и задумался: как назвать историю о Шахматах? Это будет грустноватая сказка и название должно быть завлекательным, разумеется, без слова «шахматы». Черт, ничего не приходило в голову и чем больше Гриша силился придумать название, тем хуже у него получалось. Не то, чтобы он не мог выбрать из десятков более и менее удачных названий, ему просто ничего в голову не приходило. Ни одного. «Вот, я тупой, твою мать» — промелькнуло у Гриши в голове. «Почему Дяченко так мастерски называют свои сказки? Звучит потрясающе: Медный король, Ритуал, Бастард, Ключ от Королевства, Привратник …? Да, что это со мной?» — Гриша разбирала досада. «Ладно. Начну писать, а там что-нибудь придумается».
Он написал посередине страницы рабочее название «Шахматы», и постарался отвлечься от мешающего работать чувства неудовлетворения собой. Как только Гриша отрешился от поисков названия, он почувствовал, что дело пойдет. Он давно «видел» первую картинку в своей голове, ноздри ощущали запахи, он «слышал» звуки, чувствовал время суток … Гришины пальцы легли на клавиатуру и он уже собрался нажать на первую букву, но внезапно раздумал. Текст звал его, завлекал, как в омут. Он сейчас начнет, и не сможет оторваться … придет Маруся, спросил «а ты купил …?». Он ничего не купил, он все забыл и … что? Что он ей скажет? А вот он сейчас быстренько съездит по делам и тогда будет иметь право «забыться». К тому же всегда лучше, когда удовольствие тебе предстоит, а не когда оно сзади. «Лучше предвкушать, чем иметь», одна из пафосно-банальных сентенций их юности.
Гриша завел машину, купил продукты, заправил машину, и даже выполнил один из пунктов своей программы-максимум: сменил масло. Дома он рассеянно съел две сосиски на хлебе, запивая их растворимым кофе и снова раскрыл документ «Шахматы». Всё, теперь ему никто не мешал.
Девочка лет 15-ти, стройная, легкая, полная порывистой грации, вприпрыжку бежала по лесной тропинке. Утро было раннее, на траве, на листьях кустов и деревьев лежала роса. Через пару часов палящее летнее солнце ее высушит и природа будет изнывать из зноя. Но пока в лесу было прохладно. Где-то внизу по камням журчал ручеек. Просыпались птицы, воздух был напоен душистой свежестью, запахами земли и каких-то цветов. Туман рассеивался, солнце вставало из-за леса оранжевым, но еще не слишком ярким шаром.
Она проснулась сегодня очень рано, еще не было и шести. Окна в ее огромную спальню были распахнуты. Что ее разбудило? Птичий гомон, неясные голоса слуг, разжигающих кухонный очаг, во дворе кололи дрова, дом просыпался. Под легким одеялом из лебяжьего пуха было так тепло и уютно, что у нее возникло желание снова уснуть. Но уснуть не получалось. Принцесса выспалась. Ей остро захотелось его увидеть. Да, надо было сейчас вставать и бежать через лес, луг, огибать овраги, пересекать мост, чтобы подойти к замку, где он спал, разметавшись на своей широкой кровати, под парчовым балдахином. Она секунду поколебалась прежде, чем принять решение: вылезать из-под одеяла не хотелось, да и идти было далеко, может больше часа. К тому он в такую рань спал … и хорошо. Она зайдет в спальню, секунду посмотрит на его спящее лицо, на обнаженное тело, слегка накрытое сбившейся простыней … и разбудит. Вот так сюрприз. Наверное он удивится. Что он сделает? Вскочит и обнимет ее, закружит по комнате, притянет к себе, поднимет на руки, они вдвоем выйдут на балкон? Неважно, что он сделает, они будут вместе, она почувствует его кожу, его руки на своем теле, его всегда свежее дыхание. Да, надо бежать!
Принц — сильный и взрослый. Ему уже 17 лет, возраст мужчины, рыцаря. Какие у него руки, длинные, тонкие, жилистые, сильные … какое тело, твердое, тренированное, ловкое. Он высокий. Принц — идеал! Он все делает красиво, лучше других. Плавает, стреляет из арбалета и лука, скачет на лошади, владеет копьем … ну, да, принц, ведь, воин, боец. Он верховный главнокомандующий своей армии. На секунду принцесса представила его впереди войска в отдельной головной группе ставки. Его тело покрывают легкие доспехи, забрало шлема поднято и видны его твердые, цепкие, непримиримые темные глаза. Он прямо сидит в седле и за его спиной развеваются вымпела королевства: черное с золотом. Кони у них у всех вороные. Как прекрасен ее принц во главе своей рати, она бы любовалась его статью, его крепко сжатыми губами, прямым гордым носом, чуть вздернутым сильным подбородком, широким лбом с надвинутым низко шлемом, но может ли она любоваться врагом? Если принц поднимет руку в перчатке, тысячи глоток извергнут победный клич, рать ощетинится копьями, тяжелые всадники поскачут в атаку под своими красивыми черными бархатными знаменами … в атаку против ее отца, против его белой армии. Никто не знает за кем будет победа, чьи флаги будут валяться в грязи, а чьи зареют на башнях всех замков.
Гордый, так любимый ею, принц во главе своей армии, готовый умереть в смертельной схватке с ее отцом, дающий сигнал к атаке, был ее постоянным ночным кошмаром. Жуткое красивое зрелище, оно преследовало ее, не давало наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливой. Будущее, как всегда, было туманным, но оно не сулило ничего хорошего, все закончится трагедией, и в этом у принцессы не было сомнений. Вот только когда все случится? Можно ли прожить свою жизнь, чтобы это … не случилось? Можно, если повезет. Но повезет ли им? Как было бы прекрасно жить так, как будто они ничего не знали … но они знали, всё знали, и всегда боялись. Этот страх отравлял любой день, какой бы он не был светлый и весёлый, и только ночью они немного забывались в объятьях друг друга.
Принцесса бежала по лесу, не замечая, что трава под ее ногами меняет цвет, становиться из светло серой, местами в распадках почти белой, все темнее, серо-голубой, синей, и наконец антрацитово черной. И листья цвета мокрого гранита с цветными отблесками делаются иссиня-черными. Что ж, так и надо было: принцесса вступила в пределы другого королевства. Их мир был огромен, но там было только две страны: белые и черные земли. Между ними лежала узкая полоска нейтральной зоны, где все цвета постепенно переходили через все оттенки от белого к черному.
Ее земля была светлой: поля, леса, долины, горы, дома жителей, их замок — все было белым, но не кипенно белым, слепящим глаза, нет. Там был и переливающийся на солнце белый цвет, похожий на снег, и белый со всевозможными оттенками мягких тонов: розоватый, нежно голубой, желтый, палевый, чуть зеленый. На самой высокой башне замка реял флаг ее отца: на белом перламутровом фоне — ярко мерцающие серебряные звезды. Много звезд, по количеству побед, одержанных правителями ее королевства над черным королем.
Хотела она, чтобы на их вымпелах вышили еще одну звезду? Нет. Ей не нужна была эта лишняя звезда, но в войне только одна из сторон одерживала победу. С случае их поражения, на черном знамени врага будет выведена лишняя золотая стрела. В истории их мира случались ничьи, но они были очень редки.
Земли врагов разделяло колоссальное поле, состоящее из огромных черных и белых квадратов, вымощенных утоптанной землей, четко очерченных, геометрически ровных, уходящих вдаль на чужую территорию. Принцесса знала, что квадратов было ровно 64. Никто их конечно не мог сосчитать, только птицы в полете могли видеть поле во всей его пугающей, ослепительно красивой целостности. Но именно на этих 64 магических квадратах воины будут биться до конца, падать, стонать, умирать, захлебываться криком, скача во весь опор под развевающимися знаменами, ни о чем не думая, кроме защиты своего короля и победы.
Это исполинское поле битвы, ристалище, начало и конец их мирозданья, влекущее к себе юношей, всегда было пустым. Никто его не охранял, по периметру не ходила стража, поле никак не освещалось. В этом не было нужды: оно и так сияло и переливалось, белые сияющие диагонали, перемежающиеся черными бархатными, матово блестевшими дорогами, которые так и звали по ним пробежаться. Но здесь никто не бегал, не гулял, здесь не играли дети, не забредал скот, даже птицы не садились на боевые квадраты. Поле ждало воинов, вне войны его избегали.
Конечно принцесса не пошла по полю, она его обогнула, единственное, что ей хотелось — это быть от него как можно дальше. Не дай бог ей увидеть войска, выстроившиеся по незыблемым правилам в боевые порядки по кромке поля: царствующая пара в центре, около них два полка офицеров свиты, самых бесстрашных, готовых без малейших колебаний умереть за своего сюзерена, рядом с гвардейцами — два полка гордых всадников: тяжелые кирасиры, легкие уланы, драгуны, гусары. По флангам стоят в пешем строю молодые юноши, из горожан, хорошо вооруженные и готовые на все. Восемь полков вооруженных и обученных воинов. Это вторая линия, а в первый стоят несметными рядами восемь полков пехотинцев-лучников, простых людей, крестьян.
Если бы началась война, принцесса не стояла бы на башне, не махала бы белым платком своему возлюбленному. Она бы стояла около отца, в центре арьергарда. Она была частью боевого порядка. Ей было суждено вдохновлять воинов на победу. Каждый воин закрыл бы ее своей грудью от стрел, умер бы с ее именем на устах, разрубленный мечом или пронзенный стрелой. Зачем ей их смерти? Почему нельзя просто жить? Принцесса старалась найти ответ на свой вопрос. О, она старалась, проводила часы в библиотеке дворца, расспрашивала придворных и отца.
Королевством правила пара: мужчина и женщина. В истории были супруги, братья и сестры, дети и родители. Пару могли связывать разные узы, но пара была черная или белая, никогда еще в истории в ней не смешивались несовместимые цвета. Если пару составляли не муж с женой, было принято вступать в брак с любой женщиной или мужчиной, тут даже допускались связи с простыми горожанами. Ребенок рос в замке, и становился следующим королем или королевой. Сейчас принцесса была дочерью своего отца-короля, она была совсем девчонкой и придворные называли ее принцессой, величали «ваше высочество», но всем было известно, что если начнется война, она будет считаться королевой, получит титул «ферзя» и встанет в боевой порядок по правую руку от отца. А ее черный возлюбленный принц в боевом строю будет единственным королем, по его правую руку, в боевых доспехах на вороном коне будет стоять его величественная и гордая мать-королева, черный ферзь.
Принцесса знала, что ее собственная мать была из сословия горожанок, милая стройная, молодая ладья. Сколько раз она пыталась расспросить о ней отца, хотела, чтобы он ей ее хотя бы показал, но отец был неумолим: «Нет, — отвечал он ей непреклонно. Она исполнила свой долг, была счастлива, ведь, ее любил король. Ее миссия закончена, я уверен, что она давно замужем, богата и благополучна. Люди знают, что эта ладья — мать принцессы, моей дочери. Большего простолюдинке и желать нельзя. У нее есть дети, сыновья, которые умрут за наш белый флаг».
Принцесса понимала, что не стоит искать с матерью-ладьей встреч, жизнь давно их развела. Ее черный принц тоже знал, кто его отец. Мать не сочла нужным это от него скрывать. Он даже был с ним знаком, ведь как можно было не знать офицеров свиты, да мать продолжала поддерживать отношения с блестящим кавалергардом. Кто бы ей запретил? Он, этот благородный человек, никогда не пользовался особым к нему отношением королевы, он издали любовался своим сыном, гордился им, не претендуя даже на роль учителя боевых искусств. Может не считал себя самым лучшим и достойным. Этому высокому и сильному кавалергарду повезло: он зачал будущего черного короля, первого среди равных, достойного с честью защитить свои цвета: черный и золотой.
Черные и белые, строго говоря, не были врагами, не ненавидели друг друга. Они просто были разными и внешне и внутренне. Белые — светлокожие, голубоглазые, с прямыми волосами цвета льна, и черные — смуглые, с темными пронзительными глазами, их смоляные кудри красиво падали им на спину. Белые, спокойные, добрые, веселые, не походили на импульсивных, горячих черных. Как можно было их сравнивать, кто лучше, кто красивее? Разве возможно сравнить красоту голубого, бездонного прозрачного неба с белыми кучевыми облаками, которые пронизывают солнечные лучи, с черным бархатистым бездонным небом, усыпанном мириадами звезд?
Никто не знал, откуда пошла вражда. Хотя можно ли было назвать отношения белых и черных враждой? Не вражда, а война, которая вдруг объявлялась. Стража била в набаты … король объявлял немедленную мобилизацию, мужчины бросали свои дела и занимали свое место в строю, готовые умереть в бою за короля и единственную женщину на поле брани — королеву! Принцесса знала, что войны происходили то реже, то чаще. Иногда целое поколение могло вырасти без войны, люди рождались и умирали, так и не пережив унижений, утраты близких, разоренных хозяйств, мародерства и грабежей. Побежденные отходили на свои земли, но жизнь никогда не прекращалась. Кто бы ни одержал победу, она всегда была временной, черные и белые, ожидая реванша, продолжали существовать бок о бок. Так им было предначертано.
Откуда принцессе было знать, что где-то идет параллельная жизнь, где по-другому течет время, что войны их королевств — не более, чем игра, что черно-белый мир управляется волей, умением, тактикой и стратегией каких-то других существ, тоже не подозревающих ни о маленькой девочке-принцессе, ни о ее возлюбленном черном принце. Да, что им было до того, что «фигурки» любили, страдали, рождались и умирали. Никакого дела им до них не было. Пусть маленькую принцессу, белого ферзя успеет полюбить принц. Он очень скоро станет королем, черным правителем, повелевающим своим войском. Произойдет это через несколько часов, когда два приятеля в тишине уютной гостиной начнут новую партию-реванш, запивая каждый ход глотком из бокала с красным вином.
На этот раз выиграют черные. Белый король будет убит, белая принцесса-ферзь безутешна. Скоро она станет любовницей стройного белого кирасира и родится новый король. Так нужно. Когда ей придется встать под знамена сына? Никто этого не знает. Война, как ни странно, не разрушила их любовь с черным принцем, они любили друг друга до старости. Судьба не дала им до самой смерти пережить еще одну войну. Ну да, один из друзей уехал работать в другой город, и играть стало не с кем. Шахматная доска пылилась на журнальном столике. Не так уж много людей умели играть. В другом мире войны не будет долго. Но теперь принцесса беспокоится за своего сына-подростка, ей же не дано знать, когда …
Гриша был собой доволен. Вроде получилась неплохая рыцарская сказка. Он хотел достичь в атмосфере повествования смеси безмятежности с настороженностью, в стиле «на границе тучи ходят хмуро …» Гриша всегда относился к своим опусам иронично. Тут надо будет еще много работать, чтобы достичь сути, показать обреченность любви. Ведь счастливой любви просто не может быть … вот, зачем он написал, что «война» ничего у принца и принцессы не порушила? Вот дурак-то! Именно, что порушила. Это что, она будет любить убийцу своего отца? Ага, это у нас уже из Сида, из Корнеля. Иногда Гриша ненавидел свою литературную эрудицию. Хочешь что-нибудь сказать, а об этом уже сказали, причем давно. И еще, надо было резче выделить «тему рока». Персонажи просто — фигурки, ими управляют, они не властны действовать сами, не хозяева своей судьбы … и что? Какой мостик, куда? Боже, ну почему он не может просто рассказать историю? Вечно ему нужна многозначительность. «Тема рока» … твою мать! Теперь Гриша уже не был так уж собой доволен. Какие-то красивости, сюськи-пуськи, обнаженные тела и воины-красавцы. Эх, плохо. Он в досаде закрыл файл, даже не зная, вернется он к черно-белому шахматному миру или нет. Заглядывать в глубь человеческих игр-развлечений Грише решительно расхотелось: куклы-шахматы-карты. Про «карты» он уже вообще не думал. Скоро должна была вернуться с работы Муська.
Вечер прошел хорошо, они с Марусей смотрели передачу: Дмитрий Быков читал лекцию об Евгении Онегине. Оба смотрели и восхищались, Муська даже больше, чем он. Не так важно, что он говорил, а как. Быков — блестящ. Хороший журналист, неплохой писатель, у него есть десяток стихов, о которых стоит говорить … не об этом речь. Быков — критик, вот тут он невероятно талантлив, вот и лекции его по-этому так необычайно ярки. Везет же его студентам. По его словам Пушкин терпеть не может Онегина, он — неумен, ординарен, и подловат … Гриша не был совершенно с Быковым согласен, да разве в этом дело? А вот интересно, хотел бы он иметь шанс открыто за столом обсудить с Быковым Онегина? Нет, не хотел бы. Потому что … слаб в коленках, жидковат для дискуссии с метром. Куда ему …
Гриша лег спать, долго не засыпал и желчно думал о своей несостоятельности вообще. Ну, подумаешь … знает он французский и английский. Тоже мне … знание. Умеет писать статейки, но блеска в них нет и быть не может, ему, ведь, все эти литературоведческие материи безразличны. Он мог бы на спор написать многозначительную «модную» статью даже по-поводу своих собственных романов. Взять три больших текста и выделить из них «тему аэропортов» … нет, лучше шире: дорог. Да, статьи про «быть в пути» — тут и вокзалы и аэропорты, перелеты, переезды. Чем не тема? Дорога — это состояние перемены по-определению, время «застыть» в пространстве, не замечая движения … время думать, осмыслять, анализировать. Это замкнутое пространство средства транспорта: некуда деться, ты среди незнакомых, наедине с собой … и так далее. Гриша открыл интернет и сформулировал свой поиск: «Тема дорог в современной литературе». Боже, сколько ссылок. Десятки. На других языках может еще больше. Тоже мне «Америку открыл …» Фу, какая гадость. Гриша лежал, сознавая всю пошлость своего замысла. Как было бы многозначительно и … никчемно, а главное — вторично. Однако, если бы было надо, он бы запросто вытащил из своих романов эту «транспортную» составляющую, изящно бы ее подал и словоблудская статейка была бы опубликована. А что? Ах, об этом уже сказано? И дальше …? «Так, как я сказал, еще не говорили», — вот как было в их кругах принято считать. Он и на какой-нибудь соответствующей конференции с этим выступил бы: мотив «дороги», как культ пространства и исканий себя … как-то так.
Он знал за собой эту манеру: разбирать по косточкам собственные тексты и злобно их критиковать. Хотя, он и сам не мог понять, зачем он это делал, ведь, если заняться целью поиздеваться над текстом… да это раз плюнуть. Можно взять что угодно. Поглумился же Некрасов над Анной Карениной! А вот у Пушкина, тот же Евгений Онегин: «какое низкое коварство, полуживого забавлять». Гриша вспомнил эти строки из Онегина. Эх, сейчас бы написать в этой связи стишок про виагру, все-таки «забавлять полуживого …» — это «тема». Ему даже пришлось побороть в себе желание немедленно сесть за компьютер.
Сколько он сочинил как бы смешных стишков: то матом, то пародии, то стилизации под какой-то жанр. Жутко хотелось этим заниматься, прямо умирал от желания творить. Подхватывался, обо всем забывал, не делал того, что было действительно нужно. Нет, гори все огнем! Буду глупости сочинять! Потом он их перечитывал, сам смеялся, гордился собой, посылал Валерке свое стихоплетство и слушал его похвалы. Да, в чем был смысл такой работы? Что за забава идиотская? Это же потеря времени, и только. Это литературные шутки, не литература. Какое-то время спустя после лихорадочного сомнительного творчества Гриша понимал, что он потратил часы на дурь. А ведь настоящий писатель должен любить свой текст, восхищаться собственной работой, иначе … иначе ничего путного не выйдет. Уже совсем засыпая, он подумал, что «да, не выйдет», потому что относиться к своему творчеству серьезно Гриша не умел. У Валерки тоже получалось пошлости сочинять, но он — ученый, физик, а он, Гриша так на уровне их совместных смешных стишков и остался. Так уж получилось.
Назавтра его ждал длинный рабочий день. Профессор Лурье заболел жесточайшим гриппом. Гриша об этом узнал в пятницу от секретарши и сразу подумал, что ему придется его заменять. Да, кто бы сомневался! Лурье, «пидер гнойный», вечно жаловался Грише на студенток, которые заходят к нему в кабинет полуголые, лезут на него своей пухлой грудью … ужасно … противно … никакого воспитания …, позвонил вечером, сообщил о своей температуре, попросил Грегори взять его два класса в понедельник, если он не сможет прийти. Понятное дело, не пришел. Пришлось кроме своих занятий, еще работать со студентами Лурье. Гриша слегка напрягался, много сам говорил, ловя настороженные взгляды чужих студентов. В теории они должны были быть ему благодарны за то, что у них не пропало занятие, а на деле им хотелось, чтобы класс отменили. Школярство было неистребимо, Гриша понимал, что если бы ему вдруг пришлось снова стать студентом, он бы хотел того же самого.
Понедельник вообще как-то сразу не заладился: с утра Грише надо было распечатать кое-какие материалы, но копировальная машина не работала. Он побежал в другой корпус, спешил, нервничал, напрягался, а потом зашел в класс с испорченным настроением. Он с презрительным видом задавал вопросы, делая колкие замечания по поводу непонимания текста Графини де Сегюр, проклиная в душе эстета Лурье, которому пришло в голову читать со студентами эту дурацкую весьма второстепенную графиню, жившую в конца 18-го века. Приключения мальчика-сиротки, живущего со старой сварливой теткой, якобы смешные. Нашел, что читать, тьфу, дурак, этот Лурье. С другой стороны, Гриша понимал, что Лурье преподает на 3-ем курсе, и выбор книг, снабженных переводами и комментариями, очень невелик. Имел ли Лурье выбор? Интересно, сколько он намерен болеть? Грише было стыдно за свои мысли, он же тоже мог запросто заболеть, и все-таки … Все ребята в классе были какие-то вялые. Им хотелось все делать от сих до сих, никаких шаг влево, шаг вправо … Гриша пытался затеять хоть какое-то подобие дискуссии, но ребята отводили глаза, отвечали односложно, а некоторые даже просто говорили «я не знаю». Вот это-то и бесило Гришу больше всего. Как можно было «не знать». Речь шла не о «знаниях», а о мыслях. И мыслей у них не было? Гриша злился, заводясь все больше и больше. Ребята чувствовали его досаду и замыкались. Цепная реакция класса. Гриша знал о ней, но ничего не мог с собой поделать.
К концу урока он на все плюнул, перешел на «автомат», дал задание работать в «группах» и принялся рассматривать девочек. Смотреть было особенно не на что. Серые мышки, некрасивые, с топорными фигурами, не умеющие себя подать американские феминизированные студентки, всем до двадцати, поголовно в джинсах, бесформенных кофтах и кроссовках. Они были молоденькими и Гриша стал играть в их любимую с Валеркой игру: а мог бы я с этой, а с той, а кого я бы с удовольствием …, а кого бы только, если сильно выпить … а кого вообще никогда … Они когда-то даже в вагоне метро в это играли. Он скользил глазами по классу, но ни одна девчонка его не интересовала. Чего-то в них во всех не хватало, трудно даже было сформулировать это «чего-то». В них чувствовалась незрелость, инфантилизм, комплексы в отношении мужчин, страх и желание сделать вид, что им «ничего не надо», они здесь «не как девушки сидят». В классе не было ни единой девчонки, которую он мог сравнить с московскими. Ладно, предположим он не их преподаватель, предположим ему на 20 лет меньше и тогда … Подхожу, заговариваю, делаю комплимент, чуть флиртую, приглашаю в ресторан … не пойдет, точно не пойдет. Не будет знать, как себя везти, не сможет быть адекватной, занервничает, никогда не сможет расслабится, будет чувствовать себя с ним ребенком. Она и есть ребенок в свои 18–19 лет, а тогда в Москве … о детстве в таком возрасте уже не вспоминали.
Гриша ехал домой и вспоминал свою недолгую карьеру в спецшколе, он там работал в десятом классе и одна из девчонок положила на него, молодого учителя, глаз. Если бы он захотел … как это было бы легко, раз плюнуть. Ничего у него с ней не было, как ее, кстати, звали? Гриша не мог вспомнить и раздражался. Он тогда считал себя порядочным человеком, «негоже» с малолеткой. У него были принципы. К тому был еще один фактор, явный, важный, но стыдноватый: Гриша просто боялся неприятностей. А вдруг … да не дай бог. Тут дело не ограничилось бы лишением работы, тут такое бы кадило раздули … оно того не стоило. Вот как он рассуждал, но теперь, много лет спустя, ему пришло в голову, что ни порядочность, ни принципы, ни страх его бы тогдашнего не остановили, если бы девочка его достаточно заинтересовала, он бы просто не смог противиться искушению, слишком уж они были с Валерой избалованы.
Но в том-то и дело, что раз он нашел в себе силы не «связываться», значит с девчонкой что-то было не так. И сейчас внезапно, он вдруг понял «что»: дело было в ее возрасте. Ученица не была ребенком, как эти его нынешние, она была почти взрослой, ей хотелось завершить процесс перехода во взрослую жизнь именно с ним, молодым, красивым мужиком, то, что он ее учитель, только придавало остроты ее влечению. Гриша это все видел, но она его хотела, а он ее … тоже хотел, но и только. Первого, в чем-то ущербного, траха ему было бы достаточно, а потом от нее было бы невозможно избавиться. Да, свеженькая, симпатичная, хотя и простоватая девчонка, чем она могла Гришу увлечь? Ничем. Ему нравились тонкие, уверенные в себе женщины, которые могли стать его подругами. Да, не дотягивала она до него, вот и все. Гриша поймал себя на том, что в мыслях своих называет ее «соплячкой и малолеткой». И все-таки, хоть и «малолетка», она его сильно хотела и свое желание не скрывала. Грише даже пару раз пришлось ее грубо отшить.
Выпускной. Белый танец. Свет пригашен. Она его пригласила, он так и знал. Ждал этого и до последнего мига сам не знал, пойдет он с ней танцевать или нет. Не пошел, сказал, «нет, мол, иди танцуй с ребятами». Она явно не ожидала отказа, обиделась. Он мог ей уступить … напоследок. Нет, не уступил, не был в себе уверен. Свежая баба, молодая. У него бы на нее точно встало, она бы заметила. Ну, куда это годится. Много чести. Получилось бы, что его тело его бы подвело. Тело, и все. Но девчонка таких нюансов не понимала. Куда ей. Считала бы, что он в нее влюблен. Да, сейчас … накось, выкусь. Разбежалась. В конце учебного года он уволился, хотя конечно и не из-за нее. Да она все равно школу закончила. Дурашка.
Гриша снова вернулся мыслями к шахматам. Может он к себе слишком строг? Не так уж плоха его история. Там пока одна канва, скелет будущего романа. Можно же нарастить его «мясом». Показать историю их красивой, но обреченной любви. Они ее не слишком-то и скрывают. Их не поддерживают, но и не препятствуют … зачем, любой ребенок знает, что черные и белые не могут быть вместе, война их разведет. Ну … и что же? В ожидании войны развивается целая история отношений. А потом … ладно, набат. Полки строятся на поле. И можно показать особенности «ходов»: пешки идут в атаку на близкое расстояние … и так далее. Хорошо, но как развить любовь? Нужны препоны, борьба, козни. А откуда их взять, что может вообще происходить в мирном обществе. Черт, в бесконечном Гришином споре с собой по принципу «откат-накат», сейчас был явный «откат». Получалось, что он вообще на мастак придумывать. Что-то не то с фантазией, какая-то она у него скудная.
Вот был он в мае в Израиле, всего два дня по-поводу конференции «литература холокоста» и там нашел их с Валерой одноклассницу, Софу Барскую. Нашел ее собственно Валера, когда узнал, что Гриша едет в Израиль. Если бы не Валера, Гриша бы и искать ее не стал, да он и в Израиль бы без Валериного нажима не поехал. Валера настоял, стыдил за лень, уговаривал встретиться с пресловутой Софой. Ну да, Гриша хорошо помнил эту их одноклассницу. Рыхловатая, очень красивая девочка, с серо-зелеными совиными глазами, с гладко зачесанными длинными волосами, собранными в косу. Софа хорошо училась, но с какой-то натугой. К вызовам к доске относилась странно, могла, например, перед уроком объявить «я не готова, я просто не могу …», причем имелось в виду, что Софа не то, чтобы не знала урока, а просто у нее, как бы не было душевных сил выходить к доске, она, дескать, была сегодня не в форме. Интересно, а кто был в форме идти отвечать? Софа нагло ждала в коридоре учителя, что-то ему шептала и действительно ее не вызывали. Гриша с Валерой удивлялись ее странной неуместной капризности. Софа могла вдруг объявить, что «учительница математики ее, Софу, ненавидит», и сколько ребята не пытались ее переубедить, что это не так, что учительнице по большому счету на всех наплевать, Софа была убеждена, что она объект особой немотивированной учительской ненависти. Она занималась музыкой, Валера с Гришей тоже занимались, но Софино обучение было широко известно. Она музицировала в актовом зале, стала активно выступать в школьном эстрадном театре. Там она пела бардовские песни и после концерта ждала похвал и комплиментов. «А что мы-то с Валеркой в эстрадном театре не выступали?» — Гриша теперь не мог понять, почему они туда не пошли. Странно. Никакой причины он теперь не видел. Может быть не пошли в театр, потому что инстинктивно не хотели быть членами коллектива, не хотели выступать на «смотрах», зависеть от руководителя, от комсомольского начальства? Не искали дополнительной популярности?
Софа в свое время закончила архитектурный институт, МАРХИ, и больше Гриша про нее ничего не знал. Оказывается она имела сына, эмигрировала с ним в Израиль и сделала неплохую карьеру реставратора древних памятников архитектуры. Найти ее в Тель-Авиве не представило для Гриши никакой сложности. Он ей позвонил и она сама сняла трубку. Гриша немного опасался этого первого разговора. Прошло более 30 лет … зачем все это вообще надо? Вот что он Валерке пытался объяснить, но друг и слушать ничего не желал. «Найди Софку … и все».
— Алё. — Гриша сразу узнал ее голос.
— Софа? Это Гриша Клибман …
— Кто?
Вот этого конкретного вопроса Гриша и опасался. Как все глупо. Он был готов идиота Валерку убить. «Кто? Блин …» Она видите ли, не помнит …
— Соф, мы же с тобой в школе вместе учились. Ты не помнишь меня?
Ага, вот она минута замешательства. Она, типа, вспоминает … Гриша уже ненавидел эту Софу и жалел, что позвонил. Так он и знал. И зачем только он пошел у Валерки на поводу. А собственной головы у него не было?
— Ах да, я помню. У тебя вроде друг был … Валера? Два дружка неразлучных?
Нет, ну это что такое? Слово-то какое противное нашла «дружки». Гриша видел перед глазами Софу в школьной форме с комсомольским значком на груди. Сидит такая томная за партой, у нее на губах блуждающая загадочная улыбка. Корчила из себя Мону Лизу, считала себя тонкой, талантливой, недооцененной толпой, а они «мальчишки-дружки». Гриша чувствовал, что завелся, никак не мог простить Софе этого ее «ах, да …» Они с Валерой помнили всех своих одноклассников, по имени, по фамилии, кто где сидел. Помнили учителей, они вообще все помнили, а Софа? Не помнила? Или делала вид, что не помнит? Неизвестно.
Сказал, что он живет в Америке, что здесь на конференции, всего два дня … Теперь был ее ход. «Давай встретимся, мол». Скажет или не скажет. Сам он ей этого предлагать не станет. Хоть режь его. Опять маленькая пауза и потом … «а что ты сегодня вечером делаешь? Давай встретимся. Я живу в центре города». Интересно, зачем она сказала, где живет? Пригласит или нет? Нет, не пригласила. Договорились встретиться в ресторане. Гриша сам ей предложил итальянский ресторан около гостиницы, хотя он же гость, это ей следовало его куда-нибудь в хорошее место пригласить. Он сам так бы и сделал. Через час они встретились в ресторане на соседней от гостиницы улице. Выглядела Софа хорошо, подтянутая совершенно не полная женщина, с холеным лицом, темными волосами, тщательно одетая. Впрочем нельзя было сказать, что она выглядит моложе своих лет. Они сразу друг друга узнали и даже обнялись.
Гриша, в душе удивляясь Софиной инертности, подвинул к ней меню и попросил выбрать, что она будет есть. Оказалось, что есть она тут ничего не будет, потому что ресторан не кошерный. «Так, начинается. Если ты знала, что тут не кошерно, зачем пришла? Могла бы и сама выбрать ресторан, могла бы меня даже к себе пригласить.» Гриша ничего ей не сказал, заказал себе еду, а Софа сидела и пила чай с медом из бумажного стаканчика. Да, черт с ней … Рассказала о себе: сын в Москве, у него четверо детей, дети хотят в еврейскую школу на Ленинском проспекте. Ну, а как же … Она — молодец, увлекается работой.
Потом Софа долго с большим энтузиазмом рассказывала, как она была руководителем проекта восстановления синагоги Хурва в центре Иерусалима. Реставрация длилась восемь лет. А теперь она уже подготовила проект восстановления другой синагоги в еврейском квартале Иерусалима Тиферет Исраэль, деньги на который дает украинский бизнесмен Вадим Рабинович. Софа показывала фотографии открытия Хурвы. «А вот это Вадим Рабинович … смотри … Натан Щаранский … Игорь Коломойский … Реувен Ривлин, спикер Кнессета» — Софа не могла остановиться. Там Альфонс Ротшильд денег дал … Софа жила своими проектами и больше ничего ее не интересовало. Вот это да. Сидит перед ним их школьная капризная Софа, она — главный архитектор-реставратор Управления древностей Израиля, мать бывшего главного пиарщика страны. Софа уехала в 90-ом году. Она преуспела. Что тут удивляться, ведь и в СССР она была реставратором, восстанавливала церкви Ивана Грозного. Софе было чем гордиться. Но почему же она ни о чём и ни о ком Гришу не спросила? Как же так. Он сам ей немного рассказал о себе, о Валере. Он-то … ладно, но Валериной яркой карьерой тоже следовало гордиться. Валерка — крупный ученый, профессор Беркли. А она … сидит тут и наплевать ей на всех. Так они для нее и остались «ах, да … дружки».
Впрочем, Софа попыталась объяснить, почему она скорее равнодушна к одноклассникам. Оказывается, она на всех обиделась. Вот так номер! В начале 10-го класса Софа сломала ногу, ну да, Гриша это помнил. Они с Валерой еще прошлись по этому поводу: прыгала наша «коровка» через веревочку и вот результат … Ногу загипсовали и Софа довольно долго сидела дома. Так вот ребята не пришли к ней с тортом и апельсинами, никто не звонил, бросили ее, «товарищи» называются!
— Ну к тебе разве подруги твои на заходили?
— Заходили. А другие? Даже уроки никто не приходил объяснять.
— Ну, Соф, ладно тебе. Тебе бы каждый уроки дал, что ты мне не звонила?
— Я должна была звонить? — в ее голосе зазвучало узнаваемое возмущение «невниманием толпы».
— Тебе же нужны были уроки. Да, я уверен, все что задавали ты прекрасно знала.
— Знала. Но тут дело принципа …
— Какого принципа?
— Такого. Разве можно человека в беде бросать?
— Ну, не стоит преувеличивать твою беду. Тебя навещали подруги. Я уверен, из эстрадного театра ребята приходили. Зачем тебе остальные. Они бы тебя для галочки навестили. Тебе, что, это нужно было? Зачем требовать от людей, чтобы они фальшивили? К товарищу ходят по велению сердца, а иначе не стоит ходить.
Софа обиженно молчала. Это же надо, до сих пор она чувствовала себя маленькой недолюбленной девочкой, обойденной вниманием окружающих, желающий во что бы то ни стало быть в центре, чтобы все обожали и хвалили. Неужели она все такая же? Наверное. Никто по большому счету не меняется. А в какой связи он вдруг Софку вспомнил? Она обещала ему на следующий день позвонить и показать достопримечательности, но … не позвонила. Так он и знал. Не пришли тогда к ней навестить с гостинцами … гады.
Он вспомнил Софку потому, что его с ней встреча превратилась в яркую израильскую картинку. Он мог бы написать о ней рассказ: комсомолка, блин, ортодоксальная. Был интересный клубок: песни в эстрадном театре, как она с собой носилась, как ногу сломала, обиды … потом главный реставратор страны, ест только кошерное, соблюдает все обряды. Это образ-клубок. Он бы распутал его, написал бы рассказ. Но в том-то и дело, что тут нет никаких «фантазий», он правда знал когда-то Софку, вот и «картинка» и нему пришла из знания. Он «видел» Софку как героиню, потому что он ее действительно видел в жизни. Да, разве это талант? Это просто способность оживить знакомое. Гриша вздохнул. Он знал свои возможности и считал их скромными.
Какое совпадение: Софа эмигрировала в один год с ним. Валера уехал на полтора года раньше, в январе 89-го. Между ними все тогда было нелегко. Гриша пришел на «отвальную»: много народу, какие-то малознакомые люди, много водки, простая закуска. Ребята уходили, приходили, дверь в квартиру была открыта, на лестнице курили, стоял дым по всей лестничной клетке. Все тот же дом их школьной юности, с «излишествами», с запоминающейся аркой. Три их комнаты заполнены толпой, на кухне суетятся женщины, Валерина мама и жена. К тому времени он уже был женат. Ехал он на следующее утро с родителями. Жена Янка пока оставалась в Москве, приехала к нему только весной. Гриша уж и забыл, почему она сразу не поехала.
Темноватый зал утреннего хмурого Шереметьева он очень хорошо помнил. Почему-то горели не все лампы, на их похмельных серых лицах лежали неровные тени, делая всех сюрреалистическими персонажами жестокой безысходной драмы. Вещей у Валеры с родителями было совсем немного: несколько чемоданов и пара ящиков. Мама его суетится, что-то все проверяет в своей сумочке. Папа молча стоит и вымученно улыбается. Их пришли проводить пожилые друзья, родственники, явно отъезда из страны не одобряющие. «Что ж делать … Валера собрался … у них не было выбора». Да, у них не было выбора и надо им отдать должное, родители не колебались: куда сын — туда и они. Все правильно. Гриша помнил постаревшую Наташу-стюардессу. Кого она провожала? Валеру или все-таки папу? Наверное папу, хотя он с ней не прощался как-то там особо. Все делали вид, что «нормально … все будет хорошо», но понимали, что вряд ли еще раз увидятся. С кем-то и не увиделись, но … Валера потом приезжал в Москву, те, кто хотел его видеть, увидели, но кто ж тогда знал. Тут же рядом стояла его Янка, ее он нежно обнимал за плечи. А последним обнял Гришу: «Гринь, мы увидимся, увидимся скоро. Не плачь». Да он и не думал плакать. Почему Валерка так ему сказал напоследок? А потому что, он плакал, только молча, про себя, и друг это понял, он видел то, что мог видеть только он один.
Очередь на таможню продвигалась медленно, потом они все зашли за загородку и стали недосягаемы, хотя никто не ушел, продолжая следить глазами за отъезжающими. Затем они прошли паспортный контроль, все их видели уже издали, и потом двинулись в глубину зала, в последний раз оглянулись и исчезли из виду. Все, Валерка уехал. Гриша сидел на обратном пути в машине, рядом с Янкой, он молчал, а она тараторила, что ей надо успеть собраться … Валера устроится и скажет, что она должна привести … интересно, смогут ли они купить дом … он без нее не будет покупать … это так важно … что вы мужики, понимаете … Гриша слушал ее трескотню и привычно не понимал, что друг нашел в этой взбалмошной молодой женщине. Странный выбор, но … у Валеры должны были быть свои резоны, и их следовало уважать. «Ну, что?» — спросила дома Маня. «Да, ничего. Проводили.» Больше говорить было не о чем. Да Маня ничего и не спросила. Гриша знал, почему.
Ох уж эта Валеркина Яна. Высокая еврейская яркая девка, с крупным носом, большим ртом и огненно-рыжими кудрявыми волосами. Он с ней познакомился в какой-то компании, куда его привел один из их общих друзей. Валера к тому времени недавно расстался с Таней-парашютом, весь еще был в грустном недоумении от потери ребенка и несчастливого конца своей очередной романтической истории. А тут Янка. Валерке было 27 лет, а ей … лет 20, не больше. Молодая, но очень опытная баба, с пустоватыми, светлыми, наглыми большими глазами. Гриша там не был, но Валера рассказывал, что Янка много пила, раскованно танцевала одна, раскинув руки и покачивая бедрами. Они с Валерой друг на друга смотрели, а потом вместе ушли. Понятное дело: типичный их стиль.
Она вскоре к нему переехала. Мама его молчала, хотя Гриша был уверен, что Яна в качестве потенциальной невестки ей не понравилась. И хоть ему и было стыдно в этом признаться, он Валерину маму понимал. Вроде все в Яне было нормально: из приличной еврейской семьи. Вряд ли Валерина семья так ее национальность ценила, но все-таки. Красивая, молодая, любит Валеру … что маме не хватало? И тут Гриша ловил себя на том, что он рассуждает не с точки зрения их с Валерой плейбоевского мировоззрения, с как «аидише фатер»: нет эта девочка не для моего прекрасного сына. Она его недостойна. Ну да, так и было. Янка — могла побыть Валеркиной любовницей, временной яркой подружкой, девушкой его эскорта, партнершей для жаркого секса, но ее не следовало брать в жены! У Янки на лбу было написано: я — блядина! Почему все это видели, а Валера нет?
Гриша вдруг задумался об этом. Что такое в сущности «проблять»? Вот интересная мысль, которая тогда ему в голову не приходила. Это внеисторическая категория женщин особого толка? Или это порождение сексуальной революции и восходящего феминизма?
Гриша сосредоточился, конкретика Валериной женитьбы его сразу же перестала интересовать. Наверное такие веселые девки всегда были, «слабые на передок», честные давалки, не из-за денег, а из «любви к искусству», да … это так, но в конце 20-го века их наверное стало больше. Почему? А потому, что «плейбоизм», исторически свойственный мужчинам, естественный для них, прощаемый обществом, социально приемлемый, и даже вызывающий тайное восхищение, завоевал и женщин. То, что раньше было только мужской прерогативой, теперь стало можно всем, т. е. женщины стали себе позволять себе вести себя, как мужчины.
Они не скрывают своей сексуальности, условности для них пустой звук, они тоже хотят менять партнеров, ценят их только за мужские стати, и ждут не стабильности, а удовольствий. На самом деле, мужчины таких опасаются, никто не хочет быть использованным, это обидно, непривычно, даже позорно … Как они когда-то с Валерой говорили: я ей не «станок». Такая Янка или не такая? Похоже, хотя разумеется девчонка вовсе ни на какие темы не философствовала, вообще Янка не сильно любила делать интеллектуальные усилия. Тогда она была очень даже к Валере привязана, хотела ехать с ним в Америку, но проблема была в том, что она не умела быть с человеком долго, ей надоедало, Янка была готова уйти с новым партнером к новым приключениям, ей казалось, что она, такая замечательная — для мужчины подарок, и вся ее жизнь должна быть цепью удовольствий.
Муж? Ну и что муж? Он должен ее принять такой, какой она была, а не хочет — как хочет. Так все и получилось. Янка приехала в Калифорнию, забеременела и совершенно не возражала против ребенка: ребенок — это, как она говорила, «дивное» приключение. Как уж Валера и его мама с ней носились, чего только ей не покупали, не знали прямо, куда ее посадить. Янка была в ровном хорошем настроении всю беременность, не унывала, ходила на курсы английского в кофточках-размахайках, сопровождала Валеру в поездках по Калифорнии. Родилась дочка, которую Янка настояла назвать Моникой. Почему Моникой? Ей так казалось шикарным и по-иностранному. Вот дура-то! Валера так очумел от счастья, что не стал с ней спорить. Валерина мама превратилась в няньку, они с папой часами гуляли с коляской. Янка привела себя в порядок, потом стала надолго исчезать из дома, приходила только к вечеру. Кормить девочку она перестала очень рано, на все просьбы Валериной мамы больше времени проводить с ребенком, отвечала какими-то отговорками. В результате от нее отстали. Валера приспосабливался к университету, втягивался в новые проекты, уже читал по-английски курсы. Времени у него было совсем мало. При нем Янка подбиралась, играла в душечку, мурлыкала как кошечка. Мама молчала, стараясь Валеру не расстраивать.
Так бы все и шло, но Яна сама положила их браку конец. Однажды вечером они с Валерой гуляли по набережной, и вдруг она ему сказала, что «она от него уходит … любит другого мужчину … не считает нужным ему врать … просит ее простить и желает счастья». Валерка опешил, ничего такого он не ожидал, но как он потом Грише признавался, он сначала испытал шок, оцепенение, но потом к нему пришло облегчение: оказывается он и сам замечал, что ему с Янкой плохо, она не оправдала его надежд, разочаровала … но он решил крепиться, не расставаться с матерью своего ребенка, которую он сюда привез. Нет, он не мог ее бросить, а теперь … у нее кто-то есть. Этот кто-то возьмет на себя заботы о ней, а он, Валера, снова будет свободен. Как они когда-то друг другу говорили? Если ошибку можно исправить, то это вовсе и не ошибка. К ужасу родителей Яна забрала Монику, но … Валера их утешал, что он разводится с женой, а с ребенком он никогда не расстанется, ничего, мол, страшного, не надо драматизировать … Если бы не дочь, Валерины родители были бы даже рады, они никогда не любили Янку.
Нельзя сказать, чтобы Валера в этом разводе ничего не потерял. Потерял. Он не мог каждый день видеть дочь и продолжал платить за их с Янкой дом и давал деньги на ребенка … кругленькая получалась сумма. Янин бойфренд занял место мужа отнюдь не полностью. Валера не жалел денег, деньги, как таковые ему были безразличны. Зато … ему казалось, что он что-то обрел. Пресловутую свободу! Сначала Гриша ему завидовал, а потом … может и нечему было завидовать. В 50 с лишним лет Валера так и был один. Стареющий плейбой, грустная картина. Только они никогда об этом не говорили. Валера был еще полон сил, хорош собой, у него были живы родители, но … Гриша почему-то в связи с Валерой и Яной вспомнил недавние похороны своего научного руководителя, почетного профессора кафедры романских языков, где он защищался. Такие характерные похороны. Любые похороны — это печально, но эти …
Его профессорша, француженка, была мастита, печаталась во Франции, слыла невероятной снобкой, и с самомнением у нее было все в порядке. Не так уж много аспирантов хотели с ней работать, она считалась «трудным» руководителем. Однако Гриша с ней сразу поладил, причем безо всякого напряга и притворства. Их общее европейское происхождение сотрудничеству изрядно помогло: можно было презирать американцев за серость, необоснованное самодовольство, за не слишком большое трудолюбие, за узаконенное нечеткое словоблудие, которое считалось здесь нормой, приветствуемой большинством, «гуманитарной наукой»: сумбурной мешаниной из истории, психологии, политологии, социологии, философии и литературоведения. Он у нее защитился, но мадам заставила его изрядно попотеть. Да, Гриша об этом и не жалел, привык к подобному подходу и не ждал ничего другого. Когда он работал в Москве над своим первым докторатом, его по головке не гладили.
Мадам ценила в нем «европейскость», принадлежность к старому и лучшему миру. Он во-время подавал ей руку, умел в соответствующих обстоятельствах эту руку поцеловать, пододвигал стул, приносил цветы, и сам поднимался с места, когда она входила в комнату. Ему все эти штучки были не в тягость, он прекрасно знал, как себя вести. Здешние мужчины так не умели. Мадам даже умудрялась хвалить его умение одеваться: ах, Грегуар, у вас сегодня интересный галстук, сразу виден вкус … ах, Грегуар … зачем опять конфеты? Вы меня балуете … Больше «Грегуаром» его здесь никто не называл, он привык быть Грегори, с ударением на первый слог. Мадам в долгих приватных беседах любила позлословить о коллегах, об их слабом уровне, о «неправильном» подходе к обучению … о современных никуда не годных студентах и беспорядке на кафедре. Ей казалось, что только ее русский Грегуар может ее понять. Мадам была совершеннейшим «ретро», «последней из Могикан», над ней за спиной потешались, считая, что сильно пожилая француженка «не догоняет». А Гриша скромно хвастался своими публикациями по Аналитическому чтению и лил ей бальзам на душу. Здесь о таком подходе даже не слышали.
Мадам рассказывала Грише свою жизнь, он как бы был ее конфидентом. Девушка из довольно простой семьи, выучилась на учительницу младших классов, работала, потом вычитала где-то о специальном наборе в Сорбонну для таких как она учителей. Закончила ее по специальности «английский язык», попала на практику в Англию и там познакомилась с американским профессором, с которым уехала в Америку. Получила докторскую степень в Стенфорде, со своим профессором развелась, но перед разводом успела сделать себе гистерэктомию, удалила по моде тех времен, матку со всем остальным. Зачем? А затем, что принадлежала к бунтарской, демократической левой молодежи … не нужно ей было материнство, вот еще … она освободилась, как Бовуар говорила, от бремени пола. Гриша так толком и не понял, жалела она об этом или нет. Вероятно жалела, но не любила признавать. За милым профессором-китаистом мадам была замужем вторым браком много лет. Она уже давно не работала, а муж все продолжал преподавание. И вот Гриша получил в прошлом году имейл из своего университета, где он давным-давно не появлялся, что профессор Дюран умерла, панихида тогда-то, в соборе святой Марии …
Гриша не мог сказать, что он испытал сильные чувства. Сто лет он уж с своей «мадам» не виделся, пожилая женщина … умерла … жаль, но … это жизнь. Потом он стал размышлять ехать в Юджин на похороны или нет. Было неохота, ну что он там забыл. С другой стороны … нехорошо, скотство какое-то. Целый важный кусок жизни он провел с ней бок о бок … так вот плюнуть? Человек умер, что еще надо сделать, чтобы он жопу свою поднял? Поехал. Довольно мало народу, он думал будет больше. Хотя откуда больше-то? Небольшая толпа из университета, все знакомые лица. Гриша подошел к коллегам в темной одежде, пожимал руки, обменивался с людьми дежурными словами. Зашли в костел и расселись. Мадам была формальной католичкой, но в вере усердствовала не слишком. У скромного алтаря стоял закрытый белый гроб с цветами на крышке. На кафедре был установлен микрофон. Начались речи. Было видно, что все идет по-порядку: от семьи — муж, от коллег — современная завкафедрой Барбара Кауфман, мадам отдавала ей должное, но никогда не забывала, что Барбара лезбиянка.
Гриша хорошо помнил ее вокруг этого разговоры: «… не понимаю я ее … интересная молодая женщина, сын … видимо мужчины что-то ей сделали, нанесли какую-то травму … что-то не так. Я этого не понимаю. А вы, Грегуар?» Потом от бывших студентов … какая-то немолодая тетенька, которая приехала из другого города. Потом выступал некий друг их семьи … Все запланировано, никто, естественно, не плачет, речи где-то на пять минут каждая, заранее придуманы и даже, скорее всего, записаны. Священник спросил, не хочет ли кто-нибудь еще выступить … никто не захотел. Он и спрашивал-то для галочки. Потом падре сам сказал короткую речь: … прожила плодотворную жизнь … воспитала сотни студентов … написала … участвовала … внесла вклад … «сделала разницу» в жизни множества людей … Это были правильные слова, но их можно было применить к любому. В том что говорили выступающие не было ни грана истинной скорби, никто по-настоящему не жалел об утрате, не страдал, никому не было больно.
Потом гроб вынесли, все встали, задвигались, стали подходить с грустному молчаливому мужу и пожимать ему руку … муж каждому искусственно улыбался и благодарил … ритуал. Французские родственники не приехали, никто, из семьи мужа тоже не пришел, рядом с гробом не стояли ни внуки ни дети с опущенными головами, те, кто с трудом сдерживают слезы, не желая плакать перед чужими. Для чего жила? Для пары десятков статей и нескольких книг? Какая-такая «разница» в жизни других? Смешно. Ушла и никто особо не заметил. Ее вычеркнули сразу, когда она перестала преподавать, переделали расписание под других преподавателей и все.
Гриша не поехал ни на кладбище, ни на скромную «ресепшен». Ни к чему, все его видели, он отдал свой долг. Правильно сделал. Скромная толпа после костела еще больше поредела. На кладбище не захотел ехать не только Гриша. Сразу было видно, что перед открытой могилой будут стоять буквально несколько человек. Так мадам и была здесь у них чужой. Он ехал домой и думал об одиночестве, уже не о «мадам», а почему-то о Валере. У него в голове мелькали сцены Валериных похорон … Гадость какая. Как он вообще смел подобное представлять? Урод, он и есть урод. Он расскажет конечно Валере о похоронах мадам, но … о своих мерзких ассоциациях говорить ему не будет. Он еще не совсем спятил.
И что он сейчас об этом вспомнил? Ну как «что»? Гриша все чаще и чаще ловил себя на том, что любой, сколько-нибудьу значительный, пережитый эпизод, он инстинктивно укладывал в кладовочку. Были у него такие «кладовочки» в голове. В нужный момент он зайдет в «кладовочку» и извлечет оттуда нужный для книги эпизод. Надо? А вот … пожалуйста. «Сцена похорон мне когда-нибудь пригодится» — цинично подумал он.
В октябре Гриша поехал на конференцию в Балтимор. Сам не знал, что это на него нашло. Ездить ему давно стало лень. А тут почему-то захотелось, хотя почему «почему-то»? Гриша прекрасно знал «почему». Это было почти сразу, как он вернулся из Беркли, где Валера «защищал» свою Йоко. Защита прошла прекрасно, Йоко была слаба и бледна, но держалась, с честью ответила на все вопросы, было видно, что Валера ею гордился. Как и следовало ожидать, все сделали вид, что «все хорошо», хотя Валера ему сразу сказал, что теперь уже недолго осталось. Гриша только вздохнул. Он на прощание обнял Йоко, поздравлял ее, улыбался, хотя знал, что никогда ее больше не увидит. На банкет он не пошел, вечером улетел домой, и нагло себя самого успокаивал, что «он бы так и так Йоко больше не увидел, потому что … Валера бы с ней расстался». Да при чем тут «расстался»? Гриша просто не хотел себя расстраивать, но расстроился, может быть даже не столь из-за Йоко, сколь из-за Валеры. Друга он жалел больше девушки. Такова уж человеческая натура.
Доклад свой на конференцию в Балтимор Гриша подал просто так, посмотреть, что будет. Доклад приняли, и Гриша засобирался, ему хотелось развеяться. И была еще одна причина, о которой он не говорил даже Валере. В Балтимор ехала коллега, молодой профессор Валери Фурнье, черная девушка, работающая у них на кафедре чуть больше года. Стильная, современная девка, все при ней. Грише казалось, что он ей нравится. Здесь в городе даже и говорить не приходилось о каких-то с ней отношениях, а вот в Балтиморе … кто знает. Гриша прямо задницей чувствовал приближение «прекрасной истории любви», так они когда-то, сразу после выхода фильма говорили. Посмотрели они фильм еще студентами в середине восьмидесятых. Для остального мира он был уже старым. «Love story» они называли любую, сколько-нибудь постоянную, связь с девушкой. Он тогда ничего Валерке про Валери не сказал, хотел потом похвастаться.
И как все было хорошо, как раз так, как он и думал. Доклад, обед, беседа в ее номере, куда профессор Клибман к ней напросился «просто поболтать». Поболтали, немного выпили … конфетки, фрукты … комплименты … «вы, Валери, совершенно необычная девушка … таких как вы немного … в вас, Валери, я вижу смесь тонкого интеллекта с мощной женственностью … если вы понимаете о чем я … да, здесь в этой стране женственность перестали ценить, а я … ценю… Валери, вы очень красивая женщина, вам это часто говорили … я понимаю … но мне с вами так хорошо…» сю-сю и пи-пи во всей программе. Девушка размякла, опьянела больше, чем собиралась, а у Гриши, конечно, не было ни в одном глазу, он ее обнял, прижал к себе и так они какое-то время сидели обнявшись, откинувшись на диванные подушки. Номер у нее был хороший, с небольшой гостинной. Гриша уже подумывал двигаться к кровати … там он ее разденет, и будет жадно смотреть на ее коричневое тело с упругой кофейной кожей, розовыми пятками, черными сосками …
До кровати они добрались, девушка была мило податлива, разомлела. От нее приятно пахло хорошей косметикой. Гриша снял с нее одежду и она лежала голая, именно такая, какой ему и представлялась. Он уже собрался сам быстренько раздеться, и скользнуть к ней под одеяло, но в последнюю минуту решил сходить в ванную отлить, прополоскать рот, а заодно вытащить из кармана пиджака пару презервативов, которые он туда заранее заботливо положил, серьезно надеясь на успех. Когда он вернулся в накинутом на голое тело белом махровом халате, готовый к долгому неспешному сексу, Гриша увидел, что Валери сидит в постели в напряженной позе, что-то в ней явно изменилось.
— Грегори, я думаю, что вам сейчас нужно уйти …
Ни фига себя «уйти». Он только недавно пришел. У него еще все впереди. Дело на мази. Черт бы ее побрал. А он, главное, разделся уже … Ничего себе.
— Валери, что-то не так? Что случилось? Я что-то не так сделал? Я вас чем-то обидел?
— Нет, что вы … ничего не случилось. Просто уходите. Я не хочу, не могу.
— Почему, Валери? Что не так?
Гриша еще надеялся на чудо, хотя и видел, что девку по каким-то причинам заклинило. Такое и раньше с ним бывало, хотя и нечасто. Он молчал, уже понимая, что все бесполезно.
— Нет, нет … это неправильно. Я не должна была. Это моя вина. Вы женатый человек. Как нехорошо получилось. Простите меня.
Извиняется, идиотка … Не хотела, так и не надо было затевать. А теперь обратный ход включила, динамо прокрутила, и вот …«простите меня». А главное, из-за чего. Ей-то что …
— Валери, мы с вами взрослые люди, и свободны делать то, что мы хотим …
— Я свободна, а вы — нет … Я сама не понимаю, как это вышло. Вы мне нравитесь, но … Но вы тоже не можете …
— Позвольте мне самому это решать …
Эх, все бесполезно — думал Гриша. Дурацкая ситуация. Как это могло со мной случиться. Что б ее черт побрал, кретинку … Гриша уже ее не хотел совершенно. Он молниеносно оделся и направился к двери, с тоской думая, что ему с этой «доброй христианкой» придется теперь работать. Черт, черт … неприятно. Хотя, они оба сделают вид, что ничего не было. Наплевать, а ему будет урок … но в чем его просчет? Гриша не понимал. В номере он позвонил Валере, хотя и знал, что у того уже практически ночь. Но Валера не спал:
— Что там с тобой такое? Что ночью звонишь?
— Валер …
— Что, Валер? Говори уже …
— Валер, мне баба не дала …
— Когда?
— Только что …
— Как это не дала? Как она могла тебе не дать?
— А вот представь себе … не дала, и все …
— Почему?
— Не знаю. Хороший вопрос. Наверное я старый …
— Да, ладно тебе … такое, ведь, со всеми бывает.
— Бывает … с другими, но не с нами … а теперь вот и со мной … представляешь?
— Ну-ка, расскажи …
— Ну, она девка черная, с нашей кафедры. Все было тип-топ, то да се … она уже голая лежала, и потом вдруг испугалась: «не могу, вы женаты … мы не должны …»
— Ага, понимаю. Моралистка из черной церкви. Ждет любовь, хочет создать семью. Ясно … недоебаная, и сильно умная. Терпеть уж ей было невмоготу … ты же у нас хоть куда … но в последний момент опомнилась. Слава богу. Не переживай. Хрен с ней. Было бы хуже, если бы … дала … Возился бы потом с ней, у себя же на кафедре. Ты, что, с ума сошел. Мы с тобой еще маленьким знали «не живи, где работаешь». Я прав?
— Прав, прав. Но неприятно. Это, Валер, старость, когда ты уже бабу дожал, а она соскочила, не дала … куда это годится. У тебя, вот, так не бывает …
— Постой, Гриш. Ты сказал, это черная баба? Так?
— Ну, черная, и что?
— А то, Гринь, что ты запал на ее экзотизм. У тебя же никогда не было черных телок. Вот ты ее для коллекции и захотел. Не так? Что там ты еще в ней нашел, кроме эстетики «белого на черном»? Хотел красиво? Признайся. Я вот на азиатку запал в свое время … и ты туда же. Не переживай. Думай о чем-нибудь хорошем.
— Ладно, извини, что позвонил.
— Гринь … ты с ума сошел. Ты же мне всегда можешь звонить … перестань. И на девку эту болт положи … просто … забей.
Гриша тогда расстроился все равно, хотя после разговора с Валерой ему стало легче. Самое смешное, что Валери вскоре уволилась, поговаривали, что она выходит замуж и уезжает в Колорадо. Грише уже было совершенно все равно. Никаких комплексов вины перед Манькой он за такие вещи никогда не испытывал. Манька тут вообще была ни при чем.
Первое время, когда они с Марусей поженились, и вскоре родилась Аллка, он был жене верен. Жизнь изменилась, старые привычки отошли в прошлое, Гриша был очень занят да и с Валерой они стали видеться редко, то-есть некому было сбивать его с пути истинного. У него просто не было шанса встречаться с девушками, старые подружки в любом случае его не интересовали, да и потребности в приключениях такого рода не возникало. Слишком он уставал, обалдел от бессонных ночей. И все-таки мысль, что иметь любовниц ему теперь нельзя, нехорошо по отношению к жене, ни разу не пришла ему в голову. Гриша заранее разрешал себе левые проходы, то-есть «как только — так сразу», просто сейчас ему не до того, но если … что, то он … разумеется. Почему бы и нет? Не то, чтобы он серьезно об этом задумывался, нет. Он, как и подавляющее большинство мужчин, считал, что в браке между женщиной и мужчиной есть принципиальная разница: она — не должна, а он — может … Как так? И вот так. С Мусей он такие вещи не обсуждал, она была бы шокирована, расстроилась, забеспокоилась. Но с Валерой они когда-то поставили в этом вопросе все точки над «i».
Гриша вспомнил их рассуждения и усмехнулся: дело в том, что их принципы в этом вопросе были основаны на науке. Еще давным — давно они читали какие-то переводные книжки, ходившие в списках, о мужской и женской сексуальности, и там говорилось, что секс для женщины — это приложение к серьезным отношениям, она воспринимает физическую сторону любви эмоционально. Если этого не происходит, тогда она либо не достигает оргазма, либо она «нимфоманка», что считалось постыдным ярлыком, либо вульгарная блядина, которую нельзя принимать всерьез. Если женщина позволила завести себе любовника, — это плохой симптом. Да, как она посмела …
Зато мужчина мог иметь столько любовниц, сколько ему заблагорассудиться. Мужчина в сексе «примитивней». Это ни хорошо, ни плохо, это просто факт. Секс для него секс и ничего более, просто физическое удовольствие. В нем есть и психологический аспект, но не стоит его преувеличивать. Грубо говоря: у мужчин росли «рога», а у женщин не росли. Гриша всегда считал, что свои «левые проходы» надо держать при себе, понимал, что Муське это будет неприятно, и не надо ее заставлять страдать, но по своему глубокому убеждению, он не делал «ничего такого», потому что «тетки, девки, бабы» — это так … несерьезно, а вот Манечку свою он любил. У него была семья, любимая жена, дочка … а остальное … ну, подумаешь … баловство. Что ему «бантиком завязать»? На этот принцип замечательно легли библейские рассуждения о грехе: тот, кто прелюбодействовал в мыслях своих — уже грешен! Вот, вот … а кто не «прелюбодействовал в мыслях своих»? Что тут можно было сделать: едешь в метро — а там девки обалденные сидят, идешь по пляжу, а там такие тёлки … и каждую ты в «мыслях» имеешь по-всякому. Иногда и реально имеешь … ты же мужчина! А что было бы лучше, если бы он никого не хотел, чтобы, кроме Мани ни на кого не стояло? Таком ему следовало бы быть? Только этого не хватало. Конечно водились такие евнухоидные дяденьки, но Грише казалось, что тот день, когда он перестанет смотреть на баб, мысленно их раздевать, искать шанс поближе познакомиться и наконец … как они говорили «присунуть … вдуть … трахнуть … отодрать … выебать» — будет самым черным днем, концом мужской жизни. Лучше было об этом не думать, и пока все было «тьфу-тьфу, не сглазить».
Из пике женитьбы и рождения Аллки Гриша вышел очень бурно. Он долго помнил о давнем приключении с двумя балеринками, как они их с Валерой … напару. И все-таки ему очень хотелось попробовать двух девочек самому безо всякого Валеры. Друг не мешал, нет, но … без него у Гриши были бы другие ощущения. Кое-кто из друзей поговаривал о третьей девушке с женой … ну, пригласить подругу!? Боже, Гриша и думать не мог заговорить об таком с Маней. Нет, он на нее не злился за «непродвинутость», более того, Гриша даже и не хотел, чтобы там была его Манечка. Она — не для этого и все! Маня лежала рядом с ним в теплой байковой ночной рубашке, с большой, полной молока грудью, она спала, отвернувшись от него, смешно упираясь ему в живот круглой попой и сладко сопела во сне, невероятно усталая и родная. Сейчас ей было не до секса, да и ему собственно тоже. Рядом спала крошечная Аллка, завернутая в тугой пеленочный кокон, с розовой соской во рту. Гриша знал, что это у них просто время такое, что вообще-то Муся отнюдь не прочь заняться с ним любовью. Ему с ней было отлично, но он был только для нее, а она — только для него. Они любили друг друга, и это было … другое. «Играть» Грише хотелось, но не с Марусей. Он видел себя с двумя девушками в постели на троих, но ни одна из них его Марусей никогда не была. Это было бы трудно, сложно, рискованно — вовлечение третьей в их отношения.
Гриша и сейчас себе признавался — да, вот такая у него была мужская мечта. Эксперимент, не норма, экзотическое блюдо к празднику, он он этого хотел. Дело было вовсе не в физиологии. Гриша хотел чего-то дополнительного, наверное … ласк, ощущения своей мощи, того, что он «всем» нравится, даже и не важно, что тут только «две», древний животный инстинкт — получить как можно больше самок в свое распоряжение, вот что им наверное руководило. Да он тогда в этом не разбирался. Он будет один, самый главный, он их расшевелит, будет на пике своего мужского потенциала. Как красиво, как эта картина его заводила. Грише всегда хотелось посмотреть на ласки лесбиянок, заветная мечта. Сколько таких видео они с Валеркой пересмотрели, но в жизни ни одному из них этого увидеть не довелось. А еще это была жажда приключений, любопытство. Ну пусть сразу одновременно с двумя он быть не сможет, одна наверное будет ревновать. Конечно. Он на время полностью будет в распоряжении одной, забыв о другой. Как иначе? Но другая с жадностью будет смотреть со стороны «как» он это делает.
Летом после рождения Аллка Гриша поехал с французами в Артек. Какой-то международной форум. И вот там он снова окунулся в привычную атмосферу ночных гуляний: костер, шашлыки, выпивка, морские купания на пустом пляже, усталость от непрерывного перевода и острое желание наконец расслабиться.
Он их сразу заметил: две вожатые, сестры-близнецы. Молодые, загорелые, стройные, а главное — совершенно одинаковые. Грише это показалось безумно сексуальным. Девчонки оказались сговорчивыми, Гриша им сразу приглянулся. Ну как же: москвич-переводчик, сильный, высокий, взрослый, уверенный в себе, со спокойными пристальными глазами. Гриша, видит бог, не рассчитывал получить сразу двоих сестер, он пытался выбрать, ему даже казалось, что он запомнил, где кто. Но он продолжал ошибаться, девчонки смеялись, шутили, нарочно путали его и в результате они пошли к ним в комнату втроем. О … вот оно! Наконец-то — успел подумать Гриша, а девчонки уже его сноровисто раздевали, повалив на постель.
Получилось все как надо, но все-таки не совсем так, как Грише представлялось. Может из-за того, что девки были совсем уж одинаковые. Он представлял себе, что будет «альфа-самцом», а на деле, сестры взяли на себя всю инициативу: кто первая, кто вторая, как именно … сейчас это, а потом … то. Гриша помнил, что он был нешуточно пьян, и ему казалось, что девушек в постели у него две, но в то же время, как бы одна. Им было свойственно не только разительное физическое сходство, у них все было одинаковое: они одинаково кончали, стонали, выворачивались, меняли позы. А учитывая, что Гриша в запарке и неясном ночном свете вообще потерял ориентацию, то он уже даже и не пытался их различить. Под конец ему просто казалось, что у него двоится в глазах. Под утро он от них ушел, опустошенный, усталый, невыспавшийся, с гудящей головой, слегка ноющими яйцами, от их острых зубок у него чуть саднила покрасневшая головка. Девчонки старались. Он полежал на кровати и пошел к своим французам, с ужасом думая, что ему весь день придется работать, стараясь никому не показать, как он устал.
И все-таки Гриша был доволен, считал себя молодцом, предвкушал, как он расскажет о сестричках Валерке. Он вернулся из Гурзуфа домой и воспоминания о близнецах тревожили его мало. Не то, чтобы он совсем забыл свои ощущения, вовсе нет, наоборот Гриша отдавал себе отчет в том, что если бы жизнь столкнула его с девчонками снова, он бы конечно не отказался от такой будоражащей игры, но дома он полностью окунулся в привычную атмосферу семьи, нежно любил свою усталую Мусю, завороженно смотрел на крошечное личико дочки, выходил во двор с коляской. Все было хорошо, и чувство вины было Грише совершенно неведомо. Валере он о приключении рассказал, друг его одобрил, много шутил по этому поводу, спрашивал помнит ли он «балерин», и все сокрушался, что его там с ними не было.
Гришина портлендская жизнь неспешно текла по накатанному пути. Он ходил на работу, Маня тоже ходила, они смотрели по вечерам телевизор, обсуждали передачи и фильмы. Оба что-то читали, но разное, Гриша свои книги никогда с Маней не обсуждал, ему просто не хотелось. Аллка ждала второго ребенка и толстела не по дням, а по часам. Они все уже знали, что у нее опять будет мальчик. Какая разница? Гриша ничего не имел бы против девочки, но мальчик был ему желаннее. Еще один мужчина в семье, хорошо. Он привык быть единственным мужчиной, оберегал своих девочек, а тут … внук растет, а сейчас второй родится. Аллкин муж был приятным во всех отношениях мужиком, но считать его своим Грише было почему-то трудно, слишком уж они были разными, и дело тут было не в возрасте. Когда они с Маней приходили к Аллке в гости, Гриша редко мог до конца расслабиться. Коля сидел рядом с ним за столом и Грише казалось, что он его по каким-то причинам не одобряет. Зачем водку пьет, зачем затевает политические дискуссии, почему недостаточно занимается внуком? Впрочем когда Гриша проводил с внуком время, Коле казалось, что он оказывает на его сына не слишком хорошее влияние.
Изредка подвыпившему Грише хотелось взять гитару и попеть, его девочки подпевали, а зять никогда … то ли ему его песни не нравились, то ли он их не знал, то ли злился, что он сам не умеет ни петь, ни играть. Он вообще был парнем не музыкальным, слегка занудноватым и каким-то на Гришин вкус, слишком правильным, хорошим еврейским мальчиком, маминой гордостью. Родители зятя иммигрировали из Харькова. Гриша старался держать в узде свой московский снобизм, умом понимая, что и в Сибири, и на Урале, и в средней полосе жили и живут милые интеллигентные люди, ничем не уступающие жителям столиц, но «товарищи» с Украины ему не нравились. Слишком они были самодостаточные, хвастливые, не умеющие никого слушать, не замечающие своей неизбывной местечковости, влюбленные в новую родину, старающиеся быть американцами, не желающие помнить ни плохого ни хорошего, оставленного за спиной и воспитывающие в таком духе своих детей. С «махетунем» у Гриши с Марусей совсем не получилось. Да черт с ними. Гриша давно уже не заморачивался этим вопросом.
Он отдавал себе отчет в том, что его жизнь американского профессора, не богатого, но и не самого бедного, не занимает все его существо. Ну не мог он отдаться процессу обучения студентов, статьям и редким выступлениям на конференциях. Иногда он задумывался, ощущал бы он то же самое, если бы остался в Москве? Может этот размеренный заплыв по течению был обусловлен возрастом? Иммиграция сделала его более инертным и равнодушным к настоящему или тут было что-то еще? Трудный вопрос. В Москве у него была компания, Валерка, постоянная суета, а сейчас суета ушла, компания тоже, Валерка, слава богу, никуда не делся, но общение с ним было теперь только по телефону. В Москве Гриша почти никогда не вспоминал прошлое, наоборот он жил только настоящим, оно заполняло все его существо. Он куда-то бегал, чего-то добивался, с кем-то спорил, что-то доказывал: работа, разные проекты, родители, Маруська с Аллкой, деньги, поездки, женщины, разговоры с Валерой, а сейчас … все куда-то делось, вернее не делось, а стало почти безразличным. Минимальное общение с людьми представлялось нормой, а мысли населяют картины из прошлого, когда они с Валерой были молодыми парнями, детьми … сколько там у него в голове толпится народу, как все было интенсивно: то хаотичное броуновское движение, то векторное, когда суета вдохновляется целью …, а то, вдруг, все внезапно застывает в стоп-кадре.
И зачем он все время туда в прошлое «залезает»? Что ему там нужно? В настоящем ничего нет? Пусть он в прекрасной форме, но может это старость, когда человек живет прошлым? Гриша знал, что это не так, дело не в старости, не был он пока старым. Он просто использовал «картинки» из прошлого для книг. Оказывается они лежали до поры в его памяти, а теперь, начав писать, он их постепенно вынимал, чтобы оживить в тексте. Вот почему прошлое стало для него таким близким.
Эпизоды тридцатилетней давности казались Грише случившимися вчера, люди, с которыми он когда-то сталкивался становились персонажами, он и сам не замечал, как пережитое, увиденное, прочувствованное, стройно ложится в текст, становясь книгой. Вот оказывается, зачем он все запоминал. Иногда конкретные сцены преломлялись в Гришином сознании в вымыслы. Персонажи действовали в обстоятельствах, которые он никогда не переживал, но каждая, представленная в его воображении, фантазийная картинка всегда была «высокого разрешения», то-есть состояла из своеобразных кирпичиков-пикселей, и каждый крохотный пиксель Гришей или его близкими людьми реально переживался. Его сознание, скользя по касательной к настоящему, углублялось в прошлое, черпая из него новые тексты. Вот как он теперь жил. Кому можно было об этом осознании сказать? Только Валерке. Грише скучал без него, ему хотелось жить с другом в одном городе, но это было невозможно.
Гриша часто размышлял о своей жизни: вот она такая, а не другая. А что было бы, если … он представлял себя кем-то другим, не с этой женой, не на этой работе, не сыном этих родителей, а может он был бы женщиной … как бы он жил … она жила … Они часто с Валерой играли в свои альтернативные действительности. Написать бы об альтернативах … Опять наступил выходной и утром Гриша, не выкинув из головы свои ночные идеи, поделился ими с Марусей:
— Маруська, вот ты по специальности учительница французского языка, а если бы ты не стала учительницей, кем бы ты хотела быть? Кем ты себя еще видишь?
— Гриш, что за дурацкий вопрос!
— Почему дурацкий? Мама тебе предложила эту специальность, но кем ты еще бы могла быть?
— Не знаю. Я никогда об этом не думала.
— Ну, не думала, так подумай!
— Гриш, мне кажется, я на своем месте …
— А тебе никогда не хотелось быть, ну … не знаю … разведчицей … хирургом …
— Нет. Когда я была совсем маленькая мне хотелось быть балериной. Я книгу читала о Галине Улановой … Гриш, может к Аллке съездим?
— При чем тут Аллка? Что ты все, о чем бы мы с тобой не говорили, переводишь на Аллку?
— Потому что у нас есть дочь, внук, скоро второй будет. Я по ним соскучилась. А ты хочешь, чтобы я о разных глупостях думала. Зачем? Мы что, можем сейчас стать кем-то еще? Что за пустой разговор?
— Ладно, Мань, ты — права.
Гриша так и знал. У Мани — практический ум, ей неинтересно уноситься в эмпиреи. Она просто не умеет поддержать такой разговор. Так что проку ей рассказывать, давать читать свои тексты. Гриша был уверен, что, дай он Мане свою книгу, он бы только поставил ее в неудобное положение. Бедная Маруся и хвалить бы не очень хотела, и критиковать ей было бы неприятно. Кроме того, он был совершенно уверен, что Маня вычитывала бы в его тексте «про себя», персонажи казались бы ей узнаваемыми, все коллизии она принимала бы на свой счет. Могла бы Муся понять, почему его вообще тянет писать? У нее же не было такой потребности. Он ничего не публикует, литературой не зарабатывает, а значит … теряет время. Вот, оказывается, почему он так много времени проводит за компьютером, вот почему не может ночами заснуть. Это глупо, глупо … Лучше бы больше времени проводил с семьей.
Впрочем, может Маруся вовсе ничего этого не подумала бы? А может дать ей что-нибудь? Вдруг ей понравится? Но Грише что-то мешало это сделать. Что-то серьезное, что он не мог по-настоящему себе сформулировать. Ни к чему, и все. У него в конце концов есть Валерка. Друг так многого в жизни достиг, был по-настоящему талантлив, но литература это было единственное, в чем Гриша его скорее всего превосходил, Валерка это признавал, и разумеется нисколько ему не завидуя, отдавал Грише должное, гордился им и горестно сокрушался, что романы не публикуются. Он искренне считал их достойными быть изданными, много раз предлагал Грише поместить тексты на интернете, но тот решительно отказывался.
К Аллке они все-таки пошли и Грише удалось совершенно расслабиться. У него это выражалось в том, что он брал гитару, быстренько ее подстраивал и пел свои старые любимые песни, ловя себя на том, что снова возвращается в прошлое. Они поют с Валерой, звучат две гитары и их голоса накладываются друг на друга так, что кажется, что поет один человек.
Вообще-то ничего странного, что друзья умели играть и петь не было. Все-таки они оба закончили престижную по тем временам музыкальную школу им. Дунаевского в Чапаевском переулке, куда они сами ходили пешком. Валера учился там на класс старше Гриши, у них были разные учителя по фортепиано, но всю программу от начала до конца им обоим пришлось пройти, а тогда в детских музыкальных школах не шутили.
Естественно, когда друзья попадали в компанию, где был инструмент, они сразу становились душой любого общества, хотя пианино было одно, а их было двое. Впрочем, играли они разное: Гриша мог подолгу сидеть, наигрывая в разных стилях одну и ту же мелодию, делая музыку ненавязчивым фоном. Он умел забываться в своих импровизациях и был равнодушен к тому, слушают его или нет. Если люди настаивали, чтобы он сыграл что-то конкретное, а ему не хотелось, он просто вставал и уходил, не любил, чтобы из него делали тапёра. Валера, напротив, всегда следил за публикой. Он пел модные песни, сам себе аккомпанируя. Ребята ему подпевали, он направлял хор и высокая Валерина фигура за роялем становилась центром внимания. У Гриши иногда возникало подозрение, что их приглашали, чтобы они «выступали». Довольно скоро, научившись играть на гитаре, они перестали зависеть от наличия пианино в доме, приносили свои гитары в чехлах, прекрасно сознавая, насколько желанными гостями они были.
Играть научился сначала Гриша у себя во дворе, а потом уж и Валера. Произошло это лет в тринадцать, может даже чуть раньше. Они и петь пробовали, хотя на публике стеснялись показывать свои ломкие голоса. Да и какая у них тогда была публика. Играли в беседке перед Гришиным домом, а зимой иногда в подъезде, и на чердаке, пока его прочно не закрыли. Гармонию подобрать для них не представлялось слишком сложным, они просто наработали навык, приучили пальцы безо всякого напряга брать аккорды с баррэ, научились разным переборам и бою. Играли с медиатором, что одно время сами считали особым шиком, а если знали, что играть придется долго, не брезговали и каподастром, жалея пальцы. Когда только начали учиться, Гриша пристал к маме, чтобы она ему наняла учителя. Мама не хотела, но потом сдалась. Гриша весь ушел в способы звукоизвлечения, докучал Валере разными «апояндо, тирандо и расгеадо». Его педагог преподавал классическую гитару, и заставлял Гришу играть гаммы, арпеджио и арпержиато, добиваясь особых глиссандо и вибрато. Валера ничего этого не делал, и вскоре убедил Гришу, что все его «арпеджио» — это просто разные переборы. Гриша брать частные уроки перестал. Никто его правда и не уговаривал продолжать заниматься. Родители не считали гитару серьезным инструментом. Странным образом они с Валерой не особенно любили играть в школе. Пару раз выступили, а потом отказывались, не удосуживаясь объяснить почему «ну их, нафиг … а то совсем на голову сядут …»
Для ребят началась целая гитарная эпоха, от импровизированных концертов в кружке друзей, до игры в ансамблях студенческих лагерей. Валера даже одно время носился с идеей заработать гитарой немного денег, но после двух или трех раз довольно унизительных счетов с теми, кто их приглашал, коммерческая деятельность заглохла.
Для каждого случая ребята пели свою программу: самодеятельные песни на умные стихи, которые аудитория жадно впитывала. Иногда они пели только Высоцкого, или только Окуджаву. Гриша с Валерой пели иммигрантские романсы и чувствовали себя белогвардейцами, исполняли блатняк и выдавали «чуйство». У них был даже чисто военный репертуар, ретро-программы из Лещенко и Козинцева. Делать из программы мешанину они не любили, на просьбы «спеть» это или то не велись, особенно, когда пели вдвоем. Если иногда ребята оказывались друг без друга, они шли на уступки той или иной девушке, но такая уступка была уже из другой оперы. Там все песни посвящались именно ей, остальные были не в счет.
Гриша скучал по гитарным временам: какие они с Валерой были музыкальные, обладающие приятными низкими голосами с хрипотцой, оба артистичные, знающие себе цену. Один начинал из Высоцкого: «по выжженной равнине … за метром метр…» и другой подхватывал «… идут по Украине солдаты группы Центр…» и четко, громко, маршево, как бы чеканя шаг, они продолжали, наращивая эффект: «…и каждый второй, тоже герой … в рай попадет вслед за тобой…» и тихонько, едва слышно, заканчивали «…первый-второй, первый-второй, первый-второй». Иногда ребята раскладывались на несложное двухголосье, в терцию, незатейливое, но хорошо звучавшее. Программа шла по накатанному пути, оба прекрасно знали, какая будет следующая песня, чтобы напряжение и интерес публики не снижались. Грише с Валерой достаточно было просто взглянуть друг на друга, чуть кивнуть, взять дыхание … и все: знаки, незаметные непосвященным, людям далеком от дуэтов, вели их дальше.
Вот они начинают что-то щемящее, про любовь, никто не знает, чьи это стихи, и некоторым кажется, что это они сами их написали: «… проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи … проходит явь, проходит сон …» — почти речитатив, один начинает, его сменяет другой. И сразу … горячечно, как в забытьи, в бреду … задыхаясь «…я люблю, я люблю, я люблю … не проходит любовь у меня…» И непонятно кто это должен петь, он или она? Почему «твои пальцы браслет теребят … а потом … руки сильные, брови вразлет … молод, но это пройдет»? Про кого они поют? Неважно. Возникает только картинка «… белый парус вдалеке …» И концовка … еле слышно: «… не уходи, не уходи». Казалось, что они про свою любовь поют.
Парни стали настоящими мастерами. Даже, когда они пели тягучий припев блатного «по тундре, по железной дороге … где курсирует поезд „Воркута-Ленинград“», окружающим виделись бывшие военнопленные гитлеровских лагерей, снова попавшие в лагерь и бежавшие оттуда, в надежде погибнуть свободными … Гриша с Валерой так выпевают «озверелый чекист», что к чекисту возникает моментальная ненависть. Салонно-пошловатую «Веселья час, и боль разлуки» ребята компенсировали мелодичностью, все начинали подпевать, а потом снова наливали и снова пели. Были у них казачьи песни, озорные украинские. Гриша с Валерой еще и подсвистывали, заводя публику. Странно было, что в следующий раз под другое настроение, они начинали петь по-французски, по-английски, и даже по-итальянски. Просто у них получалось, они любили петь и вкладывали в песни душу.
Сейчас в иммиграции Гриша с Валерой пели все реже и реже, но когда им удавалось полностью расслабиться, погрузиться в свою музыку, крепко зажать цепкими тренированными пальцами лады, они испытывали давно забытое счастье, достигали полного единения многолетней дружбы.
Гриша ежедневно ездил на машине на работу и с работы, каждый раз обещая себе включить в машине музыку. Можно было бы слушать классическую станцию по радио или любимые пластинки. Но однако, Гриша ни разу не сдержал данного себе обещания. Не включал ничего и ехал молча, одновременно ругая себя за потерю времени и дорожа возможностью предаваться своим мыслям, когда никто не мешает. Стремление перестать думать преследовало Гришу, ему вовсе не нравилось, что в машине он думает только о сюжетах. Ни о предстоящих занятиях, ни о семье, ни о сиюминутных событиях … только о новом романе. Это было наваждением, неприличной обсессией, в которой стыдно признаться. Музыка может его и отвлекла бы, но тут он давал себе поблажку, потому что за рулем и ночью ему лучше всего думалось, а поскольку это происходило помимо его воли и не поддавалось контролю, Гриша почти не сопротивлялся. Идея новой книги только еще начинала брезжить в его мозгу, принимая все более четкие очертания.
В последнее время Грише ничего не хотелось делать. Творческая апатия, лень, безразличие. Хотя ему достаточно было бы просто открыть какой-нибудь из начатых файлов с текстами, и продолжать развивать намеченный сюжет, который ждал разработки, но в том-то и проблема, что делать этого не хотелось. Интерес к своим идеям, еще недавно казавшимися сверхценными, у него практически пропал. Гриша долго не мог заснуть, часами ворочался в постели, но мысли, приходившие ему в голову, даже и мыслями нельзя было назвать. В голове вертелись чужие сюжеты из сотен прочитанных книг. Они, как мусор, хаотично возникали в его мозгу: отрывки, эпизоды, кульминационные пункты, концовки … получалось, что из тысяч разных книг, он ничего толком не запомнил. И зачем он их только читал? Вот спросил бы его кто-нибудь «ты это или то читал?», и Гриша ответил бы «читал», ну и про что там? Про что он может и помнил, но детали, а часто и суть, ускользали.
В голову приходили одни только, основанные на знание языков и детской книжности, глупости: вот читал он Мериме «Матео Фальконе» … а по-русски новелла называлась бы «Матвей Соколов», надо же … Что «надо же»? Дальше что? Гриша злился на себя. Он привык, что ворочаясь с боку на бок около спящей Мани, он обдумывает новую книгу, но какая там книга? Вообще ни одной путной мысли. Гриша просто не спал, уставая, мучаясь, скучая в темноте. Да, вот так … он отвратительно спит. И что? А то … это факт. Не может иногда заснуть до трех-четырех часов утра.
Так, так, так … вот, вот, вот … Измучился и пошел к врачу попросить какое-нибудь снотворное. Врач после дурацких советов насчет «гулять перед сном, не смотреть телевизор и пить чай с медом» выписывает ему снотворное нового поколения, которое широко рекламируется. Он начинает его принимать, бессонница отступает, он спит, не просыпаясь, как в ранней юности. Все бы хорошо, но у лекарства есть побочное действие, которое не сразу становится явным. Засыпая он начинает видеть сны, слишком похожие на явь, но это реальность другого человека.
И тут, вереницы известных сюжетов станут почвой для мучительных грез, фоном новых болезненных реальностей. Герой во сне вынужден проживать чужую жизнь, полную разных событий. Невозможность проснуться, прервать поток этих событий, несет его в водоворот безжалостной судьбы, и ничего нельзя изменить. Просыпаясь утром, он целый день живет во власти страшных и кажущихся реальными ночных переживаний, каждый вечер надеясь, что чужая жизнь ему не приснится, но она снится снова и снова, иногда по нескольку суток кряду, внезапно прерываясь «на самом интересном месте».
На следующую ночь у него начинается другая ночная жизнь, безжалостная, иногда трагичная, редко легкая, а главное невероятно чужая, неприятная. Он начинает бояться приближения ночи, не хочет погружаться ни в какие приключения, где он, другой, вовсе не Гриша Клибман, главное действующее лицо. Он перестает принимать снотворное, которое считает виновником происходящего, но это уже не помогает. Кстати, а кто это «он» нового романа? Он, Гриша? Нет, не надо, чтобы там угадывался он сам. Ни к чему. Хотя какого бы он не изобразил мужчину, в нем вычитают так или иначе автора. На фига это надо? Может сделать не героя, а героиню. Гриша был уже во власти нового проекта. Быстрее бы начать писать. Пусть первая серия снов будет о шпионаже: он … или она — специальный агент. «Про шпионов» всегда интересно.
Пусть будет некий «Штирлиц». Надо влезть в эту шкуру, испытать эмоции того, кто носит вечную маску, прикидывается своим, а сам везде «не свой», даже для себя самого, то-есть и сам не знает, кто он на самом деле. Наверное надо в снах чередовать: то он, то она … так даже еще интереснее. Ложишься спать и не знаешь, кем обернешься в альтернативной реальности, в качестве кого выйдешь на сцену, какими будут декорации, но проблема в том, что это так или иначе — крест, он напишет роман-триллер. Вот как надо сделать. Гриша уже не мог ни о чем другом думать.
Серия первая — КГБ, вербовка агента, внедрение его в еврейские отказнические круги, место действия — крыльцо и вестибюль московской хоральной синагоги … большая коммунальная квартира в центре … героиня — фальшивая активистка. А что? Пусть он будет «она». Время действия — конец семидесятых, начало восьмидесятых — апогей маразма, антисемитизма, о перестройке никто не помышляет. Сидячие забастовки, иностранные журналисты, прессование и запугивание знакомых и она … живущая жизнью еврейки-отказницы, одного из лидеров правозащитного движения и вместе с тем … она внедренный в эту среду агент: наблюдения, отчеты, встречи с сотрудниками на оперативной квартире. Моральный мессадж? Легко ли торговать принципами? Легко. Потому что их просто нет. Циничная аморальная эпоха породила таких людей. Ни перед кем не стыдно.
Гриша все больше заражался своей идеей. Тем более, что такую девку он в свое время знал и очень даже хорошо. Стучала она или нет? Это вопрос. Неизвестно. Но теперь Грише было приятно думать, что «стучала», потому что расстались они не слишком хорошо, Грише эта баба стала резко несимпатична, и сделать из нее стукачку-сексотку ему даже захотелось. Эта сволочь вполне могла …
Только надо за собой следить. Иногда картинки в его мозгу складываются в сценарий, а не в роман. Ни к чему, чтобы в голове скользила камера: крыльцо и вестибюль синагоги, приемная Верховного Совета … квартира … Зря он так за это берётся. Зря. Ну, что он с собой мог поделать: всё сначала виделось сменяющимися картинками, в картинки вкладывались лица и фигуры, потом людям в кадре придумывался характер и судьба. Надо наоборот наверное … Надо, надо … он просто не умеет писать. Мастер нашелся. А первой героине он уже придумал имя и остановить письмо было теперь невозможно:
Люба часто вспоминала, как ее, подумывающую об увольнении по «собственному желанию» из радиотехнического техникума, где она преподавала историю партии, — «а что, Исаия уволили, не дай бог до меня очередь дойдет …» —, ни с того ни с сего вызвали в КГБ. Хотя … вовсе это было не «ни с того, ни с сего», конечно это было из-за Исаия, который подал на выезд в Израиль. У них была любовь, может он бы даже на ней женился, но слишком боялся, как бы Люба с маленькой дочерью не стала для него препятствием к отъезду. Уехать было для Исая важнее, чем она. Что уж тут говорить. Ну, пошла она: пятница, два часа дня … третий подъезд. Люба показала дежурному в форме паспорт, никакой повестки у нее на руках не было. Ей позвонили и вежливый мужчина, представившийся Андреем Ивановичем, просто пригласил ее на беседу. Как будто она могла отказаться. Пошла … в кабинете ее ждал молодой ухоженный мужчина. Ну да, таким она себе его и представляла:
— Рад, что вы нашли время со мной повидаться, Люба … можно вас так называть? Без церемоний … Люба кивнула, и почувствовала, что ей даже ему ответить трудно. Во рту пересохло. Меня зовут Андрей Иванович … фамилия моя вам ничего не скажет …
— Да, да, конечно. Я тоже рада с вами познакомиться. Вот зачем она это сказала? Ни хрена она не рада …
— Люба, нам известно, что вы плотно общаетесь с Исаем Горячевым. Так, ведь?
— Так. Ну и что?
— Ничего. Я просто уточняю. Исай Горячев подал на выезд из СССР в Израиль для воссоединения с семьей. Так?
— Так. У него там брат.
— Нет, Люба, у него там никакого брата нет, и вы это прекрасно знаете. Как и многим другим евреям Исаю прислано подложное приглашение.
— Ну и что? Зачем мы об этом говорим? Все знают, что уехать из страны можно только для воссоединения с семьей. Антисемитизма у нас нет, это просто клеветнические измышления западной пропаганды. Люба вдруг осмелела.
— Хорошо, Люба. Вам неприятно говорить о подлоге, не надо. Но вас, лично как еврейку, когда-нибудь притесняли? Лично вы испытали на себе пресловутый антисемитизм? Вы красивая молодая женщина, закончили институт, работали. Никто вас с работы не выгоняет, вы сами думаете об увольнении, обсуждали это с подругами … Так?
Боже, откуда он знает, что она обсуждала с подругами? Ничего себе: подруги называется … какая-то падла настучала. Понять бы кто? И еще Любу раздражало его бесконечное «так». Обсуждать с гладким парнем антисемитизм ей тоже не хотелось. Понимал бы он чего … Ее не выгнали с работы, а Исая выгнали … в тюрьму не посадили, но … из техникума быстренько выперли. Он, что, этого не знает?
— Исаия же выгнали… не успел он подать … сразу вышвырнули вон …
— Ну, это-то как раз нормально. Разве государство может доверить воспитание подрастающего поколения человеку с совершенно чуждой нашему строю идеологией? Разве администрация техникума могла быть застрахована, что он не будет в своих лекциях порочить советский образ жизни? Исай по-моему устроился на работу. Так?
— Так. Он работает истопником в котельной, а преподавал физику … куда там ему идеологию было вставлять, в физику-то? А сейчас он на своем месте? Так? Любу уже несло …
— Люба, не будем спорить. Мы к вам давно присматриваемся. Вы человек выдержанный, умеете себя вести, много раньше занимались комсомольской работой, избрали своей профессией Историю Партии. Вы убежденный советский человек, на которого, как нам кажется, можно положиться. Так? Вам не безразличны судьбы Родины, не безразличен ее имидж на Западе …
Он считает ее «советским человеком»? Любе было смешно его слушать. Только за прошлый 79 год из СССР выехали почти 150 тысяч человек. В 75 году было подписано Хельсинское соглашение о Правах человека, на будущий год Москва ждала Олимпиаду … с евреями никто не хотел связываться, но с другой стороны …надо было и любимым арабам угодить. Сложное было положение у Андреев Ивановичей … евреев следовало давить, но по-тихому, только особенно ретивых. Люба молчала, никак не отреагировав на «советского человека».
— В создавшихся условиях мы бы хотели рассчитывать на вашу помощь. Вы, ведь, благодаря близкому знакомству с Исаем, прекрасно знакомы с теми, кто подал на выезд. Вам известно кто именно вовсе не планирует ехать в Израиль, а собирается иммигрировать в Америку. Многим из этих людей в выездной визе по разным причинам отказано. Вот о них, об их планах, о том, как иммигранты устроились в Америке и Израиле, вы бы нам сообщали … это совсем нетрудно … Где-то раз в месяц мы бы с вами встречались в непринужденной обстановке.
Андрей Иванович закончил свою тираду и ждал ответа. Люба молчала. На черта ей это надо? Что за радость иметь какие-то перед конторой обязательства? Она решила попробовать отказаться, хотя пока не понимала, что ее отказ за собой повлечет.
— Нет, Андрей Иванович. Я вынуждена вас разочаровать. Как вам известно, я — мать-одиночка. Мне некому помочь. Исай уедет, и я вряд ли сохраню знакомство с его друзьями. Я же никуда не собираюсь уезжать …
— Понятно, Люба. Можете не продолжать. Я был готов к такому ответу. Но выслушайте меня, и может быть вы свое решение измените. Исай никуда пока не поедет, ему не дадут выездной визы. Он будет с вами. Думаю, вас это наше решение обрадует. Мы знаем, как вам бы не хотелось его терять, а с собой он вас не позвал. Вот так мы и сделаем. Нам нужно, чтобы он был здесь. Мы устроим так, чтобы вас перевели из младшего преподавателя в старшие, соответственно вы будете получать гораздо большие деньги. Никакой необходимости искать новую работу у вас нет. Вам же надо ребенка кормить. Ну, что еще? Я могу устроить вашу дочку в дипломатический детский сад на Бронной, ей там понравится, уверяю вас. Если мы зачислим вас внештатным сотрудником вы будете получать неплохую зарплату, вам же деньги нелишние? Так? И потом … вы вот сказали, что уезжать не собираетесь … боитесь? Так? Не бойтесь. Через какое-то время вы с дочерью подадите на отъезд, вашу просьбу удовлетворят, там, куда бы вы ни выбрали ехать, за вами «присмотрят», помогут с работой и ваша жизнь в иммиграции прекрасно устроится. Вы не пожалеете. Нас с вами может ждать долгое и плодотворное сотрудничество. Что вы на это скажете?
Андрей Иванович, расписывая ей выгоды западного образа жизни, и думать забыл о «чести советского человека», который никогда Родину не продаст. «Какой же он циничный урод» — думала Люба. «Нет, не дождется. Им палец дай, они руку откусят. Хотя … вообще-то он дело говорил».
— Нет, извините меня. Но мне кажется, что мне такая работа не по плечу. Я просто не смогу. Слишком это большая ответственность.
— Люба, позвольте нам самим судить, что можно поручить человеку, а что — нет. Андрей Иванович внезапно посуровел и тон его стал жестким. Я вас не тороплю. Подумайте, я сам вам позвоню. Однако, когда вы будете размышлять, я прошу вас принять во внимание, что мы знаем о вас больше, чем другие … Считается, что отцом вашей дочери является художник Немеровкий, за которым вы были замужем, но это не так … ее отец — английский журналист Доркин, работающий в сионистской газете. Он и сейчас продолжает клеветать на нашу страну и нам ничего не составит доказать, что вы с ним общаетесь, поставляя ему заведомо клеветническую информацию, которая может быть использована в его грязной газетенке. У нас есть распечатка ваших звонков с Центрального телеграфа в Лондон. Он сам вам звонил три раза за последний месяц. А это 58 статья, ее никто не отменял. Я сотрудник 5-го управления КГБ СССР по работе с идеологическими диверсиями противника. Вам понятно, о чем я говорю … Вы умная девушка, и я уверен, что вы серьезно отнесетесь к моим словам. Так?
Люба хотела ему сказать, что она действительно общалась с Наумом Доркиным, но их давно не связывали никакие отношения, что дочь даже и не знала своего отца, что никаких сведений она Науму и не думала передавать, но … осеклась на полуслове, решив ничего не говорить … какой смысл-то? Она просто обещала подумать. Андрей Иванович позвонил дней через десять. К тому времени Люба все обдумала и согласилась с ним встретиться. Не советуясь ни с единым человеком, она решила сказать чекисту «да».
Будучи человеком трезвым, Люба не имела никаких иллюзий по-поводу могущества конторы. Они хотели ее использовать, и для достижения своей цели, были готовы на многое. Исай собирался уезжать, ни разу не предложив ей ехать вместе, не пообещав ни вызова, ни поддержки. Он четко решил ее кинуть вместе с ребенком. Они вместе работали, он с ней жил, заботился как мог, но в его дальнейшие планы Люба не вписывалась. Чем она ему обязана? Ничем. Он же не считает, что он что-то должен ей. «Да не поедешь ты никуда … охолонись, родной», — думала про него Люба, с удивлением ощущая в себе мстительное чувство. Она знала что-то такое, чего всезнайка Исай не знал, даже не мог предположить. Еще Люба понимала, что несмотря на своей статус уверенной в себе, волевой, свободной красивой, женщины, у нее на самом деле никого не было: мать жила своей жизнью в Житомире, никак ей помочь не могла и не хотела. Подруги смотрели на нее снизу вверх и скорее всего вообще не считали, что такой женщине, как она, может понадобиться помощь. Это Люба им помогала, наоборот было бы странно. Мужчины? Что-то ей с ними не везло. Из многочисленных кавалеров никто не захотел взять на себя ответственность за ее благополучие.
В таких обстоятельствах надо было самой о себе позаботиться. Сейчас ей давали такой шанс. Небольшие этические сомнения Любу посетили, но быстро рассеялись: в этой толпе отъезжающих евреев каждый был только за себя. Андрей Иванович, кстати, дал ей понять, не называя естественно имен, что в их отказнической теплой компашке, изучающей иврит, читающей письма оттуда и получающей благотворительные посылки из-за бугра, были агенты, как он говорил «сотрудники». А она что, рыжая? Он ей предложил деньги, услуги, будущее в конце концов. Он ей все по-честному сказал, без розовых соплей. Жизнь сурова.
А еще Люба выросла в Житомире, прошлась по рукам рослых улыбчивых одноклассников, закончила исторический факультет московского педагогического, выбрав Историю КПСС, потому что ей так было удобнее искать работу не в школе. Роман с англичанином Наумом Доркиным оказался пустышкой. Что-то он ей про своих ортодоксальных родителей лепетал … впрочем деньги он им иногда через нарочных посылал, хотя к себе не звал. КПСС, комсомольская работа, стройотряды, агитбригады … все это было выгодно. Люба ни во что не верила, ничем не увлекалась, не имела серьезных принципов, считала, что люди к ней недобры, а ей, чтобы выжить, просто надо не делать ошибок и быть хитрее. Она все обдумала и согласилась. Получалось, что Андрей Иванович все правильно рассчитал. Что ж … у этого конкретного майора госбезопасности был опыт оперативной работы. Принципами вербовки он владел хорошо. Впрочем Люба и не была твердым орешком. С ней у майора все прошло, как по маслу.
Они встречались на оперативной квартире, которая выглядела вполне уютно. В холодильнике лежали дефицитные продукты, бутылка вина. Они ужинали и Люба отвечала на вопросы Андрея Ивановича. Иногда она затруднялась с ответом, он не настаивал. В других случаях Люба сообщала ему интересные подробности о деятелях еврейского правозащитного движения, которые находились в разработке. Люба получила абсолютно все, что ей обещали, и даже сверх того. Контора умела держать свои обещания.
Для Любы Андрей Иванович был приятным, обаятельным мужиком, не без светского лоска, то, что называлось джентльмен, хотя она прекрасно понимала, что это его способ ею манипулировать, и если она бы стала себя вести по-другому, все бы его обаяние враз слетало, и он стал бы жестким и недобрым. Иногда ей казалось, что они друг другу нравятся не в рамках официальных отношений, но ни тот ни другая не могли и не хотели это взаимное притяжение реализовывать. Для нее это был бы скорее неосторожный поступок, а для него, видимо, не было оперативной необходимости с ней так сближаться. Люба не сомневалась, что если бы необходимость была, он бы не колебался, сочетая «приятное с полезным». Один раз она у него об этом даже напрямую спросила, и он не чинясь ответил, что «да, такое в порядке исключения, разрешается». Люба помнила, что даже тогда пожалела, что не было у него никакого «исключения».
Акция сидячей забастовки была назначена на конец октября. Дату несколько раз по разным причинам переносили, но вот этот вечер наступил … Люба вошла в огромную квартиру в Козицком переулке, где живет Сима Козинец. Это сугубо женское мероприятие. В Симину комнату набивается человек сорок женщин разных возрастов. Люба всех их знает. В комнате делается шумно и весело, но это нехорошее веселье, какое-то истерическое, нервное. Соседи видели, как собиралась их компания, но пока никто ничего им не говорил. Их предупредили, что перед акцией надо поесть, потому что когда придется есть снова никто не знал. Пить было нельзя, так как пользование туалетом отпадало. Это тоже было всем известно. Наконец вся их толпа вывалилась в общий, слабо освещенный коридор, и женщины как попало уселись на пол вдоль стен. Посередине квартиры коридор образовывал подобие зала, неправильной формы, куда выходили двери пяти квартир, а потом коридор сужался в обе стороны: к кухне, куда открывались двери трех комнат и в темный закуток, где жили еще две семьи. В большом холле видел общественный телефон. Соседи ходили по коридору на кухню, в туалет, подходили к телефону. Они просто не могли все время оставаться в своих комнатах. Сидящие по коридорным стенам незнакомые женщины им мешали, создавали помеху в движении, а главное невиданно раздражали: зачем тут сидели эти чужие тетки, что им было нужно, почему они приперлись в их квартиру и уселись по стенам, как у себя дома? Им что делать было нечего? Их дома никто не ждал? Что это за наказание такое? Что Симка устраивает? А самое главное, тут вроде одни еврейки? Ну, что за народ такой? Что они вечно лезут, эти жиды? Высовываются? Чего им не хватает?
Люба и остальные знали, что сначала их будут просить освободить проход, что делано вежливый тон скоро сменится визгливыми оскорблениями, на которые никто не станет реагировать, а потом уполномоченный по квартире позвонит в ближайшее отделение милиции и приедет наряд … Тут возможны два сценария: их могут сразу забрать, но это вряд ли. Дежурный наряд приедет на машине, а чтобы забрать всю их толпу нужен будет автобус и много сотрудников. Пока то да се … Скорее всего, разобравшись в ситуации, милиционеры позвонят в районную контору ГБ, приедут вежливые сотрудники из 5-го управления, которые станут их сначала увещевать, а потом угрожать сроками. Тут как раз все и дело было во времени, то-есть насколько долго ситуация будет развиваться. Иностранные корреспонденты предупреждены. Надо, чтобы они пришли раньше милиции, успели все сфотографировать — советские отказницы проводят сидячую забастовку и требуют от властей немедленно выпустить их в Израиль … Они передадут журналистам официальную петицию, копию петиции следует передать в КГБ. Вот и весь сценарий. Иногда, чтобы сценарий начал развиваться, приходилось сидеть часами, в другие разы все развивалось очень быстро. Две-три тетки забирали в контору, они, известные диссидентки, считали свои приводы и аресты, остальных отпустят под подписку о невыезде. Люба знала, что она будет среди тех, кого заберут. Она сделает все, чтобы так и случилось.
Пока они продолжали сидеть на полу, соседи попрятались по своим углам, иногда Люба слышала, как двери комнат хлопали. Люди заходили друг к другу обсудить дикую ситуацию. Вот бабка Матрена вышла в коридор и громко ворча «… расселись тут … ироды … Симка, прогони девок своих … ишь ты …», прошла в уборную. Скоро начнется … Люба смотрела на соседок. Вот напротив сама Сима, странная одинокая женщина, бедная билетерша из театра Станиславского. У нее в Израиле брат, но по каким-то причинам ей в выезде отказали. Никто не понимает почему. «А потому что ее брат не просто обычный израильский гражданин, он … сотрудник израильской спецслужбы, но Сима об этом и не подозревает» — лениво думает Люба.
Рядом с ней две тетки, активные члены движения, обе ходят на подпольные курсы иврита, а сами даже и не еврейки, врут, что еврейки, просто хотят уехать по подложному вызову. Ни в какой Израиль они бы не поехали, поехали бы в Америку. Хрен их пустят … больно хитрые. Вон сидит Дора, ее муж Изя связан со специальным отделом израильской спецслужбы, через которую и идут письма-вызовы. Их не выпустят, об этом отделе Конторе надо узнать как можно больше. Дора с Изей знают, что их не выпустят, но хотят в движении засветиться, чтобы в дальнейшем изобразить из себя героев, борцов с режимом.
В дальше сидит наивная Наташка, растрепанная, готовая из кожи вон вылезти ради «дела». В таких ума не особенно много, но они ощущают себя Че Геварой. Просто жить им неинтересно, для таких жизнь — это борьба с режимом, неважно с каким. «Вот, дура … — думает Люба, ни семьи, ни детей, ни даже просто мужика … до старости будет бороться с ветряными мельницами». Галя Мильштейн громко разговаривает, не замечая, что ей никто не отвечает. «Совсем глупая баба. У нее же ребенок и мужа нет. Орет громче всех. И так денег у нее нет. Милостями Сохнута кормится. А туда же …» — Люба органически не могла понять чужую идейность. Верят в светлое еврейское будущее? Это прямо «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» …еврейские пролетарии … смешно.
В этой сплоченной солидарной толпе евреек, полной энтузиазма и решимости, есть внедренные агентки, как и она сама. Некоторых Люба подозревает, почти уверена, что они постукивают, но обсуждать других агентов с Андреем Ивановичем она не будет. Это лишнее. Тетки сидят как попало, большинство в брюках, но не все. Из-под задравшихся юбок видны штаны. Сидят уже больше часу, начинают ерзать, часто менять позу, тело у всех устало. Симкины соседи изредка проходят мимо на кухню, возвращаются с чайником или сковородкой. Кое-кто старается проскользнуть мимо евреек, стараясь их не замечать, другие, в основном старухи, наоборот, ворчат или громко возмущаются. В милицию пока никто не звонил. Странно.
Звонок во входную дверь. Шурка Маневич, которую уже два года не пускают к сыновьям в Америку, открывает. А что, кстати, Шурка удивляется? Забыла, что во время войны работала на перлюстрации писем с фронта в военной цензуре? Тогда она считала себя крутой, получала на престижной и нужной работе в «органах», особые карточки, а сейчас … забыла обо всем, в Америку хочет? А «органы» ничего не забывают. Да, ладно. Выпустят ее, тем более, что Шуркин старший сын до сих пор агент, живет на Брайтоне и старается быть полезным. Его долго не выпускали, а потом вдруг выпустили. Чем, интересно, было обусловлено такое «вдруг»? Шурка не хочет об этом думать. Была коммунистка, а стала правоверная еврейка, иврит учила. На черта ей иврит, если она в Израиль не собирается. Выпустят-то ее — выпустят, но пока пусть посидит, слишком у нее много связей в этих кругах.
Люба всех знала, как облупленных, но никому не сочувствовала, не чувствуя себя своей среди евреев-отказников. А где она была «своя»? Нигде. Наплевать. Надо играть за себя и выживать. Простое правило.
Дверь открылась, вошли двое англичан из Дейли Миррор. Люба их знала и сама пригласила. Быстренько взяли петицию, сфотографировали ее передачу. Сделали еще несколько фотографий сидящих на полу женщин, записали имена, в том числе и Любино. Пусть ее упомянут, так надо для дела. Она видный представитель движения, ей доверяют, через нее происходят связи с иностранной прессой. Пять минут и все дела. Корреспонденты уезжают, можно считать, что акция удалась. Теперь пусть соседи звонят, куда хотят.
Как только закрылась дверь за журналистами, дядя Егор, муж Матрены Ивановны решительно вышел к телефону. Люба лично знала всех Симиных соседей и была на сто процентов уверена, что кто-то из них был осведомителем по этой «нехорошей» квартире. Скорее всего вот этот дед Егор. Кем он там раньше был, небось лагерным надзирателем или вахтером, очень уж бдителен. Ну да, набрал телефон милиции. Все прислушивались к его речи: «сидят тут … не знаю … человек сорок … откуда мне знать … приезжайте … мешают, еще как … совсем обнаглели …»
И пятнадцати минут не прошло, как приехал наряд … И вся остальная процедура. Любу забрали в автобус, она сопротивлялась, ее тащили, и пару раз стукнули по спине, пытаясь вывернуть руку. Это все видели. Так и надо. Наутро выпустят, ничего страшного. Она же — борец за правое дело, ей доверяют.
Скоро она подключится к организации голодовки отказников в приемной Президиума Верховного Совета. Подобные акции будут организованы в других городах. Люба корректировала усилия активистов, и списки с их фамилиями передавала Андрею Ивановичу. Контора не могла акции помешать, но ни один ее этап не был для гебистов неожиданностью. Велась большая игра, Люба в ней участвовала, ею были довольны обе стороны, она к этому и стремилась. Крови на ее руках не было. Вот, рассказывали, несколько лет назад в Ленинграде было раскрыто «самолетное» дело, об угоне самолета из аэропорта «Смольное». Угон не состоялся, но активистов Дымшица и Кузнецова расстреляли. Кто-то же их выдал. Люба была рада, что это была не она, а вот если бы … она старалась об этом не думать. После «самолетного» дела, движение резко активизировалось, Люба следила за оживлением в рядах отказников и докладывала обо всех подвижках руководству. Ночью, засыпая, она мечтала о том, как она уедет из страны и как все у нее будет хорошо … а потом …
Гриша почувствовал, что устал. Судьба «ночной» героини его интересовала. Кто она? Как ей живется? В чем суть ее предательства? Стукачка? Агент? У нее нет никакой идеологии, то-есть как ее судить, с какой точки зрения? Все-таки она сволочь … надо сделать ее по-человечески понятной, мотивировать все ее поступки, а потом читатель сам ее должен осудить, примерить на себя ее пример. «Черт, ну какой читатель? Кто мой читатель?» — Гриша сам себя одернул, привычно осуждая себя за одержимость идеей, которую некому с ним разделить. Он сам себе читатель, а еще — Валерка … Ну что он копья ломает? Зачем? Ради кого? Не может иначе? Ну что за распущенность!
Ну пусть «распущенность» … писать Гриша устал, но перестать думать о своей первой «серии» он не мог. Надо сделать так, что Люба с одной стороны хочет, чтобы все для нее кончилось, чтобы она наконец уехала в Америку и зажила своей настоящей жизнью, но с другой стороны она душою со своими братьями-евреями. Вроде ей все равно, они не верит в их идеалы, но привыкла к этим людям, болеет за них, таких взбалмошных, нелепых, наивных. Как глупо сражаться с системой? А может и не глупо … они систему расшатывают, и когда-нибудь расшатают. А майор? Обходительный и подтянутый Андрей Иванович, который всех их дергает за ниточки и у него получается … может он прав? Все останутся в своей стране. Все уехать не могут. Это неправильно. А евреи считают себя особенными. Да, что в них такого особенного? Так … так … ее размышления, моральный выбор, ангажированность … не забыть все это изобразить. И другой аспект: Любин, склонный к авантюризму, характер. Она идет по краю, ее могут раскрыть, она может проколоться, а этого нельзя допустить.
Люба же понимает, что способствуя ее отъезду в Америку, контора имеет на нее планы. Они вовсе не собираются оставлять ее в покое, уверены в сотрудничестве. Она их боится и бросает им вызов. Она — игрок, любящий игру не за смысл, не за выгоду, а как деятельность … Кто выиграет, можно ли вообще выиграть, или игра в такую игру не может хорошо закончиться по определению. Какая там может быть концовка? Надо подумать … так, ладно.
А другие серии …? Какие еще сны, про кого? Ну, что-нибудь драматичное и броское … нищая, живущая в притоне, который крышуется профессионалами. Неплохо. Большой потенциал ужасов быта, и жестокости … Потом сон о хирурге, у которого каждый день умирает на столе пациент. Он все делает правильно, и вроде бы не виноват, но человек умирает … и так каждый день, т. е. в каждом сне. Страшно ложиться спать, невыносимо уже видеть, как отключают мониторы, в тазу окровавленные ненужные инструменты, рану грубо зашивают, тело накрывают простыней и … его собственный голос констатирующий на диктофон время смерти … звук снимаемых с рук резиновых перчаток. Случаи разные, но «картинка» повторяется заезженной пластинкой. Очень хочется ее остановить, но герой не властен над своими снами. А дальше …? Циркач … шофер-дальнобойщик, колесящий по Америке … пятиклассник, каждый день получающий плохую оценку и воспринимающий школу как кошмар … и так далее, пока не надоест.
А как вообще закончить? Само прошло, герой снова не спит, но приветствует бессонницу как избавление, и еще … он начинает понимать, что ночные кошмары — это собственные подспудные страхи, зависть к другим, … а теперь он счастлив, что он — это он, живет своей жизнью, не нужна ничью чужая судьба … испытание «снами» делает героя счастливее. Ну, что-то в этом роде.
Все эти месяцы у них в семье обсмаковывались Аллкины ультразвуки. Там … мальчик, это видно … ура! Гриша радовался, он в глубине души хотел именно внука, а не внучку. По большому счету все равно, но все-таки … У него всегда были девочки, а теперь в семье будут преобладать парни. Хорошо. Маруся была в эйфории, перечисляла все плюсы и минусы «мальчика», хотя с Гришиной точки зрения тут и обсуждать было нечего. Мальчик — так мальчик. Он родится еще так нескоро, что Гриша перестал о нем думать.
В Японии умерла Йоко, Валера туда улетел, а к его возвращению в ближайшие выходные Гриша ждал его в Беркли, справедливо полагая, что друг в нем сейчас нуждается.
Внешне Валера был вполне ничего, рассказывал о похоронах. Вроде такие же, как здесь, но есть особенности, все как-то мрачнее. Везде только черный цвет, толпа в большом помещении храма. Валера сказал, что он там был один европеец. Оказывается Йоко умерла уже пару недель назад, но не каждый день можно хоронить, они дожидались благоприятного дня. Валерка зачем-то рассказывал подробности, ему это было нужно, и Гриша не мог его прервать:
— Ты не представляешь … там все так долго было. Гроб открытый в цветах. Она лежит в белом кимоно, ярко накрашенная, губы красные … красивая, а все равно видно, что мёртвая. Она тут у нас как все ходила… в джинсах, а там … совсем другая. Самые близкие друзья и родственники, представляешь, подходили к гробу и маленькой тряпочкой тело ее обтирали, и мне такую тряпочку дали. Что мне было делать? Я до руки ее дотронулся. Знаешь, Гриш, они ей в гроб разные вещи положили, ну там деньги, веер, мне тоже велели что-нибудь ей «нужное» положить. Мне ее брат позвонил, я ему сказал, что приеду на похороны и он меня предупредил, что ей что-то будет нужно «от меня». Я ей туда свою последнюю книгу положил … Правильно, Гриш?
— Конечно, Валер, правильно. Она же тебя любила. Ну, ты понимаешь, не только тебя самого, но и твою работу. Так ведь?
— Ага, я один книгу положил. Они ей белые сандалии клали, какие-то монеты, даже коробку конфет … представляешь? А потом ее брат сам гроб заколотил большими гвоздями, а пользовался не молотком, а камнем. А потом всем дали мешочки с солью, ее надо рассыпать, избавляться от осквернения. Как тебе это нравится?
— Валер, у евреев тоже так: после кладбища ты — нечистый, и надо мыть руки.
— Гришка, я тебе еще самое страшное не рассказал … Йоко кремировали, часов через пять семья вернулась в крематорий … там был запах жженых костей, а на лотке лежала кучка теплого серого пепла и кости, еще горячие … отец и брат палочками сами все это принялись разгребать, по урнам раскладывать, кости делили … получилось три урны … одну мать с отцом взяли, другую семья брата, а третью … они мне отдали …
— А ты что? Взял?
— А что мне было делать? Куда деваться-то? Взял конечно. Что мне теперь с ней делать? Ума не приложу. Какой-то ужас.
Валера сходил в спальню, принес оттуда маленькую серебряную чашу, и поставил ее на журнальный столик. Гриша молчал. В своей жизни он несколько раз видел урны с прахом, не находил в них ничего особенного. Когда бабушка умерла, он сам ездил в Донской крематорий и привез маме урну в спортивной сумке. Мама при нем убрала ее в платяной шкаф и недели через две они всей семьей захоронили эту урну под их семейный памятник. Грустная процедура, но уже не такая тягостная, как сами похороны. Валера, видимо, не так ко всему этому отнесся. Он выжидающе смотрел на Гришу и ждал от него какого-нибудь совета.
— Ну, Валер. Я понимаю, почему ты так впечатлился. Все другое, другие обычаи, какие-то речи, молитвы, ты ничего не понимал … тебе приходилось делать странные для тебя вещи, участвовать в чужих ритуалах. Какой-то кошмар …
— Да не в том кошмар, Гриня … ты не понял …
— Они меня принимали за близкого ей человека, а я … Гришка, я чувствовал себя самозванцем. Я же не любил ее. Вот в чем дело. Я теперь даже не уверен, что я ее раньше любил. Мне ее жалко, я ужасаюсь, видя, что умерла такая молодая девка, но … это для них потеря, а для меня … нет. Я могу жить без нее. Может не стоило мне туда ехать.
— Валер, ну что ты … в чем ты виноват? Ты Йоко ничем не обижал, сделал для нее все, что мог …
— А что я мог? Что я сделал? Ты про ее работу? Так это я себе сделал, а не ей. Мне так спокойнее было.
— Перестань, Валера. Мы бессильны перед чей-то смертью. Успокойся. И правильно ты сделал, что поехал. Это, ведь, тоже ты для себя сделал …
— Ага, хорошо ты обо думаешь. Если бы это только от меня зависело, никуда бы я не поехал. Зачем бы я себя мучил? Ей это уже не надо, а их я не знаю … но, Гриш, ты же знаешь, какой я слабак! Я — слабак. Мне брат позвонил, сказал, что она умерла, я что-то лепетал, даже не помню что, а потом он прямо спросил, приеду ли я … Я не мог сказать, что нет, никуда я не собираюсь … Поехал, сделал светский жест.
Гриша не знал, что отвечать. Валерка был прав и такие приступы самобичевания него были нередки. Друг себя не щадил. Вряд ли он стал говорить о недовольстве собой кому-нибудь другому … а ему говорил. Пусть выговаривается, для этого Гриша и приехал в Беркли. Валерке было сейчас плохо, но это ненадолго. Валерка не любил страдать, скоро все у него войдет в свою колею. Они когда-то оба читали Монтеня, и были согласны с нехитрым утверждением, что «если кто-то страдает больше трех дней, значит он просто любит страдания». Уже под вечер они вдвоем съездили в Тильден парк и высыпали пепел в озеро, где они часто с Йоко бывали. Момент они выбрали правильно, вряд ли люди видели, что они делают. Ну … пусть так. Хоть так он смог Валере помочь, не зря ездил.
В воскресенье после обеда с Валерой в симпатичном ресторане в аэропорту, Гриша улетел домой и в самолете думал о японских похоронах, собираясь где-нибудь использовать «сцену». Экзотическая картинка могла послужить «кирпичиком». Ему даже самому было за это стыдно. Дома, когда Маня принялась расспрашивать о Валере, Гриша ответил, что Валерка «ничего». Про мрачные необычные похороны он ей рассказывать не стал. Маруся сразу, правда, отстала, видела, что он не очень-то хочет об этом говорить. Она всегда такая была, чувствительная, тонкая, нелюбопытная, тем более, что про Валеру им вообще было разговаривать нелегко. Ночью в постели он любил Марусю дольше, чем обычно. Она была такая знакомая, желанная, живая и теплая, что Гриша почувствовал себя счастливым и поймал себя на осознанном сочувствии к Валере, у которого не было близкой женщины, такой как Маня, хотя тут все было сложно …
Странным образом Гриша заметил, что в последнее время он занимался любовью с женой не так как раньше. Ему это было трудно объяснить даже самому себе. И в самые разудалые времена его Муся никогда не была ущемлена. Это было для Гриши делом чести: не тянешь двух женщин, оставь любовницу, жена в любом случае должна иметь приоритет, тут без вариантов. Но, иногда, хоть ему с Маней всегда было хорошо, секс выглядел слишком привычным, даже немного «дежурным». Грише казалось, что с женой он не достигает ни яркости, ни остроты, она просто не может его больше удивить, а другие женщины могут. Сейчас он наоборот научился ценить свою Манечку, хотя, если быть с собой до конца честным, Гриша понимал, что дело тут не в любви, не в особой Маниной нежности, которая другим женщинам была несвойственна, дело было в нем самом, в появившейся недавно неуверенности в себе, недовольстве от снижения мужской стати. Нет, он вовсе не стал импотентом, ничто даже и не предвещало, что он когда-нибудь им станем, но в чем-то Гриша с возрастом потерял: эрекции он мог теперь достичь гораздо медленнее, стояло не так высоко, чтобы кончить тоже нужно было больше времени. И кончал он как-то вяло. Это должно происходить бурно и с восторгом, а сейчас было «не то».
Какие-то мужики может даже ничего и не заметили бы, но Гриша-то прекрасно знал, как у него было раньше, и как стало сейчас. Что хитрить с самим собою. Впрочем он был уверен, что Маня вовсе всего этого не замечала, для нее он был прежним, но … черт, она ошибалась. Раньше ему достаточно было взглянуть на пляже на чью-то соблазнительную попку, и все … готово дело. Сейчас такие вещи его не возбуждали. Конечно, Гриша прекрасно знал, что «если что …», он не оплошает, да он это и проверял … и тем не менее, близость с молодой требовательной женщиной его не то, чтобы пугала, но немного тревожила. Когда-то он восстанавливался за 10–15 минут, а сейчас он вообще не был уверен, что сможет хотя бы через час … Грише была нужна спокойная обстановка. А разве в первый раз с молодой бабой это было достижимо?
А вот с Маней ему было очень спокойно, уютно и по-этому здорово. Они знали друг друга до самого донышка и так было лучше, проще, приятнее. С другой стороны его такое спокойствие настораживало: это было началом конца? Боже, а что дальше будет? И хотя Гриша знал, что подобные страхи совершенно преждевременны, иногда на него накатывала тоска по утраченной юности. Он пытался обсуждать свои страхи с Валерой, но друг ему всегда говорил одно и тоже: «не выдумывай … тебе просто кажется … какие наши годы …», и прочее в таком же духе, Гриша успокаивался, но совершенно не был уверен, что Валера заметил такие же «спады» в самом себе. «Он меня просто не понимает, потому что он по-прежнему молодой» — Гриша и сам не знал, завидовать Валерке или нет. А может зря он все это … насочинял себе всякие глупости? Грише было пятьдесят четыре года, он и бегал медленнее, и вряд ли победил бы в серьезном бою с хорошим самбистом, в волейбол сыграл технично, но быстро бы устал, но это его не волновало, а вот … нюансы «стояка» нешуточно тревожили. А когда они будут совсем старые, они все еще смогут …? Интересно. Родителей что ли спросить? Нет, невозможно. С Валеркой он «геронтологический секс» конечно обсуждал, но Валерка отшучивался и был настроен оптимистически «сможем, Гринь, сможем … не ссы», а потом назидательно подчеркивал значение практики. Наверное, шутки — шутками, но Валера и правда верил в упорные тренировки.
В августе 91 года, они с Валерой в последний раз вместе вышли на серьезное дело, как обычно «плечом к плечу», надеясь на «локоть друга», зная, что как и в ранней молодости, если «что», они встанут вдвоем к стене, защищая спину и примут любой бой. Ну, так им всегда казалось, хотя … что значит «любой»? Глупость, а они же не были идиотами. Чем все кончится было тогда непонятно.
Когда внезапно по радио стали транслировать симфоническую музыку, а по телевизору по всем каналам показывали только балет «Лебединое озеро», Гриша с Маней, как и все остальные поняли, что дело «дрянь», происходит что-то паршивое. А потом Обращение ГКЧП, Постановление ГКЧП, зловещая риторика: … предотвращение национальной катастрофы … глубокий всенародный кризис … межнациональная гражданская катастрофа и хаос, которые угрожают … Гриша испугался, десять раз на дню звонил в панике Валере, который уже совершенно настроился на отъезд в Америку, а тут вдруг … структуры власти расформировать, деятельность партий и общественных организаций приостановить, ввести цензуру и запрет на демонстрации и забастовки. Они тогда в первый и второй день буквально волосы на себе рвали, а потом все начало сходить на «нет».
Гриша с Валерой пошли на Манежную площадь еще 19-го, и уже оттуда практически не уходили. Маня висла на Гришиной руке, кричала «не пущу», звонила мать, но они с Валерой все равно пошли, взяв поесть и бутылку водки. В центре города везде стояли танки и БТР. Обстановка накалялась и заводила толпу. Гриша с Валерой полезли на танк, пытаясь заблокировать его проход к Белому дому. Экипажи выбирались на башни, растерянных танкистов стаскивали с машины, те и сами ничего не понимали, только тихо матерились. Гриша ненадолго съездил домой, оставив Валеру у парапета на набережной. Когда он вернулся, найти друга было нелегко. Было уже темно, площадь зияла ямами и рытвинами, люди выламывали камни и строили баррикады, было видно несколько перевернутых троллейбусов. В толпе преобладали молодые мужчины, в основном интеллигентного вида, были и женщины, они держали самодельные плакаты, другие, снующие в толпе тетки, раздавали еду. То здесь то там жгли костры. В густой толпе царила возбужденная эйфорическая атмосфера.
Грише с Валерой было страшно, люди говорили о готовящейся к штурму «альфе». Но вместе с тем на площади толпой овладевало агрессивное веселье, злой завод, бесшабашность. Никто даже не собирался домой. Да и как было пропустить такое шоу, на крыльцо вышел Ростропович, Ельцин выступал. Ребята тогда не знали, что операция «альфы» назначена на три часа ночи 21 августа. Народ на площадь прибывал и операцию отменили. Через несколько часов в туннеле на пересечении Садового Кольца с Новым Арбатом погибли трое ребят.
Гриша помнил свое тогдашнее состояние: победа! И зачем только Валера уезжает? А он ни за что не поедет … они живут в такое интересное время. Домой ехать не хотелось, они оба были слишком возбуждены. Гриша позвонил из автомата Мане, было раннее утро, но она не спала, просила его ехать домой, метро уже открылось, но Гриша, успокоив ее, сказав, что приедет попозже. Они отправились с Валерой «к одним друзьям». Что-то ели, смеялись, пересказывали ночные события, слушали Эхо Москвы, много пили. Гриша даже не заметил, как все разошлись, а они с Валерой остались в большой чужой квартире с двумя девушками, которые тоже, оказывается, были у Белого дома. Как Гриша тогда одну из подруг трахал на разложенном в гостиной диване! Он вкладывал в привычные несложные движения весь свой страх, смятение, упрямство, чувство солидарности с людьми, веселую истерику. Он брал эту девчонку раз за разом, не утомляясь и не пресыщаясь. «Маленькие смерти» были неудержимы и пьянящи, да и что удивляться: Гриша праздновал их победу, вздымаясь над телом незнакомой девчонки, которую он больше никогда не видел, но воспоминание о которой вписалось в общий сумбурной и неистовый водоворот тех событий, с которых пошел обратный отсчет их с Валерой иммиграции.
Валера засобирался покинуть страну еще пару лет назад. В 89 году у него была на носу защита, он волновался, весь во власти тревог и амбиций. Роман с Таней-парашютом драматично закончился, Валера мучился, а тут ему стало известно, что профессор Ветлицкий, его научный руководитель, сразу после защиты едет работать в Принстон, приглашенным профессором. Удивляться не приходилось, вес Ветлицкого в международном научном сообществе был велик, он вырос в профессорской семье и поэтому свободно говорил по-английски. Читал, писал … это-то понятно, с устной практикой у Ветлицкого было не так блестяще, но терпимо. Один из немногих советских ученых, он публиковался в иностранных журналах, и всячески поддерживаемый Академией наук, часто выезжал за границу. Люди знали не только его работы, но и его лично.
Началась перестройка и Ветлицкий собрался, пока на год. Валера, правда, был уверен, что профессор не вернется. Валера с успехом защитился, Ветлицкий уехал, устроился на новом месте и быстро стал в Принстоне старшим научным сотрудником, как в Америке говорили «senior scientist». Валерой мэтр дорожил, и спустя два года пригласил его в Принстон, в постдокторантуру. Валера к тому времени работал в ФИАНе, колебался, но потом решил ехать. Гриша, хоть и не слишком одобрял Валерин проект, заранее знал, что друг поедет: шанс, данный судьбой, они упускать не привыкли.
Суета, Валера американцам ответа не дал, досада от разрыва с Танькой-парашютом не прошла, много компаний, которые Гриша в те времена почти не посещает, ненужные пьянки, командировки, новые приятели … и тогда это случилось … той единственный эпизод их с Валерой жизни, который Гриша не разрешал себе вспоминать, усилием воли переключая свое сознание на другое. Воспоминание почти забылось, слишком травматичное, оно просто выместилось из памяти, иногда Гриша казалось, что полностью, но … увы … это в их жизни было, что тут изменишь?
Гриша сидел за компьютером, занимаясь рутинным, малоприятным делом: писал тест по грамматике для студентов. Позвонил Валера, он ему рассказал, что у Аллки все хорошо, Валера шумно радовался, потом Гриша с подтекстом спросил его «как дела?», имея в виду недавнюю грустную поездку в Японию. Валера в ответ буркнул «нормально», явно не желая ничего обсуждать. Да и что тут можно было обсуждать? Гриша уже распрощался и хотел вешать трубку, но Валера вдруг спросил его о Мане. «А Маруська как? Нормально?» — что это за отдельный интерес? Гриша знал, что никакого отдельного интереса у Валеры нет, но помимо его воли предательские воспоминания разом нахлынули на него. В голове появилась «картинка», которую Гриша на этом раз почему-то не смог прогнать.
Зимнее утро, очень холодно. Гриша очень рано встал и поехал в Шереметьево, чтобы улететь в Гренобль по линии КМО. Не такая уж важная поездка: молодые московские врачи ехали на ассамблею Всемирной Федерации работников здравоохранения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Ничего особенного, обычная пафосная говорильня. Гриша знал, что в таких случаях ему придется не слишком напрягаться при переводе, поездка его радовала, почему бы не погулять по Греноблю? Он знал высшее руководство КМО, знал, как там все устроено и четко понял, что никакой карьеры ему у комсомольцев не светит. Скорее всего стоило полностью уходить в академию, где ему, мужчине, что-то могло светить. Он уже собственно и работал в Академии Педнаук, в лаборатории «Общих проблем воспитания» … была у него и тема диссертации. Что же теперь, прощай поездки … прогулки по Греноблю могли стать его прощанием с «заграницей». Валера, кстати, все время уговаривал его прекратить всякое сотрудничество с советским кагебешным КМО, даже издевательски пел «… не расстанусь с комсомолом … буду вечно молодым …» Гриша чувствовал, что друг прав, не стоит играть с коммунистической молодежью ни в какие игры, тем более, что перестройка началась, и он надеялся, что все переменится к лучшему, хотя … Валере легко было брезгливо относиться к Гришиному, как он говорил, «комсомолизму». Валера-то был талантливым, перспективным физиком, а у Гриши был только французский, английский и гуманитарная эрудиция, замешанная на начитанности. Что из этого можно было сделать? Впрочем, профессиональным «педагогом» ему тоже быть не слишком хотелось.
Гриша с трудом доехал до аэропорта, стекла такси были залеплены липким мокрым снегом, с которым еле справлялись щетки. В зале вылета он сразу увидел свою группу, человек двадцать молодых врачей. Люди были оживлены и Гриша увидел у них на лицах досаду и раздражение. Сразу стало понятно почему: их рейс отменили, а с ним еще десятки других. Обледенение полосы, туман. Это было бы еще пол-беды. Они летели до Парижа, потом пересаживались на местную линию, а Париже были сильные снегопады, обещающие усилится. Обычным пассажирам таких подробностей конечно не сообщили, но Гриша сходил в специальную комнатку, где сидели Шереметьевские пограничники, объяснился и ему сказали про прогноз. Стало ясно, что вылета придется ждать долго, может даже и до завтра, и следует ехать домой. Их обещали отправить сразу же, как разрешат полеты, но этого до вечера точно не произойдет. Гриша поехал в Москву, решив из дому звонить время от времени начальнику смены погранцов.
На улицах стало светлеть, Гриша сидел нахохлившись в такси и думал о чашке крепкого кофе с Маней у них на кухне. Вот она удивится, что он вернулся. Он вышел у подъезда в сырую мразь пустынного в этот час двора и, расплачиваясь, увидел припаркованную и уже почти занесенную снегом машину, похожую на Валеркину бордовую «девятку». «Да, нет … что Валерке здесь делать?» — лениво подумал Гриша в лифте. Он посмотрел на часы, начало девятого … Маня может быть даже еще в постели, утром, когда он уходил, она не проснулась.
Аллка была с Марусиными родителями на даче. Они в последнее время предпочитали всю зиму жить на теплой благоустроенной даче в Отдыхе. На эту неделю они взяли с собой маленькую Аллку, так как в школе был карантин по ветрянке. Гриша открыл дверь своим ключом, вдруг Маня спит … в квартире было тихо. Гриша стал стягивать с ног невысокие сапоги, и уже собираясь надеть тапочки и пройти на кухню, вдруг увидел на вешалке Валерину куртку. «Ага, это была его машина. Все-таки я был прав. Где же они? Что так тихо-то?» — Гриша уже совсем было собрался подать голос, но раздумал, решив всех разыграть, внезапно появившись на кухне, заорать «а вот и я … не ждали?»
Дверь в спальню, выходившая в переднюю, была немного приоткрыта. Совсем чуть-чуть, просто щелочка. Гриша, стараясь раньше времени не шуметь прошел мимо этой приоткрытой двери и машинально заглянул в спальню … и тут он их увидел, сразу охватив всю сюрреалистическую картину, которая и по сей день мелькала в его мозгу яркой обжигающей вспышкой: расстеленная кровать, сбившееся одеяло, утренний свет сквозь плотные занавески … в постели лежали его жена Маша и его друг Валера. Манины раскинутые бедра, голые маленькие ноги, длинные разметанные по подушке светлые в рыжину волосы … Валерина крепкая спина, ягодицы и сильные ноги, с длинными ступнями. Они могли бы просто лежать рядом в постели, этого было бы достаточно, но судьба Гришу не пощадила. Они не просто лежали, Валерино тело плавно и ритмично двигалось в его Марусе, он облокачивался на руки, и пристально смотрел на ее лицо, с плотно прикрытыми глазами.
Они не услышали, как он зашел в квартиру, потому что им было не до кого. Гриша застыл. Движения Валеры стали убыстряться, он застонал и упал всем телом на Машу. Маша в изнеможении глубоко вздохнула. «Это она с ним вместе кончила. Маша никогда не кричит» — Гришин мозг просто фиксировал их действия, не давая ему никаких больше импульсов. Ребята продолжали лежать друг на друге, не замечая Гришиного взгляда.
Время от времени, почти всегда, когда Гриша сам приходил домой от женщины, он представлял себе Маню с другим … он знал, что Маруся на это неспособна, ей никто кроме него не нужен, что он бы заметил … его фантазии были как бы «теоретическими»: а что он сделает? А что он скажет? Ударит? Убьет? Заорет? А потом …? До конца Гриша, даже слегка мучаясь запоздалыми угрызениями совести, эти мысли не додумывал. Очень уж они были глупыми. Но даже, если в уголке сознания, он еще мог представить себе, что Маня может с кем-то быть … Гриша не допускал мысли, что этим «кем-то» станет его лучший друг Валера. Этого просто не могло быть.
Гриша помнил, что в висках у него застучало. Он понимал, что ему следует отойти от двери, но он не мог пошевелиться. Валера перекатился на бок, взял с тумбочки сигареты, что-то сказал Мане на ухо. Она тихонько засмеялась. Он положил ей руку на живот. В комнате было уютно и жарко, они так и лежали голые, не желая накрываться одеялом. Раньше Грише казалось, что если «вот так», он что-нибудь сделает, но он чувствовал только страшный упадок сил, не было энергии ни на крики, ни на объяснения, ни, тем более, на драку. Он просто попятился в коридор, надел сапоги, снял с крючка куртку и вышел на лестницу с непокрытой головой, шапка и шарф так и остались висеть. Он медленно спустился на лифте, вышел на улицу и куда-то побрел по улице, не замечая, как густой снег слепит ему глаза, забивается в уши. Он прошел довольно большое расстояние по Красносельской улице и вышел к Сокольническому парку. Там в этом час почти никого не было. Он шел мимо покрытых снегом лавочек, павильонов, прудов, потом долго сидел в какой-то забегаловке, ковыряя вилкой пельмени, запивая их суррогатным сладким кофе из котла. Валерина спина и раскинутые Машины ноги на их кровати остановились в его сознании стоп-кадром, этот остановившийся кадр никак не хотел сменяться чем-то еще. Кроме «кадра» в Гришиной голове были еще и мысли. Собственно их было несколько и все похожие, но все-таки разные:
— Что вообще теперь делать? И что делать сейчас? Идти домой? Не ходить домой? Но тогда куда идти? Он же на работе, ему следует быть дома и звонить в Шереметьево. Что ему в этой стекляшке целый день сидеть? Не ехать в Гренобль? Ну, как не ехать? И что он скажет? Домой в связи с поездкой идти надо. Там же сумка осталась в коридоре. Такие сиюминутные практические мысли про сумку были логичны и приемлемы. Просто проблема, которую он может и должен решить. Но Гриша вновь и вновь возвращался к основной дилемме: они — предатели! Он должен теперь жить без них, один. А сможет ли он жить без них? А ребенок? А что родителям сказать? Так или иначе ему придется объясняться и ней и с ним. Что сказать? О чем спросить? Слушать объяснения или нет? И вообще что тут объяснять? Как это вообще можно объяснить?
Гриша пытался разобраться в своих чувствах, но у него не получалось понять, что он сейчас действительно чувствует: ненавидит? Не понимает? Прощает? Недоумевает? Если ненавидит, то кого больше? Что у него в душе? Было бы ему легче, если бы это был не Валера? В те первые часы Гриша ничего не понимал, потому что вряд ли он вообще испытывал эмоции: ни ярости, ни боли, ни обиды. Ничего. Это был глубокий шок, опустошение, оцепенение, пустота. Его психика защищалась, не в силах постичь происшедшего.
Он доел свои пельмени, в желудке появилась тяжесть, затошнило. Голова продолжала болеть, полилось из носа, но платка у Гриши не было. Он ехал в метро, держась за поручень, и шмыгал носом. Одна остановка … на своей Красносельской он вышел и решительным шагом направился к дому. Интересно Валера ушел или ждет его? Сейчас ему хотелось, чтобы их обоих не было дома. Хотелось просто лечь и закрыть глаза. Может быть поспать. Если они его ждут … нужно будет что-то говорить, а Гриша не знал что. Вот бы они его оставили в покое … это все, что ему сейчас нужно. Он открыл дверь своим ключом, снял ботинки, зашел в туалет, потом в ванную, с удовольствием высморкался и вымыл руки. Валеры в квартире не было, Маня стояла на кухне и варила суп. Интересно, кому она варит этот суп? Зачем? Когда Гриша зашел и сел за стол, в затылке пульсировала кровь и перед глазами плыли черные круги. Грише было трудно сосредоточиться. Однако Маша сразу начала разговор, к которому он чувствовал себя сейчас неготовым:
— Если ты не хочешь со мной жить, давай разведемся.
— А ты не можешь сейчас оставить меня в покое? Пожалуйста.
— Ну да, если я буду молчать, ты будешь «в покое»? Так? У нас, что, ничего не произошло?
— Маш, я просто не хочу ни о чем говорить. Потом как-нибудь. Я приеду и … придется поговорить.
— Что значит, «придется»? Мы же не можем все оставить как есть. Ведь не можем? Ты что ни о чем не хочешь меня спросить?
— Нет, ни о чем. Хватит, замолчи!
— Не замолчу. У нас должен быть разговор. И нечего его откладывать. Не хочу ждать пока ты приедешь. Ты сейчас не хочешь со мной поговорить, я знаю почему … ты хочешь меня мучить. Я же тебя не держу. Уходи, не живи со мной. Зачем я тебе теперь нужна? Я заслужила … так мне и надо.
Гриша чувствовал, что в Манином голосе уже сквозила истерика. Ей надо было говорить, даже не важно о чем. Ей просто невыносимо было его молчание. Все, что угодно было сейчас для нее лучше: крики, брань, упреки.
— Ладно, не истери. Что ты мне все это говоришь с таким нахрапом? Вы меня раздавили, растоптали, унизили, а теперь ты хочешь от меня разговоров, хочешь, чтобы я тебя слушал? Тебе трудно понять, что я не хочу тебя слушать, не хочу видеть, слышать … ничего не хочу. Что ты ко мне лезешь? Отвяжись, слышишь, отвяжись!
Маша закрыла лицо руками и разрыдалась. В таких случаях можно ожидать две реакции: жалость и ненависть. Рыдающая жена не вызвала в Грише никакого сочувствия, снисхождения, понимания, наоборот, он почувствовал, как в нем закипает непреодолимое отвращение, гадливость к этой женщине, которая враз стала ему не просто чужой, а отталкивающе мерзкой тварью, причиной неудавшейся жизни. Что-то Гришу внутри отпускало, ярость стала его основной эмоцией, ступор начал проходить.
— Ах, ты сука. Блядь, шлюха поганая. Корчила из себя незнамо кого, а сама … да если бы я знал … Правильно Валерка говорит: все бабы — твари! Ты меня всего лишила, всего … ты меня друга лишила! Можно что-то еще хуже сделать? Был у меня друг единственный, а теперь — нет! И все ты … падла, курва вонючая. Убить бы тебя на хуй … Будь ты проклята!
— Ага, а Валера твой тут ни при чем? Ни при чем? Так? Только я одна виновата? Он же твой друг. Друг с твоей женой … хорош друг!
— А ты Валеру не трожь. Это между нами. Не твое дело. Не тебе его судить. Поняла, гнида?
Гриша и сам не понимал, почему он стал защищать Валеру? Не иначе как назло ей. Он поднял руку и наотмашь ударил Машу по лицу, вложив в удар всю силу. Хорошо, что удар пришелся не по центру лица, иначе он бы сломал ей нос. Но и так … получилось «как надо»: из носа немедленно потекла кровь, а левый глаз и скула на глазах начали распухать. Много ли маленькой Мане было надо, она упала, и заслонила лицо руками. Гриша опомнился, раздираемый совершенно противоречивыми ощущениями: он только что нарушил свое самое незыблемое табу, он ударил женщину, но с другой стороны, ему сейчас не было ее жалко, он бы еще раз ее ударил и еще, еще, чем ей больнее, тем ему приятнее. Вот до чего она его довела, до чего он дошел … из-за нее, из-за них. Будь они оба прокляты!
Он помнил, что прилег на диван в гостиной, ночью уехал в аэропорт и улетел во Францию. В поездке ему даже удавалось забываться, было много работы, Гриша закрутился, отвлекся, сидел в ресторанах и пил красное вино, весело болтая по французски. Через неделю он вернулся, и они с Маней уже ни о чем не говорили. Родители привезли с дачи Аллку, и жизнь на внешнем уровне вернулась в свою колею. Они с Марусей даже спали в одной кровати, повернувшись друг к другу спиной и не разговаривая.
Валера не звонил, однако делать вид, что ничего не произошло, было глупо, надо было что-то решать. Гришу понимал, что Маня ничего не предпримет, ни прощения просить не будет, уж он-то ее знал, ни на развод первой не подаст. Ох уж этот развод! Родителям и тем и другим что-то объяснять, и друзьям, а Аллка? А жить где? Обратно на Сокол, к родителям возвращаться? Гриша ничего не делал, ненавидя себя за бездействие и нерешительность. В какой-то степени его устраивало, что Маня молчит. Сцены с истерикой, вымаливанием прощения и ненужными объяснениями Гриша страшился.
Все шло как шло до раннего апрельского вечера, когда в их квартире раздался звонок. Гриша взял трубку и услышал Валерин голос. Он не удивился, так как ждал его звонка, хотел, чтобы Валера позвонил и одновременно не хотел. Им предстояло мучительное объяснение, избежать которого было невозможно. Через него следовало пройти, но с каким результатом Гриша не знал. Каждый день он думал об этом, репетировал свои слова, пытался угадать, что будет говорить Валера, свои реакции. Грише хотелось красиво и гордо повесить трубку, не удостаивая бывшего друга ответом, не опускаясь до разговора, но он знал, что этого не сделает. Так и вышло.
— Гринь, нам с тобой надо поговорить. Я больше не могу …
— Да, хорошо. Давай завтра.
— Нет, я дошел до ручки. Давай сегодня. Сейчас.
Гриша тоже внезапно почувствовал, что «сейчас» — это правильно. Если им надо встретиться, даже если это и будет в последний раз, то пусть это будет немедленно. Что тянуть. И надо же: Валера машинально назвал его «Гринь» … да какой он сейчас ему был «Гринь»? Вырвалось на автомате.
— Ладно. Я выезжаю. Давай на нашем месте, через час.
— Жду.
Гриша слышал невероятно знакомый напряженный Валерин голос. «Их» место — это было маленькое кафе-стекляшка на краю Ленинградского парка. Валере, все еще жившему в большом доме на Соколе, было до нее 5 минут, а Гриша ехал с пересадкой на метро от Красносельской. Он стал собираться. Маша вопросительно на него посмотрела, но ничего не спросила. Ей придется что-то объяснять родителям, куда это Гриша на ночь глядя собрался, но ему было все равно. Он ехал в метро, и ловил себя на том, что в его душе странным образом не было сейчас ни злобы, ни отвращения к бывшему другу, только императивное желание посмотреть ему в глаза и что-то раз и навсегда для себя решить. Именно решить, а не понять, понять Валеру Гриша даже не надеялся. Он был в этом уверен. А еще он чувствовал, что это было между ним и Валерой. Что-то решится, и Машина судьба тоже будет от этого зависеть.
Когда Гриша зашел в кафе, Валера уже сидел за столиком. Вокруг были какие-то случайные люди, торопливо поедающие свои пельмени и сосиски с горошком. Гриша внезапно ощутил голод:
— Может по сосискам? А Гринь?
Надо же Валера почувствовал, что Гриша проголодался. Что тут удивляться, он всегда все про него знал. И опять это странное сейчас «Гринь».
— Давай.
Валера ушел к стойке, а Гриша вдруг понял, что он совершенно спокоен, готов к разговору, что даже, если после этого разговора он больше никогда Валеру не увидит, ему все равно полегчает. Неопределенность всех измучила до предела и надо было с этим кончать, так или иначе. «Он сам начнет разговор или я должен? Он же меня позвал, не я — его. Да, ладно все само сделается». Валера принес тарелочки с сосисками, сходил за кофе, уселся и стал есть, обмакивая свою сосиску в горчицу. Ножей не было, и они, как когда-то, откусывали с куска, накалывая на алюминиевую вилку скользкий непокорный горошек.
— Гриш, я не могу больше так жить. Я сам не знаю, почему я это сделал. Мне нечего тебе объяснить, то-есть у меня были тогда какие-то импульсы, я им последовал … но это ничего не объясняет. Ты меня слушаешь?
— Да, конечно. Говори. Я для этого и пришел.
— Не знаю я, что говорить, сам не знаю. Не знаю, как сформулировать …
— Что тут формулировать? У вас это давно? Я ничего не замечал …
— Ты ничего не замечал, потому что ничего не было. Это было всего один раз … клянусь. Ты мне веришь?
— Верю. Да какая разница … один раз, два … Мне теперь все равно.
— Есть, Гриш, разница. Машка не так уж и виновата. Это все я … Она растерялась, а я … я хотел кое-что проверить …
— Да, да. Я тебя слушаю. Что ты хотел проверить? Валер, пойми, для меня сейчас очень важно тебя понять. Думаю, что это невозможно, но я хочу попробовать. Дело в нас с тобой, не в Марусе. В ней тоже, но … сейчас не о ней речь.
— Гриш, для нас с тобой с ранней юности женщины никогда не были проблемой. Мы — избалованы, у нас все получалось … но при всей нашей с тобой похожести, женщины у нас были разные … По-этому все и получилось.
— Да, ладно … какие-такие разные женщины, мы примерно одних девок с тобой драли …
— Ты, Гриш, прав. Драли-то мы одних, а влюблялись в разных. У тебя раз и навсегда получилось, а у меня … облом за обломом. У меня никогда с женщинами ничего не выходило и не выйдет наверное … Гришка, я тебя стал завидовать. Раньше не завидовал, не понимал ничего, я сейчас … у тебя нормальная семья, Марусенька твоя, Аллка, а меня всегда все через жопу. Почему? Я не понимаю.
Помнишь мою шалаву красивую? Я ее любил … хотя теперь мне кажется, что нет … я просто хотел ее «спасти», вытащить, сам собой любовался. О, Гриша, как вы меня тогда злили! Ты не представляешь. Я тебя, вас с Маней звал к нам, а вы не хотели, отговаривались всякой ерундой. Моя женщина была для вас мразью подзаборной. Я помню брезгливость на твоей морде, улыбочку Манину снисходительную, типа… я дурака валяю, перебешусь … Ты мне открытым текстом говорил, что шалава — есть шалава. Помнишь? Мне казалось, что вы корчите из себя «чистеньких», а сами … а может вы и были «чистенькие»? Я вот все думал … Маруся — не «такая»?
Валера не ждал ответа. Его уже несло. Гриша слушал горячечную, сбивчивую речь и не решался прервать Валеру, чтобы спросить, какая связь между всем происшедшим и той старой историей? А Валера продолжал, забыв про свои остывшие сосиски:
— Я, Гриш, все смотрел на твою Марусю, твою девушку «из приличной еврейской семьи», которая стала твоей женой. Ты с ней жил, вы завели ребенка. А что в ней такого особенного? Ничего. Симпатичная, но не красавица. Приличная фигура, но есть и получше. Какой-то особый блеск, ум, необычность? Да нет. Да, ты иногда ходил от своей Мани налево, но всегда, ведь, возвращался. Я видел вас вместе, видел, что вам хорошо вдвоем. Ваша семья, ну что это такое? Пеленки, кашки, совместный телевизор, секс два раза в неделю? Я тоже так хотел, честно. Хотел, но боялся, что мне будет скучно. А вот все искал, но не там … взять, к примеру, мою «падшую женщину» … как мне было невыносимо признать, что ты, Гриш, был во всем прав. Она была обычная ленивая эгоистичная недобрая кошка, которая органически не способна быть женой. Она хотела только денег и незамысловатых удовольствий. Я любил прошмандовку, знал, что она просто бикса дорогая, но мне казалось, что это ерунда. И Маня правильно улыбалась, понимая, что ни к чему ей иметь такую подружку, а я … идиот. Но жизнь меня ничего не научила.
Думаешь я не знаю, что вы с Маней мою Таньку называли Таня-парашют? И опять вы были правы. Я-то разбежался … у меня будет семья, ребенок, все устроиться … Ни черта у меня не устроилось. И вот … я знаю, что ты не понимаешь, почему я тебе все это говорю. Ладно … о Мане.
Я решил посмотреть, что в ней такого. Что у вас за секрет? Гриша, я просто хотел убедиться, так ли Маня добродетельна, так ли непогрешима, так ли она в конце концов хороша, чем она отличается от моих «парашютов», артисток и балерин?
— Убедился? Маня не смогла быть непогрешимой? Ты рад?
— Нет, не рад. Я не то хотел сказать … Я убедился, что она обычная женщина с нормальными реакциями … я все тебе расскажу, не перебивай меня, пожалуйста. Гриш, мне в последнее время было хреново. Я с диссером закрутился, профессор в Штаты собрался, с Танькой расстался, она ребенка моего убила … Я стал в себе сомневаться. И вот … насчет Машки я пару месяцев назад решил … решил ее трахнуть, во всяком случае постараться, мне хотелось ее заинтересовать в этом смысле …
— Зачем, Валер? К чему ты это затеял?
— Не знаю, Гринь. Сейчас я уже не знаю, что на меня нашло. Я все время об этом думаю, пытаюсь понять, зачем мне это было надо. Но было зачем-то надо. Это как наваждение. Решил и все тут … Подожди. Дай мне сказать. Ну вот … я к вам заходил … я стал на нее смотреть. Ну, ты знаешь, как я это умею.
— Знаю.
— Ну да… Так вот … она не отвела взгляд. Я это у нее в глазах прочел. Она меня захотела. Машка, ведь, баба, так?
— Так. Но это же не просто баба, это моя жена. Как ты мог?
Валера не ответил. Потом он снова начал сбивчиво говорить, повторяясь, на давая себя прервать, рассказывая одно и тоже в других выражениях. Гриша напряженно следил за Валериными рассуждениями, чувствуя себя вовлеченным в эту историю. Он теперь хотел знать и про Маню и про Валеру, хотел понять, как это могло случиться. Валера не говорил ничего для Гриши нового. Они сто раз обмусоливали эти, казавшиеся такими непреложными, истины:
— Ты сам понимаешь, что есть огромная дистанция между «хотеть и дать». Бабы все фантазируют, «хотят» того или другого. Я уверен, что Машка и раньше меня на себя «примеряла», сравнивала нас. Ну что тут такого особенного? Ничего, ведь, так? Но от мыслей перейти к делу — это уже другая песня. Это для большинства табу. Пойми, Гриш, это и для Маши табу. Она тебя любит. Тут другое …
— Что другое?
— Ну как … она устала, ей все приелось, все одно и то же: родители, ты, ребенок, школа, и потом опять то же самое, по кругу. Она как белка в колесе. Ей трудно стало это выносить. У нее вообще в жизни был один мужчина, ты …
— Валер, как-то все это легко получилось, я не понимаю … неужели все так легко?
— А что тут трудного? Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Она не любила меня, не любит, просто ей стало любопытно, и еще лестно.
— А каком смысле?
— А в том, что я увидел в ней желанную женщину. Она же после родов и повседневности стала в себе сомневаться. А тут я …
— Валер, скажи честно… правда, не ври мне: Маруське было с тобой хорошо?
— Да, что ты глупости спрашиваешь? Хорошо, плохо. Что ты имеешь в виду? Оргазм? Ну да, словила … да только в этом ли дело? Я же чужой, как может быть хорошо с чужим? Одна техника, без всего остального, а остальное важнее всего, а этого не было и быть не могло. Не было ни любви, ни радости, ни истинной нежности … как без этого … Я тогда я не думал об этом, а потом думал … только не знаю, надо ли тебе говорить? Я и так доставил тебе боль …
— Нет уж, ты мне все говори.
— Ладно. Я в последнее время только об этом и думал, может я не прав. Мне, Гриш, кажется, что ты ее чем-то обидел. Может не обидел, может это не то слово, но чем-то ущемил, задел ее … Это между вами, не мое дело …
— В чем я ее задел? Она говорила?
— Нет, мы с ней вообще о тебе не говорили. Мы и были-то вместе всего один раз, и ты как раз пришел. Я не хотел, чтобы так было. Поверь! Ты мне веришь?
— Я понимаю. Не пойман — не вор. Ты бы к ней еще пришел и еще? Скажи, только не ври.
— Не знаю. Вряд ли бы я еще к ней пришел. Мне было достаточно. Просто тут серьезная проблема «не обидеть». Хотя … мне показалось, что она бы тоже не захотела никакого продолжения. Так мне кажется. Маня не из тех, кто умеет иметь любовника. Тем более … меня. Ей было в чем-то важном со мной некомфортно. Я видел. И еще … последнее: как бы отвратительно я не поступил, как бы ты меня не осуждал, как бы не ненавидел, знай … я не хотел разрушать твою семью, не имел ни малейшего намерения забирать твою жену.
— Вот именно, Валер. Ты ее не любишь, она тебе не нужна. Для тебя это только игра была, игра, которая разрушила и нашу с Марусей жизнь и нашу дружбу. У меня была жена и друг, а теперь у меня никого нет, и это твоя вина.
— Прости меня, Гриша, ради всего, что нас связывает, прости. Такое простить нельзя, я понимаю. Если у нас с тобой сейчас последний разговор, что ж … это твое право, я пойму, но до конца жизни, я буду жалеть о том, что сделал. Ты прав, это моя вина, Машка не виновата. Прости хоть ее. Я верю, что вы сможете быть счастливы. Прости ее! Я тебя умоляю.
— Я бы простил, но не могу. У меня не получится, вот в чем проблема. Я не смогу тебя видеть, и делать вид, что все забыл, и не смогу с ней спать, выкидывая из головы, что ты в нее входил … просто не смогу, я бы рад.
Гриша вернулся домой уже поздно, Маня не спала. Гриша зашел в детскую, поправил одеяло на спящей Аллке, думая, что пора все-таки что-то решать, что разговор с Валерой состоялся, другого не будет, и надо либо жить нормально, не мучая ни себя, ни Машу, либо забирать свои вещи и переезжать к родителям. Маруся видимо каким-то образом догадалась, что он ездил встречаться с Валерой, но так и не решившись ничего у него спросить, уснула.
Гриша лежал без сна. Он никак не мог решить, стоит ли ему начинать разговор с женой. Все эти его вечные «с одной стороны, с другой стороны …», а что она ему скажет, а что он у нее спросит … он и сам не мог понять, что он сейчас по отношению к Марусе испытывает? Противна она ему? Да или нет? Он и сам не знал. Мысль жить отдельно от маленькой Аллки была невыносима, и скорее всего ему бы следовало просто, как говориться, «начать с чистого листа», никогда не говорить о происшедшем, никогда Машу ничем не попрекать … чтобы все было как раньше, но в том-то и дело, что Гриша не чувствовал в себе сил так поступить. Разве он сможет вести себя по-старому? Может им всем нужно больше времени? Разговор с Валерой что-то сдвинул с мертвой точки в его сознании. Раньше он подсознательно блокировал любые мысли о том, что произошло. Теперь он думал о них троих беспрестанно.
С Валерой они виделись только «по делу». Начало 90-ых, денег не было, их катастрофически не хватало. Валера по субботам, а иногда и по воскресеньям торговал на рынке в Лужниках парфюмерией, и уже довольно давно привлек к этому делу и Гришу. Они менялись, а иногда, когда был новый, только что привезенный из Турции товар, стояли за прилавком рядом, в дубленках, закутанные в шарфы, с шапкой на глаза, в валенках, которые Валерины родители привезли с дачи. Был уже конец апреля, становилось тепло, и продавать самопальные «французские» духи и одеколоны было уже не так мучительно. В последнее время Гриша перестал ходить в Лужники, но после разговора опять возобновил свою торговую деятельность. Деньги были нужны, да и дома Грише на все выходные оставаться не хотелось. За прилавком они с Валерой почти не разговаривали, только по необходимости. Это было странно, неестественно и глупо. Гриша ловил себя на том, что ему хотелось расспросить Валеру о его планах, рассказать о своей работе. Валере, он это чувствовал, хотелось того же. Но куда ему было деваться, это Грише следовало сделать первый шаг, но он не решался. Слишком сильно все было поломано.
Решение Грише приснилось, и осознав это, он почувствовал себя Менделеевым, которому приснился периодический закон. Однажды он под утро проснулся, медленно выходя из короткого яркого сна: они с Валерой играют во дворе в мяч. Гриша стоит на воротах, а Валера пробивает ему голы. Вдруг мяч, почему-то очень тяжелый, попадает Грише в лицо, идет кровь, очень больно и Валера бросается к нему, плачет, что-то кричит, обнимает … проснувшись Гриша понял, что Валера — друг, и сейчас тоже — друг, после всего … Если между ними все решится, то и с Маней решится, но сначала — они.
В конце концов Валера не влюблен в его жену, он не хотел и не хочет ее у него забрать, он взял, не надо было … но так вышло. Так что ж теперь? Неужели из-за одного раза, когда они, жена и друг, вдвоем совершили подлость … да подлость … назовем вещи своими именами, надо порвать то, что создавалось годами, десятилетиями? Ага … порвать! Ломать — не строить! А будет у него другой друг, такой же, как Валера? Другая жена? Нет, он останется один, он всегда будет один. Все зависит только от него, он сам может все сделать еще хуже, чем сейчас. И зачем это надо? Он же не идиот. А если предавать такое преувеличенное значение одному акту, когда Валера разок вставил Мане, тогда можно все потерять. И тогда … да, он будет идиот, мстительный, тупой, прямолинейный кретин, пошло исповедующий христианские догматы.
Что он собственно такое увидел? Валеркино тело рядом с Машкой. И что? Перечеркнуть всю свою жизнь? Не надо никаких покаяний и прощений, надо просто перестать так все это до такой степени брать в голову. Оно того просто не стоит. Вот и все. Секс вообще не такое уж важное дело. Его можно купить, в него можно играть, а вот любовь купить нельзя. Маня его любит, а Валеру — нет, и Валера ее — нет. Значит … а вот то и значит, что надо кончать беситься, жизнь коротка.
Гриша позвонил Валере ранним утром:
— Валер, все хватит. Я хочу тебя видеть.
— Ты меня простил?
— Да нет. Я просто не желаю об этом думать. У меня получится. И ты не думай. Ты можешь не думать о том утре, когда я пришел домой? Можешь?
— Не знаю, Гринь, откуда я знаю? Это наваждение. Но я постараюсь. А Маня?
— Что, Маня?
— Маня твоя жена, я же не могу никогда ее не видеть.
— Все решится … я думаю. И с Маней решится.
— Ты ее простишь?
— Не надо, Валер. Это наши дела. Никогда меня об этом не спрашивай. Обещай!
Валерка бы ему в этот момент пообещал все, что угодно. Они встретились на следующий день в баре на Калининском, и не могли наговориться. Слова лились нескончаемым потоком: мелкие эпизоды недавнего прошлого, шуточки, анекдоты, планы на ближайшее будущее. Конечно, в этом потоке слов была заметна некоторая натужность, но они не обращали на нее внимания, перескакивали с одного на другое: Валерина работы в ФИАНе, Гришина диссертация в педагогической лаборатории, совместные парфюмерные дела. Валера довез Гришу до дома в своей старенькой девятке, и вдруг потянулся со своего сидения обнять его, хотя никогда этого не делал. Гриша увидел на родной Валеркиной морде слезы. У Гриши тоже защипало в горле.
А с Маней у него не налаживалось вплоть до ее болезни. Был уже конец мая, очень тепло. Родители сидели на даче вместе с Аллкой. Гриша вернулся домой к обеду и с удивлением увидел, что Маня лежит в постели, хотя ей полагалось бы быть на работе. Она лежала поверх одеяла неподвижно, накрывшись пледом. Когда он вошел в комнату, она даже не обернулась. Что ж, нарушать молчание им теперь было трудно, особенно, когда вокруг никого не было. Гриша занимался делами, листал какие-то книги, сходил в магазин за хлебом. Маша даже позу не сменила, не вставала чай пить, не включила телевизор. Гриша не выдержал:
— Ты что лежишь? Заболела? Что с тобой?
— Ага. Мне жутко плохо. Не могу шею повернуть.
«Подумаешь, шею она не может повернуть» — Грише Машина болезнь не показалась серьезной. Но он видел, что с ней все-таки что-то не то. Это не могло быть из-за шеи.
— Ну-ка, встань. Я посмотрю, что у тебя с шеей. Встань, встань. Ты температуру меряла?
— Нет, не меряла. Мне больно шевелиться.
Гриша молча принес Мане градусник, дотрагиваясь до ее руки, он почувствовал, что она вся пылает. Ну да, за 39 … что это с ней? Это же не может быть от шеи. «Боже, что с тобой, Мань? Ничего себе температура! Надо неотложку …». Он и сам не заметил, как назвал ее «Маня». Как давно он этого не делал, старался никак к ней не обращаться, но сейчас Гриша почувствовал за нее страх, тем более, что жена никогда серьезно не болела. Надо что-то делать. Он протянул Маше руку и осторожно помог ей сесть. Маша застонала. Что-то у нее нестерпимо болело, ведь, как и большинство женщин, она была терпелива. Гриша продолжал поддерживать ее за плечи. Мягкое знакомое тело, очень сейчас горячее. А ведь с того самого дня он ни разу к ней не прикоснулся. Машина шея была вся раздута, и лицо тоже страшно опухло и изменилось: глаза — щелочки, на щеках нездоровый яркий румянец, раздувшиеся губы.
— Ты видела себя в зеркало? Что с тобой?
— Не знаю. Я думаю, я в школе подцепила свинку. Видишь, как у меня железки раздулись. Невероятная боль, при каждом движении у меня искры из глаз.
— Какая свинка? Это же вроде детская болезнь. Нет?
— В том-то и дело, что детская. Взрослые болеют очень тяжело. Я не болела свинкой в детстве. А ты, кстати, болел? Это очень заразно. Мужчинам плохо болеть. Маша чуть улыбнулась … а то … не сможешь …
— Я болел. Не волнуйся. И как видишь, ничего со мной не случилось. Я только не понимаю, что у тебя с лицом. Это, что, нормально?
— Не знаю. Я еще утром с работы вернулась, ушла с трех уроков. У меня так шея разболелась, я таблетку анальгетика приняла, а потом еще одну. Просто не могла терпеть больше.
— А что ты мне сразу не сказала, когда я пришел?
— Ну, Гриш, что я тебе буду говорить … ты же и так видел … откуда я знала, что тебе не все равно?
Гриша уже звонил матери и взволнованным голосом рассказывал ей о симптомах. Потом он снова вернулся в комнату.
— Мань, покажи язык. Мать велела посмотреть. Распух … ужас. Ты нормально дышишь? Мать говорит, что надо немедленно вызывать неотложку. У тебя может быть аллергия на большие дозы анальгетиков. Тебе хватает воздуха? Скажи.
Грише показалось, что Маша задыхается. Он не стал ей пересказывать всё, что сказала ему мать. У него все еще продолжал звучать в голове мамин нервный голос: «Гриша, немедленно … вызывай скорую! А я тебе говорю, вызывай! А я тебе говорю, что это очень опасно. У нее может быть шок, распухнет гортань и она задохнется. Умрет у тебя на руках и ты ничего не сможешь сделать. Пусть приедут как можно быстрее и сделают укол антигистамина. Сейчас же вызывай, вешай трубку! Заткнись, я сказала! Все, я перезвоню. Тут сейчас не в свинке дело. Про свинку потом. Сейчас надо ее приступ купировать». Гриша уже не советуясь с Машей, вызвал неотложку и вернулся к кровати. Машино лицо еще больше опухло, она, не переставая, стонала и плачущим голосом просила принести ей «еще одну таблетку». «Нет, Мань, нельзя тебе больше таблеток. Потерпи, я тебя прошу». Маша закрывала глаза, головой она крутить не могла, но ноги ее беспрестанно ерзали по кровати. Гриша не помнил себя от жалости:
— Манечка, потерпи. Я здесь, здесь. Я никуда не уйду. Я с тобой.
Бедная Маня, как она мучается. Лучше бы ему так было больно. А он-то дурак раньше к ней не подошел, а она его не позвала, боится … бедная. Где же эта проклятая скорая? Тут сдохнуть можно пока они приедут … звонок в дверь. Наконец-то! Мане сделали два укола: антигистаминный и жаропонижающий. Так ему объяснили. Названий лекарств он не запомнил. Звонила мать, потом Валера, он ему громко и возбужденно пересказывал всю эпопею, не замечая, что волнение за Маню вытеснило из его души накопившуюся мерзость. Валера тоже разволновался: «Хочешь, я приеду? Приехать? Я могу помочь, у меня есть знакомая врачиха в первой Градской. Я приеду, что вы там одни» — он искренне хотел их поддержать и Гриша понял, что все у них вернулось к исходному рубежу. Ну, почти вернулось. Просто нужно было больше времени, чтобы травма совсем перестала напоминать о себе нежданной глухой болью.
А потом все как-то быстро покатилось. Валера уехал в 91-ом. Профессор его позвал довольно скоро после своего собственного воцарения в Америке. Валера занимал довольно уже неплохую должность в ФИАНе, был заместителем начальника лаборатории. Какое-то время он колебался, но потом решился. Родители ехали с ним, согласившись на иммиграцию без лишних истерик: где сын — там и они. Для них это было логично. Валера продал квартиру, получив за нее жалких 100 тысяч долларов, что по тем временам казалось запредельной суммой. Он был увлечен Янкой, которая пока оставалась в Москве по каким-то своим причинам, в которые Грише было лень вникать. Перед отъездом Валера заходил прощаться, они крепко выпили, пожелали Валере счастья, там и Гришины родители были. Гришина мама расплакалась, и все повторяла: «Валерочка, милый, неужели я тебя больше никогда не увижу? Как же так?», а Валерка горько улыбался, мужественно сдерживая слезы.
В аэропорт Маня неожиданно отказалась ехать, сославшись на Аллку, которую «незачем туда тащить». Гриша не настаивал. Что-то там еще у нее в голове было, чего он и знать не хотел. С работой тогда у него все получалось, он опубликовал несколько статей, выпустил небольшую книгу по методике изучения французской классики, потом еще одну по так называемому «аналитическому чтению». По сути это был учебник, сборник текстов с упражнениями, темами сочинений и вопросами дисскуссий. То, чем он занимался нравилось ему все больше и больше. Диссертация по методике преподавания аналитического чтения тоже уже была вчерне готова. Валера изредка звонил, рассказывал о своих успехах, и в конце разговора регулярно признавался, что скучает по Грише и звал его в Америку, хоть в гости.
Что греха таить. Гриша задумывался об иммиграции. Люди вокруг него уезжали. Ученые, инженеры, программисты … это было понятно. Некоторые даже получили вызов на работу, подписав контракты и не особенно понимая, насколько контракт для них выгоден. В воздухе сквозило настроение «надо валить». Зачем, почему? Люди не особенно об этом задумывались. «Они едут … и правильно, но я-то … что я буду там делать? Я ничего не умею. Кому там нужен мой французский? Я не смогу обеспечить семью» — Гриша старался быть реалистом. Да и до защиты оставалось уже совсем недолго. Но каждый раз, когда он узнавал, что чья-то семья уезжает, он начинал нервничать, расстраивался, что он неудачник, упускает свой шанс, слабак … носится со своей диссертацией, а зачем она ему эта диссертация, если все равно на работе платят копейки?
Это чувство у него обострялось после Валериных звонков. Валера звал его, впрочем, осторожно. Он не говорил, что надо все бросить, и очертя голову кидаться в Америку, да и разницу между их профессиями друг прекрасно понимал. По-этому вместо того, чтобы говорить «приезжай», Валера просто тихонько жаловался, что «скучает» … а там уж Гриша мог как угодно интерпретировать эту жалобу. Он и сам страшно скучал по Валере. Иногда это чувство утраты накатывало внезапно и становилось нестерпимым. Без Валеры было скучно, тоскливо, пусто. Гришина жизнь всегда состояла из семьи, работы и Валеры, а теперь одна из этих ниш была не заполнена. Никто другой кроме Валеры был Грише не нужен. Все приятели и коллеги глухо раздражали. Диссертацию он защитил при большом скоплении народу, но люди эти Грише почему-то не нравились, он с грустью думал, что теперь будет одним из них …«педагогом», который с важным видом будет учить других, как преподавать. В голову при этом навязчиво лезла фраза из Чеховской записной книжки, насчет «умный любит учиться, а дурак учить».
Вряд ли бы он решился иммигрировать, но Валера нашел ему работу. Уже давно он просил Гришу перевести и прислать все публикации, автореферат диссертации, дипломы, рекомендательные письма. Он с кем-то из американцев работал над Гришиным резюме, длинным, называвшимся в американской академии как-то красиво, по латыни. Что-то Валера задумывал, и в последнем их разговоре неожиданно Гришу спросил: «Гриш, слушай, а ты бы сюда приехал, если бы у тебя была работа?» — что тут ответишь? Гриша так и сказал, что он не знает. И вот в конце учебного года он услышал взволнованный Валерин голос: «Гришк, я тебе работу нашел, пока на год, а там что-нибудь другое подвернется. Ты меня слышишь? 3 класса, и обзорный курс по литературе 19 века. Ну, ты приедешь?».
Грише было мучительно трудно принять такое решение. Из Академии Педнаук следовало уходить. Они бы никогда не отпустили его ни в какую Америку, просто из жлобства и зависти. А у него в Академии какая-никакая карьера. Уволится, обратно не возьмут. А если в Америке ничего не выйдет? А вдруг он не сможет там работать? Какой из него ученый? Он же не Валерка … Решать надо было скорее. В Портленде в городском университете нанимали «приглашенного профессора», с перспективой читать на следующий год курс «литературы перестройки», как Валера говорил, Россия в Штатах была в моде, и гуманитариям надо было ловить момент. Маня его поддержала, да Гриша и знал, что она не станет вставлять ему палки в колеса. Никаких страхов, причитаний, умоляний, стенаний … «да, поедем. Да, хороший шанс. Родители? Они тоже поедут, и твои и мои» — вот что она сказала.
На работе у него тогда произошел небольшой, но неприятный инцидент. Гриша собирался издать сборник текстов для изложений для учеников старших классов спецшкол. Все было готово, и вдруг начальник лаборатории вызвал его к себе в кабинет и убедительно попросил взять в соавторы племянника замминистра. Гриша онемел от такой наглости. Начальник говорил, что он не может настаивать, но «ему позвонили и настоятельно попросили … что их всех и Гришу в частности, это ни к чему не обязывает, а их лаборатория как раз курируется … от него зависит финансирование … он в долгу не останется. Гриша, дескать, должен понимать, что публикацию могут и тормознуть, что они зависят от положительных отзывов, а если … в общем Гриша понимает …». Да что тут было не понимать? Уроды! Он всё сделал, а этот папенькин сынок теперь упадет ему на хвост и будет ехать столько, сколько ему вздумается. Было противно и обидно. Ну, что за страна? Решение уехать, ничего мстительно не публикуя, созрело в Гришиной голове еще там в кабинете у начальника. Да, пропади вы все пропадом! Хватит. Здесь всегда так будет. В глубине души Гриша конечно прекрасно знал, что «кулаками он размахался» только потому, что Валера ему в Америке что-то нашёл, а если бы не это, он бы унижение прекрасненько бы «скушал», и взял «сынка» в соавторы.
В следующем учебном году Гриша уже преподавал в Портленде. Сначала было трудно приспособиться к новым порядкам, он уставал от английского. На следующий год, он переехал преподавать в университет штата Орегон, и учился там в аспирантуре, которую досрочно закончил, получив вторую докторскую степень, уже по французской литературе. Вот так они с Валерой и жили в Америке уже больше двадцати лет.
Гриша возвращался домой с работы обычной дорогой, петляющей среди лесистых горок. На узком шоссе нужно было быть внимательным, но он так давно здесь ездил, что повороты руля, и частое легкое притормаживание на виражах стали для него совершенным автоматизмом. В последнее время Грише чего-то не хватало, и сейчас, сидя за рулем, он себе честно признался в этом «чего-то»: жить — скучно! Через пару месяцев Аллка рожает второго ребенка, но это событие, как бы оно не затрагивало Гришу, никоим образом от него не зависело. Прошлым летом они с Марусей съездили в Колорадо, этим летом они разумеется, никуда не поедут, ведь с новым младенцем Маня ни за что не расстанется. Ну, побывает он разок у Валеры, или Валера к ним приедет, а дальше что … Гриша и сам знал, что «дальше ничего», да и что он собственно от жизни ждал. Самому себе врать не стоило. Лишнюю жизненную энергию он всегда тратил на книги, но сейчас почему-то не писалось. Гриша иногда садился за компьютер, открывал по очереди свои файлы с начатыми и недописанными текстами, но все старые идеи казались ему теперь блеклыми, недостойными дальнейших усилий. То один то другой текст привлекал его внимание, он писал еще отрывок, но ни одну книгу так и не закончил. Был уже почти конец учебного года, скоро каникулы, с традиционной летней школой посередине. Прошел еще один учебный год.
Надо было взять себя в руки и работать. По опыту Гриша знал, что если он по-настоящему увлечется, время потечет быстрее, дни будут мелькать незаметно и жизнь приобретет ни с чем не сравнимый аромат творчества, когда утром хочется быстрее встать и начинать работать. Он мечтал о таком состоянии, и одновременно побаивался его.
А если заняться «мертвыми»? Если бы эту Гришину мысль кто-нибудь услышал, он бы пришел в ужас: «Кем, кем заняться?» Хотя … как на это посмотреть. Он сейчас со студентами заканчивал читать небольшой и достаточно второстепенный роман Сартра, где герои, мужчина и женщина, трагически погибают. Их из загробного мира отпускают на три дня в мир живых, при условии, что они полюбят друг друга, то-есть, если их любовь победит все другие проблемы, они навсегда покинут мир мертвых. Все идет прекрасно, герои влюблены, но проблемы, было отступившие на второй план, вновь начинают довлеть над их жизнями, делаются важнее любви и герои вновь погибают от тех же причин, что и в недавней реальности, не в силах освободиться от своей навязчивой идеи, которая привела их к смерти.
Обычное Сартровское «тра-ля-ля» про ангажированность. Долгие годы Гриша разбирал со студентами самую известную пьесу мэтра «За закрытыми дверями». Он там знал уже каждое слово. Этот текст его буквально доконал, пора было наконец сменить пластинку. Он давно собирался найти какой-нибудь другой небольшой текст, но было лень снова готовиться к занятиям. Старая заезженная пьеса была известна наизусть. Гришу можно было ночью разбудить, он сразу выдал бы про «ад — это другие» и ангажированность. В этом семестре он наконец собрался поработать с другим романом, в котором было, разумеется, про это же, но по-другому. Да, сейчас дело было вовсе не в Сартре и его сверхважных концепциях, дело было в мертвых, возвращающихся в мир живых. Тема отнюдь не новая. Гриша открывал соответствующую страницу в интернете, и убедился, что сюжет, как таковой, буквально обсосан под разными соусами десятками авторов. Только ленивый об этом не писал.
Предположим, кто-то возвращается, но тут надо обязательно показать «зачем». В этом «зачем» все дело. Во множество книг и фильмов происходит история «наоборот»: герой умирает и попадает «туда», и это экзотическое библейское «там» цветисто показывается: если рай — то разные оттенки «красивого и странного», если ад — то все мрачно, тоскливо, страшновато и безысходно. В историях, как бы они не были поданы, заложена весьма прямолинейная философия. Это-то понятно, речь же идет о клерикальный, тяжеловесной категории. И однако, идея «мертвых», которые пришли, вроде как, обратно, не покидала Гришин мозг, который услужливо подсказывал ему фразу молодого и известного французского писателя, он забыл его имя: «писатели сказали уже обо всем, но я скажу по-своему, ведь так как я, не сказал никто».
Идея нового сюжета терзала Гришу неотступно, хотя она была еще настолько неясная и зыбкая, что он был пока не готов оформить ее во что-то конкретное. «Я свихнусь на этих долбаных мертвецах …», — Гриша звонил Валере и жаловался другу, что он «прекрасно болен», только не любовью, как Маяковский, а … мертвецами. «Валер, понимаешь, Маня мне о чем-то говорит, а я …да, да, а сам … уже весь в своих „мертвецах“». Валерка смеялся и заставлял Гришу делиться с ним планами новой книги. «Гринь, но это же классно! Я уже жду, не дождусь … давай, Гринь.» Валерка был самым преданным его почитателем, жаль, что единственным. Но остановиться Гриша уже не мог. Ночи стали пыткой, им овладевал привычный, и не сказать, что такой уж приятный зуд. Возбужденное, вздыбленное состояние: идея — мимо! Новая идея — опять мимо. Долгие обкатывания в голове разных ходов и неминуемое их отбрасывание. Недовольство собой, досада, сомнения в своих способностях, острое желание немедленно прекратить валять дурака и осознание невыполнимости своего желания. «Почему честно себе не признаться, что ты — графоман! А если ты все про себя понимаешь, то что упорствуешь в своих глупых амбициях?» — такие мысли были привычнее всего. Гриша продолжал томиться, и в этом для него как раз и был мерзкий симптом графомании: «плохо, но все равно буду … потому что не могу прекратить писать!»
Вчера ночью, измученный бесплодными мыслями, уже после двух часов он спустился на первый этаж, открыл балконную дверь и вышел на воздух. Самое начало мая, теплый ветерок колышет кроны деревьев, за узкой речкой через овраг видны редкие ночные огоньки. В тишине явственно доносится шум проезжающих по ближайшему шоссе машин. В соседнем доме почему-то вечно горит внизу яркий свет. Что они там по ночам делают? А что если вдруг … Гриша почувствовал, что он знает, как надо ввести «мертвеца».
Начать ярко, броско, неожиданно, с первой фразы задать тон интриги, сразу очень высокая нота, а потом … обороты сбавить, но зато начать постепенно вживать «новенького» в привычный мир семьи, откуда он давным-давно исчез. В результате получится, что роман — не триллер, не мистика, не фэнтэзи, а серьезная проза об осознании проблемы адаптации кого-то «старого и бывшего» к совершенно «новому» миру. Гриша увлекался все больше и больше. Он сел к компьютеру, боясь потерять нить, растратить запал … надо было все быстрее записать. Гриша чувствовал, что «пошло» …, так, так … надо ловить момент.
Итак: он возвращается … или она? А вот как мы сделаем: героиня будет «она». Гриша давно был заворожен женским образом, она — «принимает», а вот пришельцем оттуда будет «он», это более веско. И вообще, пусть «вернется» отец женщины. Этим мы выиграем в эмоциях. Баба офигеет больше, чем мужик. Когда он, «папа», умер, она, «дочь», была молодая женщина, а сейчас … пожилая. Ее дети были совсем маленькими, а сейчас — они взрослые………………………
Половину членов дружной семьи «папа» не знает вовсе, им надо знакомиться, приноравливаться друг к другу. Это не их выбор, это просто «случилось» … и? Проблема адаптации: бытовой, моральный, психологический аспект. Главная коллизия: нужен ли им сейчас давно умерший отец? Да? Нет? У него была роль столпа семьи, но возможно ли «вернуться в ту же воду?» Каким будет его новый статус? Другие мужчины вытеснили его. Пустят ли они его обратно? Будет ли иметь в семье место подобие «борьбы за власть»?………………………………
А его дочери уже почти столько же лет, сколько ему. Что он сможет принять, а что — нет? Моральные издержки … да, еще какие. Всем плохо. Да, плохо, но иногда, наоборот, они — ощущают счастье …, ведь это самое главное желание человека, который теряет близких: вернуть! Это желание сбывается, и …? Что испытает героиня, которая вновь стала «дочерью», не «крайней» … не старшей в семье, не той, которая будет следующей? Это плохо или хорошо? Объяснить почему такие «качели»: счастье — несчастье………………………………
Очень серьезный вопрос: знал ли он «там» о перипетиях их существования, следил ли за их жизнью? Мог ли что-то знать? Взаимный интерес? Он ими интересовался? Ну да, все то же … Они жили, а он — остановился … Ага … Может ли развитие быть ему теперь присуще? Он же, грубо говоря, не человек, он … ну, скажем, что-то другое ………………………….
Так, дальше … насколько они все, или только героиня, как рупор семьи, будут задавать ему вопросы про «там»? Нормальный интерес живых … разве не так? Так … будет ли он о «там» рассказывать? Если нет, то почему, если да, про как и про что?…………………………………………
Картины «там» не избежать, но надо что-то очень минимальное и странное. Вот, например, если, предположим пришелец — «отец», то можно его спросить о матери «там», о других родных, большинство же умерли … что он скажет? Это интересно! Как все устроено?……………………….
Не забыть описать его «внешний вид» … какой он? Обычный, такой, каким умер, или молодой, или как в гробу. Нет, не стоит … останется ли в нем причина его болезни и смерти?………………………………
И вот что … знает ли он, от чего живые умрут и когда? Спросят ли его об этом? Ответит ли он?…………………………………………………………………….
Так … и самое главное … вопрос вопросов: зачем он приходит? Нужна очень веская причина! Остальное — ерунда, беллетристика, а ответ на этот вопрос — это ключ, иначе и роман писать не за чем……………………………………
Или вот, например, там же и «мать», общались ли они «там», сохранили ли свою любовь, и вообще … почему «мать» не вернулась? Ей что, не хотелось? На все эти вопросы должны быть ответы. Да, это может стать интересным поворотом: мать «там» уже не с ним, а с другим мужчиной, соответственно с другими бывшими людьми. Мать проживает альтернативную историю, то-есть, оказывается, она возможно прожила «не свою» жизнь … а теперь ей дают шанс прочувствовать и испытать другое … это можно развить и это объяснит, почему «мать» не вернулась … Хотя … нет, правильно. Уже постфактум, «дочь» воспримет это как предательство … неприязнь к умершей? Может и так …
Как «он» воспримет правнуков? Это бытовой, но тоже интересный уровень. Нужны ли отдаленные поколения друг другу?…………………………………….
И самое интересное, как все закончить? А легко … он, ну … «папа», пришелец, просто исчезнет, уйдет куда-то там, исчерпав свою миссию. Раз — и нет его. «Миссия» должна быть очень веской, иначе … ну да, ну да … это он уже записал. Дальше что?……………….
Моральный итог: после «пришествия» им всем стало труднее, или легче? Что-то изменилось, или просто исчезли круги на воде? Интересно! Будет класс … да, да. На этот раз все получится…………………………………
Гриша чувствовал, что у него может быть получится серьезная вещь, сочетающая в себе элементы разных жанров: мистика, философская проза, роман-эссе, приключения, психологическая драма … Понятно, что он набросал свои мысли о новой книге только в первом приближении. Все так хаотично, что посторонний и понять бы ничего не смог. Валера бы сразу понял, а другие — нет. Да, только кто чужой это прочтет? Дуракам полработы не показывают. Эх, и полную работу показать будет некому. Гриша это знал, но понимал, что начнет думать о книге неотступно, добавляя к первичной концепции все новые и новые детали, отшлифовывая канву, скрупулезно записывая в новый файл каждое соображение, описание, выбор лексики, мелкие сюжетные извивы.
Он устал. Возбуждение внезапно спало, Гриша почувствовал, что на сегодня хватит, пора спать. Маруся сладко посапывала, Гриша улегся, и успев подумать, что завтра, слава богу, понедельник, сразу провалился в сон. Часы показывали половину четвертого. Он даже не слышал, как Маня уходила на работу. Утром Гриша наскоро выпил кофе и открыл начатый ночью файл. Мощное желание писать охватило его. Нестерпимый импульс, до дрожи в пальцах. Файл он условно назвал «мертвец», сейчас это не имело никакого значения.
Ирина не могла уснуть. Она лежала в постели, бесконечно переворачиваясь с боку на бок, пытаясь поудобнее подсунуть то под одно то под другое плечо подушку. В комнате была нормальная температура, но Ирине почему-то было то слишком холодно, то слишком жарко. Она отворачивала одеяло, лежала раскрытая пять минут и потом снова укрывалась. Рядом спал муж. Ему можно было только позавидовать: ложился, секунду умащивался и немедленно засыпал. В неясном полумраке комнаты Ирина слышала, как он спит, ей всегда казалось, что она как раз и не может уснуть из-за его посапывания, вздохов, всхрапов и причмокиваний. Когда шум становился слишком громким, Ирина легонько стаскивала с него одеяло, Федя поворачивался на другой бок, на некоторое время становилось тихо, потом все повторялось. Ирину раздирали муки совести. Стаскивает одеяло, мешает Феде спать, но держать под контролем свое растущее раздражение она тоже не могла: из-за него она не может уснуть. Впрочем, по опыту Ирина знала, что уснуть она не может вовсе не из-за Фединого храпа и сопения. Ее ноги ни секунды не могли оставаться в покое, тело не расслаблялось, а как с этим бороться было непонятно. Измучившись, Ирина вставала, шла в соседнюю комнату, где ходила взад-вперед в ночной рубашке, накрывшись пледом. От движения ноги переставало пощипывать нервными иголочками, зато заболевала поясница, и начинала побаливать голова. Так происходило то хуже то лучше почти каждую ночь.
Сегодня было по-настоящему плохо. Ирина уже три раза вылезала из постели и пыталась движением себя укачать. Каждый шаг давался ей все с большим трудом, глаза слипались, их стало тяжело держать открытыми. Ирина вернулась в кровать и легла на левый бок, ей показалось, что она сейчас сможет уснуть. И действительно, мысли ее стали путаться, дыхание сделалось ровнее, тело начало расслабляться. Она еще слышала Федино посапывание, но оно перестало раздражать. Ирина находилась на легкой, еле уловимой грани между сном и бодрствованием, когда органы чувств на секунду перестают функционировать наяву, чтобы сейчас же снова заработать во сне.
И вдруг Ирина услышала звук переливчатого, громкого и неприятного звонка. Он раздавался очень редко, так как входная дверь у них была целыми днями открыта, нужно было просто нажать на ручку и войти. Они все так и делали. В звонок звонили только пытающиеся что-то продать ребята, обходившие все дома и изредка миссионеры-евангелисты, раздающие брошюры заблудшим, чтобы они обрели наконец благодать. В первое мгновение Ирине показалось, что звонка на самом деле не было, что она уже уснула и ей просто пригрезился этот звук. Но звонок после секундного перерыва возобновился. Настойчивая трель, противно бьющая по нервам, тревожная, нелепая в ночной тишине. Ирина подняла голову и посмотрела на красные цифры будильника: 2 часа 8 минут. «Кто бы это мог быть? Что за чёрт? …» — Ирина была совершенно сбита с толку. Если во входную дверь звонили посреди ночи, это могло означать что-то экстраординарное, скорее всего плохое, какую-то ужасную новость … в голове у Ирины мелькнули варианты … соседи, у которых что-то случилось … полиция … пьяный бомж … может водитель, попавший в беду … Самый плохой вариант — это полиция. Если они пришли ночью, значит с близкими случилось несчастье, а что еще …
Звонок звучал, как набат, а Федя безмятежно сопел. «Интересно, какой силы нужен звук, чтобы его разбудить?» — весь Иринин страх и беспокойство вылились в раздражение против мужа. Она взглянула на часы на его тумбочке: неприятно яркие голубые стрелки показывали 2 часа 9 минут. Прошла всего минута, звонок не прекращался и Ирина грубо толкнула мужа в плего. Федя дернулся и ошалело уставился на нее. В следующую секунду он осознал, что звонят во входную дверь и посмотрел на свой будильник:
— Кто это? Сейчас ночь.
— Откуда я знаю, кто это? Они уже давно звонят, но ты же ничего не слышишь. Можно даже в комнату зайти, ты не проснешься.
— Сейчас же … ночь.
— Да, ночь. Ты мне это как новость сообщаешь. В том-то и дело. Что-то случилось.
— Ладно, спи. Ничего не случилось. Это ошибка. Они сейчас уйдут. Не будем открывать. Незачем.
— Никуда они не уйдут. Ты не слышишь, как настойчиво звонят? Надо спуститься посмотреть, кто это … что-то случилось. Я уверена, что это полиция. Ты что так и будешь здесь лежать и делать вид, что ничего не происходит?
Федя вылез из-под одеяла и стал наскоро одеваться, путаясь в одежде. Ирина тоже встала и накинула халат. Внизу Федя зажег свет и вытащил из ящика большой кухонный нож. Звонить на секунду перестали, потом снова начали. Федя подошел к двери и выглянул в глазок. В самом низу тоже был «глазок», совсем низко, для ребенка. Чтобы в него посмотреть, надо было бы встать на корточки. «Кто там?» — шепотом спросила Ирина. «Плохо видно … какой-то, вроде мужик» — еле слышно ответил Федор. «Who is there?’ — громким напряженным голосом крикнула Ирина. „Откройте, это — я“, по-русски ответили с другой стороны. „Кто я?“ — уже сдержаннее спросила она. Что вам нужно? Сейчас два часа ночи». «Откройте, я объясню … пожалуйста. Вы должны мне открыть.» — настаивал смутно знакомый голос. Федя стоял рядом, продолжая сжимать в руке нож. Выглядело это все уже глупо. «Открой ему … разберемся. Не пойму, что ему надо» — решила Ирина. «Вот пусть скажет сначала, что ему надо, а потом мы откроем» — было видно, что Федя раздражен, испуган: «Да, что вам надо от нас? Это разве не может потерпеть до завтра?» «Ир, открой пожалуйста» — мужчина за дверью ее откуда-то знал, назвал по имени.
Ирина отодвинула задвижку замка и открыла дверь. Человек стоял на плохо освещенном крыльце и молчал. Немолодой, небольшого роста, в неновом темном костюме. В руках у него ничего не было. Довольно модные черные ботинки, характерно расставленные в стороны ступни, покатые плечи, одно выше другого … это был ее отец, умерший почти 30 лет назад. Ирина немедленно узнала его волевое лицо с крупным носом, небольшими, глубоко спрятанными под надбровьями глазами, тонкими, крепко сжатыми губами. Отец. Хотя конечно это не мог быть он, просто похожий мужчина … Какая-то дикость. По тому, как напрягся Федор, Ирина поняла, что он отца, или невероятно похожего на него человека, тоже узнал. Мужчина шагнул в дом и чуть зажмурился от яркого света. «Это я, не удивляйтесь. Я вижу вы меня узнаете. Ир, это я.» — проговорил он, обращаясь к Ирине. «Папа … этого же не может быть … какая, однако, мерзкая галлюцинация… — подумала Ирина. Но Федька же его тоже видит. Мне все это снится. Вот чёрт». При таких обстоятельствах разговаривать с псевдо-отцом было глупо, но Ирина не могла сдержаться:
— Мой отец умер от инфаркта в 88 году. Умер, вы понимаете?
— Понимаю. Умер … я с этим и не спорю, но…
— Что «но»? Зачем вы это делаете? Какой-то жестокий розыгрыш … уходите.
— Нет, я не могу уйти. Сейчас не могу. Ир, посмотри на меня. Это же я …
— В каком смысле «ты»? Этого не может быть. Мы все это понимаем …
— Может … редко, но может. Я не могу вам всего объяснить … просто примите, что я — это я. Просто примите это, как данность.
— Но ты же мертвый … так? Ты умер, мы тебя похоронили … кремировали … я не понимаю. Где ты был все это время? Человек умер, и его нет … нигде. Твое тело сгорело, мы прах захоронили. Все было кончено … в возрождение души я не верю … Или ты мне все объяснишь, или … уходи. Мой отец умер.
— Ир, Федя. Давайте сейчас не будем об этом. Поверьте, все это не так уж и важно. Если вы сомневаетесь, что я пришел … я могу доказать, что сейчас речь не идёт о глупом розыгрыше. Я знаю такие вещи из нашей общей прошлой жизни, которые никто знать не может. Ладно … я устал.
Отец разговаривал совершенно нормальным голосом, тем голосом, который у него был до операции по удалению обеих связок. Отец заболел раком гортани, долго отказывался от операции, сохранял голос, потом его прооперировали и он научился разговаривать хрипящим, странным, пугающих людей звуком «из живота». Но сейчас никаких последствий операции было незаметно. Он сел на диван, устало облокотился о спинку и прикрыл глаза. «Пап, может быть ты хочешь чаю? Я могу дать тебе поесть …»— Боже, что она такое говорила? Он — мертвец! Какой чай, какой «поесть»? Бред! Но выгнать его Ирина уже не могла.
— Да, я бы выпил чаю … больше ничего не надо. Я устал. Пойду спать. И вам нужно ложиться. Завтра поговорим.
— Давай, пап, садись сюда, к столу.
Надо же: она его «папой» назвала. Как будто как и надо. Ирина суетилась, грела чайник, пододвигала отцу варенье, видела, как он по-старинке, как когда-то отщипывает чайной ложкой кусочки яблока и кладет их в чашку. Кровать в гостевой комнате на втором этаже была застелена чистым бельем. Ирина показала отцу, где туалет, и они с Федей вернулись в спальню. Ей страшно захотелось спать. Последней Ирининой мыслью было осознание, что отец теперь с ними и что к этому надо привыкать. Наступит завтрашнее утро, они во всем разберутся, или не разберутся … только это ничего не изменит. С ней и со всем ее семьей произошло нечто из ряда вон выходящее, а хорошо это или плохо, Ирина пока не понимала. Она ждала, что Федя что-нибудь скажет, но он предпочел промолчать. А что он мог сказать. То, чему они стали свидетелями, было слишком огромно и необъяснимо, чтобы сейчас пытаться обсуждать это на бытовом уровне.
Написание этого отрывка Гришу обессилило. У него заболела голова и стало понятно, что сегодня писать дальше не получится. Хватит. Сейчас ему казалось, что файл «мертвец» он закончит, сделает из него роман про возвращение из небытия. Было уже пять часов, Гриша набрал Валерин номер, торопясь поделиться с другом своими успехами до Маниного прихода с работы. При ней о своих опусах он говорить воздерживался, давно уже даже и не пытаясь себе объяснить, почему он может обсуждать свое творчество только с другом. Разве Маруся не стала бы слушать? Стала бы. Разве она не прониклась бы его порывами? Прониклась бы. Он ее интересовал на всех уровнях, но … было противное и непонятное «но». Холера его забирала. Гриша и сам не знал, зачем он играет в молчанку со своей семьей, а вот Валере горазд хвастаться своими текстами, давать ему читать готовое, выслушивать комментарии. Да черт его знает «почему»? Это так, а не иначе.
Валера снял трубку после первого гудка. Он все еще был на работе.
— Привет, Гринь.
— Ага. Я роман про «мертвеца» начал.
— Обалдеть. Получается? Сколько ты написал? Пришли мне текст. Давай.
— Да, не … Валер, там только начало … как мертвый чувак вернулся, и как они его в первый раз увидели … Я пока больше ничего не написал.
— Гринь, дай мне хотя бы это начало. Мне интересно … давай, шли …
— Да тебе потом будет неинтересно читать. Подожди.
— Нет, я не могу ждать. Пришли. Это будет с ума сойти что … такого еще никто не писал.
— Да, писали, Валерик, писали. Да еще сколько.
— Гришунчик, не морочь мне голову. Пришли пока то, что готово. Жду.
Гриша послал текст, прекрасно зная, что Валера сейчас все прочтет и ему перезвонит. Минут через двадцать так и произошло.
— Гришка. Сильно и стильно. Они не верят, но принимают. То-есть вынуждены поверить, потому что не поверить нельзя. Ну, то-есть … они не верят, но вынуждены принять то, что видят. Это нормально, что они после этого сразу засыпают, тут эмоциональный перегруз. И еще … ты сразу даешь эпизод … такой накал, что от этой книги нельзя будет оторваться. Я сам не могу дождаться, что у них будет утром. Помнишь у Шукшина … «А поутру они проснулись». Гринь, а чей там будет папа? А Ирина … кто? Мы ее знаем?
— Ты же знаешь, что у меня всегда переплетается вымысел с реальностью. Наверное я делаю персонажами людей, которых когда-то знал … у меня всегда так. Посмотрим.
— Гришка … я тобой восхищаюсь. Я же сам так не умею, ни за что бы не смог. Гришуня, только не бросай, пиши … Как только у тебя что-то будет новое, сразу же шли. Ладно? Договорились? Я все брошу и буду читать. Я вообще не понимаю, что я сижу на жопе? Надо мне начать искать издателя. Мы должны твои вещи публиковать. Ты сам-то понимаешь, какой у тебя талант?
— Да, ладно тебе, Валер! Перестань. Я не хочу ничего публиковать. Зачем мне это?
— Да, врешь ты все! Какой писатель не хочет, чтобы его книги читали? Просто ты в себя не веришь, а я в тебя верю. Я сам этим займусь. Ладно, пока. Работай дальше. И вообще … вы, Григорий, — настоящий писатель!
— Валер, хватит!
— Что «хватит», что «хватит»? Ты ничего сам про себя не понимаешь.
Гриша повесил трубку и вдруг необыкновенно ясно осознал, что Валера — единственный в мире человек, который его безоговорочно понимает, который всегда, в любой миг своей жизни, готов выслушать, понять и поддержать. Ему стало привычно стыдно, что он так редко думает о Марусе, и тем более об Аллке. Они — его самые любимые девочки, но девочки — это девочки, а Валера — его друг, другого такого у него никогда не будет. Когда-то он его встретил и всё … Что «всё»? «Всё» в том смысле, что другого друга у него никогда не будет, их дружба — это сложное, необыкновенно удивительное явление, которое нуждается в осмыслении, литературном … осмыслении. Вот написать бы книгу о Валере, о них двоих, о дружбе! Нет, не получится … не получится. Гриша подумал, что он к этому не готов, пока не готов.
Вечером они с Маней посмотрели какое-то политическое ток-шоу, потом очередную серию ежевечерней дряни. Маруся пошла спать, а Гриша взял с полки синий томик «Опытов» Монтеня. Он очень давно не брал в руки эту книгу. Ага, вот глава номер 28 «О дружбе». Монтеня Гриша всегда воспринимал, как близкого и понятного человека. Свойский обычный, образованный и умный дядька. Жил в 16-ом веке … и что с того? Читаешь его и ловишь себя на мысли, что тебе это тоже в голову приходило. Гриша принялся читать главу, узнавая давно нечитанный текст. Монтень писал о дружбе вообще, но имел в виду свою дружбу с Этьеном де Боэси, с которым познакомился на службе в парламенте города Бордо. Боэси был постарше, но как писал Монтень «такая дружба встречается раз в 300 лет». Ну да понятно, женщина — наша жена, мать наших детей не может быть «другом», просто потому что она женщина, следовательно она не может нас понять и мы ее не можем. А вдруг это правда? Гриша был не готов к такому отношению к женщине … но Монтень написал то, о чем он и сам размышлял, и даже обсуждал это с Валерой. Они же тоже всегда отличали любовь и семейную жизнь пары от мужской дружбы, именно мужской, женская дружба, как они всегда думали, существует, но никогда не может стать такой всепоглощающей, как мужская, женщина, ведь, «ставит» на мужчину, не может быть морально самостоятельной. Для нее всегда будет важнее семья, а не духовный мир бесед и споров … что-то такое они с Валерой исповедовали. Монтень тоже так думал и не стыдился этого. Человек своего времени. Понятно, что Гриша ни за что бы подобных мыслей никому не высказал. Его бы не поняли, а Валера понимал …
Глава была довольно длинная, Гриша читал быстро, как истинный гуманитарий, умело перескакивая через строчки. И вдруг он понял, почему Монтень написал о Боэси, а он сам чувствовал себя не в праве писать о Валере. Боэси в 33 года умер от чумы, естественная по тем временам кончина … Монтень написал о своей неизбывной скорби, о потери самого дорогого на свете человека, которого он считал братом. Боэси ушел от него и всё эссе о Дружбе было продиктовано щемящим чувством утраты. Так вот в чем дело: Валера был, слава богу, жив! Писать о живом? Ничего и не получалось. Гриша ужаснулся чудовищности своей мысли: он что, ждет Валериной смерти, чтобы тоже написать «О дружбе»? Хотя … зачем ему реальная Валерина смерть? Придет же в голову такое кощунство … Да, Валера должен умереть, нужно его потерять, чтобы осмыслить их отношения, но речь идет о смерти литературной … ему просто надо представить себе «непредставимое». Гриша почувствовал, что он сможет … он похоронит Валеру и тогда … напишет о них, о нем, о себе.
И моментально, как это всегда с ним бывало, он перешел от «слов к делу». Как ему Валерку умертвить? Он заболеет и умрет? Трагически погибнет? Интересно, сказать ему? Как-то неправильно такое говорить. Валерка расстроится или не возьмет в голову? Нет, ничего он говорить ему не будет, сам все сделает, а потом … посвятит другу свою книгу. Так, так … а как это сделать композиционно? Дать вступление, главу о Валериной смерти? Да никогда он никаких вступлений не писал … а сейчас написать? Непонятно. Да, надо дать очень короткое вступление … сегодня мне позвонил Валерин отец и сказал, что … или нет, может позвонят из полиции? Или Янка позвонит? Да, пусть Янка! Только надо имена всем сменить. Короче, мне позвонили и сообщили, что Валерка разбился на мотоцикле. Насмерть. Травмы несовместимые с жизнью. А что … у него же есть мотоцикл. Японский, красный, очень дорогой. Валерка гоняет по дорогам, находя в этом какое-то удовольствие и вот … подробности: упал за ограждение шоссе, стукнулся головой о дерево или об опору моста … ну что-нибудь такое.
Гриша уже лежал в кровати и представлял себе детали: он немедленно покупает билет в Калифорнию … встреча с Валериными родителями, Янкой, идет на кафедру, видит Валерин портрет в черной рамке … похороны. Много народу, коллеги, друзья, Янка с мужем и маленькой Моникой, много черных шляп. Открытый гроб … или закрытый? Валерина мать попросила его выступить, что-то сказать об их дружбе.
Гриша уснул в невыносимой печали, он хоронил Валерку.
Начались каникулы. Аллка была на сносях, ей через пару недель пора было рожать. Жизнь текла по обычному летнему расписанию. Приближалась летняя школа, Гриша каждый день разговаривал с Валерой. Друг приглашал его в Калифорнию, обещал повозить по разным курортным местам. Гриша говорил, что приедет, но только после Аллкиных родов. Его не оставляли мысли о Валериной гибели. Иногда он ловил себя на том, что представляет себе разбитое тело друга, кровь, раздробленные кости черепа, вывернутые под немыслимым углом ноги, рваные раны на животе и груди. Валеру несут на носилках, рядом искореженный мотоцикл, мигающие красно-синие огни полицейских машин, фургоны скорой помощи, парамедики вдвигают в салон черный, наглухо застегнутый мешок. Смятые столбики по обочине, черные следы шин на асфальте, пахнет бензином … Кошмарные, до ужаса достоверные картинки.
А потом … квартира Валериных родителей. Потерянный дрожащий отец, в нем уже ничего не напоминает уверенного в себе пилота гражданской авиации, мама, суетливо предлагающая ему чай, наливающая в чайник воду, а потом забывающая, что она хотела сделать. Она то что-то вспоминает из их общего с Валерой детства, то вынимает из шкафа семейные альбомы, то принимается рыдать. Отец вскакивает с места и наливает ей в стакан капель, отчитывая их мелко подрагивающей рукой.
На похоронах мать вдруг начинает заваливаться, Гриша старается ее удержать и она обвисает на его руках. Валерины родители — это теперь его ответственность. Валера ушел, и теперь он должен о них заботиться, кому же еще? Гроб открыт и Гриша чувствует запах, какой-то специальный химикат. От живого человека так не пахнет. Последняя речь … Янка заплакала … гроб вдвигается в стену … закрываются створки … Скоро от Валерки останется кучка пепла. У Гриши стучит в висках, сохнет во рту, ему нехорошо, трудно дышать. Как он теперь будет жить? Валерка умер.
Звонит телефон, Гриша с трудом отрешается от своих мучительных видений, берет трубку и слышит веселый Валеркин голос:
— Гринь, ты что долго к телефону не подходил? Я тебя с толчка снял? Извини. Ты иди обратно садись, какай, дружок. Разве я против?
Гриша с трудом возвращается к действительности. Надо со своими дурацкими «картинками» поосторожнее. Такие литературные путешествия до добра не доведут. Он уже совсем рехнулся. Валерку хоронил … Идиот. А если ему об этом сказать? Нет, не надо. Прямо стыд. Сказать такое человеку — это перебор. Но он так в конце книги напишет. Последние сцены: жизнь рядом с другом, рассказать про себя и про него всё-всё, ничего не скрывая и не приукрашивая. Да, так он и сделает, он, ведь, уже и так все в голове пишет. Валерка же все равно прочтет. Только он один и прочтет, оценит и разделит с ним счастье повторного проживания жизни. Хотя, может они кому-нибудь еще дадут это прочитать. Кому? Может хоть Мане?
— Нет, Валерик, я не какаю. Честно. Ни от чего ты меня не оторвал. Я рад, что ты позвонил. Ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя слышать. Как ты?
— Да, что я-то? Все нормально. Аллка как? Ты мне сразу позвони, как начнется. Ладно? Бедняга. Какая дрянь ей предстоит. Я один раз это видел, чуть не сдох. Какие бабы несчастные …
— Да, нет Алла еще в целости и сохранности. Я тебе позвоню. По закону подлости это будет ночью.
— Ага. Слушай, я что тебе звоню … я себе книжку Акунина скачал История России. Хочешь я тебе тоже ее скину? Тебя история интересует? Хотя, может не стоит тебя отвлекать, ты же сейчас сам над книгой работаешь.
— Скинь, Валер. Конечно. Мне интересно. Писать надоедает. Чукча твой не только писатель, но и читатель. Не забывай. Кстати, Валер … ты на своем байке гоняешь?
— Ну гоняю иногда, когда настроение есть. Не так уж сейчас часто. Устаю … а что ты вдруг спросил?
— Да просто так.
Ага … просто так … ничего не просто так … само вырвалось. С другой стороны Гриша понимал, что вопрос его прозвучал для Валеры неуместно. «Ладно, он потом поймет, почему я спросил» — подумал он.
Гришины дни были особо ничем не заполнены. У Маруси тоже начались каникулы, но она целыми днями пропадали у Аллки, теперь роды могли начаться с минуты на минуту. Аллка сидела дома толстая, неповоротливая, ко всему безразличная, и в то же время за этим безразличием сквозила постоянная тревожность. Гриша то принимался убирать в гараже, то занимался покраской балкона, то садился за компьютер и работал над «мертвецом», изрядно продвинувшись. Иногда его охватывала тоска, связанная с мыслями о Валериной смерти. Мелкие подробности ужасных «картинок» вгоняли его в депрессию. Он видел себя в Валерином кабинете на работе, кабинет нужно освободить: рыться в его столе, компьютере, собирать с полок книги, папки, журналы.
Или он берет Монику и везет ее к Валериным родителям, они все вместе едут на кладбище, молча стоят у ниши, где захоронена урна. Он предлагает родителям переезжать в Портланд … О, боже, он совершенно себя этими мыслями извел. Получалось, что в какие-то моменты выдуманная литературная смерть друга представлялась Грише реальной, он страдал, мучился, тосковал. Временами эти фантазии становились такими графичными и острыми, что Грише с трудом удавалось сдержать слезы. В следующее мгновение он со стыдом вспоминал, что сам все это выдумал, что степень его глупости зашкаливает за разумные пределы и пора с этим кончать. Он звонил Валере в неурочное время, придумывая какой-нибудь предлог, извинялся, что беспокоит, слушал Валерин смех, шуточки. Неизъяснимое счастье наполняло его сердце. Пора было браться за работу над книгой, немедленно.
Почему-то Грише было важно дождаться сначала Аллкиных родов. Роды, новый внук, а потом, как он сам считал, — главная книга его жизни. Первая сцена — знакомство, потом младшая школа, потом они — старшеклассники … институты … девушки … гитара … семьи … а потом … Валера и Маня! Гриша пообещал себе об этом написать. Если обойти молчанием их общую катастрофу, то и не стоило писать эту книгу. Ему казалось, что он готов, что книга наконец вылечит его до конца. Напишет об этом, отдаст бумаге все, что накопилось, и … все … исчезнут все шрамы, или по крайней мере перестанут болеть. Они же еще побаливают, пусть еле заметно. Такая ноющая, тянущая боль, которую едва замечаешь, что она есть. Книга положит ей конец. Гриша даже придумал первую фразу, знаменитый инципит: «у меня был друг …». Тут, ведь, важно каждое слово: «у меня» — значит текст будет про «меня» — самая честная доверительная интонация от первого лица, то-есть пишет «я». А потом сразу глагол «был» в щемящем прошедшем времени. Такое «был» может означать две вещи: был, а теперь нет … то ли умер, то ли уже не друг. И последнее слово … «друг». Значит книга о дружбе, «друг» — это всегда высоко, почти свято. Емкая фраза-зачин, трактующая и предвосхищающая смысл: про меня, про него, про нас … причем «я пишу сейчас о прошлом», потому что «был», друг «был», а я — «есть». Это будет только мой взгляд, никто со мной не поспорит, потому что некому. Но счастье в том, что так будет только в книге, а на самом деле, Валерка прочтет и мы с ним будем вместе разбираться, как все было на самом деле. Правильно, я дам ему текст, он что-то «увидит» по-другому, я подумаю и может быть исправлю, а может быть и нет … А не написать ли вторую часть про то же самое? Но теперь с Валериной точки зрения? Да, нет, не пойдет. Разве можно влезть в чужую голову, даже в Валерину? Не выйдет.
Ночью Гриша лежал без сна, борясь с желанием пойти к компьютеру и начать новый файл «друг». Ему начало казаться, что он упускает время, расплескивает свое жгучее желание работать над книгой. «Ну что я лежу. Надо встать и начать …»— Гриша уже стал вылезать из кровати, и тут позвонил Аллкин муж Коля и сказал, что у нее началось: отошли воды и даже есть небольшие схватки. Они едут в больницу. Маня уже быстро одевалась. Гриша было заикнулся, что может сейчас не стоит туда ехать, ничем, дескать, не поможем … но Маруся так на него посмотрела, что он тоже начал суетливо натягивать джинсы и свитер.
В пустынном коридоре больницы стоял полумрак. На посту лениво переговаривались две заспанные медсестры, которые указали им, в какой палате Аллка. Муся приоткрыла дверь и Гриша увидел лежащую на высокой кровати дочь, опутанную проводками мониторов и капельниц. Около нее сидел Коля, Антоши, естественно не было. Его заблаговременно отправили к Колиным родителям. Гриша боялся, что придется слушать Аллкины вопли и стоны, но было тихо. Он вытащил телефон, собираясь позвонить Валерке, но раздумал: зачем его бедного будить? Можно и утром позвонить. Это его «война», не Валеркина. Открылась дверь, выглянула Маня и сказала, что она останется в палате, а он может пройти в комнату для родственников, они его позовут. Гриша глупо спросил «когда?», но в ответ получил только слегка раздраженное Манино «откуда я знаю?».
Он прошел вперед по коридору и метрах в двадцати увидел казенную, совершенно сейчас пустую, фальшиво-уютную комнатку с розоватой мебелью. Гриша уселся на диван и приготовился к долгому ожиданию. Хотелось спать, но это было обманчивое ощущение нервной усталости. Он представлял себе Аллкину боль, потом вспомнил ее маленькой девочкой, и как он сам отвез Маню в роддом, а потом долго ждал там. Тогда было раннее утро, начало марта, мокрый снег, хмарь, совсем еще темно. В 8 часов он ненадолго съездил на такси на работу, что-то ему там было позарез нужно сделать, а когда вернулся в больницу, Маня уже родила. В регистратуре ему довольно равнодушно сказали, что «девочка, 2.900». Он позвонил из автомата Маниным родителям, но они уже все знали, и даже сообщили новость его собственным родителям.
Когда родился внук, он был в отъезде, узнал новость по телефону, и вот сейчас … все происходило при нем. Гриша не мог сидеть на месте. Прошло уже больше двух часов, сколько можно … Аллка несчастная … как они бывало с Валеркой радовались, что они — мужчины, что им ничего такого не надо делать, а бабы — бедные-несчастные. Впрочем, действительно ли они так уж бабам сочувствовали? У женщин было свое предназначение, а у них — свое. Мужчинам вообще труднее живется, они же «крайние»: женщина «за» мужем, а они за кем? Ни за кем. Они сами по себе. Не то, чтобы они себя с Валерой по-этому поводу жалели, нет, конечно. Просто женщинам «за это», что они «за» ними надо было родить. Вообще-то справедливо.
Гриша вышел и прошел к двери Аллкиной палаты. Там наблюдалось какое-то движение: в дверь вошла врачиха, потом дядька врач подошел. Стонов, которых Гриша так боялся, слышно по-прежнему не было и вдруг он услышал явственный, хоть и тихий, но надрывный плач. Ребенок орал не переставая, тоненько, но требовательно, то ли жалуясь, то ли радуясь. Грише показалось, что он слышит мужской голос, девочка плакала бы по-другому. Ему дико захотелось войти в палату, но он не решился, да и страшно было: кровь, слизь, комья каких-то испачканных салфеток, разъятые Аллкины ноги, жалкий измазанный какой-то дрянью комок, его новый внук. Это был чуждый женский, слегка пугающий мир, о котором Гриша не хотел знать больше, чем он знал. Тонкий плач его будоражил: новый мужик в семье. Когда открылась дверь и вышла Маня, Гриша сидел, вытянув ноги, на полу около палаты. Маня улыбалась и махала ему рукой, чтобы он заходил.
Гриша вошел в палату. Аллка лежала бледная и усталая, но в остальном совершенно обыкновенная. Он боялся увидеть на ее лице туповатую гримасу экстаза, но не увидел. «Пап, иди посмотри, что мы там тебе приготовили. Вполне он у нас ничего получился. Иди возьми его, не бойся» — сказала ему дочь. Тут Гриша обратил внимание на молоденькую медсестру, заканчивающую возиться с лежащим на столике малышом. Он подошел, и сейчас же сестра положила ему на руки конверт из застиранной простынки. Из свертка торчала маленькая голова в голубой трикотажной шапочке. Гриша был готов принять в руки небольшую тяжесть, но сверток как будто совсем ничего не весил. «Боже, какой крохотный» — подумал Гриша. Он бережно держал внука на левом предплечье и всматривался в его красноватое, немного опухшее лицо с закрытыми глазами. Большой нос, как у него самого, темноватые волосы торчат из-под шапочки, четко очерченные, плотно сжатые маленькие губы, иногда вдруг кривящиеся в неконтролируемой гримасе. Симпатичный мальчишка. «А почему он не плачет?» — спросил он. «А что ему плакать? У него все хорошо.» — ответила Аллка.
Гришей овладела странная смесь радостной гордости с опустошением, всегда наступающем после нервного напряжения. Только сейчас он заметил, что очень волновался. Аллу перевели на другой этаж, ребенка положили в маленькую тележку на колесах с застекленными бортами. Он спал, никак не реагируя на передвижения. Один раз он открыл свои мутно-голубые расфокусированные глаза и сразу же их закрыл. «Пап, ты видел, как он смотрит? Как думаешь, они с братом похожи?» — Аллка со всеми разговаривала, но почему-то не слушала ответов, ее возбуждение, как оказалось, еще не прошло. Гриша с Маней еще немного побыли в больнице и поехали домой. Гриша успел из больницы позвонить Валере: «Валерк … ну все. Можешь нас поздравить. Новый парень … еще ночью … ну зачем было тебя будить. Ни к чему. Все нормально. Спасибо. Как назовут? Еще не знаю. Какая разница!» Валера был рад, возбудился. Гриша слышал его громкие восклицания. Потом он поймал себя на том, что Валере позвонил первому, а уж потом родителям. Безотчетный жест, Гриша и сам не знал, почему так поступил. Маня уехала, как она сказала «по делам», Аллка просила ее кое-что докупить для ребенка. Перед отходом она велела Грише думать, что подарить дочери на память с рождением сына. Конечно Аллке надо было что-нибудь подарить. Какую-нибудь бабскую цацку. Гриша подсел к компьютеру и лениво прошелся по изделиям Сваровский. Да что толку было ему тут рыскать? Все равно Маня сама будет выбирать, потащит его по магазинам, будет неустанно обсуждать достоинства ювелирных стилей.
Гриша стало скучно и он открыл файл «друг». Хватит тормозить, вгоняя себя в каждодневный пафосный транс: ах, Валеры нет, ах он нас безвременно покинул … то похороны, то рыдающие родители, то он сам в депрессии, сломленный бедой! Надо же, что он себе напридумывал, урод! Сидит ночами, сопли на кулак наматывает, а наутро живому Валере звонит и слушает его бодрый голос. Хватит жить в придуманной действительности, накручивая себя, упиваясь тоской! Или пиши, или бросай это дело! Все просто.
Гриша и сам не замечал, что он мыслил по своему обычному шаблону: как только его сознание достигало определенной степени патетики, он инстинктивно снижал накал страстей и эмоций, используя самоиронию и горький безжалостный сарказм. Он просто органически не умел принимать себя всерьез. А что … нормально: лучше самому над собой посмеяться, чем видеть, как смеются другие. Да, кто другие-то? Валера? Но Валера как раз обожал все, что Гриша писал. Ну и что … просто, когда он работал, он представлял себе «других», читателей, представлял их реакцию, и невероятно боялся переборщить в «высоком стиле», показаться фальшивым. Самое страшное — это фальшь. На Гришу нашел приступ ненависти к себе, своему стилю, своим замыслам.
Злясь на самого себя, он открыл новый файл и впечатал туда пошлое идиотское четверостишие их детства, что-то такое из пионерского лагеря в «сиротском жанре» и балладном стиле:
Как под городом под Саратовым На помойке ребенка нашли. Чисто вымыли, сухо вытерли, И опять на помойку снесли.Гриша остервенело принялся придумывать свой вариант. Он подыскивал рифмы и напевал:
И лежал в грязи, тот ребеночек, В шелухе и очистках гнилых. А пеленочки к ножкам сбилися Он не плакал, а был странно тих. Мух навозных был там уж целый рой Заползали ребеночку в рот Дворник пьяный хмырь, ссаной он метлой Тыкал злобно ребенку в живот. Нос оторвал был, глазик вытек весь А из уха торчал длинный гвоздь. Он лежал в грязи, на помойке здесь. Ах, ребеночку худо пришлось. Но парадное распахнулось вдруг Кто-то вышел ребенка забрал. Тот же пьяный хмырь, не жалея рук Он ребеночку глазик вставлял. Ну а вечером дворник-хмырь решил, Что с ребенком все ж что-то не так … Снова он пошел, вот такой дебил Бросить бедного в мусорный бак.Сначала Гриша много раз пел свою только что сочиненную балладу, радуясь особой отвратительности содержания и стиля. Новый стих еще нравился ему своей мрачной бессмысленностью. Если бы он захотел, он мог бы длить и длить свои противные строфы: про выпавшие кишочки, или про торчащие косточки … править рифмы, переделывать строчки, доводя их до мнимого совершенства. Гришей овладело знакомое ощущение хорошо сделанного дела: вот так он молодец! Он уже совсем было собрался послать свое творение Валере, но что-то его остановило. «Что я делаю? Зачем? Почему я так упорно занимаюсь ничего не стоящей дурью? Валерка прочтет эти глупости, улыбнется, скажет, что я, мол, молодец … но, разве я сам не знаю цену подобным шедеврам? И это поэзия? Примитивные рифмочки, неточные, банальные, уродливые …» — Гриша вдруг очнулся от своего убийственного нелепого вдохновения, подвигшего его написать про помойку. Он решительно нажал на кнопку «удалить». Заботливый компьютер осмотрительно спросил его, не хочет ли он «сохранить» свой документ, и Гриша решительно сказал «нет». Только что написанное, теперь казалось ему ужасным, безвкусным бредом, недостойным его времени и усилий. Он открыл файл «друг». «Вот оно и пришло … сегодня такой день … у меня родился внук … я счастлив и я готов» — Гриша выбрал другой шрифт и легко вывел в правом верхнем углу заготовленный эпиграф:
Когда поблизости есть кто-то, кому можно без колебания довериться — верный друг который, если чего и не поймет, то истолкует любое сомнение в твою пользу, никакого одиночества нет.
Борис Акунин «Планета вода».
И сразу же выстраданная, давно написанная в голове первая строчка будущего романа, своей, как он сейчас верил, главной книги, после которой он может и вообще больше ничего не захочет писать, сама легла на бумагу …
У меня был друг …
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
![Графоман [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/613934/primary-large.jpg)

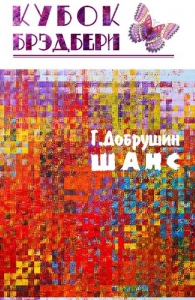





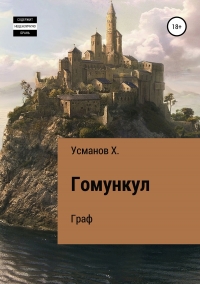



Комментарии к книге «Графоман [СИ]», Бронислава Бродская
Всего 0 комментариев