Геннадий Кофанов Кто укокошил натурщика?
Несколько текстов. Иронических, фантастических, а также иронически-фантастических.
Чисто харьковская легенда
Произведение на почве квасного провинциального патриотизма
В руках писателя все слова, все идеи, все умствования подобны разноцветным камушкам калейдоскопа. То же самое всякий переврёт по-своему, выйдет другая фигурка, и — он счастлив, ему кажется, что он её выдумал. Безумный мир! Как всё старо в тебе.
А.Ф. Вельтман, «Странник»
Конан, сын Лиатлуахра, укокошил дракона в Ирландии. Ланцелот укокошил дракона в Британии. Зигфрид укокошил дракона в Германии. Георгий Победоносец укокошил змея (дракона) в Ливане. Кирило Кожемяка укокошил змея (дракона) близ города Киева…
И так далее… Читатель сам может продолжить этот список, если желает…
А вот город Харьков и окружающая его Харьковская область, где обитает и автор этих строк, оказались в этом аспекте обделены. По крайней мере, автору неизвестно ни одной легенды о контактах витязей с драконами в Харькове или его околицах. Похоже, древние харьковчане просто поленились творчески поработать над этим вопросом и сочинить такую легенду. А может, не поленились и сочинили, но потомки, погрязшие в прозаической суете, эту легенду забыли…
Но автор, будучи в душе квасным харьковским патриотом (впрочем, без фанатизма), не может терпеть такой обделённости родного города в этом аспекте! Раз такой легенды нет, значит, надо срочно её сварганить! Чем Харьков хуже других территорий и населённых пунктов?!
Короче говоря, в припадке квасного харьковского патриотизма автор расчехлил пишущую машинку и принялся трудолюбиво топтать её перстами, выдавливая, буква за буквой, оную легенду…
* * *
Порфирий Сидорович жил в городе Харькове, на Павловом Поле в четырнадцатиэтажном доме по улице 23 Августа. Работал печатником высокой печати в типографии при издательстве «Вища школа». А в свободное от основной работы время он иногда охотился на дракона. Поскольку драконы к 1985 году в Харькове полностью вымерли, или были истреблены харьковскими витязями, Порфирию Сидоровичу приходилось отправляться на охоту за город.
Придя с работы домой, съев свой любимый омлет из трёх яиц и запив его цейлонским чаем, Порфирий Сидорович выводил из ванной, служившей одновременно и конюшней, своего коня по кличке Велосипед Буцефалович, напяливал на него седло, напяливал на это седло самого себя и выезжал из квартиры на лестничную площадку. Конь был белый в яблоко. Яблоко было зелёное и располагалось на левой передней ноге коня. Порфирий Сидорович собственноручно нанёс это яблоко фломастером, ибо хотел, чтобы конь был именно в яблоко (пусть и одно), а не полностью однотонным.
Спустившись на грузовом лифте со своего десятого этажа и выехав из подъезда своего дома, Порфирий Сидорович верхом на Велосипеде Буцефаловиче скакал в сторону посёлка городского типа Солоницевка, именуемого также Посёлком Энергетиков, что километра на два-три западнее города Харькова. Именно там, по всем приметам, обитал огнедышащий крылатый одноголовый дракон. Его логово находилось в пятиэтажном доме — «хрущёвке» по адресу: улица Пушкина, дом № 13, квартира №… Впрочем, адреса обитания драконов, как правило, таинственны (мало в какой легенде о драконах вы найдёте координаты логова с точностью до пяти метров).
В правой руке Порфирий Сидорович сжимал копьё, которое он смастерил из лыжной палки, а в левой, как читатель уже, конечно, догадался, — карманный калькулятор «Электроника Б3-14М», купленный в 1985 году за 55 рублей в универмаге «Харьков» для подсчёта поверженных драконов.
Добравшись до той обитой коричневым дерматином двери, за которой, по всем приметам, имело место драконово логово, Порфирий Сидорович давил большим пальцем правой руки пластмассовую кнопку электрического звонка, слыша, как за дверью диньдилинькает оный звонок, затем стучал копьём по одерматиненной двери, затем кричал: «Выходи, подлый трус!»
Но дракон не выходил, ибо, сказать честно, его не было. Да, его, как правило, в такое время не бывало дома. Дело в том, что этот дракон то периодически совершал беспосадочные перелёты в российское Заполярье, где пожирал замороженных мамонтов, оттаивая их своим огненным дыханием из вечной мерзлоты, то просто порхал в небе для разминки крыльев, то где-то занимался чем-то таким, о чём даже автор этого текста ничего не знает… И лишь вечером, к 21.00 он успевал прилететь обратно в Солоницевку и посмотреть информационную телепрограмму «Время», после чего чистил зубы, мыл ноги и ложился спать.
Но и Порфирий Сидорович тоже спешил домой, чтобы его верный Велосипед Буцефалович успел посмотреть телевизионную вечернюю сказку «На добраніч, діти» с дедом Панасом. Поэтому сему доблестному витязю до поры до времени никак не удавалось дождаться дракона.
И всё же они встретились однажды с глазу на глаз…
Это произошло 15 января 1986 года в семь часов вечера.
Был знойный январский вечер. Тёплый снег поскрипывал под копытами Велосипеда Буцефаловича. Этот скрип напоминал визг старых половиц, когда по ним грузно топает увесистый таракан. Сугробы радовали око молочной белизной. Их белоснежность напоминала непорочную чистоту хлопчатобумажных кальсон Порфирия Сидоровича. Аромат знойного январского воздуха походил на запах зымкукуры — любимого блюда терентопских аборигенов, и наш герой вдыхал его всей грудью, а если не всей, то, как минимум, восьмьюдесятью восьмью процентами груди…
И вот представь, читатель: по этому белому и тёплому, как парное молоко, снегу, с копьём наперевес, в светло-коричневой фетровой шляпе, дублёнке, джинсах и кроссовках Порфирий Сидорович подкатывает на своей одной лошадиной силе к подъезду, в котором имеет место логово дракона. Привычно сходит с Велосипеда Буцефаловича, привычно входит в подъезд, привычно поднимается по ступенькам на второй этаж, привычно звонит, стучит и кричит, привычно отворачивается от двери, чтобы как всегда ни с чем вернуться домой… И вдруг обитая коричневым дерматином дверь открывается, и оттуда вываливается огромный, даже больше чем «Запорожец», фиолетово-синий дракон! (Кто-то может возразить, что, дескать, сквозь стандартную дверь в «хрущёвке» даже «Запорожец» не протиснется, а не то чтобы… Но в легендах и не такое бывает!) Он дымится и изрыгает огонь, как пародия на вулкан. Порфирий Сидорович смущён. Он так привык к отсутствию в логове объекта охоты, что встреча с потенциальной жертвой шокирует его.
— Извините… — бормочет он, машинально, но галантно приподняв фетровую шляпу. — Я Порфирий Сидорович… Гм… Кхе… И вообще…
Он умолкает и теребит пальцами наконечник копья.
Дракон шипит, клокочет, фыркает… Подъезд наполняется запахом горелого мамонта…
Тут Порфирий Сидорович вспоминает, что он прибыл сразиться с этой ужасной рептилией, дабы по примеру других легендарных витязей укокошить чудовище, с тем, чтобы передать его бездыханную тушу в дар Харьковскому музею природы; дескать, пусть там будет и чучело дракона, наконец.
Дракон близоруко пялится гороховыми глазками на незваного индивидуума, пыхкает дымом из ноздрей, топорщит перепончатые крыла, вибрирует шершавым хвостом…
Порфирий Сидорович, прижав подбородком копьё, поправляет перчатки на пальцах, затем берёт копьё в правую руку и, размахнувшись, тычет наконечником в чешуйчатую морду монстра. Дракон пятится и захлопывает обитую дерматином дверь, а копьё от контакта с дверью с хрустом раскалывается…
Вот так закончилась единственная и лаконичная битва этого харьковского витязя с этим околохарьковским драконом.
На следующий день дракон подал заявление на имя поселкового участкового милиционера. Заканчивалось заявление так (на языке оригинала):
«… Якщо цей бешкетник не припинить наді мною знущатися, я вимушений буду піддати його термічній обробці, або ж з’їсти разом з кобилою. Аби цього не трапилось, бо я істота нервова, благаю Вас, товаришу старший лейтенанте, суворо угамувати цього Порфирія Сидоровича у капелюсі! Нехай більш не турбує добропорядних драконів!
З повагою, дракон Щелепенко.
(Підпис).
16 січня 1986 року»
Вечером 16 января Порфирий Сидорович мастерил новое копьё из второй лыжной палки.
А вечером 17-го он с новым оружием отправился всё туда же, добывать дракона.
Вернувшись с работы, поглотив яичницу с чаем, оседлав белого в зелёное яблоко Велосипеда Буцефаловича, наш герой выехал с Павлова Поля в сторону исторического центра Харькова…
В центре, у монумента с неофициальным названием «Пятеро из ломбарда спёрли холодильник» свернул направо…
Перевалил через Холодную гору…
Выехал из Харькова…
И, наконец, въехал в Солоницевку.
У знакомого подъезда знакомого пятиэтажного дома Порфирий Сидорович обнаружил поглядывающего на наручные часы мужчину в зимней милицейской униформе. Только наш витязь сошёл с верного коня, как милиционер спросил его (не Велосипеда Буцефаловича, конечно, а витязя), не он ли Порфирий Сидорович. Наш герой, галантно приподняв фетровую шляпу, честно ответил, что да, дескать, я самый. Тогда страж порядка грациозно пристыковал ногти к серому меху ушанки и представился:
— Участковый, старший лейтенант Сёма Эльфман.
После чего виртуозно провёл с Порфирием Сидоровичем воспитательную беседу, после которой у Порфирия Сидоровича совершенно отсохло желание охотиться на дракона…
И с тех пор Порфирий Сидорович не охотится-таки на дракона.
Чего и всем желает.
* * *
Вот такая вышла… гм… мягко выражаясь, легенда… Зато теперь никто не сможет аргументировано брякнуть, будто у Харькова нет собственной легенды о контакте витязя с драконом!
Теперь какая-никакая легенда о каком-никаком контакте, пусть и без летального исхода, какого-никакого витязя с каким-никаким драконом у Харькова есть!
Ну, пусть где-то не совсем пафосная, где-то доморощенная, нелепая, странная, курьёзная… Но есть же!
Теперь те, кто отмечают все места легендарных контактов витязей с драконами, упомянутые в литературных и прочих произведениях, должны и напротив слова «Харьков» поставить «галочку»!
А автор теперь может с чувством исполненного патриотического долга прекратить топтание перстами пишущей машинки и упаковать её обратно в чешуйчатый чехол из драконовой кожи.
15 января 1986 г., 2004 г.[1]
Апчхи
Мелкий случай межгалактического масштаба
А ведь вы не господь бог!
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»
Бухгалтер Остап Григорьевич Кондратюк вышел из сумеречного подъезда своего дома и прижмурился. Яркое мартовское солнце с безоблачного голубого неба щедро облучало улицу Джордано Бруно, на которой проживал Остап Григорьевич и по которой он ежедневно (за исключением выходных и праздников) ходил в типографию № 2, где трудился в должности главного бухгалтера. Типография эта имела место на этой же улице всего в пятистах шагах от дома Кондратюка.
Потемневшие от пыли барханчики слежавшегося снега активно таяли вдоль края тротуара, являясь родителями резвого потока талой воды, искрящегося у бордюра и проваливающегося в решётку канализации. Дворник Феликс Предрасположенный, чиркая по асфальту прутьями метлы, перемещал мелкий мусор с тротуара в поток. Дворника освистывали пичуги, роем порхавшие с дерева на дерево. Весенний воздух бодрил утренних прохожих, будто газообразный эликсир.
Бухгалтер Кондратюк, жмурясь от света, улыбнулся весне, поправил кашне, поздоровался с дворником Предрасположенным шляпоподнятием и, совершая маятникообразные движения портфелем, пошествовал по улице Джордано Бруно к типографии № 2.
Когда Остап Григорьевич поравнялся с табачной лавкой, в витрине которой пестрел товар, не одобряемый Минздравом, в глубине левой ноздри Кондратюка защекоталось и бухгалтеру невыносимо захотелось чихнуть. От этого лицо Остапа Григорьевича исказила непроизвольная гримаса: зрачки наполовину закатились под верхние веки, брови подпрыгнули, сложив лоб гармошкой, нижняя челюсть отвисла, рот приоткрылся и растянулся в форме коромысла, на нижнюю губу выполз кончик языка. Бухгалтер, начиная издавать гортанный звук, выхватил из кармана носовой платок и, прикрыв им лицо, мощно чихнул, свибрировав всем телом и чуть не выронив портфель. После чего, вытерев платочком рот и ноздри, продолжил путь…
* * *
Чихая, Остап Кондратюк не думал, конечно, о том, что согласно неизвестным нам законам существования Вселенной, совершенно незначительное событие, случившееся в одном месте, может спровоцировать значительные события в другом месте, бесконечно удалённом от первого; спровоцировать необъяснимым образом.
Так, после того как на планете Земля, в Харьковской области страны Украина, в городке-райцентре, название которого не играет в данном случае большой роли, на улице Джордано Бруно рядом с табачной лавкой чихнул некто Кондратюк, в совершенно другом районе Вселенной, на планете Раедэм, над столицей одной небольшой империи пронёсся буйный ураган, разметавший лачуги простолюдинов, сорвавший крыши с домов вельмож и даже сбросивший шпиль с дворца императора. Кроме того, стихия смела несозревшие злаки на полях окрест столицы, а стало быть, здешним жителям в ближайшие месяцы, вплоть до будущего урожая, придётся жить не так сытно, как бы им хотелось.
В то время как жители столицы, ругая стихию, приступали к разбору руин, император Шен-Уаф Бах со свитой отправился из своего дворца в главный столичный храм, дабы посоветоваться с Верховным Жрецом насчёт случившегося. Император брёл по потрёпанному, раскрошенному городу, обходя фрагменты разрушенных зданий и упавшие деревья, вывороченные из грунта с корнями; плёлся, ужасаясь и сокрушаясь. За императором семенил кортеж придворных, также угнетённых видами ущерба. Горожане на минуту приостанавливали восстановительные работы, чтобы почтительно поклониться проходящему мимо правителю.
Шен-Уаф Бах приблизился к главному храму, каменному, пирамидальному и оттого более устойчивому перед натиском стихий, чем обычные жилые строения. Один из придворных, опередив властелина, взбежал по лестнице и исчез в дверях, дабы предупредить Верховного Жреца о прибытии императора. Шен-Уаф Бах стал неторопливо подниматься туда же. Когда он по лестнице вознёсся к дверям святилища, сам Верховный Жрец — Шур-Оэф Бэх — вышел навстречу.
Шен-Уаф Бах и Шур-Оэф Бэх велеречиво поприветствовали друг друга. Затем император спросил Верховного Жреца, в чём, по его мнению, причина постигшего их стихийного бедствия и есть ли возможность предотвратить подобные беды в будущем.
— Я, Ваше Величество, как раз собираюсь проникнуть в Высшие Сферы Знаний, чтобы там получить ответ на этот вопрос, — ответил Шур-Оэф Бэх. — При этой процедуре разрешается присутствовать только жрецам, но для вас я сделаю исключение, тем более что среди ваших предков тоже были жрецы. Однако вашим придворным придётся на время покинуть пределы святилища.
Император отослал свиту, а сам, в сопровождении жрецов, в том числе и Верховного, прошествовал в священные недра храма.
Там жрецы стали производить действия, необходимые для ритуала вхождения Верховного Жреца в Высшие Сферы Знаний. Одни облачали Шур-Оэф Бэха в священные одеяния, другие разжигали огонь в священных светильниках, третьи окуривали помещение дурманящим священным благовонием, четвёртые готовили священный напиток в священной чаше…
Отхлебнув жидкость, Верховный Жрец прокричал священное звукосочетание, после чего допил до дна. Минуты три он пребывал в неподвижности, затем его ноги подкосились, и два жреца, подхватив его под руки, аккуратно уложили Шур-Оэф Бэха на приготовленную подстилку. Ещё несколько минут Верховный Жрец пребывал в оцепенении, а затем стал корчиться, биться в конвульсиях, изрыгая из уст звуки и пену. Звуки складывались в неразборчивые слова, лишь одно Шур-Оэф Бэх повторил несколько раз довольно внятно. Таинственное слово, не известное ни императору, ни жрецам, ни самому Верховному Жрецу, ни одному из жителей планеты Раедэм. Это было слово «Кондратюк».
Императору было жутко смотреть на мечущегося в беспамятстве Шур-Оэф Бэха, и глава государства отвёл взгляд в сторону, стал разглядывать озаряемую огнями светильников фреску на стене, где было изображено, как чудесная обезьяна по имени Памва рожает первого человека по имени Амад.
Вдруг в храме стало совершенно тихо. Император вернул взгляд на Верховного Жреца. Тот потерял сознание. Жрецы подхватили своего предводителя под руки и под ноги и быстро понесли на свежий воздух, император устремился за ними. На некоем подобии балкона жрецы стали приводить Шур-Оэф Бэха в чувство: один бил его по щекам, другой плескал на него холодной водой, третий подносил к ноздрям какую-то гадость с острым запахом, четвёртый вытирал пену с губ и подбородка.
Верховный Жрец очнулся. Он был совершенно обессилен и измождён общением с Высшими Сферами Знаний.
— Что… я… говорил? — с трудом, чуть слышно просипел он.
— Ты несколько раз повторил таинственное слово «Кондратюк», Верховный Жрец, а больше мы ничего не разобрали, — сообщил вытиравший пену.
— Кондратюк? Гм… — задумался Шур-Оэф Бэх. — Что бы это значило? Что ещё за Кон… Ага, кажется, припоминаю… Кажется, Высшие Сферы Знаний сообщили мне, что ураган как-то связан с каким-то Кондратюком… Видимо, этот таинственный Кондратюк и наслал на нас ураган!
— А что это такое — Кондратюк? — спросил император.
— Ну, это… эээ… это… гм… это, видимо, некое великое и всемогущее существо, способное повелевать стихиями, — изрёк Верховный Жрец, дрожа от усталости.
— А за что этот Кондратюк нас так наказал? — продолжал выпытывать император.
— Ну… эээ… наверное… гм… наверное, за то, что мы ему не молимся и не приносим ему жертв, — размышлял Шур-Оэф Бэх. — Мы же молимся Великой Почве, Великой Воде, Великому Небу и Великому Огню, которые считаются первоосновой всего сущего, а Великому Кондратюку мы сроду никогда не молились, вот он на нас и осерчал, и наслал на нас ураган, чтобы наказать за неуважение.
— Значит, для того чтобы Кондратюк нас простил и больше не наказывал, мы должны ему молиться и приносить жертвы? — сообразил император.
— Да, отныне мы должны будем молиться и приносить жертвы не только Великой Почве, Великой Воде, Великому Небу и Великому Огню, но также и Великому и Всемогущему Кондратюку, — вещал обессиленный Верховный Жрец. — Вы, Ваше Величество, объявите об этом народу, разошлите гонцов с этой вестью по всей стране, а мы, жрецы, приступим к составлению соответствующих молитв, к разработке соответствующих обрядов и ритуалов…
Новые молитвы, обряды и ритуалы были сочинены жрецами очень быстро, всего в течение нескольких дней, ибо жрецы боялись медлительностью разгневать Великого и Всемогущего Кондратюка и спровоцировать новые стихийные бедствия. В ходе этой работы жрецы пришли к величайшему открытию: раз Великий и Всемогущий Кондратюк способен повелевать стихиями, значит, он и есть Творец Великой Почвы, Великой Воды, Великого Неба и Великого Огня, то есть Кондратюк, по сути, есть ни кто иной, как Творец Вселенной!
Было решено, что все жители империи обязаны молиться Кондратюку три раза в день, тремя молитвами: главной в полдень и двумя дополнительными утром и вечером. Главная молитва должна сопровождаться ударами в барабаны. Раз в неделю — курением благовоний, а раз в месяц — принесением в жертву мелких домашних животных, обычно — домашних птиц, трупы которых дотла сжигаются на жертвенном огне.
Так в империи началась религиозная реформа.
Все, от мала до велика, в полдень приходили в храмы, где под ритмичный рокот барабанов орали главную молитву, в которой семнадцать раз повторялось слово «Кондратюк».
Все да не все. Некто Шав-Аоф Бох — известный учёный, лекарь, астроном, изобретатель, путешественник и мыслитель — посчитал новую веру в Великого и Всемогущего Кондратюка суеверием и мракобесием. Шав-Аоф Бох так прямо и заявил при свидетелях Великому Жрецу Шур-Оэф Бэху:
— Ураган — это всего лишь перемещение воздушных масс, вызванное перепадом давления, а вовсе не происки какого-то мифического Кондратюка. Когда мы молились Великой Почве, Великой Воде, Великому Небу и Великому Огню — это ещё куда ни шло: почва, вода, небо и огонь действительно существуют и их все видят. Но кто когда видел этого пресловутого Кондратюка? Никто и никогда. Я уверен: никакого Кондратюка вообще не существует!
— Ты святотатствуешь, Шав-Аоф Бох! — гневно воскликнул Шур-Оэф Бэх. — Великого и Всемогущего Кондратюка невозможно увидеть, поскольку он невидимый и бесплотный, как воздух. Он присутствует не в одном каком-то конкретном месте, а везде, оттого всё видит, всё слышит и всё знает. Поэтому, если ты не прекратишь кощунствовать и не начнёшь молиться со всеми Великому и Всемогущему Кондратюку, чтобы он простил тебя за это неверие, я, несмотря на все твои былые заслуги, вынужден буду ходатайствовать перед его Его Величеством о выдворении тебя за пределы империи, дабы твои еретические речи не накликали на нашу родину новой беды.
Шав-Аоф Бох не хотел быть изгнанным за пределы родины, поэтому стал воздерживаться от публичной критики новой религии и даже стал посещать храм и делать вид, что молится вместе с соотечественниками, однако остался при своём мнении. Такое лицемерие было ему очень неприятно, но на что ни пойдёшь, лишь бы не стать изгнанником…
* * *
Бухгалтер Остап Григорьевич Кондратюк вышел из подъезда своего дома на улицу, где моросил кратковременный апрельский дождик, и раскрыл зонтик. Воздух пах дождём (кто считает, что дождь не пахнет, пусть первым бросит кремовый торт в лицо своего психиатра в присутствии мощных санитаров) и начавшими расцветать деревьями. Дворник Феликс Предрасположенный, игнорируя осадки, чесал метлой тротуар. Бухгалтер Кондратюк поприветствовал его (не тротуар, а дворника, конечно) кивком головы. Хоть на бухгалтере и была шляпа, приветственно приподнять её, как это делал обычно, он не мог, ибо правая рука шляпоносца была занята зонтом, а левая портфелем. Ёжась от утренней свежести, Кондратюк пошествовал в сторону типографии № 2.
Когда Остап Григорьевич дошёл до табачной лавки, в глубине его ноздри защекоталось и, как читатель уже, конечно же, догадался, бухгалтеру невыносимо захотелось чихнуть. Только не думай, читатель, что Кондратюк чихал каждый день, доходя до этого места. Нет, Остап Григорьевич вообще чихал крайне редко, а на данном конкретном месте, рядом с табачной лавкой, он чихнул лишь один раз, тогда, в марте. Теперь, в апреле, Кондратюка повторно посетило на этом же месте такое желание. От какового желания лицо Остапа Григорьевича, как читатель опять-таки догадался, исказила непроизвольная гримаса: зрачки глаз наполовину закатились под верхние веки, брови подпрыгнули, сложив лоб гармошкой, нижняя челюсть отвисла, рот приоткрылся и растянулся в форме коромысла, на нижнюю губу выполз кончик языка. Бухгалтер уже начал было издавать звук «а…», предваряющий «…пчхи», когда вдруг ему послышались ритмичный рокот барабанов и молитвенные стенания тысяч голосов, причём в этих стенаниях Кондратюк расслышал собственную фамилию. А кроме того, ему почуялся запах неизвестных благовоний и горелого мяса. Конечно, на улице Джордано Бруно никто в барабаны не бил, молитв хором не орал, благовоний не курил и мяса не жёг. Конечно, всё это Кондратюку лишь померещилось. Но после этой слухо-обонятельной галлюцинации бухгалтеру вдруг совершенно расхотелось чихать, и он, так и не чихнув, привёл лицо в нормальное состояние и продолжил шествовать по улице Джордано Бруно к типографии № 2, где по-прежнему возглавлял бухгалтерию. Если бы я сказал: «он продолжил шествовать, как ни в чём не бывало», это была бы не совсем правда. Галлюцинация Кондратюка огорчила, ибо он был уверен, что всякая галлюцинация есть явление патологическое, свидетельствующее о наличие в организме каких-то отклонений от нормы. «Если такое повторится, обязательно обращусь к врачу-психиатру», — решил Кондратюк.
* * *
В небольшой империи на планете Раедэм между тем продолжалась религиозная реформа. Верховный Жрец Шур-Оэф Бэх объявил народу, что прежние представления о происхождении человека, как выяснилось, являются ложными. До сих пор считалось, что первого человека — по имени Амад — родила чудесная обезьяна — по имени Памва. А первую обезьяну родила землеройка — по имени Ткир. А первую землеройку родила ящерица — по имени Щакияр. А первую ящерицу родила саламандра — по имени Убзолуг. А первую саламандру родила рыба — по имени Быкра. А первую рыбу родил червь — по имени Бхокар. А первый червь произошёл от инфузории — по имени Кибмор. А первая инфузория зародилась в чудесном рассоле под названием Лунёб, каковой рассол образовался от смешения чудесных вод Неба с чудесными водами Недр. На самом деле всё было не так, объявил теперь Верховный Жрец, а вот как: Великий и Всемогущий Кондратюк вылепил тело первого человека Амада из Великой Почвы, а затем наполнил это тело душой, созданной по образу и подобию самого Кондратюка. Тела других живых существ, обитающих на планете Раедэм, Кондратюк, мол, также вылепил из Великой Почвы, но души для них он сделал не по своему образу и подобию, а попроще.
Когда учёный Шав-Аоф Бох услышал эту реформаторскую проповедь Верховного Жреца в главном храме столицы, то мысленно обозвал новую религию мракобесием, но в полемику вступать не стал, боясь изгнания.
Шав-Аоф Бох изучал, кроме прочего, случаи выкидышей у беременных женщин, и обратил внимание, что плоды более поздних сроков беременности напоминают обезьянок, более ранних — зверьков типа землероек, ещё более ранние зародыши похожи на ящериц и саламандр, ещё более ранние — на червячков, а на самой ранней стадии внутриутробного развития человек является просто икринкой. «Это яркое доказательство того, — думал мыслитель, возвращаясь из храма домой, в здание, почти восстановленное после разрушительного урагана, — что прежняя наша религия была более правильной. Верховный Жрец сам, наверно, придумывает неправдоподобные небылицы, а кивает на Высшие Сферы Знаний».
Вернувшись в свой дом, который служил учёному одновременно и жилищем, и научной лабораторией, Шав-Аоф Бох запер дверь на засов и занавесил тряпкой окно, дабы ничей злой глаз не подглядел, чем он тут занимается, приготовил птичье перо, очинённое для письменных работ, пузырёк чернил, достал из тайника пергаментный свиток и, пристроившись за столом, принялся писать.
Это был философский трактат, в котором Шав-Аоф Бох доказывал, что никакого Кондратюка во Вселенной не существует. Конечно, с точки зрения новой религиозной идеологии, эти писания являются еретическими, и попади они в руки жрецов, мыслителю несдобровать, поэтому придётся трактат хорошо спрятать. Мыслитель надеялся, что когда-нибудь в будущем, когда с мракобесием будет покончено, потомки найдут этот свиток и поймут, что даже в эпоху мракобесия в империи жили прогрессивные здравомыслящие люди.
Задумавшись, как бы повыразительнее изложить на пергаменте очередную мысль, Шав-Аоф Бох приподнял над столом руку, в которой держал перо, и мягкий, длинный, узкий кончик пера некстати угодил мыслителю в ноздрю. От этого в ноздре защекоталось, и учёному невыносимо захотелось чихнуть. Лицо Шав-Аоф Боха исказила непроизвольная гримаса: зрачки наполовину закатились под верхние веки, брови подпрыгнули, сложив лоб гармошкой, нижняя челюсть отвисла, рот приоткрылся и растянулся в форме коромысла, на нижнюю губу выполз кончик языка. Мыслитель, начиная издавать гортанный звук, положил перо и, закрыв нос и рот обеими ладонями, дабы не забрызгать рукопись слюной и соплями, мощно чихнул, свибрировав всем телом и чуть не сбив локтем чернильницу. После чего, вытерев тряпочкой ладони, рот и ноздри, продолжил работу над трактатом.
Конечно, Шав-Аоф Бох и предположить не мог, что, согласно неизвестным ему законам существования Вселенной, после его чиха, где-то в другой галактике, на планете Земля, над городком, название которого не играет в данном случае большой роли, пронесётся ураган…
* * *
В эту майскую ночь бухгалтер Остап Григорьевич Кондратюк и его супруга Эльвира Потаповна практически не спали, ибо за окнами их квартиры со страшным шумом буйствовал сильный ветер, то как зверь воя, то плача как дитя, выражаясь образами великого поэта. Завывания, гул и свист ветра сопровождались аккомпанементом в виде треска ломаемых веток, рокота сорванных листов кровельного железа, дребезжания водосточных труб и оконных стёкол, и тому подобных шумовых эффектов. Во время этой свистопляски в квартире Кондратюков погас электрический свет. Выглянув в окно, бухгалтер выяснил, что свет погас во всех окнах на улице Джордано Бруно, а также на всех уличных фонарях, из чего следовало, что ветер где-то оборвал электролинию…
К рассвету стихия угомонилась, но спать уже было некогда: пора собираться на работу. Стихия не стихия, а рабочий день никто не отменял. Собираясь, Кондратюк попытался позвонить по домашнему телефону сыну, жившему в другом городе, мол, а как там у них с погодой, но телефон будто в трубку воды набрал. Стало быть, и телефонная линия стала жертвой урагана.
Не выспавшийся и не побрившийся (ибо электробритва в данном случае была не дееспособной), и оттого не в лучшем настроении, Остап Григорьевич вышел из подъезда на улицу, и вид улицы настроения ему не поднял, скорее наоборот. Вся улица Джордано Бруно представляла собой свалку всякого мусора: обломанных веток деревьев, покорёженных листов сорванного кровельного железа, каких-то тряпок, которые, видимо, кто-то сушил на балконах и не успел снять… Кондратюк перешёл улицу, чтобы со стороны глянуть на свою пятиэтажку и визуально оценить ущерб. Первое, что бросилось в глаза: ветер повалил телевизионные антенны на крыше, сорвал пару листов кровельного железа и утащил кусок водосточной трубы.
Вздохнув, бухгалтер поплёлся к типографии № 2, обходя многочисленные препятствия. Конечно, печатные машины без электричества работать не будут, но бухгалтеры могут трудиться и без электросети, делая расчёты на калькуляторах с батарейками. Тем более что в помещении бухгалтерии большие окна и хватает естественного света.
Рядом с табачной лавкой ураган сломал старый тополь, который теперь перегораживал всю проезжую часть улицы. Один из тружеников коммунальных служб бензопилой нарезал тополь на ломтики, как колбасу. Неподалёку работник жилищно-эксплуатационного управления обсуждал произошедшее с опирающимся на метлу дворником Феликсом Предрасположенным. Когда Кондратюк приблизился к ним, представитель ЖЭУ произносил:
— … вроде, где-то дерево, вывернутое из грунта с корнями, упало на автомобиль, в котором были люди. Кажется, даже есть человеческие жертвы. Про экономический ущерб я уж и не говорю.
— Это нас Бог наказывает за наши грехи, — отвечал дворник. — Надо не грешить, а побольше молиться Богу, вот тогда и не будет стихийных бедствий.
Хоть Остап Григорьевич, несмотря на перестройку, оставался убеждённым материалистом и атеистом, однако он не был так называемым воинствующим безбожником и к чувствам верующих относился толерантно. Если бы не непогода, если бы бухгалтер выспался, если бы он был аккуратно побрит, если бы он не видел всего этого ущерба, у него было бы хорошее настроение и он молча прошёл бы мимо занимающегося религиозной пропагандой дворника, не вступая в полемику. Но сейчас, будучи раздражён всеми этими неприятностями, Кондратюк не смог смолчать и возразил:
— Ураган — это всего лишь перемещение воздушных масс, вызванное перепадом давления, а вовсе не происки какого-то мифического Бога. Никакого Бога во Вселенной не существует! Никто его не видел.
— Бога невозможно увидеть, потому что он Дух Святой, невидимый и бесплотный, — оппонировал Феликс Предрасположенный, потрясая метлой, как пророк посохом. — Он везде, поэтому всё видит, всё слышит и всё знает. Вот из-за таких, как вы, неверующих безбожников, Бог и насылает на нас стихийные бедствия.
Дворник говорил с украинским произношением, поэтому выходило не «Бог», а скорее «Бох».
— Ай, да что с вами говорить, — отмахнулся Кондратюк и побрёл дальше своей дорогой…
* * *
И спросят Его: «Ты религиозен, о Всевышний?»
И ответит Он: «Нет, я атеист».
Книга пророка Адамыча.
Май 2003 г.[2]
Поцелуй
Курортный роман. Впрочем, не роман, а рассказик
Мы очень поцеловались.
Ф. М. Достоевский, «Подросток»
Сегодня, во что бы то ни стало, я её поцелую, думает Иван Эдуардович, потягиваясь после сна.
Яркое утреннее солнце сквозь зелень окружающих санаторий деревьев просачивается в окно санаторных апартаментов Ивана Эдуардовича и, слепя ему глаза, подтверждает, что наступающий день будет пляжным, как и планировалось. Намедни радио пророчило смену тёплой облачности на жаркую безоблачность.
Вот на пляже он её и поцелует, даже невзирая на её кокетливые отнекивания.
Жарко. Иван Эдуардович встаёт с накрахмаленной санаторной простыни и, подцепив ступнями шлёпанцы, делает несколько гимнастических движений, после чего в одних трусах шествует в душ. Скинув трусы и шлёпанцы, взбадривает себя контрастным — попеременно то студёным, то жгучим — водопроводным дождичком. Ах, хорррошо!
— Вы кто? — спросила она.
— Прекрасный принц на белом коне, — пошутил он, показав в улыбке свои здоровые белые зубы.
— А я заколдованная царевна, — пошутила в ответ она…
Это тогда, в день их знакомства, почти неделю назад…
После душа, разрумянив кожу трением полотенца, Иван Эдуардович трусы не надевает. Надевает плавки. На пляже живописного пруда нет кабинок для переодевания, ибо пруд всего нескольких шагах от корпусов санатория «Берминводы», поэтому обитатели санатория выходят на пляж уже в купальниках и плавках. На территории этого оздоровительного заведения три красивых пруда, но лишь на одном из них имеется песчаный пляж и лодочная станция, а два других хороши для любования и рыбалки.
Иван Эдуардович, почистив зубы, бреется перед зеркалом безопасной иноземной, расхваленной в телерекламе, бритвой и любуется своей фотогеничной физиономией. КрасавЕц! Ему бы не инженером на приборостроительном заводе, ему бы с такими внешними данными где-нибудь в Голливуде киноактёром… Всяких там Суперменов да Джеймсов Бондов… Не удивительно, что женщины ему так охотно отдаются… Вот только эта новенькая что-то больно долго ломается. Иван Эдуардович уже неделю её обхаживает, а она даже поцеловать себя не позволила. Слишком рано, дескать… Должно пройти ещё сколько-то там дней, прежде чем… Такая молодая, почти вдвое моложе Ивана Эдуардовича, а такая в этом аспекте несовременная… И имя у неё несовременное, старинное: Василиса.
— Василиса? — удивился он. — Редкое, редкое… Я буду звать вас Василисой Прекрасной, ибо вы действительно сказочно хороши…
Нет, чёрт возьми, что ни говори, но он действительно недурён! Ну разве дашь ему его сорок два? Ну, максимум тридцать с хвостиком. И чего она тянет? Другая бы на её месте уже давно наслаждалась бы с ним всеми прелестями неплатонического курортного романа…
Иван Эдуардович, сжав губы и выпятив давлением языка кожу под нижней губой, соскребает лезвием с таким образом созданного возвышения наросшую за сутки щетину. Под самый корень её! Большинство женщин не любят, когда мужик при поцелуе колется…
Его ухаживания она принимает, в принципе, благосклонно, с удовольствием принимает в подарок цветы, но от поцелуев шарахается, как монашка. Он ей явно нравится. А значит, она хочет его поцелуев. Почему же уклоняется? Боится показаться легко доступной? А может, она, так сказать, объект чрезмерно пуританского родительского воспитания? Но разве может в наше время девушка, которой уже за двадцать, оставаться девственницей?! А может, просто кокетничает, ломается, набивает цену… Целовать! Непременно целовать! Игнорируя её «не надо!», её отталкивания… Сама же рада будет! На пляже. Нет, лучше на лодке, это романтичнее. Да, возьму напрокат лодку, отплывём под сень красивых плакучих ив, и… Не забыть и презервативы, на всякий «пожарный» случай… Вдруг от поцелуев разомлеем, возбудимся…
Иван Эдуардович смывает с лица остатки пены и внимательно осматривает результат работы бритвой. Прекрасно! Втирает в кожу ароматный крем, чтоб не щипало…
Вечерами они гуляли по красивому парку и трепались. Корпуса санатория «Берминводы», что в развёрнутом виде звучит как «Березовские минеральные воды», — это не сталинские имперские дворцы с колоннами, шпилями, барельефами в виде орнамента из колосьев, плодов, серпов и молотов, скульптурами пролетариев и колхозников, и с прочим помпезным украшательством. Нет, это типовые брежневские коробки. Украшением этого санатория являются не корпуса, а окружающие их парк и пруды.
О чём Иван Эдуардович с Василисой щебетали, любуясь этим парком и этими прудами? О том, как виртуозно солируют соловьи под оркестровый аккомпанемент цикад, или ещё каких скрипичных насекомых. О том, какая необыкновенно яркая луна и какое невероятное стадо звёзд пасутся над «Берминводами». О том, какие восхитительные благоухания источают цветущие акации, черёмухи и прочие ботанические элементы ландшафта… Типичный трёп, предваряющий курортный роман. Но иногда Василиса заговаривала о странном…
— Ну почему же ты не даёшь, как раньше говорили, облобызать твои нежные губки?
— Пока рано… Ну представь, что я заколдованная царевна, и что если меня поцеловать раньше времени, то я превращусь в кого-нибудь другого.
— Ну мы же не дети, Василиса моя Прекрасная; зачем эти сказочки. Мы взрослые люди, хоть ты и молода… Ну, давай…
— Нет, нельзя!.. Не обижайся… Не сейчас… Потом…
Нет, сегодня на лодке не отвертится, думает Иван Эдуардович, облачаясь в кремовые шорты и белую короткорукавную футболку с легкомысленным изображением на груди мультяшных козаков-запорожцев. Что характерно: нет под этой футболкой выпячивающегося пивного пуза, типичного для многих его сверстников. Иван Эдуардович держит себя в хорошей физической форме. Если бы не эти небольшие проблемы с желудком, заставляющие его посещать санатории, то можно было бы употребить слово «здоровяк». Он видел, как, образно выражаясь, облизывались на него представительницы прекрасного пола, оздоравливающиеся здесь минеральными водами; с ними у него всё случилось бы очень быстро; но на фоне Василисы, прекрасной Василисы, все они не представляют для него сексуального интереса.
Конечно, он ничего не сказал Василисе о наличии жены и сына, а своё кольцо — металлическое брачное свидетельство — на время курортного образа жизни переместил, как обычно, с пальца в кармашек бумажника. О её семейном положении не допытывался, дабы не спровоцировать аналогичные расспросы о самом себе. Врать Иван Эдуардович умел, но не любил.
После диетического, но вкусного завтрака (как обычно, наш герой и его избранница в столовой расположились за одним столиком), Иван Эдуардович и Василиса, прихватив коврики для лежания и прочие пляжные принадлежности, перемещаются из корпуса к пруду. Солнце знойными лучами-щупальцами тащит быстро нагревающихся пляжников в освежающую влагу. Расстелив на песке коврик, Василиса сбрасывает зелёный пляжный халатик и остаётся в миниатюрном по площади салатном бикини. Впервые Иван Эдуардович видит её настолько обнажённой. Предыдущие дни были хоть и тёплыми, но облачными и располагавшими к прогулкам по парку, а не к загоранию на пляже. Иван Эдуардович, скидывая шорты и футболку, с восхищением пожирает глазами её стройное тело. Ах, хоррроша!
Между её такими соблазнительными грудями наш герой мельком замечает некую тёмную кляксу — то ли татуировку, то ли большую фигурную родинку.
Зеркальная гладь воды — перевёрнутый вверх ногами пейзаж — манит бултыхнуться в водоём.
Василиса укладывает свою русую косу вокруг головы веночком, фиксирует приколками, чтоб волосы не сильно намокли, и вступает в размашистое зеркало, гофрируя его поверхность расходящимися от красивых ножек волнами. Иван Эдуардович, не юный, но спортивный, с разгону врывается в жидкость, поднимая кусты брызг, и ныряет. Почти все дамы на пляже с интересом повернули головы в сторону спортивного красавца. Ясные детальные звуки надводного мира сменяются размазанными гулкими приглушёнными звуками мира подводного. Иван Эдуардович, проталкивая себя вперёд гребками натренированных рук, продвигается в толще влаги настолько далеко, насколько позволяет запас воздуха в его натренированной грудной клетке. Вынырнув и отфыркнувшись, как тюлень, с удовлетворением отмечает, что донырнул чуть ли не до середины пруда, довольно далеко от берега. Иван Эдуардович пальцами манит к себе Василису, мол, плыви сюда, дорогая. Она погружается до подбородка и плывёт.
Вода прозрачна. При ближайшем рассмотрении оказывается, что тёмная клякса меж грудями подплывшей красавицы — это изображение лягушки, сантиметра три величиной.
— Неожиданная татуировка, — замечает наш герой, вглядываясь в очень реалистичный накожный портрет земноводного. — Обычно девушки носят тату в виде бабочки, цветочка, рыбки или дельфинчика, иногда ящерки или даже змейки… Но чтобы лягушку — вижу впервые. Девушки обычно испытывают к лягушкам брезгливость, отвращение… Что символизирует это животное? В этом скрыта какая-то аллегория? Или тебе просто нравится, как они выглядят?
— Это не татуировка, это… Это сделано другим… методом, — как-то неохотно, с трудом подбирая слова, поправляет она, не спеша, плывя рядом с ним обратно к пляжу.
— Каким? — почти машинально спрашивает Иван Эдуардович, думая о том, как ему хочется овладеть её телом.
Она задумчиво молчит полминуты. Затем вместо ответа задаёт вопрос ему:
— Ты когда-нибудь думал о том, что кроме этого мира существуют и другие миры?
— А, другие измерения, параллельные пространства? Слыхал такие гипотезы.
— И что в этих других мирах несколько иные законы природы, которые, с точки зрения людей здешнего мира, выглядят сказочными волшебствами. И что чудеса в сказках, легендах и мифах здешнего мира — это отголоски древних знаний о тех других мирах…
Ага, она любит фантастику, думает Иван Эдуардович…
Сам Иван Эдуардович фантастику категорически не любит, ещё с детства, и даже считает явлением вредным. Ну, в самом деле, какую практическую пользу имеют небылицы?! Только засоряют мозг ложной информацией. Увлечение фантастикой, сказками — это эскапизм, уход от проблем реального мира в мир грёз, этакая разновидность наркомании, считает Иван Эдуардович. Вместо того чтобы заниматься благоустройством реального мира, а тут работы непочатый край, эти так называемые фантазёры тратят драгоценное время впустую, на сочинение миров нереальных и на поглощение подобных сочинений, в то время как реальный мир остаётся столь неблагоустроенным и проблемным, в том числе и из-за потери времени на бесполезные фантазии… Нет, Иван Эдуардович человек рациональный, здравомыслящий, практичный, поэтому фантастику…
— Я тоже люблю фантастику, — врёт Иван Эдуардович, глядя на Василису честными глазами; как говорят великороссы, «на голубом глазу», или, как говорят украинцы, «позичивши очі у Сірка».
Если я прикинусь её единомышленником, мне легче будет добиться от неё всего чего хочу, думает наш герой. Да, он не любит врать. Но когда так хочешь женщину, каких только, как говорится, мучных изделий не навешаешь ей на ушки. Женщина скорее испытает симпатию к мужчине с хорошим вкусом, нежели к мужчине без вкуса. Но что такое отсутствие вкуса и что такое хороший вкус? Отсутствием вкуса называется вкус, который отличается от твоего собственного; а хорошим вкусом называется вкус, совпадающий с твоим собственным. Стало быть, соври женщине, что тебе нравится то же что и ей, и она будет считать тебя мужчиной с хорошим вкусом.
— Более того, я сам пишу фантастические романы, в том числе о волшебных параллельных мирах. Скажу по секрету: я довольно известный писатель-фантаст, — совершенно завирается Иван Эдуардович в стремлении к своей эротического характера цели. — Только мои книги издаются под псевдонимом.
— Под каким? — с явной симпатией устремляет на него зелёные очи очаровательная пловчиха.
— Ну… Эээ… Гм. Кхе. Дело в том, что я не имею права, согласно контракту с издательством, до поры до времени разглашать тайну псевдонима. Этого даже мои ближайшие друзья и родичи не знают. Извини.
Боясь, что эта любительница фантастики продолжит расспросы на столь скользкую для него тему и быстро разоблачит враньё, Иван Эдуардович резко меняет предмет разговора:
— А давай-ка покатаемся на лодке.
— Давай.
Они, истекая водой, выходят из водоёма на песок, обтираются полотенцами. Вместе с полотенцем Иван Эдуардович извлёк из сумки незаметно и упаковочку презерватива, быстро спрятав её под резинку плавок.
Лодочник, оказавшийся особой женского пола пенсионного возраста, выдаёт им два весла. В дощатый причал тычутся носами, как поросята в свиноматку, несколько лодок, каждая из которых имеет собственное имя, написанное на борту красной малярной краской. Индивидуум, который подобрал и намалевал эти названия, обладал, видимо, чувством юмора. Но юмора чёрного. Названия следующие: «Титаник», «Офелия», «Княжна Степана Разина», «Чапаев», «Муму»…
Василиса выбирает «Офелию», за благозвучность.
Иван Эдуардович ставит на причал вёсла вертикально, просит её их подержать и переходит с причала в лодку, балансируя в закачавшейся «Офелии», затем принимает от Василисы одно за другим вёсла и пристыковывает их к уключинам. Наконец, взяв её за ручку, помогает переместиться туда же. Он садится за вёсла, она напротив. Сначала несимметричными движениями вёсел Иван Эдуардович разворачивает лодку кормой к причалу, затем симметричными движет её в сторону живописных камышей и плакучих ив.
Гребя и вперившись зрачками в её большие зелёные очи, Иван Эдуардович декламирует наизусть поэзию. Вот, например, строки замечательного русского писателя — поэта и прозаика — Александра Фомича Вельтмана. Того самого Вельтмана, с которым А.С. Пушкин куролесил в Кишинёве. Вельтмана, которого Ф.М. Достоевский назвал своим учителем. Вельтмана, о котором старый Лев Толстой в беседе с молодым Максимом Горьким сказал: «Не правда ли — хороший писатель… Он иногда лучше Гоголя». Вельтмана, которого многие литературные авторитеты считали одним из лучших русских писателей, и который, несмотря на известность и популярность при жизни, после смерти оказался незаслуженно забыт. Вот эти стихотворные строки из удивительного романа «Странник»:
Она мутит мой дух давно, Она меня всё в омут тянет! Взгляните… то всплывёт, то канет На очарованное дно! Мои ли чувства не растают? Всплывёт… и воды заиграют!.. Как колыбель под ней волна!.. Вся в брызгах, как в шатре алмазном, Лежит раскинувшись она И возмущает дух соблазном! О, брошусь в воду!.. пыл огня, Быть может, холод волн потушит… Но я боюсь… в воде меня Русалка страстная задушит!..Как опытный донжуан, Иван Эдуардович знает, что стихи — хороший ключ к женскому сердцу, а через сердце и к другим женским органам, поэтому он вызубрил целый ряд небольших поэтических сочинений разных авторов и, так сказать, в борьбе за женское тело часто пускал в ход это эффективное оружие.
Вёсла с плеском ритмично зачерпывают вещество, именуемое химиками H2O. С выскакивающих из жидкого зеркала деревянных ласт сыплются бриллианты. Над водой стремительно и виртуозно, как воздушные асы, шныряют элегантные невесомые стрекозы. Одна из них шустро совершает посадку на борт лодки, ухватившись за древесину цепкими коготками, но тут же мгновенно уносится, напуганная вынырнувшим веслом. Василиса щурится от солнца и смакует поэзию, которой охмуряет её наш герой.
Плескаясь в ледяных волнах, Диана, Любовника, следившего за ней, Не так пленила наготою стана, Как я пленён пастушкой был моей, Что в воду погрузила покрывало — Убор воздушных золотых кудрей: И зной палящий не помог нимало, Когда любовь ознобом пронизала.А это — мадригал LII великого Петрарки в переводе Евгения Солоновича.
Между тем «Офелия» пересекает пруд и приближается к наиболее удалённой от пляжа части берега, где граница воды и суши декорирована занавесами серебристо-салатных плакучих ив и ширмами изумрудных камышей, за которыми можно исчезнуть из поля зрения других пляжников.
Иван Эдуардович перестаёт грести, но лодка по инерции ещё плывёт, всё медленнее. И наконец, замирает, оказавшись в уютном закоулке водоёма, где существуют лишь шелестящая зелень, плещущая о борта вода и щебечущее своими птицами небо.
— Пересядь сюда, поближе ко мне, — негромко просит Иван Эдуардович, похлопывая ладонью по скамье, на которой сам сидит.
— Только, чур, не целоваться, — предупреждает Василиса и пересаживается.
Иван Эдуардович нежно гладит её голые плечи опытными пальцами и мурлычет ей на ушко, как она изумительно красива, опытным ртом. Против таких действий Василиса не возражает.
Заслушавшись комплиментами, она даже склоняет русую головку с веночком-косой на его могучее плечо.
Теперь пора, решает Иван Эдуардович, пылая от вожделения.
Он обхватывает молодую красавицу в салатном бикини сильными руками, привлекает к себе и тянется жадными губами к её нежным девичьим устам.
— Нет!!! Не целуй!!! — ужасается Василиса, отклоняясь и отталкивая Ивана Эдуардовича маленькими кулачками. Но разве может такая хрупкая девушка противостоять силе такого спортивного мужчины!
— Нельзя!!! Я зако…
Закрыв глаза, то ли для того чтобы не видеть ужаса на её прекрасном личике; то ли для того чтобы, отключив зрение, сосредоточиться на осязании; то ли подсознательно опасаясь оплеухи, Иван Эдуардович зажимает её ротик на полуслове страстным поцелуем.
И в то же мгновение он перестаёт осязать Василису, будто она каким-то чудом выскользнула из его цепких объятий. И слышит тихий всплеск рядом с лодкой, будто за борт уронили кошелёк с монетами.
Иван Эдуардович распахивает глаза.
Василисы нет!
Он, вертясь в лодке, осматривает всё пространство вокруг себя.
Её нет, нет, нет!!!
Иван Эдуардович с изумлением обнаруживает на дне лодки «Офелии» салатное бикини: лифчик и плавочки.
— Василиса, ты где?! — негромко кричит сорокадвухлетний красавец-мужчина по имени Иван, по фамилии Царевич, продолжая озираться во все стороны. — Василисааа!
Из-под левого весла в ответ звучит лягушачье:
— Ква…
Декабрь 2003 г.[3]
Яйцо
Дорожная история
Я думаю, никогда жених, трепетно ожидаемый, не спешит так к своей невесте, как я спешил тогда в Харьков, сам не зная почему.
В.А. Соллогуб, «Неоконченные повести»
— Тс! — перебил меня следователь, — подтверждаются мои первоначальные предположения. Тут действуют загадочные обстоятельства…
Э.Т.А. Гофман, «Эликсиры сатаны»
Он приступил к мочеиспусканию…
— Ну кто же так начинает рассказ! — возмущается внутренний голос автора. — В первом же предложении ты шокируешь читателя столь низменными физиологическими подробностями. Нехорошо, нехорошо. Начни не с мочеиспускания, а с чего-нибудь другого.
— Ну… Ладно, начну с другого, — соглашается со своим внутренним голосом автор и начинает так:
Как многим известно, на Харьковщине, восточнее самого города Харькова, имеет место посёлок городского типа под названием Великий Бурлук.
Как многим известно, некогда возле Великого Бурлука была найдена знаменитая «Велесова книга».
А Кий Арнольдович Сало, главный герой этого рассказа, нашёл возле Великого Бурлука яйцо, о чём мало кому известно. И не когда-то там, а конкретно 30 апреля 2004 года, в 18 часов 23 минуты по киевскому времени.
Сам-то Кий Арнольдович живёт не в Великом Бурлуке, а в Харькове, на Холодной горе; в Великом же Бурлуке живут его тесть с тёщей, то есть родители его супруги Русланы Тарасовны Бузок. Тот факт, что у нашего героя и его жены, состоящей с ним в зарегистрированном загсом законном браке, разные фамилии, объясняется просто: Руслана оставила девичью фамилию, посчитав, дескать, «Руслана Сало» — звучит как-то курьёзно; другое дело — Бузок, что в переводе с украинского на великоросский означает Сирень.
Итак, выехав из Великого Бурлука, где он оставил у тестя с тёщей на майские праздники погостить жену Руслану и сына Богданчика, Кий Сало ощутил повышенное давление в мочевом пузыре и решил, что называется, «отлить». А всё потому, что тёща угощала его, кроме прочего, домашними солениями, после которых организм испытывает жажду и заставляет хлебать и хлебать напитки.
Вишнёвая «Таврия» нашего героя замерла на обочине трассы, а сам он переместился в ближайшие кусты.
В то время как организм Кия Арнольдовича избавлялся от лишней жидкости, его глаза блуждали по окрестностям, наслаждаясь видами весенней природы.
— Здесь следует дать живописные описания оной весенней природы, для так называемой художественности, — говорит вдруг… нет, не герой, а внутренний голос автора. — Опиши, как из липких почек высовываются нежные светло-зелёные листочки; как гудят над первыми цветами первые насекомые, ещё сонные после зимней спячки; как пропитавшаяся влагой растаявшего снега почва ощетинилась первой травой, как…
— Неохота мне делать подробные описания весенней природы, — возражает своему внутреннему голосу автор. — Во-первых, потому, что таких описаний в художественной литературе и без того пруд пруди, и многие из них столь блестящи, что мне их всё равно не переплюнуть. Во-вторых, от многословных рассусоливаний на тему пейзажей, портретов и натюрмортов мой рассказик может раскваситься до размеров повести или даже романа, что в мои планы не входит. И, наконец, в-третьих, читатель, конечно же, и без меня прекрасно знает, как выглядит весна в наших широтах, и даже как она пахнет.
Итак, стряхнув последние капли, упрятав обратно в брюки свой… ага, его… и застёгивая молнию ширинки, Кий Арнольдович Сало зыркнул на одуванчики, похожие на махонькие лимонного колера меховые туркменские шапки, насаженные на салатного колера трубочки для коктейля, и увидел среди них вышеупомянутое яйцо.
Яйцо было красивым.
Нет, это было не пасхальное яйцо работы ювелира Фаберже, конечно, а обычное яйцо какой-то крупной птицы. Но его расцветка была весьма приятна глазу: тёмно-синее в жёлтую крапинку, или, пожалуй, в крапинку цвета слоновой кости; будто вечернее небо, усеянное звёздочками. Величиной больше гусиного, или индюшиного, или лебединого, но поменьше страусового.
Наш герой взял его в руки, чтоб рассмотреть поближе. При ближайшем рассмотрении светлые крапинки напоминали то ли шумерскую клинопись, то ли скандинавские руны. Когда Кий Арнольдович повернул находку, чтобы оглядеть со всех сторон, внутри о скорлупу что-то стукнулось. Он слегка потряс яйцо. Да, внутри болталось что-то плотное, будто пластмассовая игрушка в шоколадном яйце «Киндер-сюрприз». Неужели белок с желтком ссохлись в твёрдый комочек? Или высохшая мумия птенца, не сумевшего пробить скорлупу?
Полюбовавшись яйцом, убедившись, что оно не разбито и не треснуто, а абсолютно целое, наш герой решил, что сия вещица, так сказать, эстетична и может собой украсить домашний интерьер, поэтому забрал находку. Вернувшись в вишнёвую «Таврию», аккуратно положил синий в крапинку эллипсоид на соседнее сиденье и продолжил путь.
Не успел его автомобиль набрать скорость, а в тех же кустах, где мочился Кий Сало, появился другой мужчина. Появился неизвестно откуда, то ли из кустов же, то ли прямо из воздуха. Он был абсолютно лыс, горбонос, его профиль напоминал морду хищной птицы. Тело его было упаковано в чёрную оболочку вроде диковинного доспеха. Если бы кто-нибудь, да вот хотя бы и сам читатель, глядя на лицо этого субъекта попытался бы назвать его возраст, то это звучало бы примерно так: «Ему лет тридцать… Ой, нет, не тридцать, а все пятьдесят… Да нет, не пятьдесят, ему и тридцати-то нет… Впрочем, ему уже за сорок… Да нет, какие сорок, никак не меньше шестидесяти… Даже больше семидесяти… Даже все девяносто… Ой, нет, меньше сорока… Двадцать с хвостиком…»
Таинственный мужчина неопределённого возраста обвёл острыми глазками окрестности, впился взором в жёлтую галактику из одуванчиков, закрыл веки и придавил виски пальцами, затем, раздвинув ветви кустов, устремил взгляд на уменьшающееся вдали вишнёвое пятнышко, потом повернулся и исчез так же внезапно, как и появился…
* * *
Пока Кий Арнольдович Сало, крутя баранку вишнёвой «Таврии», отъезжает от Великого Бурлука, автор поделится с читателем небольшим объёмом — «толикой», как говорят великороссы, или, «дещицей», как говорят украинцы — информации об этом своём герое.
Его папа, Арнольд Кузьмич Сало, в детстве страдал оттого, что его дразнили другие малыши за нездешнее, импортное имя. Поэтому решил, дескать, если у него будут дети, то он им обязательно даст имена здешние, славянские. И когда наш герой родился, папа Арнольд подыскал для него исконно славянское, как он считал, имя в древнерусской летописи «Повесть временных лет». Как читатель, конечно же, понял, имя нашего героя позаимствовано у легендарного князя, основавшего более полутора тысяч лет назад город, названный в его честь Киевом. Но, увы, и Кию Арнольдовичу не удалось в детстве избежать дразнилок по поводу имени. Мальчишки и девчонки кричали ему: «Кий, Кий, где твои шары?»; подразумевая бильярдный кий с бильярдными же шарами.
Ныне Кий Арнольдович Сало — полноватый мужчина тридцати четырёх лет, с шевелюрой цвета неочищенного картофеля, усиками и бородкой. Он окончил Московский Литературный институт, но популярным и модным писателем, известным широким массам читателей, не стал. Работает в одной из харьковских телекомпаний редактором краеведческой программы «Столица № 1». Название намекает, что Харьков был первой столицей Украинской советской республики, пока не передал столичный статус Киеву. Один из персонажей Исаака Бабеля — «тоскующий убийца Сидоров» — обозвал Харьков «самодельной столицей». Ну, самодельная, не самодельная, а столица. Первая. Но теперь уж бывшая. В свободное же от работы в «Столице № 1» время Кий Арнольдович, кроме прочего, иногда пишет статьи, которые именует элегантным словом «эссе», для местной прессы. Но поскольку с развалом Советского Союза развалилось и правило выплачивать авторам пристойные гонорары за опубликованные опусы, писание статей гражданин Сало называет не работой, а хобби.
В данный отрезок времени он работал над статьёй (эссе) под рабочим названием «Харьковчане — основоположники русской и украинской фантастической прозы периода романтизма». По окончании этой работы он планировал дать сочинению более лаконичное название, что-нибудь типа «Гнездо фантастической прозы» или там «Вотчина фантастического романтизма»… В этом эссе он рассказывал и о попечителе Харьковского учебного округа Алексее Алексеевиче Перовском, авторе фантастических повестей «Лафертовская Маковница» и «Чёрная курица, или Подземные жители» на типичную для романтиков тему контактирования нашего мира с волшебными параллельными мирами (свои сочинения Перовский подписывал псевдонимом «Антоний Погорельский»; кстати, и племянник этого харьковского попечителя — писатель Алексей Константинович Толстой — тоже считается одним из основоположников русской фантастики); и о первом прозаике новой украинской литературы Григории Фёдоровиче Квитке (псевдоним «Грыцько Основьяненко»), авторе фантастических повестей «Конотопская ведьма» и «Мертвецкий великдень»; и об Оресте Михайловиче Сомове, авторе фантастических повестей «Русалка» и «Киевские ведьмы», первом русском писателе, обратившемся к украинскому фольклору, и вдохновившем своим примером молодого Гоголя — не харьковчанина, но с Харьковом тоже связанного довольно плотно — на написание «Вечеров на хуторе близ Диканьки»…
Создание эссе продвигалось не столь шустро, как Кию Арнольдовичу хотелось, ибо супруга Руслана отвлекала его всяческими поручениями: то сбегай в булочную за хлебом, то забей гвоздь, то вынеси мусор, то позанимайся с Богданчиком, то… Теперь, когда он отвёз жену с сыном к её родителям, где они прогостят не менее недели, можно засесть за эссе основательно.
Заканчиваться эта статья должна таким резюме: дескать, раз и первая русская фантастическая повесть «Лафертовская Маковница» Погорельского (очень нравившаяся, к слову сказать, А.С. Пушкину) — и первая украинская фантастическая повесть — «Мертвецкий великдень» Основьяненко (которую одобрил даже критик Виссарион Белинский, не любивший вообще-то фантастику и утверждавший, что «фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов») — написаны харьковчанами (пусть даже Погорельский был харьковчанином не пожизненно, как Квитка, а временно, но всё же…), значит, именно Харьков можно считать родиной как русской так и украинской фантастической прозы периода романтизма.
И вот, сидя рядом с найденным близ Великого Бурлука яйцом и делая два дела одновременно — управляя автомобилем и мысленно созидая эссе — наш герой километр за километром, километр за километром, мимо сёл и посёлков — Подсреднее, Дорошенково, Подгорелое, Гонтаровка, Радьково, Широкое — перемещался в сторону родного города Харькова, для которого, кстати сказать, этот 2004-й год от Рождества Христова был юбилейным: Харьков праздновал своё 350-летие. То есть поселения здесь были ещё во времена охоты на мамонтов, но первое документальное свидетельство о городе Харькове как таковом относится к 1654-му году, году заключения союза между Украиной и Россией. По случаю юбилея, кроме прочих праздничных мероприятий, запланировано и открытие памятника легендарному козаку Харьку, от имени которого, якобы, и происходит название «Харьков». Сам-то город назван от протекающей через него реки Харьков, а вот, дескать, река… Но хотя и в украинских летописях и в украинских народных песнях упоминаются козаки по имени Харько, историки считают версию о происхождении названия реки и соответственно города от имени какого-то козака не более чем легендой. Существуют ещё четырнадцать версий о происхождении названия «Харьков», и согласно большинству из них река такое название получила за сотни лет до возникновения козачества. Тем не менее, известный скульптор Зураб Церетели к юбилею уже сотворил изваяние мифического козака.
— Во-первых, ты отвлёкся от сюжета, а во-вторых, вместо художественного произведения стал выдавать сухую краеведческую информацию, — одёргивает автора его внутренний голос, но автор беспечно отмахивается.
* * *
На пути от Великого Бурлука к Харькову лежит и посёлок Старый Салтов, чуть севернее которого находится его почти тёзка Верхний Салтов. Ныне оный Верхний Салтов — обычное маленькое восточноукраинское поселение, а в XII веке там был довольно крупный по средневековым меркам город, называвшийся просто Салтов. Салтов, как говорят некоторые знатоки истории, был последним городом на пути двигавшихся навстречу половцам героев «Слова о полку Игореве» — князя Игоря Святославича Новгород-Северского и его полка. Сама битва, оказавшаяся трагической для русичей, случилась, как говорят всё те же знатоки, где-то на юге нынешней Харьковщины или севере нынешней Донеччины…
— Эй, алло! Ты меня слышишь, или нет?! — уже не говорит, а кричит автору его внутренний голос. — Вернись к сюжету! Это ж рассказ, а не справочник по краеведению!
— Да,… я действительно… немного… — смущённо лепечет автор, и сам уже видя, что залез куда-то не туда, но тут же пытается выкручиваться: — Впрочем, главный герой моего рассказа — редактор краеведческой телепрограммы, так что эти мои рассусоливания можно отнести на счёт ассоциаций, которые вызывала у героя эта поездка.
Итак, проехав по дамбе, пересекающей Печенежское водохранилище, которое харьковчане — народ сухопутный — патетически называют Печенежским морем, Кий Сало въехал в Старый Салтов и вскоре остановился на автозаправочной станции, дабы, образно выражаясь, своего металлического коня вишнёвой масти напоить студёным бензином. Возможно, на этом же самом месте 819 лет назад поил своего скакуна и князь Игорь Святославич.
На заправке, кроме её работника — парня лет двадцати в комбинезоне с эмблемой фирмы, коей эта бензоколонка принадлежала, присутствовало ещё одно живое существо: бездомный безродный пёс серо-чёрно-белой масти, харчующийся подачками работников и клиентов этого пункта.
Когда бак вишнёвой «Таврии» наполнялся горючим, пёс взирал на шофёра безучастно, положив морду на передние лапы и шевеля бровями. А когда водитель, отойдя от машины, достал из кармана жилета бумажник, вынул из него гривны с портретиками киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого, других выдающихся деятелей, и протянул деньги парню, пёс степенно встал, подошёл к нашему герою и, вперившись в него просящими очами, завилял хвостом.
В момент, когда заправщик взял купюры клиента, настроение собаки внезапно переменилось: она повернула морду на восток — в ту сторону, откуда приехала вишнёвая «Таврия», свирепо оскалилась и зарычала. Расплатившийся за бензин Кий Арнольдович обернулся глянуть, что вызвало недовольство пса, и стал свидетелем такой сцены: на заправку с трассы свильнул чёрный мотоцикл, на коем восседал человек, облачённый в чёрный мотошлем, чёрную куртку, чёрные перчатки, чёрные брюки и чёрные ботинки — таких мотовсадников нынче называют байкерами; затормозив рядом с «Таврией» нашего героя, заглянул в окошко автомобиля (а стёкла в нём прозрачные, не тонированные), решительно ухватился за ручку и дёрнул дверцу; пёс гавкнул, метнулся к чёрному мотоциклисту и вцепился челюстями в его ботинок; байкер крякнул, мотоцикл газанул; от рывка пса мотнуло, и он чудом не угодил под заднее колесо, выпустив жертву; незнакомец шуганул по трассе на запад, в сторону Харькова, а собака свирепо залаяла вслед.
Работник заправки, наблюдавший этот моментальный боевик с не меньшим изумлением, чем Кий Арнольдович, прокомментировал:
— Хотел, видать, в автомобиле тот тип чего-нибудь украсть. Украл бы, если б сей зверюга внезапно не разинул пасть и не куснул его за ногу, вмиг воровство предотвратив. Он удивил меня, ей-богу! Не пёс, а чистый детектив.
Кий Сало согласился:
— Сейчас я был бы обворован, не будь вор атакован псом. Он что, нарочно дрессирован бороться с автоворовством?
Парень возразил:
— Дворняга, не учёный сроду. Впервые так себя ведёт. Жил тише мыши здесь полгода, и вот… Я сам разинул рот!
— Стоп, стоп, стоп! Это что такое?! — восклицает вдруг уже не кто-то из персонажей, а внутренний голос автора. — Почему это персонажи заговорили стихами?! В реальной жизни люди так не разговаривают!
— Ну, «стихи» — это слишком громко сказано. Я не поэт, настоящих стихов писать, увы, не умею. Я бы назвал это просто рифмованно-ритмизированной прозой, — отвечает внутреннему голосу автор. — Да, в реальной жизни люди так не разговаривают, согласен. Но я же пишу не милицейский протокол реальной жизни, а так называемое художественное произведение, а в художественном произведении…
— В поэме или стихотворной пьесе — да, персонажи должны говорить стихами, но не в рассказе же! — перебивает внутренний голос. — В рассказе, пусть и фантастическом, персонажи должны говорить прозой и только прозой!
— Кому? — спрашивает у внутреннего голоса автор.
— Что «кому»? — переспрашивает внутренний голос.
— Вот ты говоришь: «персонажи должны», а я спрашиваю: кому? Кому именно что-то должны мои персонажи?
— Ну… Эээ… Читателю, — неуверенно отвечает внутренний голос.
— Ни мои персонажи, ни я лично читателю ничего не должны, мы у читателя ничего в долг не брали. Ну, а если читатель считает, что мы ему должны, то пусть добивается возвращения этого долга через суд. Творческая личность имеет право на выпендрёж, или, солиднее выражаясь, на художественную оригинальность. Если б мои способности были пошире, то мои персонажи не то что стихами заговорили, а запели бы оперные арии. Представляешь, как это было бы неординарно: фантастический рассказ, где персонажи общаются посредством оперных арий, с приложением нот! Но, увы, оперной музыки я сочинять не умею, поэтому пусть персонажи хотя бы просто говорят в рифму.
— Это неправильно, неправильно, неправильно… — бубнит внутренний голос.
— Зато, так сказать, оригинально. В миллионах рассказов персонажи говорят прозой, а у меня… Какое-никакое разнообразие. Считай это творческим поиском новых путей в литературе, — выкаблучивается автор.
— Ай, делай что хочешь, — сдаётся внутренний голос. — Только кажется мне, что у тебя выйдет какая-то мура, а не рассказ.
Итак, Кий Арнольдович расплатился за бензин до нападения пса на байкера, а после этого инцидента дал парню сверх того лишнюю купюру с портретиком гетмана Богдана Хмельницкого — а это, дескать, специально для пса, ему на колбасу. Работник заправки пообещал, что потратит эту пятёрку именно на лакомство для Кутмира, как кто-то из проезжих окрестил эту дворнягу.
Захлопнувшись в «Таврии», наш герой поехал дальше.
* * *
На выезде из Старого Салтова две девушки — смуглая брюнетка и светлокожая блондинка — «ловили» транспорт. Кий Сало притормозил. Блондинка спросила: дескать, до Харькова подбросите? Наш герой ответил: дескать, да, подброшу, почему ж не подбросить. Девушки стали прощаться друг с другом, из чего следовало, что едет только одна, а другая лишь её провожает. Оказалось, едет смуглая. Она открыла дверцу, а Кий Арнольдович взял с сиденья тёмно-синее в жёлтую крапинку яйцо и переложил его в бардачок; смуглянка с любопытством уставилась на красивое яйцо, садясь на то место, где оно только что лежало.
Эта девушка в кремовой курточке, синих джинсах и синих же кроссовочках была не просто смуглянкой, а мулаткой с кожей цвета какао и антрацитовыми кудряшками. Обычное дело, подумал наш герой: плод любви чернокожего студента из Африки, которых в Харькове было и есть немало, с белокожей украинской аборигенкой, так сказать. От таких чёрно-белых пар бывают талантливые потомки. Александр Пушкин, Александр Дюма…
Мулатка на прощание покивала блондинке пальчиками в окошко, водитель закрыл бардачок, и машина тронулась в дальнейший путь по трассе Т-2104.
Вскоре пассажирка нарушила молчание просьбой:
— Вы извините, а нельзя ли яйцо поближе посмотреть? Таких красивых не видала, да и едва ль увижу впредь.
Кий Арнольдович снова открыл бардачок и подал мулатке находку, заметив, что нашёл это в кустах близ Великого Бурлука, умолчав, впрочем, зачем он в те кусты ходил.
Девушка, вращая эллипсоид какаовыми пальчиками, цокала языком и шептала — надо же, дескать, какое красивое; а крапинки-то напоминают буковки или иероглифы. Кий Арнольдович сказал, что лично ему крапинки на яйце напоминают так называемую велесовицу — буквы «Велесовой книги»; надо же, до чего затейливым дизайнером бывает природа. Ухватившись за тему «Велесовой книги», о которой он некогда писал эссе (но, охладев, так и не дописал), литератор высказал предположение, что возле Великого Бурлука в средние века было языческое капище, где волхвы проводили обряды и ритуалы, и там была найдена кем-то эта древняя «книга» волхвов в виде дощечек с текстами, каковые дощечки оказались в имении князей Задонских, что близ Великого Бурлука же. И, дескать, вот ведь какое совпадение, что птичье яйцо с крапинками, похожими на велесовицу, найдено им в том же районе. Мулатка заметила, что где-то слышала или читала, будто изучение «Велесовой книги» хотят ввести на Украине в школьную программу, несмотря на то, что профессор Григорий Грабович и прочие академики считают оную «книгу» не текстами древних волхвов, а подделкой, фальшивкой конца XIX-го или начала XX-го века. Кий Арнольдович хмыкнул, дескать, профессор Грабович уверен, что и «Слово о полку Игореве» чистая фальшивка, мистификация, состряпанная в конце XVIII-го века. Но многими уважаемый историк Лихачёв, дескать, был уверен, что этот литературный шедевр написан современником князя Игоря Святославича.
Спутница, положив яйцо обратно в бардачок, сообщила, что у неё есть дома энциклопедия славянской мифологии и что в этой энциклопедии наряду с Велесом, Сварогом, Даждьбогом, Стрибогом, Мокошей и т. д. славянскими божками названы и такие известные всем с детства персонажи, как Кощей и Яга. Мол, изначально славяне поклонялись Кощею и Яге как божествам. А после искоренения язычества христианством эти двое перешли из религии в сказки. Кий Арнольдович сказал, что у ирландцев во времена друидов была языческая богиня Бригита, а когда на смену язычеству пришло христианство, эта богиня была объявлена христианской святой; и теперь святая Бригита входит в тройку самых почитаемых ирландских христианских святых наряду со святым Патриком и святым Колумбой, крестителями Ирландии. Вот ведь, дескать, какая разница: у нас, славян, бывшие языческие боги стали сказочными злодеями, а у них, кельтов, бывшие языческие боги перешли в категорию христианских святых.
Затем Кий Сало вслух вспомнил, что ещё жившие в VI–IV веках до нашей эры древнегреческие учёные Гекатей из Мелета, Палефат, Гелланик из Митилены и Эвгемер считали, что прототипами языческих богов были реально жившие некогда смертные люди — выдающиеся политические и военные деятели и т. п.; а в основе мифов лежат реально происходившие события, приобретшие от многократного пересказывания фантастические формы. Например, убил некто большую змею; об этом стали говорить да пересказывать; кто-то заявил, что змея была не просто большая, а огромная; другой добавил, что у неё было две головы; ещё кто-то уточнил, дескать, не две, а три… И в результате вышел миф о девятиглавой гидре.
Мулатка сказала, что читала в харьковском журнале «Многогранный мир» гипотезу, что языческие капища были не просто местами поклонений божествам, а порталами, соединяющими информационно-энергетическое поле нашего мира с информационно-энергетическими полями других, параллельных миров в иных измерениях. Кий Арнольдович, которому этот журнал был хорошо знаком, поскольку он и сам писал для этого издания статьи, сообщил, что в свежайшем номере этого журнала, ещё не поступившем в продажу, есть статья некоего Фауста Рабиновиченко, «независимого исследователя тайн мироздания», как он себя называет, с гипотезой, что прототипами языческих богов были реальные люди, но не из нашего мира, как утверждали вышеупомянутые древние греки, а из параллельного; дескать, из тамошнего мира в наш просочилась информация о неких выдающихся деятелях, и здесь их стали считать богами. Этому способствовало, дескать, и то, что в параллельном мире несколько иные законы природы, поэтому деяния, которые там являются нормой, в нашем мире воспринимаются как чудеса…
* * *
Убивая время вот таким интеллектуальным трёпом, Кий Сало и его пассажирка ехали на запад по трассе Т-2104, а мимо них за окошками автомобиля ползли восточноукраинские лесостепные пейзажи и промелькнули сёла Фёдоровка и Шестаково. Водителю было приятно, что ему попалась такая начитанная, умненькая попутчица, с которой есть о чём поговорить. Субъективно время напоминает эластичную резину или пружину: интересный разговор может его сильно сжимать, а томительное ожидание — наоборот, сильно растягивать.
Между тем наш герой опять ощутил повышенное давление в мочевом пузыре и, как сказал поэт, «помянул незлым тихим словом» соления тёщи, спровоцировавшие его на водохлёбство и вытекающие из этого последствия. Именно что вытекающие… Терпеть становилось всё труднее и труднее. Делать нечего, придётся снова «отливать». Где тут у нас кустики? Ага, вон, впереди. Там и остановимся.
Припарковав вишнёвую «Таврию» на обочине, Кий Арнольдович объяснил пассажирке: приспичило-де, так что вы тут, сударыня посидите, а я сбегаю в насаждения. Сударыня кивнула, мол, подожду, но добавила, что не будет сидеть, а походит возле машины, разомнёт ножки, а то сидеть надоело. Он отбежал в заросли, впрочем, относительно прозрачные, ибо листва ещё не полностью наросла, а она осталась потягиваться и топтаться у дороги.
Повернувшись к природе передом, к трассе задом, наш герой поливал молодую траву и чувствовал от этого большое облегчение. За эти занятием он услышал негромкий вскрик девушки, а когда закончил влагоизлияние, застегнул ширинку и выбрался из кустов, то узрел возле своего автомобиля, пафосно выражаясь, битву девы с неведомым супостатом. Каковой супостат был мотоциклистом в чёрном облачении, кажется, тем же, что на автозаправке… Это был рукопашный бой двух профессионалов. Мулатка наносила удары кулачками и кроссовками в корпус противника, а он умело удары отражал или уворачивался. Мотоцикл, на котором он восседал, мешал ему быть более подвижным, сковывал движения.
Разумеется, Кий Арнольдович бросился на помощь спутнице и первым делом выхватил из «Таврии» монтировку, которую всегда держал под рукой, ибо никто не гарантирован от встречи на дороге с лихими людьми. Чёрный мотоциклист, оценив, что противников уже двое и один из них вооружён железякой, предпочёл ретироваться, под ударами девушки развернулся и умчался на ревущем металлическом скакуне по трассе в сторону Харькова.
Разгорячённая боем пассажирка пояснила:
— Вы отошли, и вдруг примчался вот этот чёрный. Просто жуть! И влезть в машину попытался, чтобы украсть чего-нибудь. Ну, я, конечно, безучастно стоять не стала, будто столб, и с ним схватилась, дело ясно, злодейство не свершилось чтоб.
Наш герой сказал, что это уже вторая попытка чёрного байкера обокрасть его автомобиль, в котором, впрочем, нет ничего особо ценного (бумажник был в кармане жилета, а жилет на Кие Арнольдовиче).
— Вы бились амазонка будто: такой удар, такой напор! Ему вы так вломили круто, был явно ошарашен вор. Умело бьётесь, словно витязь — шустра нога и резв кулак! Откуда эта боевитость? Где научились драться так?
Мулатка ответила, что с детства занималась боевыми искусствами: в школьные годы посещала секции карате и дзюдо; учась в милицейской школе, которую закончила в прошлом году, освоила самбо; а теперь занимается в секции боевого гопака — искусства рукопашного боя запорожских козаков, которое приобретает в Украине всё большую популярность. Да, она милиционер, поэтому не могла допустить, чтобы при ней совершилось преступление. Эх, жаль, не удалось задержать ворюгу. Мотоцикл у него больно резвый, на «Таврии» не догнать.
Тем временем на землю опускались сумерки и дымка.
Наш герой и попутчица заняли свои места в автомобиле. Пришло время познакомиться, и шофёр с пассажиркой назвали друг другу свои имена. У мулатки имя оказалось не африканское, а наше, славянское: Милослава.
Вишнёвая «Таврия» двинулась в дальнейший путь по трассе Т-2104 к Харькову, до которого оставалось всего ничего, как говорится, — километров двадцать с хвостиком. Минут пятнадцать езды…
* * *
И тут стало происходить странное.
Кий Сало и Милослава, обменявшись репликами на тему преступности вообще и автомобильных краж в частности, замолчали.
Дымка сгущалась, превращаясь в туман. Попутчица вроде начала дремать, а водитель…
То ли Кий Арнольдович погрузился в себя и вёл машину чисто автоматически, то ли он и сам впал в какую-то дремоту с открытыми глазами, то ли оказался под воздействием некоего наваждения, но некоторое время он управлял машиной, не замечая, куда едет.
И только когда спутница пробормотала, дескать, ой, я, кажется, задремала; а затем воскликнула, мол, а где это мы едем (?!), он будто очнулся и с изумлением обнаружил, что они движутся не по асфальтированной трассе, а по грунтовой дороге! Когда и где он свернул с трассы на грунтовку, Кий Сало совершенно не помнил, и зачем это сделал, совершенно не понимал.
Затормозив, пробормотал:
— Тьфу, что еще за чертовщина! Со мной творится ерунда. Куда заехала машина? Такого прежде никогда…
Обалдевший от произошедшего Кий Арнольдович развернул «Таврию» на сто восемьдесят градусов, и они поехали по грунтовке обратно.
А дымка уже сгустилась в настоящий туман. А сумерки уже напоминали ночную темень.
Пришлось включить фары.
В матовой пелене тумана дорога просматривалась вперёд всего метров на двадцать, поэтому, дабы не сбить возможного прохожего, неожиданно появляющегося из тумана, или не врезаться в неожиданное препятствие, или не растрясти до развала машину на корявых ухабах этого далеко не ровного и не гладкого пути, или не свильнуть с дороги в бездорожье, они ехали медленно, очень медленно.
Из тумана проявилось одинокое дерево — сосна, скрюченная так, будто некий гигант пытался завязать ее в узел, — и вскоре растворилось в тумане же за кормой «Таврии».
Минут через пять осторожного передвижения автомобиль оказался перед развилкой дорог. Кий Арнольдович поехал наугад по правой.
Ещё через несколько минут въехали в ботаническую колоннаду — похоже, лесок — и вскоре оказались на полянке, где дорога и заканчивалась. Судя по чёрно-сивой арене, оставшейся от костра, пустым консервным банкам, пластиковым бутылкам и висящему на ветке презервативу, по этой дороге какие-то жлобы ездили в лесок на пикники. Пришлось разворачиваться и ползти обратно к развилке…
Левая дорога, не сочтите за тавтологию, заворачивала всё влево и, пересекшись с другой грунтовкой, в конце концов уткнулась в развалины хаты-мазанки, давно заброшенной и обросшей непроходимыми дикими кустами. Тоже тупик.
Вернулись к попавшемуся недавно перекрестку и свернули направо… Эта грунтовка тоже кренилась влево, но вскоре, слившись с другой, выпрямилась… Из тумана проявилось дерево — сосна, скрюченная так, будто некий гигант пытался завязать ее в узел. Гм, что-то знакомое… Через пять минут после сосны — развилка… Та самая? Поехали по левой ее ветке… оказались на перекрёстке, да, кажется, том самом, и свернули уже налево. Ехали долго, и этот шлях кренился всё влево… Слился с другим… Из тумана проявилось дерево — сосна, скрюченная так… Ну да, та самая! Что за наваждение. Там, по пути были еще какие-то пересечения. Вернуться и попытаться по ним… Развернулись, поехали вспять, куда-то свернули… Ползли, ползли… Приползли — опять скрюченная сосна… Тьфу!..
Грунтовые дороги виляли, петляли, пересекались, сливались, расходились, образовывая какой-то адский лабиринт, и Кий Сало с мулаткой Милославой, похоже, в этом лабиринте заплутали. Отсутствие компаса и каких-либо ориентиров совершенно сбивало с панталыку: в какой стороне трасса, в какой стороне Харьков, в какой стороне что?
В процессе их блуждания в тумане совсем стемнело.
В очередной раз попетляв по кружевам грунтовых дорог и вновь оказавшись у знакомого дерева, Кий Арнольдович зыркнул на наручные часы и свистнул: одиннадцатый час вечера! А он предполагал быть дома в полдевятого, максимум в девять! И перед пассажиркой неудобно — подбросил, называется. И как это он мог съехать с трассы и заехать в такую глушь?! А теперь кружится и виляет в окрестностях этой скрюченной сосны, будто нечистая сила его водит кругами…
Развернув в который раз «Таврию», поехал искать путь, по которому еще не ездил. Нашёл, но и тот, попетляв и пересекшись с другими, вернул их к уже изрядно надоевшей сосне.
Столько времени потрачено, бензина сожжено, а толку никакого!
Милослава вздохнула:
— Нас будто кто-нибудь морочит, нас будто кто-то ввёл в обман… Нам лучше не блуждать здесь ночью, а ждать, пока пройдет туман.
Кий Арнольдович согласился: лучше ждать, чем без пользы тратить топливо.
— Так, так, так… Мужчина и девушка вынуждены заночевать вместе… Кажется, наклёвывается эротика… — предполагает внутренний голос автора.
— Нет, эротики здесь не будет, к сожалению, — возражает автор. — Я не ханжа, ничего против эротики не имею, даже наоборот, я бы с большим удовольствием вогнал бы в эту историю чувственную сексуальную сцену, но… Я-то своего героя знаю: он вовсе не оголтелый бабник, коварный соблазнитель, совращающий всех девушек, попадающихся на его пути, и изменяющий законной супруге направо и налево; вовсе нет… Да и к тому же между ним и Милославой не возникло никакого страстного влечения. Невинное общение случайно оказавшихся рядом интеллигентных людей и не более того, без всякой чувственности.
— Жаль. Люблю эротику, — признаётся внутренний голос.
— Да кто ж не любит, — поддакивает автор. — Но — нет.
Итак, они припарковались у скрюченного дерева и решили ждать. Кий Сало в очередной раз вышел «отлить», на этот раз не в кустики, а просто в туман, который был визуально плотнее кустиков.
Вернувшись после этого к «Таврии», которая светом фар указывала своё местопребывание в размашистой тьме, наш герой увидел, что его пассажирка царапает на грунте полосу сухой веткой и что-то бормочет. Спросил, что она делает, а Милослава поднесла к выпуклым губкам какаовый пальчик, дескать, тихо вы, и продолжила чертить и бормотать.
Колдует, что ли, подумал Кий Арнольдович.
Она очертила вокруг автомобиля неровный круг диаметром метров двенадцать, а затем ответила водителю, что эта их невозможность найти верную дорогу похожа на воздействие каких-то злых сил и она на всякий случай отгородилась от злых сил специальным заклинанием-молитвой. Он ухмыльнулся: неужели она действительно верит в такую мистику; сам-то он, хоть и помянул мысленно нечистую силу, был уверен, что вся причина в тумане. Она ответила, дескать, веришь или не веришь, а лучше подстраховаться, хуже от этого не будет. Он спросил: а откуда она знает такие заклинания. Она ответила, что её родной дедушка Панько, что жил на хуторе близ Мерефы, но недавно, увы, умер, был знахарем, или, как раньше говорили, ведьмаком, характерником; вот он-то и обучил свою «чорняву онуку» кое-каким заклинаниям; конечно, он был дедом не по отцовской, африканской линии, а по материнской, украинской.
* * *
Затем в ожидании, когда прояснится, они сидели в автомобиле и трепались о том, о сём.
Милослава рассказывала, что её родной папа живёт в Нигерии, где возглавляет какое-то крупное предприятие, а мама здесь, в Харькове, с другим мужем, отчимом Милославы, шведом по национальности, но не из тех шведов, что живут в Швеции, а из тех, что с начала XVIII века живут на Украине, забыли шведский язык и практически не отличаются от украинцев. Да и сама она, Милослава, живёт в Харькове, а в Старом Салтове была в гостях у подружки, да, той, блондинки. Что она (не блондинка, а Милослава) служит в милиции, и жених ее тоже. Что жених, по имени Остап, не мулат, но тоже, так сказать, полукровка: наполовину еврей, наполовину украинец. Что осенью они хотят сыграть свадьбу и съездить к её папе в Нигерию, куда он их настойчиво приглашает (они общаются с помощью Интернета), в свадебное, так сказать, путешествие…
А Кий Арнольдович рассказывал ей о своем начатом, но незаконченном эссе, о первых харьковских прозаиках-фантастах периода романтизма: об Алексее Перовском, Оресте Сомове, Григории Квитке-Основьяненко.
Увлёкшись, рассказал также о том, что оный Алексей Перовский, он же Антоний Погорельский, будучи попечителем Харьковского учебного округа, вместе с десятилетним племянником Алёшей Толстым, для которого он сочинит позже повесть «Чёрная курица», в 1827 году гостили в Веймаре у великого Гёте (пожалуй, А.К. Толстой — единственный русский писатель, сидевший, в полном смысле слова, на коленях у автора «Фауста»). И о том, что в 1827 же году великому Гёте было присвоено звание почётного члена учёного совета Харьковского университета, о чём, видимо, и сообщил ему Перовский при личной встрече. И о том, что это звание было присвоено автору «Фауста», не только писателю, но и учёному, за его активное, хоть и заочное участие в основании оного вуза. И о том, что ещё в 1803 году по просьбе тогдашнего попечителя Харьковского учебного округа графа Северина Осиповича Потоцкого Гёте занялся подбором преподавательских кадров для будущего университета. И о том, что именно по рекомендации Гёте в Харьков переселились и стали преподавать в новооткрытом вузе немецкие профессоры Теодор Пильгер, Людвиг Шнауберт и Иоганн Шад. И о том, что ещё граф Северин Потоцкий ходатайствовал перед петербургскими начальниками о присвоении Гёте оного почётного звания, но тогда власти отказали, посчитав, видимо, автора «Фауста» для этого недостаточно благонадёжным. И о том, что в 1816 году в неблагонадёжности, вольнодумстве, распространении «крамольных» идей о необходимости демократии и соблюдения прав человека был обвинён протеже Гёте — профессор Иоганн Шад, объявлен персоной нон грата и выслан не только из Харькова, но и вообще из Российской империи, а его труды были сожжены во дворе университета. И о том, что профессор Шад был любимым преподавателем харьковского студента Николая Григорьевича Белоусова, впоследствии — профессора и ректора Нежинской гимназии высших наук (это о Белоусове нежинский гимназист Николай Гоголь писал своему приятелю Герасиму Высоцкому следующее: «Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров. И, признаюсь, ежели бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс»). И о том, что в 1827 году по доносу «профессоров-школяров» против Белоусова было заведено «Дело о вольнодумстве», где ему, в частности, инкриминировалось, дескать, в своих лекциях он придерживается «крамольных» взглядов опального профессора Иоганна Шада. И о том, что по приказу Николая Первого Белоусов был выслан из Нежина в Харьков под надзор полиции, а любимый ученик этого харьковчанина, гимназист Гоголь, в связи с этим был лишён кандидатской степени. И о том, что Алексей Перовский, вернувшись после общения с Гёте из Веймара в Харьков, в связи с «Делом о вольнодумстве» подал в отставку с поста попечителя Харьковского учебного округа, ибо именно к этому округу относилась Нежинская гимназия и Перовский был непосредственным начальником «вольнодумца» Белоусова. И о том, что лекции «неблагонадежного» профессора Иоганна Шада слушал, наверно, и харьковский студент Орест Сомов. И о том, что переселившийся в 1817 году из Харькова в Петербург Сомов — прозаик, поэт, критик, издатель, теоретик русского романтизма — сотрудничал с А.С. Пушкиным, пока эти два романтика не рассорились на почве финансовых вопросов. И о том, что в 1829 году Сомов ввёл двадцатилетнего провинциала Гоголя в общество столичных литераторов, познакомив его с В.А. Жуковским и П.А. Плетнёвым, а те — с А.С. Пушкиным. И о том, что Гоголь, внук харьковского почтмейстера, общался и переписывался с рядом харьковчан, в том числе с писателем Г. Квиткой-Основьяненко, этнографом и главой Харьковского кружка романтиков И. Срезневским, историком В. Пассеком. И о том, что польский поэт-романтик и друг Пушкина Адам Мицкевич неоднократно бывал в Харькове, общался с харьковскими романтиками, в том числе с Петром Петровичем Гулаком-Артемовским, профессором Харьковского университета, одним из основоположников новой украинской литературы, сделавшим первые переводы сочинений Гёте и Мицкевича на украинский язык (Гоголь позаимствовал в сочинениях этого харьковского профессора цитату и имена главных героев для первой повести «Вечеров на хуторе…» — «Сорочинская ярмарка»), а родной брат Адама Мицкевича, Александр, почти двадцать лет преподавал в Харьковском университете римское право. И о том, что поэт Альфонс Осипович Валицкий, тоже профессор Харьковского университета периода романтизма, перевёл «Фауста» Гёте на польский…
Тут наш герой взглянул на Милославу, которая, как он думал, его внимательно слушала, и увидел, что девушка сладко спит, склонив к стеклу угольные кудряшки. Убаюкал нудной лекцией, самокритично подумал Кий Арнольдович.
И сам он зевнул, прикрыв рот ладонью. И его веки стали слипаться. А туман-то еще более сгустился, будто мы в батискафе, плывущем в молоке, подумал наш герой.
И вдруг ему показалось, что в освещенном фарами тумане промелькнула чёрная тень. Всматриваясь в белизну, Кий Сало немного опустил стекло и прислушался.
Где-то раздался вой, от которого у него мурашки промаршировали вдоль позвоночника: так примерно в фильмах ужасов воют оборотни.
Затем будто глуховатый топот…
И будто снова тень мелькнула в молочном воздухе…
Где-то всхрапнуло… Заржало…
Прохлопали будто большие крылья…
Опять топот…
Тень…
Кию Арнольдовичу вспомнилось, как кружили вокруг Хомы Брута вурдалаки и покойница-панночка в гоголевском «Вие». Не то чтобы наш герой был трусом, хотя и великим храбрецом тоже не был, но он был творческой личностью и, как многие творческие люди, имел эмоциональность, провоцирующую переживания по всякому поводу, и развитое воображение, способное сделать из мухи если не слона, то хотя бы орла-стервятника. Звуки и тени навеяли на впечатлительного литератора так называемую жуть, и Кий Сало даже неумело перекрестился.
Вообще-то часто страх взбадривает живое существо и человека в частности, но Кий Арнольдович, несмотря на охватившую его жуть, тут же, будто наглотавшись снотворного, уснул, опустив лицо на руль…
* * *
Проснулся он оттого, что его организм снова захотел сходить по малой нужде, когда уже рассвет, как говорят поэты, «брезжил». Тумана уже не было, была дымка, и моросил дождик. Мулатка Милослава спала.
Кий Арнольдович вышел из «Таврии», заметил, что фары по-прежнему горят, выключил их, ибо было уже достаточно светло, хотя солнце ещё не взошло, и оглянулся по сторонам. Ближайшие окрестности представляли собой раскинувшиеся по обе стороны грунтовой дороги поля с одинокой скрюченной сосной на обочине, а дальние растворялись в дымке.
Идя к дереву, корни которого он намеревался оросить содержимым мочевого пузыря, Кий Сало увидел, что влажный грунт истоптан лошадиными подковами, будто конь долго кружил и топтался около круга, который очертила Милослава сухой веткой. Стало быть, топот, всхрапывание, ржание и тень Кию Арнольдовичу не померещились… Хотя странно…
Оглянувшись и убедившись, что Милослава спит, на него не смотрит, он расстегнул ширинку и оросил корни дерева.
Застегнув молнию, пошёл обратно к машине, ёжась от рассветного холода и мороси, и вдруг ощутил на себе чей-то взгляд; повернул голову…
На дороге, перед автомобилем, метрах в десяти стоял чёрный мотоцикл, а на нём, скрестив руки, восседал чёрный мотоциклист.
Надо же, какой навязчивый ворюга. И здесь нашёл!
Кий Арнольдович взял монтировку и демонстративно пошлёпал ею по ладони, дескать, если у тебя лихое на уме, непрошенный гость, то мы постоим за себя.
Чёрный байкер поднял руки, шевельнул пальцами, видимо, показывая, что он безоружен (а выглядело, будто сдаётся в плен), затем снова скрестил.
Они оба молчали и смотрели друг на друга. Впрочем, глаз незнакомца Кий Сало не видел, ибо лицо вора скрывалось под тонированным оргстеклом мотошлема, но чувствовал на себе его взгляд. Наш герой не выдержал тишины и первым нарушил её:
— Чего ты прицепился, парень, под шлемом спрятавший лицо? Что от меня конкретно надо тебе, мужик? Скажи.
— Яйцо.
Голос у незнакомца был глуховатый, хриплый, будто простуженный, и говорил он с акцентом, не кавказским, не прибалтийским, а непонятно каким.
Яйцо, удивился Кий Арнольдович. Он даже не сразу сообразил, о чём речь. Когда у мужчины требуют яйцо, это звучит, по меньшей мере, двусмысленно. А откуда этот тип знает, что Кий Сало нашёл… А, он же там, в Старом Салтове, на автозаправке подъехал к «Таврии» и заглянул через стекло, а яйцо лежало на сиденье. Так вот что его так привлекло, вот что он пытался украсть два раза! А на хрена ему птичье яйцо? Может, он орнитолог, или, может, он их просто коллекционирует, а это какое-то редкое… Да, настоящий коллекционер ради редкого экземпляра и украсть может, это как наркотик… Кий Арнольдович сам коллекционировал старые книги и однажды совершил кражу у человека, использовавшего страницы в качестве туалетной бумаги. Это он мог понять.
Незнакомец продолжил:
— Давай меняться. Вот я кину тебе свой золотой браслет, а ты, неведомый мужчина, тотчас яйцо мне кинь в ответ.
Вот это другой разговор, вот с этого и надо было начинать, а то воровать… Кий Сало положил монтировку обратно под сиденье.
Незнакомец расплёл руки, в одной из которых уже что-то держал, и аккуратно бросил это что-то нашему герою. Предмет упал прямо в подставленные ладони Кия Арнольдовича. Да, это был очень красивый браслет из жёлтого металла, довольно тяжёленький, украшенный изображениями грифонов, выглядящих так реалистично, будто дизайнер браслета запечатлел их с натуры. Конечно, это никакое ни золото (ибо кто же станет за птичье яйцо, пусть и красивое, отдавать такое увесистое изделие из настоящего золота!), а латунь или другой медный сплав, подумал Кий Сало, но вещица эффектная. Самому ему яйцо досталось даром, поэтому он и не претендовал, чтобы за яйцо с ним расплачивались, но раз этот сам предлагает что-то взамен, зачем же отказываться. Это яйцо красиво смотрелось бы на декоративном блюде, купленном Кием Арнольдовичем в Самарканде, близ мавзолея Гур-Эмир, где покоятся полководец Тамерлан и его внук-астроном Улугбек; и гармонировало бы колоритом с живописным полотном «Дама в синем» (для которого одному харьковскому художнику позировала Руслана Бузок, супруга Кия Арнольдовича), что висит над аквариумом… Но этому яйцо явно нужнее.
Кий Сало открыл бардачок, взял красивое, темно-синее в желтую крапинку яйцо и протянул мотоциклисту, дескать, на, забирай. Байкер подъезжать не стал, а показал жестом: бросай. Ну, как хочешь, если разобьётся — я не виноват, подумал наш герой и, прицелившись, бросил. Тот ловко словил эллипсоид правой перчаткой, как опытный бейсболист ловит мячик. Кию Арнольдовичу даже показалось, будто в последний момент яйцо само притянулось к руке незнакомца, как железка к магниту. Незнакомец тут же упаковал приобретение в чёрный футляр, висевший у него на шее.
Видя, что чёрный мотоциклист собирается уезжать, литератор сказал:
— Эй, парень, подскажи, будь другом, где трасса… Не спеши, постой… С дороги сбились, ездим кругом… Куда нам ехать?
— Ну, за мной.
Ещё Кий Сало спросил, знает ли его визави, какая птица снесла такое красивое яйцо, но на этот вопрос незнакомец не ответил, развернулся и поехал.
Кий Арнольдович быстро сел в «Таврию», положил браслет в бардачок, захлопнул дверцу машины, разбудив звуком Милославу, и двинулся вслед за байкером. Мулатка спросонья удивилась: ой, уже утро, ой, мы уже едем, ой, впереди тот самый вор! Наш герой ответил, что с мотоциклистом они поладили и он показывает им дорогу до потерянной ими трассы.
Скоро будет развилка, подумал Кий Сало; но никакой развилки, странное дело, не было. Мотоциклист и вслед за ним вишнёвая «Таврия» въехали в небольшую посадку и вскоре выехали из неё прямо к трассе. Надо же, мы часами кружили возле самой трассы, изумился Кий Арнольдович.
Чёрный незнакомец, выехав передним колесом с грунтовки на асфальт, обернулся и помахал рукой вправо, показывая, что им туда, а сам свернул налево и быстро уехал.
Кий Сало и Милослава, уставшие от долгого сидения, проголодавшиеся и озабоченные стремлением быстрее добраться до дому, не проявили наблюдательности, а если бы проявили, то заметили бы, что впереди на влажном грунте имеются свежие отпечатки конских подков, но нет свежих отпечатков мотоциклетных шин…
Вишнёвая «Таврия» наконец-то выехала на трассу Т-2104 и повернула к Харькову.
* * *
Дальнейший путь прошёл без всяких приключений.
По Салтовскому шоссе они въехали в Харьков, большинство жителей которого ещё предавались сну. Милослава попросила высадить её возле первой попавшейся станции метро, каковой на пути следования нашего героя была «Площа Повстання». А куда ей, собственно, надо? На Лысую гору, ответила она, там её дом; но поскольку метро на Лысую гору не провели, она поедет с пересадкой: на метро до Холодной горы, а далее на троллейбусе. Нет, возразил наш герой, во-первых, метро, кажется, ещё не работает, слишком рано, а во-вторых, сам он едет на Холодную гору, от которой до Лысой рукой подать, поэтому доставит её прямо к дому. Её, разумеется, такой вариант очень даже устраивал. (Справка для незнающих географию Харькова: Холодная и Лысая горы — холмы-районы в западной части города.)
Так и было: по улице Полтавский Шлях вишнёвая «Таврия» взъехала на Холодную гору, за станцией метро с тем же названием — «Холодна гора» — повернула направо… И вскоре Кий Арнольдович высадил Милославу — молодую мулатку, служащую в милиции, владеющую боевыми искусствами и заклинаниями — возле её дома в частном секторе на Лысой горе. А сам вернулся на Холодную гору, где с семьёй проживал в одной из девятиэтажек…
Вот, собственно, и вся история.
Что же касается чёрного мотоциклиста, то он, немного не доехав до Великого Бурлука, свернул с трассы в кусты, те самые, где Кий Сало нашёл яйцо, остановился, снял шлем, обнажив абсолютно лысую голову, достал из футляра яйцо, поднёс к уху, потряс и улыбнулся (если эту страшноватую гримасу можно назвать улыбкой), слыша, как в яйце болтается, стукаясь о скорлупу, бесценная игла, затем спрятал яйцо в футляр, надел шлем, рванулся вперед и… исчез.
В последний миг его чёрное одеяние вроде бы приобрело вид доспеха, а мотоцикл вроде бы увеличился и принял очертания чёрного коня с развевающимися по бокам то ли полами попоны, то ли крылами…
* * *
— И это всё? — спрашивает внутренний голос автора.
— Всё, — отвечает автор.
— Гм… Во-первых, тут не всё понятно, остались вопросы… А во-вторых… Это, мягко выражаясь, произведение началось как рассказ, потом ты стал пичкать читателя информацией по истории и географии, будто это краеведческий справочник, затем ты заставил персонажей говорить в рифму, будто это поэма… А закончилось всё вообще сказкой… Игла в яйце… А на конце иглы, надо полагать, смерть Кощея; а находилось яйцо до того, надо полагать, в утке, а утка в зайце, а заяц в сундуке, а сундук в цепях на высоком дубе… Смешал разные жанры, и вышел рассказ не рассказ, справочник не справочник, поэма не поэма, сказка не сказка… Ни то ни сё, какой-то винегрет. Нет, я понимаю, что ты хотел как лучше, я понимаю, что тобой двигали местечковый патриотизм и стремление к оригинальности: ты хотел с одной стороны создать родной Харьковщине репутацию территории романтической, фантастической, волшебной, легендарной, а с другой стороны поэкспериментировать со смешением жанров… Но результат, увы… Неужели ты всерьёз думаешь, что какое-нибудь издательство это опубликует?!
— А почему бы и нет… И не такое… гм… иногда печатают, сам читал… — бурчит автор.
— А вот спорим, что ни один журнал, ни одно издательство этот винегрет не напечатает! Вот спорим! — заводится внутренний голос.
— Спорим. А на что? — азарт охватывает автора.
— Да хоть на щелбан!
— Согласен! — азартно кричит автор, не задумываясь, как он в случае выигрыша нанесёт щелбан собственному внутреннему голосу, или, как в случае проигрыша, внутренний голос нанесёт щелбан ему самому.
В знак вступления этого спора в силу, автор и его внутренний голос бьют по рукам… В переносном, конечно, смысле, ибо какие же конечности у внутреннего голоса…
А вот вы лично, бесценный читатель, вы-то как думаете: кто из них — автор или его внутренний голос — победил в этом споре? Ась?
Февраль — март 2004 г.[4]
Главный герой
Фантастический рассказ со свежеиспечённым персонажем
— А где ты вчера пропадал? — спросил он.
— В Харькове.
— А, и ты побывал в Харькове?
— Кто ещё?
— Да почти все.
Братья Стругацкие, «Волны гасят ветер»
0.
Это не буква «О», а цифра ноль. Нулевая глава. То есть, по сути, предисловие.
Признаюсь тебе, бесценный Читатель, что нравятся мне, автору этой писанины, харьковские улочки, расползшиеся по южному склону холма, именуемого Нагорным районом; улочки, имеющие место между Пушкинской — бывшей Немецкой — и рекой Харьков, давшей имя всему полису. Нет, не только улочки на южном склоне, конечно. Автору нравится вообще этот город, что даёт тебе право, бесценный Читатель, обозвать автора «квасным харьковским патриотом». Но именно улочки на южном склоне представляются автору одними из наиболее романтичных в Харькове; наверно, просто потому, что сам автор на одной из них родился, а на другой провёл так называемое босоногое детство. Так называемое, ибо в центре большого города, где царит не травушка-муравушка, а асфальт, не очень-то походишь без обуви.
Гуляя по улочкам на южном склоне, можно увидеть вдруг домик, будто перенесённый из средневекового Амстердама… Или особняк, прикидывающийся античным храмом… Или миниатюрный якобы мавританский дворец… А местами здешние закоулки напоминают задворки викторианского Лондона… А то вдруг, подняв глаза, увидишь выткнувшиеся над крышами башенки будто рыцарского замка… А то вдруг высунется из стены дома каменный грифон… Или какой-нибудь там кентавр… Или ангел… Или просто лев…
Кроме автора этой писанины, живали тут, на южном склоне, и другие литераторы, куда более известные. Вот на этой улочке, например, жил один из основоположников новой украинской литературы Пётр Гулак-Артемовский, тот самый, которого цитирует в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» связанный с Харьковом многими «ниточками» Гоголь. А вот на этой некоторое время обитали одесситы Юрий Олеша и Валентин Катаев. А вон на той гостил у брата-революционера гимназист Иван Бунин, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе. А вон на той…
Зачем автор морочит мне мозг этим краеведческим трёпом, возможно, думаешь ты, бесценный читатель. Я-де жду от автора фантастическую историю, упомянутую в подзаголовке, а он тычет какой-то справочник. А дело просто в том, что именно в этой части города Харькова автор решил поселить главного героя предлагаемого твоему вниманию фантастического опуса, так и названного: «Главный герой».
Но кто он, этот герой?
Каждый творческий субъект, кроме плагиаторов и эпигонов, стремится в своём творении проявить какую-никакую оригинальность, так называемую изюминку, выдать что-нибудь эдакое, свеженькое, не растиражированное прочими. Вот классики, те знали почём фунт изюминок. Автор этой писанины тоже не лишён подобных амбиций; и потому он (то бишь я) решил проявить оригинальность (в просторечье именуемую выпендрёжем) уже в выборе главного персонажа, сделав таковым индивида, не эксплуатируемого прочими литераторами.
Но кого они не эксплуатируют? Людей разного пола, разных характеров, разных профессий и разной внешности в сочинениях полным-полно. Человекообразных, так сказать, нечеловеков — как то: эльфов, ангелов, русалок, орков, гоблинов, гуманоидов-пришельцев, чертей, троллей, гномов и т. д. — в литературе навалом. Животные разных видов, как реально существующих, так и мифических (например: драконы, грифоны, единороги…), тоже бывали персонажами. Даже неодушевленные предметы стараниями сказочников, баснописцев и фантастов оживали и становились героями сочинений. Вот и попробуй тут найти кого-нибудь свеженького!
В процессе умозрительных поисков не заезженного литераторами героя автор этой писанины лохматил ногтями затылок, шевелил перстом ноздрю, почёсывал подмышку и более пикантные части тела, даже, кажется, сопел от напряжения…
И эти усилия не прошли даром: автор придумал таки — кого сделать главным героем!
Главным героем этого рассказа, будешь ты, бесценный Читатель!
Ну разве не оригинальная мысль? Это ли не изюминка?!
Скажи честно: много ли ты читал фантастических рассказов о самом себе? Рассказов, где главным персонажем был не какой-то другой индивид, а ты, лично ты, собственной персоной? Ни одного, говоришь? Ну, стало быть, автор попал в самую точку! Тебя-то ему и надо!
(Автор почему-то уверен, что ты не сноб, обезображенный солидностью, а человек снисходительный и потому простишь ему эту фамильярность, это панибратство, это бесцеремонное тыканье. Обычно автор к незнакомым людям деликатно обращается на «вы». Но местоимение «вы» может означать как индивида, так и целый коллектив, внося неопределённость и путаницу. Поэтому в данном конкретном случае автор, хоть и не является близким знакомым Читателя, просто вынужден употреблять местоимение «ты»).
Перефразирую великого Гоголя: припряжём Читателя. Таким образом, дорогой Читатель, ты волей автора становишься, так сказать, свежеиспечённым литературным персонажем.
Итак, на период чтения этого опуса тебе придётся стать харьковчанином и сыграть навязанную автором роль. Единственная возможность избежать этого — отречься от ипостаси Читателя, то есть незамедлительно прекратить читать этот текст.
Твоё имя я называть не буду, ибо ты его и без меня прекрасно знаешь (а если подзабыл — загляни в свой паспорт); и внешность твою описывать я не буду, ибо ты и без меня знаешь, как выглядишь (а если подзабыл — посмотри в зеркало). Если же ты не Читатель, а Читательница, то на время тебе придётся поменять пол и побыть Читателем (мужскую внешность и мужское имя, если хочешь, придумай себе сама). По-моему, женщина, воображающая себя мужчиной, более естественна, нежели мужчина, воображающий себя женщиной; ну да, есть мужчины, воображающие себя женщинами, — так называемые трансвеститы, — но я не хочу толкать Читателя на этот путь.
Итак, главный герой этого рассказа — ты; место действия — город Харьков; время действия — февраль 2005 года. Поскольку этот рассказ автор пишет в 2004 году и поскольку он (не год, а автор) не является ни Нострадамусом, ни Вангой, то описание февральской погоды может не соответствовать той, что действительно будет в ближайшем феврале.
Конечно, в фантастическом рассказе автор мог бы перенести тебя в какую-нибудь нереальную страну, или на другую планету, или в другие измерения, или… но Харьков автору как-то ближе, да и эпиграф подходящий имеется. Конечно, в фантастическом рассказе автор мог бы перенести тебя в далёкое прошлое, например в средневековье, когда якобы кишмя кишели рыцари и колдуны, или в далёкое будущее, когда будут кишмя кишеть космопроходцы и роботы… но 2005 год автору опять таки как-то ближе.
Короче, хочешь ты того или не хочешь, бесценный Читатель, но автор тебя бесцеремонно хватает и переносит в Харьков, в февраль 2005-го года…
1.
— Пли!
Белое ядро, мелькнув в воздухе, разбивается о твоё плечо, освежая лицо морозной пудрой.
— Ах, так! Ну, держись! — со смехом грозишь ты, зачерпнув ладонями сочный хрустящий снег, и быстрыми движениями кистей рук превращаешь его в белое ядро же. — Получай, фашист, гранату!
Рука как катапульта запускает ядро в прекрасного агрессора, каковым в этом снежном бою выступает не упомянутый абстрактный фашист, а твоя Любимая Женщина. Она, смеясь, грациозно уворачивается от «гранаты», и снежок молниеносно преобразовывается в белую кляксу на бетонной плите.
(Автор не называет имя твоей Любимой Женщины и не описывает её внешность, бесценный Читатель, ибо если у тебя есть Любимая Женщина, то ты лучше автора знаешь, как её зовут и как она выглядит; а если таковой у тебя сейчас нет, то вообрази на свой вкус).
Декабрь 2004-го и январь 2005-го были тёплыми и слякотными, а вот февраль порадовал морозцем и снежком. Красивый снегопад манил выйти из тёплого уюта жилья на свежий воздух улиц (впрочем, в большом городе — а Харьков, как-никак, входит в двадцатку, или даже пятнадцатку, наибольших городов Европы — понятие «свежий воздух» является относительным: воздух бывает по-настоящему свежим вдали от крупных городов).
В этот снежный тихий вечер вы с Любимой Женщиной выбрались на концерт (не уточняю — какой именно; сообрази сам, бесценный Читатель; ты же лучше автора знаешь ваши с Любимой Женщиной музыкальные предпочтения), и вот теперь, возвращаясь с концерта, устроили не Ледовое, как Александр Невский, а Снежное побоище, то есть переброску снежками. Густо напудренный осадками город красив, поэтому нет большого стремления поскорее оказаться в рамках жилплощади и вы с Любимой Женщиной идёте к родной обители не кратчайшим путём, а петляя по лабиринту улиц, чтобы растянуть удовольствие от прогулки.
Так вы и оказались в малознакомом переулке возле забора, состоящего из бетонных плит, огораживающего то ли небольшой пустырь, то ли какую-то стройку; где, слепив белое ядро, твоя Любимая Женщина и сказала себе: «Пли!» Бетонный забор, освещенный фонарем и окнами дома напротив, размалёван яркими граффити — картинами и письменами — весьма недурственными в художественном отношении. Вот, например: колоритный небритый тип в ватнике, физиономия которого не блещет интеллектом, а блещет, так сказать, криминальными наклонностями; в руке сей урка почему-то держит «плечики» для одежды. Тут же написано и название этого произведения назаборной живописи; название чисто харьковское, иногороднему непонятное, особенно в отрыве от изображения:
РАКЛО С ТРЕМПЕЛЕМ
Снежок, от которого увернулась твоя Любимая Женщина, поразил этого «ракла с тремпелем» в пикантное место.
Снежный бой между тем продолжается. Воюющие стороны, осыпая друг друга белыми ядрами, идут на сближение и переходят в рукопашный контакт. Рукопашный и губопашный, если так можно сказать, — кутерьма в снегу заканчивается объятиями и поцелуями.
Разгорячённые снегометанием и нежностями вы продолжаете странствие вдоль забора, в коем скоро обнаруживается прореха — отсутствие одной плиты. Вы видите сквозь этот проём, красивый особнячок, обильно украшенный барельефами и скульптурками грифонов, драконов, единорогов и кентавров. Художественно выкованные — кажется, из чугуна — фонари по обе стороны от входа освещают резную деревянную дверь с вычурной бронзовой ручкой и распятую на двери вывеску с текстом:
Вражаюче татуювання!
Безпечно та безболісно!
Цілодобово!
А ниже, на приклеенной скотчем бумажке:
6 лютого — на честь свята — безкоштовно!
— Тю, шо-то я здесь этого домика не замечал, — говоришь ты. — Впрочем, я бывал здесь давно и редко — то ли не обращал внимания, то ли забыл.
— Эффектный домик, — замечает твоя Любимая Женщина. — А какой сегодня праздник?
Ты пожимаешь плечами. В советские времена 6 февраля вроде бы не был праздничным днём, а за годы «незалежности» появился ряд новых праздников, но дат их ты не помнишь; кроме собственно Дня Незалежности, да и то только в связи с тем, что он идёт сразу же за Днём Харькова, а забыть дату Дня Харькова довольно сложно хотя бы потому, что уже десятки лет оная дата является названием немаленькой улицы. А в православном календаре, кажется, каждый, или почти каждый день является более или менее праздничным; причём, как правило, на один день выпадает сразу несколько праздников. Но календарей, ни церковного, ни светского, у тебя под рукой нет. (А если бы были, замечает в скобках автор, ты бы тут же выяснил, что 6 февраля — это: день преподобной Ксении; а также блаженной Ксении Петербургской; а ещё святого Герасима Великопермского; а кроме того, мученика Иоанна Казанского; и к тому же мучеников Вавилы Сицилийского и его учеников Тимофея и Агапия; а также преподобного Македония; и, наконец, Перенесения мощей преподобного мученика Анастасия Персидского; и выяснив это, усомнился бы, что именно по этому поводу татуировщики решили обслуживать клиентов, как говорится, «на халяву».)
— Любопытно, какие такие эксклюзивные картинки они выкалывают, — говоришь ты. — Судя по названию салона — шо-нибудь мифологическое, наверно.
(Будучи в моём рассказе истинным харьковчанином, бесценный Читатель, ты, конечно же, не говоришь: «что», «что-нибудь», «кое-что», «что-то»; а говоришь: «шо», «шо-нибудь», «кое-шо», «шо-то»).
Несмотря на объявленную для клиентов халяву, у двери салона не наблюдается толпы жаждущих задаром живописно обколоться, и судя по целомудренной пелене снега, не попранного подошвами, в последние часы, после очередного снегопада, клиенты сюда не наведывались. То ли салон не позаботился о достаточной рекламе своего однодневного бескорыстия, то ли желавшие бесплатно украсится накожными картинками успели обслужиться утром, до снегопада.
И тут дверь открывается и из дома высовывается высокий седовласый старик лет шестидесяти пяти, худощавый, с аристократически вытянутым лицом, кустистыми бровями и густой пышной шевелюрой, вызывающей ассоциацию с львиной гривой. На старике рабочий халат невнятного цвета, ниже которого наблюдаются джинсы и домашние тапочки.
— Желаете ознакомиться с ассортиментом наших татуировок, громадяне? — спрашивает он, будто услышав твои слова, довольно нестарым голосом, вперившись в тебя пронзительными зрачками больших голубых глаз.
— А шо, давай посмотрим, — предлагаешь ты Любимой Женщине.
— Конечно, — соглашается она.
— А какой нынче праздник? Я шо-то запамятовал, — спрашиваешь ты у старика, сбивая ладонью с Любимой Женщины и самого себя налипший снег.
— День Харка.
— День Харькова? — переспрашиваешь ты, поднимаясь со спутницей по каменным ступеням. — Тю, та День Харькова ж в августе, как раз перед Днём Незалежности.
(Будучи в моём рассказе истинным харьковчанином, бесценный Читатель, ты, конечно же, никак не можешь обойтись без «тю»).
— А когда-то праздновали шестого февраля, — сообщает старик, подавая вам веничек.
— Когда это? До войны, шо ли, до Великой Отечественной? — любопытствует твоя Любимая Женщина, смахивая веничком с сапожек белое наслоение.
— Ага, до войны, красунечко.
— Тю, а я и не знал, шо и до войны был День Харькова, — замечаешь ты, тоже обнажая обувь из-под снега посредством веничка. — Век живи — век учись.
Счистив прилипший к подошвам снег шарканьями о щетинистый коврик, вы входите в дом.
Изнутри особняк, по крайней мере, его прихожая, похож на жилую квартиру, старомодную, в стиле столетней давности, а не на мастерскую или салон, где производятся какие-либо работы с клиентами. Мебель, изготовленная наверно, ещё при царизме: стулья, кресла, столик, комод… Бархатные портьеры. Живописные полотна — пейзажи — в тяжёлых рамах. Граммофон с большой трубой. А вот компьютер в углу выглядит в такой антикварной обстановке анахронизмом.
— А кто… Или вы лично делаете татуировки? — спрашивает твоя Любимая Женщина, оглядываясь.
— Я сам и делаю, красунечко, — кивает старик.
— Хм… Обычно этим искусством занимаются люди помоложе. Не ожидала, шо татуировщик окажется столь… зрелого возраста.
(Твоя Любимая Женщина в моём рассказе тоже харьковчанка, поэтому тоже — «шо». Прости.)
— Согласен, это нетипично. Зато таких татуировок, какие делаю я, больше никто в этом городе не сможет сделать. Вот подборка изображений, которые я выполняю. — Седой татуировщик берёт с комода большую книгу в кожаном переплёте, — Мне кажется, вам понравится вот это… — И он листает, что-то ища.
— Не, мы только посмотреть, и не более того… — поясняешь ты, начиная испытывать неловкость оттого, что старик вынужден суетиться, хотя у вас и в мыслях нет становиться его клиентами.
— Поглядите, а там, может, и захотите…
— Навряд ли, навряд ли, — перебиваешь ты, чтобы мастер наколок не обольщался.
— Вот, гляньте на это. — Старик поворачивает к тебе раскрытый фолиант, вперившись в твои очи из-под мохнатых седых бровей пронзительным, прямо таки гипнотическим взором.
Увидев в этом помещении компьютер, ты ожидал, что образцы татуировок будут предъявлены вам на мониторе.
Картинка, которую он открыл, по меньшей мере, странноватая. Это чёрно-белый рисунок, изображающий голого мужчину отнюдь не атлетического сложения, пузатенького, стоящего с широко расставленными ногами, кулаки упираются в бока, локти вразлёт, — поза «я здесь хозяин»; меж ног висят детально прорисованные гениталии. Но что самое характерное: у мужчины голова не человека, а утки, или, учитывая пол, селезня.
— Вы ведь хотите иметь такое изображение на своём теле, добродие, не так ли? — завораживающим голосом вопрошает мастер татуировок.
Ты смотришь на селезнеголового человека или человекотелого селезня и понимаешь: да, ты всю жизнь подсознательно мечтал иметь такое украшение на теле и только теперь совершенно понял, чего тебе больше всего в жизни не хватало. Если эта картинка не украсит твою кожу, ты уже не будешь знать покоя. Поскорее, поскорее обзавестись такой татуировкой!
— Хочу, хочу, конечно, хочу!
Тебя даже охватывает тревога: а вдруг мастер передумает и ты останешься без столь нужного тебе украшения!
— Ты шо, действительно хочешь иметь такую татуировку?! — удивляется твоя Любимая Женщина.
Странный вопрос! А разве можно этого не хотеть!
— Ну и ну! Мне казалось, шо я хорошо знаю твой вкус, и вдруг… Не ожидала…
— На плече? На левом? — уточняет старик, впившись голубыми очами в твои зрачки.
— Да, пожалуй.
— Выполню в лучшем виде, вы даже ничего не почувствуете… Вам лучше снять верхнюю одежду — здесь тепло, — это он твоей Любимой Женщине; она, продолжая удивляться твоему решению, вешает шубку на рог деревянной вешалки. — Вы, красунечко, пока посидите здесь, в кресле, посмотрите картинки, — и старик всучивает ей фолиант, — А вы, добродие, оголите плечо и садитесь в это кресло, а я пока всё приготовлю. Вот и музыку поставлю.
Ты снимаешь и вешаешь меховую куртку, пиджак, рубашку; остаёшься в майке. Здесь действительно тепло, даже жарко. Мастер же ставит на граммофон старую тяжёлую грампластинку, заводит пружину, опускает на диск иглу и запускает сей старинный звукоисторгающий механизм. Сквозь шипение, свойственное пластинкам столетней давности, просачиваются ритмично бумкающие барабаны и тоскливо воющие дудочки.
— Шо это? — ты киваешь на граммофон.
— Какая-то древняя народная музыка.
— Какого народа?
— А кто его знает… Этикетка на пластинке содралась, не прочитаешь.
Старик выходит из гостиной, а ты садишься в потёртое, но мягкое кресло.
Пульсирующие барабаны и воющие дудочки сразу же навевают на тебя дремоту. Ты зеваешь, твои веки слипаются…
Бум, бум, бум… Барабаны… Или бубны… Да, скорее бубны, по которым лупят палками… Огни… Факелы… Чёрное ночное небо, озаряемый факелами снег… Люди… Бородатые мужики в меховых одеяниях… Одни из них колотят в бубны, другие пищат в дудочки… Над ними возвышаются великаны… Великаны неподвижны… Один из факелов, ярко вспыхнув, озаряет ближайшего великана, и ты видишь, что это деревянный мужчина с утиной головой… Идол… К идолу подходит старик-татуировщик, но уже в шубе, увешанный какими-то побрякушками, ожерельями… Склоняется перед уткоголовым и что-то кричит на чужом языке, вроде как немецком, или не немецком, но похожем… Затем поворачивается к тебе, продолжая с завыванием кричать, делает руками пассы, как иллюзионист… Бородатые мужики ускоряют ритм ударов… Все факелы ярко вспыхивают, будто на них плеснули бензин… Деревянный уткоголовый идол вроде бы пошевелился… Да, он поворачивает свою птичью голову с плоским клювом в твою сторону и смотрит на тебя глазами-дырками…
Тебя тормошат, и ты выныриваешь из сновидения в реальность.
— Ой, я заснул, — говоришь ты татуировщику, сжимающему твою ключицу твёрдыми холодными пальцами.
— А я уже закончил, добродие. Принимайте работу.
Старик подносит зеркало, в котором ты видишь своё плечо, украшенное татуировкой — голым мужчиной с утиной головой.
— Так быстро? А я ничего не почувствовал.
— Особый способ обезболивания.
— Большое спасибо! И сколько я вам за работу…
— Сегодня — бесплатно, в честь праздника, — напоминает мастер.
Ты встаёшь и видишь, что твоя Любимая Женщина тоже спит в кресле. Фолиант выпал из её рук и лежит на дощатом коричневом полу. Старик книгу поднимает и кладёт обратно на комод. Ты целуешь Любимую Женщину в щёчку, и она, вздрогнув, просыпается.
— Я тоже задремал… Смотри, — хвастаешься картинкой на плече.
— Уже? — смотрит на наручные часы. — Я думала, это долго.
Вы одеваетесь и прощаетесь со стариком.
Выходите из жаркого особняка на морозную улицу. Идёте вдоль размалёванного граффити забора. Удивительно тихо, хотя вы в центральной части большого города. Лишь только — хрум-хрум-хрум-хрум — снег под подошвами, да — дзынь-дзынь — вечерний трамвай вдали.
Выходите на Пушкинскую, бывшую Немецкую, которую уже пересекали во время этой прогулки.
— Тебе шо-нибудь снилось сейчас, в кресле? — спрашиваешь ты.
— Нет, кажется. Ничего… Не помню.
— А мне… — И ты рассказываешь свой сон.
— Надо же, — говорит она.
— А какие ещё картинки были там, в книге? А то я кроме этой, — хлопаешь по левому плечу, — ничего не видел.
— Не помню… Я, кажется, сразу же заснула, даже не смотрела…
Свежий снег нежен и невинен, как свадебное платье невесты. Хорошо: и красиво, и пока не скользко.
Сворачиваете с Пушкинской направо, в улочку на южном склоне, где красуется ваш трёхэтажный дом — украинский модерн, то есть модерн, стилизованный под украинское барокко.
По мере удаления от салона тату и приближения к родному жилищу тебя всё более охватывает недоумение по поводу этого поступка: ты ведь не собирался заводить татуировку, да ещё такую курьёзную; и вдруг будто вожжа под хвост попала, будто какая-то муха укусила, будто наваждение обуяло… Тьфу! И это ж теперь на всю жизнь. Теперь в бане, на пляже и везде, где ты будешь сие «произведение» обнажать, знакомые, а может, и незнакомые будут любопытствовать: что это за хреновина, почему с утиной, как это понимать… А хрен его знает, почему с утиной и что это означает. Да ещё эти половые органы… Порнография какая-то.
Ты уже стыдишься этого украшения.
И что странно: не было боли, не было крови… Будто не выкалывал, а просто нарисовал или наклеил картинку. Да и слишком быстро… А может, это и не татуировка вовсе. Может, она смоется, если водой… Ну, конечно, не может быть, чтобы наколка наносилась вот так быстро, бескровно и безболезненно. Ну, предположим, обезболивание… Но всё равно кожа от уколов бы воспалилась, ну хоть немножко, было бы раздражение, покраснение… А тут — ничего. Видать, разыграл тебя старик. Дескать, хотите бесплатно — вот вам бесплатно: боди арт вместо наколки. Тем лучше.
Вы входите в родной подъезд. Когда-то, сто лет назад, в этом доме жил живописец-баталист, картины которого имеются в разных музеях. Он размалевал стены подъезда фресками, но не батальными сценами, а стилизацией под наивные народные украинские малюнки: вдоль лестниц — орнаменты из цветов, а на лестничной площадке — козак Мамай. За сто лет фрески истёрлись, исцарапались и требуют реставрации, но у жилищного управления, конечно, нет на это грошей.
— Привет, Мамай; мы вернулись.
Это уже стало привычкой, ритуалом. Будто, не поприветствовав, не будешь иметь удачи. Он же характерник, то есть чародей, как-никак.
Дома ты, раздевшись, первым делом пытаешься в ванне смыть с плеча изображение. Трудолюбиво трёшь намыленной мочалкой. Кожа от этого розовеет, но уткоголовый мужик нисколько не тускнеет и стекающая мыльная вода не становится грязнее. Если это не татуировка, а просто краска на коже, то краска несмываемая. Вытираешь плечо полотенцем и отмечаешь, что последнее тоже осталось совершенно чистым.
Раздосадованный выходишь из ванной и плюхаешься в кресло, ударяясь ягодицами обо что-то твёрдое. Вытаскиваешь из-под себя эту твердь и отбрасываешь на диван. Нажимаешь кнопку телевизионного пульта. (Возможно, бесценный Читатель, в реальной жизни ты не любишь смотреть телевизор и, наверно, в этой ситуации предпочёл бы заняться со своей Любимой Женщиной чем-то более интересным и приятным, нежели пялиться в телеэкран. Но здесь, в своём рассказе, автор заставляет тебя его смотреть, ибо того требует сюжет).
— … сексуальный маньяк, — говорит возникшая на экране строгая дама — ведущая местных криминальных новостей. — Это уже третий случай за последнюю неделю…
— Ты не видел тремпель? Только шо где-то положила и не могу найти, — спрашивает, держа снятое платье, твоя Любимая Женщина.
— Я на него сел — ты положила на кресло… Вот он, на диване.
(Авторская справка: тремпель — харьковское слово, означающее предмет, на который вешают одежду; за пределами Харьковщины именуемый «плечиками» или распялкой. Лет сто назад, или больше, в Харькове появились одёжные распялки, отмеченные надписью «Тремпель»; вот с тех-то пор харьковчане и называют эти предметы тремпелями; и даже смеются, когда слышат, как иногородние называют тремпели «плечиками» или распялками. А дело в том, что жил в городе некий господин Тремпель, коему принадлежал магазин одежды; фамилия этого господина наносилась на распялки в качестве торговой марки, фирменного знака… Слово «тремпель» в этом аспекте знакомо и жителям Днепропетровска — там тоже был магазин господина Тремпеля.)
— …угрожая ножом, принуждает женщин к половому контакту в извращённой форме. К сожалению, из-за темноты жертвы изнасилований не смогли его рассмотреть, поэтому нет возможности составить его фоторобот. Известно только, что он ниже среднего роста и говорит хриплым голосом…
Вот гнусное ракло, думаешь ты о насильнике. Ты терпеть не можешь выродков, которые обижают беззащитных, особенно женщин. Эх, попалось бы тебе это ракло, ты бы ему показал, где кузькины матери раком зимуют!
(Авторская справка: ракло — харьковкое слово, означающее бескультурного индивида, склонного к уголовщине. Изначально, в XVIII веке, харьковчане звали раклами бурсаков — студентов Харьковского коллегиума, основанного в 1722 году и просуществовавшего до открытия в Харькове университета, после чего коллегиум был преобразован в духовную семинарию. Вечно голодные бурсаки периодически устраивали набеги на соседний Благовещенский базар, где выхватывали съедобные товары у торговок; разумеется — бесплатно и без согласия последних; торговки визжали: «Рятуйте, раклы грабують!» Эти набеги бурсаки называли «подвигами Геракла». Существуют три версии о происхождении этого слова. Первая: «раклы» — укороченное «Гераклы»; вторая: коллегиум носил имя святого Ираклия и «раклы» — это искажённое «Ираклии»; третья: попечителем коллегиума был некий француз по фамилии Ракло. Поскольку у харьковских обывателей студенты-раклы ассоциировались с базарными грабежами, впоследствии в этом городе раклами стали звать всех, кто склонен к грабежам, воровству, хулиганству, изнасилованиям и т. д.)
Сообщение о маньяке, конечно, не может поднять настроение, поэтому ты переключаешь телик на другой канал, где настроение поднимает зажигающая диким оптимизмом и фэнтезийным имиджем певица Руслана…
Автор не будет описывать, чем вы затем занимаетесь с Любимой Женщиной, ибо это ваши интимные дела, в которые даже автору не следует совать нос. Удачно написанная эротическая сцена может украсить сочинение, но автор, будучи деликатным и тактичным, от такого украшения в данном случае добровольно отказывается.
2.
На следующий день ты замечаешь, что голый мужик с утиной головой на твоём плече стал будто бы чуть-чуть бледнее. Наверно, краска начинает сходить, думаешь ты. Ну и прекрасно: ещё несколько дней и от квазитатуировки ничего не останется.
Ещё через пару дней ты убеждаешься, что изображение таки действительно становится бледнее и расплывчатее. Присматриваешься к накожной картинке, и у тебя создаётся впечатление, будто она не сходит с кожи, а уходит под кожу и там рассасывается.
Ещё через день изображение расплывается настолько, что уже выглядит синяком, будто от удара. Тю, какая-то дивная саморассасывающаяся татуировка. Впрочем, процесс рассасывания происходит совершенно безболезненно, поэтому тебя такое явление удивляет, но не беспокоит.
К седьмому после посещения салона тату дню наколка рассасывается полностью, и плечо приобретает первоначальный «незапятнанный» вид.
В этот день снова на Харьков планируют снежинки, и вы с Любимой Женщиной замираете у окна, обнявшись, завороженные этой красотой.
Оторвав взгляд от заоконной объёмной белой живописи, ты зыркаешь на часы и спохватываешься: ой, уже началась «Столица № 1». Это еженедельная программа одной из харьковских телекомпаний, напичканная массой любопытных фактов из истории, биографий известных людей; информацией об интересных выставках, концертах, спектаклях и т. д. Одна из небезразличных вам с Любимой Женщиной телепередач, которую вы стараетесь не пропускать. Хватаешь пульт…
Да, «Столица № 1» (название напоминает о былом статусе Харькова, который 14 лет был столицей, первой столицей Украинской советской республики) действительно уже в эфире:
— …жаемые телезрители, конечно же, знаете легенду о том, что Харьков основал якобы некий козак Харько, от имени которого будто бы и происходит название города, — вещает ведущий с курчавой шевелюрой, в неизменном свитере. — Полгода назад, в августе две тысячи четвёртого, к трёхсотпятидесятилетию Харькова, был даже установлен памятник этому легендарному козаку, работы скульптора Зураба Церетели. Но это лишь харьковский миф, а в действительности город получил название от протекающей в нём одноимённой реки, каковая стала так зваться, видимо, задолго до возникновения козачества. Но откуда же взялось такое название реки — Харьков? Есть около полутора десятка гипотез. По одной из них, «Харьков» — название татарское; по другой — печенежское; по третьей — половецкое; по четвёртой — хазарское; по пятой — скифское, и т. д. Есть даже гипотеза, что «Харьков» — от индийского «Харе»; ну, знаете: Харе Кришна, Харе Рама… Но гипотезы гипотезами, а точных данных нет. И вот три дня назад обнаружилась находка, которая, возможно, открывает нам тайну названия «Харьков». Я передаю слово гостю нашей программы, археологу Владимиру Ильичу Гегюзяну. Здравствуйте, Владимир Ильич. Итак, что же это за находка?
— Добрый день, — начинает лысый человечек с большими армянскими глазами. — Действительно, три дня назад харьковские метростроители обнаружили древнее захоронение, в связи с чем работы в том месте были приостановлены и на место находки вызвана археологическая комиссия, в том числе и ваш покорный слуга. Осмотрев захоронение, мы пришли к выводу, что это остготская могила четвёртого века нашей эры. Остготские городища и могилы на Харьковщине уже ранее неоднократно раскапывались и исследовались нашими археологами, поэтому в этом не было бы особой сенсации, если бы мы не нашли в этой могиле золотого…
— Извините, я перебью. Прежде чем поведать о золотой фигурке, немного расскажите об этом народе, обитавшем некогда на нашей харьковской земле.
— Охотно. В четвёртом веке почти всю территорию нынешней Украины занимало королевство остготов, то есть восточных готов, а нынешняя Харьковщина была северо-восточной провинцией этого королевства. Готы, как многие знают, — это одно из многочисленных германских племён времён поздней античности и раннего средневековья. Столица этого королевства находилась на берегу Днепра и называлась Данпрштадир, что в переводе с готского и означает собственно «Город-на-Днепре» или «Днепроград». Есть гипотеза, что Данпрштадир был на месте нынешнего Киева, но лично я думаю, что ниже по течению. Среди готов было распространено христианство, даже Евангелие на готский язык было переведено с греческого раньше, нежели на латынь. Но вместе с тем часть готов поклонялась языческим богам, как собственно германским, так и позаимствованным, так сказать, у других народов: римским, кельтским, славянским, иранским… Вот в этой могиле мы нашли золотую фигурку некоего божества, до сих пор науке неизвестного. Вот эта фигурка…
Археолог Гегюзян выставляет на стол небольшую, величиной с палец, статуэтку.
— Мы попросим нашего оператора, — говорит ведущий, — взять божка крупным планом.
Крупный план: голый мужчина из жёлтого металла, далеко не атлетического сложения, пузатенький, с широко расставленными ногами, кулаки упираются в бока, локти вразлёт, — поза «я тут хозяин»; меж ног висят половые органы; а голова у мужчины…
— Тю! — кричишь ты.
— Вот здесь, на основании, видно имя этого божества — Харк — готскими буквами, — продолжает археолог, — Вот, видно? Не видно… Объектив не берёт… Бликует… Ну, поверьте мне на слово. Неизвестно, был ли этот уткоголовый Харк божеством чисто готским и вообще германским, или остготы, обитавшие здесь, на славянских землях, взяли его у славян. Языческие божества с головами животных были у разных народов, в том числе и у древних славян. Например, славянский бог Хорс изображался с головой козла, бог Годебу — с головой остроносой птицы, Радегаст — льва, Сварог — быка, Гастон — волка, Баган — барана, Велес — медведя…
— Итак, жившие здесь более полутора тысяч лет назад люди поклонялись божеству по имени Харк, — перебивает ведущий. — Сразу напрашивается мысль, что название «Харьков» происходит от имени этого божества!
— Ну что ж, и такая гипотеза имеет право на существование. Возможно, голова водоплавающей птицы указывает на то, что это божество было связано с водой: то ли было богом воды, то ли, конкретнее, богом рек, то ли богом какой-то одной реки, может, именно той, которая теперь называется Харьков… Да и само слово «Харк» напоминает кряканье утки…
— Тю! Откуда же… — Ты аж вскакиваешь с кресла от такой новости. — Только три дня тому археологи открыли это божество, ранее науке неведомое, а у меня на плече его портрет был ещё неделю назад! Откуда же у татуировщика… Он тогда сказал «День Харка», а я подумал — «День Харькова». Похоже, старик знает про это божество больше, чем учёные!
— А почему бы нам его самого не расспросить, старика-татуировщика, — предлагает твоя Любимая Женщина.
— Да, давай прямо теперь же пойдём в салон тату «Капище» и поговорим с этим мастером, — горячишься ты, обуреваемый любопытством.
Игнорируя остальные сюжеты «Столицы № 1», вы лихорадочно одеваетесь.
Пока собрались, эта программа закончилась и телевизор выплёскивает криминальную новость: за прошедшую неделю бесчинствующий в городе сексуальный маньяк изнасиловал ещё двух женщин; итого общий счёт изнасилованных им достиг девяти, а может, и больше, если не все пострадавшие обратились в милицию. Нахмурившись и стиснув зубы, выключаешь телевизор.
Выходя из дома, вы с Любимой Женщиной не забываете поприветствовать козака Мамая, взирающего со стены большими мудрыми очами…
От осадков улочки на южном склоне, да и вообще город, сделались почти пенопластовыми…
Тот переулок и тот состоящий из бетонных плит забор вы находите быстро, хотя тогда был тёмный вечер, а теперь светлый день и всё выглядит несколько иначе. Вот и граффити; вот и «ракло с тремпелем»; так, далее — отсутствие одной плиты, прореха… была. Тю, теперь все плиты стоят ровным строем без всяких промежутков до самого угла.
— Выходит, поставили недостающую плиту, полностью отгородив салон тату от переулка, — делает вывод твоя Любимая Женщина, стряхивая с шапочки снег.
— И как же нам к нему теперь пройти? Пойдём поищем, где-то же должен быть другой проход.
За углом забор тянется до конца квартала. Две плиты, составляющие угол, немного наклонены, одна наружу, другая внутрь, благодаря чему между ними имеется зазор, не настолько большой, чтобы протиснуться, но достаточный, чтобы заглянуть. Ты приникаешь лицом к широкой щели.
Пустырь, усеянный заснеженными останками снесённых домишек. Из-под белых шапок темнеют груды почти чёрных от древности и грязи кирпичей. Гнилые деревянные балки там и сям торчат из грунта, как кости динозавров и бивни мамонтов. Колосятся припорошенные снегом букеты сухого бурого бурьяна. Похоже, тут когда-то разрушили трущобы, планируя новостройку; но грянул экономический кризис и стройка не состоялась, даже мусор разрухи не убрали. Переводишь взгляд туда, где должен быть особняк — салон тату. Но и там ничего, кроме руин! И судя по их виду, снесено было не вчера и не неделю назад, а годы, а то и десятилетия!
— Тю! Не, ну ля! — по-харьковски изумляешься ты.
Всё чудесатее и чудесатее, как сказала девочка Алиса в сказке остроумного оксфордского диакона, сына остроумного чеширского священника.
— Шо там? — интересуется, изнывая от любопытства, твоя Любимая Женщина.
— Глянь. — Ты отстраняешься от зазора. Она припадает к слегка разинутому бетонному углу.
— Ой, а где же домик?!
— Вот именно, солнышко, — растерянно констатируешь ты…
3.
А ночью тебе снится сон:
На твоём левом плече появляется синяк; он концентрируется в чёрные линии, образовывающие рисунок, и эта картинка выходит из-под кожи на её поверхность: мужчина с утиной головой.
— У тебя есть вопросы. Давай пообщаемся, — говорит вдруг этот рисунок, шевелясь, как персонаж мультика.
— Ты действительно языческий бог Харк? — спрашиваешь ты, пялясь на плечо с движущейся картинкой.
— Так звали меня люди, жившие здесь более полутора тысяч лет назад по вашему летоисчислению, — отвечает уткоголовый, вылезая из твоего плеча, увеличиваясь и обретая объём и цвет.
— Кто же ты на самом деле?
— Понимаешь, кроме вашего мира, существуют и другие…
— Ну да, другие измерения, параллельные пространства… Как же, слыхал, читал…
— Ну так вот я и такие как я — мы, примитивно выражаясь, обитатели других измерений, наблюдающие за вашим миром и иногда чуть-чуть на него влияющие, — продолжает Харк, уже в виде обычного голого мужчины из плоти и крови, если бы не птичья голова. — Нас здесь по-разному называли: и божествами, и духами, и вестниками, и пришельцами…
(Какая банальщина — прояснять подоплёку событий посредством диалога во сне, самокритично думает автор, лохматя ногтями затылок над рукописью. Какая жалкая графоманская уловка. Гений бы, небось, до такого не опустился, гений бы нашёл более оригинальный ход… К тому же, один сон в этой писанине уже был; совать сюда и второй — это уж чересчур! И не надо кивать на известные всем, кто учился в советских школах, кроме, может быть, двоечников, четыре сна Веры Павловны (ну да, в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского), ибо роман — это другой жанр… Увы, ничего более новаторского, нежели информирование героя посредством сновидения, не приходит автору в голову даже после почёсывания последней. Не отыскав в своих мозговых извилинах альтернативы этому наивному, прямолинейному и даже где-то тупому приёму, автор в конце концов отмахивается: а, ладно, авось и так сойдёт.)
— У тебя действительно голова утки?
— Так меня изображали люди, поклонявшиеся мне тогда, более полутора тысяч лет назад, — отвечает Харк, ещё более увеличиваясь и становясь деревянным идолом.
— Но почему — с утиной?
— Я бы и сам хотел это знать, — разводит руками идол, деревянный, но живой, подвижный. — У вас, людей этого мира, бывают такие странные и непредсказуемые фантазии!
— И шо же вам нужно от нашего мира?
— А что шахматисту нужно от шахмат? Интересная игра… Можешь называть нас «игроками». Ваш мир — как бы поле нашей игры. С той разницей, что шахматные фигуры находятся в полной власти шахматиста и перемещаются только так, как он хочет; а, так сказать, «фигуры» в нашей игре — люди и целые народы — действуют по собственной воле, отчего наша игра является более непредсказуемой и оттого более увлекательной. Мы можем наделять отдельных людей неординарными по вашим меркам способностями, но не можем предугадать, как они этим воспользуются. «Игроки», так сказать, разделены на две команды: одна старается принести человечеству больше вреда, а другая — больше пользы… Я, конечно, сильно упрощаю, чтобы было понятнее…
— А ты в какой команде?
— Во второй.
— И чудеса, которые иногда происходят в нашем мире, — это проявления вашей игры?
— Нет, далеко не все так называемые чудеса вашего мира есть проявлениями нашего вмешательства, но некоторые, действительно, — следствие нашей игры. — Деревянный идол уменьшается до размера пальца и становится золотой статуэткой. — По-моему, на ваш мир влияем не только мы, «игроки», но и какая-то иная внешняя сила, что ещё более усложняет нам игру, усиливает непредсказуемость.
— А этот старик-татуировщик…
— Это мой представитель в вашем мире, мой, так сказать, агент. Таких у вас звали волхвами, шаманами, кудесниками, друидами, жрецами… С его помощью я пытаюсь снова вступить в игру, из которой на время вышел, так сказать, по нужде.
— Вышел по нужде на полторы тысячи лет?!
— Ну, время — понятие относительное, особенно когда речь идёт о контактах разных измерений.
— И этот жрец провёл со мной какой-то ритуал? А та квазитатуировка — это шо, клеймо жертвы для жертвоприношения?
— Нет, что ты… С помощью этого так называемого ритуала мой агент ввёл в тебя кое-какие нестандартные способности, — поясняет золотая статуэтка, почёсывая свои золотые гениталии. — А я теперь буду с интересом наблюдать, что из этого выйдет. Вообще, существует множество способов введения в человека особых способностей; нанесение символического изображения «игрока» под видом татуировки — лишь один из них.
— А какова конечная цель этой вашей игры? В шахматах надо поставить мат королю соперника.
— У нашей игры нет конечной цели; здесь вся суть, вся соль в самом процессе.
— И какими же именно новыми способностями я теперь обладаю?
— Пусть пока это остаётся тайной. Живи как жил, а в случае необходимости новые способности сами себя проявят.
— А правда ли, шо название «Харьков» происходит от твоего имени, Харк?
— Чего не знаю, того не знаю. Я же здесь отсутствовал почти полторы тысячи лет.
— А каким образом…
Но золотой Харк прерывает интервью: становится плоским чёрным рисунком на твоём плече, погружается под кожу и растворяется, сначала превращаясь в синяк, а затем полностью исчезая…
И ты просыпаешься…
4.
Очередной февральский вечер.
Твоя Любимая Женщина уехала пять дней назад к родичам в соседний город; вернуться должна послезавтра. Ты один. Ремонтируешь начавший протекать в ванне кран — меняешь прокладку.
В процессе работы в тебе нарастает тревога, а на последнем этапе ремонта, когда ты уже закручиваешь разводным ключом никелированную гайку, внутренний голос говорит тебе: она в опасности! Не гайка, конечно, а Любимая Женщина.
Наспех одевшись и машинально кивнув козаку Мамаю, ты выбегаешь на улицу. Там метель. Ветер швыряет хлопья, от которых лицо быстро становится мокрым. Куда бежать? Туда, указывает тебе внутренний голос…
Если бы на твоём пути был специалист по лёгкой атлетике с секундомером в руках, он мог бы зафиксировать, что ты перемещаешься со скоростью, превосходящей рекорды чемпионов по бегу…
Сюда, сюда, зовёт тебя внутренний голос, — и мимо мелькают дома и улицы в бурлящей каше метели. По велению внутреннего голоса ты проносишься сквозь незнакомые проходные дворы…
И оказываешься, в конце концов, на территории давно заброшенной стройки. Экономический кризис, видать, ещё лет пятнадцать назад прервал строительство этого здания из силикатного кирпича, доросшего до половины второго этажа. Близ белокирпичных руин темнеет забытый строительный вагончик. Освещения, конечно, никакого — лампочки давно разбиты, а провода украдены; темень; но твои глаза хорошо видят и в темноте, будто ты вооружён аппаратом ночного видения. Бурьян вибрирует на снежном ветру; разбитая лампочка под металлическим колпаком, похожим на шляпу, раскачивается на столбе…
Две человеческие фигуры пересекают заснеженную строительную площадку: невысокий мужчина тащит за руку женщину к строительному вагончику… Твою Любимую Женщину, подсказывает внутренний голос.
Спеша к ним по белому бездорожью, ты взмахиваешь рукой в сторону фонарного столба, дескать, да будет свет! И тотчас под колпаком на столбе таки вспыхивает свет, несмотря, что лампочка разбита, а провода обрезаны. Неожиданная иллюминация, осветившая и на минуту ослепившая мужчину, сбивает его с панталыку; он даже выпускает от неожиданности руку женщины. Ты выходишь из мрака на освещённую площадку.
— Эй, мужик, шёл бы ты отсюда, ты здесь третий лишний, — хрипло лает, щурясь от света и поигрывая ножом (слишком близко от шокированной жертвы) щупленький, с лицом неврастеника, мужчинка в лыжном трикотажном колпаке.
— Это ты лишний, ракло поганое!
Ты протягиваешь в его сторону левую руку ладонью вверх и шевелишь пальцами. Злодей тотчас отделяется от земли, возносится как воздушный шарик и зависает в воздухе на высоте метров трёх-четырёх над площадкой.
Ты бросаешься к своей Любимой Женщине. Она ещё не пришла в себя. Ты её обнимаешь, целуешь, шепчешь: «Не бойся, я с тобой». Она прижимается к тебе:
— Я соскучилась, вернулась раньше… Словила машину, частника… А он завёз меня сюда и, угрожая ножом…
— Шо ж ты не позвонила! Я бы встретил на вокзале!
— Хотела сюрприз…
Насильник болтается в невесомости, дрыгая конечностями. Ножик он выронил ещё когда пошёл на взлёт. Нервная физиономия перекошена ужасом. Кажется, он визжал бы как поросёнок, если бы у него не перехватило дыхание от страха. Издевающиеся над беззащитными, как правило, трусы. Может, он уже с перепугу испражнился. Ты даже брезгуешь дать ему в морду.
— Пошёл вон, ракло!
Щёлкаешь пальцами левой руки, и он обрушивается в сугроб.
Скуля, отползает на четвереньках, затем приподнимается и, хромая, убегает во мрак. Хлопает дверца автомобиля. Слышно, как ревущая от натуги машина буксует, увязши в снегу, но вырывается из белого плена и удаляется…
Любимая Женщина в твоих объятиях немного успокаивается и осознаёт, что стала свидетельницей чуда.
— А как это ты его?! — показывает пальчиком вверх.
— Не знаю, само собой получилось.
Разглядываешь кисть левой руки, что здесь так начудила.
Хм, «в случае необходимости новые способности сами себя проявят»…
Какие ещё способности ввёл в тебя седой жрец — «татуировщик»? Каких ещё сюрпризов ждать от растворившегося в твоём организме портрета Харка?
— Ну ладно, пошли домой, солнышко.
— Плохо, шо маньяк ушёл. Его бы в милицию…
— Он больше не будет насиловать.
— Откуда ты знаешь?
А действительно: откуда? Внутренний голос.
Вы уходите с заснеженной строительной площадки. Разбитая лампочка на фонарном столбе с обрезанными проводами гаснет…
5.
— … сексуальный маньяк, которого уже пятую неделю ищет милиция Харькова, сам явился в милицию с повинной. На вопрос, что его подтолкнуло сдаться правоохранительным органам, он стал рассказывать небылицы, будто во время последнего покушения на изнасилование к нему явилось волшебное чудовище, похожее на человека с головой утки, и заставило его взлететь… Дескать, он предпочитает сидеть в тюрьме, потому что очень боится снова встретиться на свободе с тем чудовищем… Маньяком занялись врачи-психиатры…
Ты выключаешь телевизор.
— А шо, у меня там действительно голова…
— Голова как голова, — перебивает Любимая Женщина, — только лицо было злое.
— А чего же он…
— Померещилось мерзавцу со страху, когда взлетел.
— Опять снег идёт, — говоришь ты, глядя в окно.
Любимая Женщина подходит и произносит: «Красиво!» Ты обнимаешь её за плечи.
Действительно, красиво. От налипшей белизны деревья стали похожи на кораллы, а мансарды соседних домов и выпятившийся за ними купол синагоги — на укрытые вечными ледниками горы…
Ты трёшься щекой о тёплые душистые волосы Любимой Женщины; она чуть слышно шепчет: «Люблю…»
Ну что ещё человеку надо?
Послесловие
Вот такое, мягко выражаясь, произведение сварганил автор, пытаясь одним выстрелом, так сказать, укокошить сразу двух виртуальных млекопитающих (да, зайцев): и творчески выпендриться, сделав аж самого Читателя главным героем фантастического рассказа; и потешить свой квасной харьковский патриотизм, внеся лепту в мифологию Харькова.
Да, рассказ получился не совсем нормальный, ибо в нормальных рассказах героями бывают кто угодно, но только не сам читатель.
Возможно, бесценный читатель, тебе не очень-то понравилось быть персонажем, то есть, по сути, марионеткой автора; возможно, ты даже немного шокирован авторской беспардонностью (понимаю: я и сам не люблю быть чьей бы то ни было марионеткой); возможно, ты даже чуть-чуть сердит на автора за то, что он в своём опусе заставил твою Любимую Женщину пережить нападение преступника… Но зато автор наделил тебя в рассказе сверхъестественными способностями, сделал, можно сказать, где-то сверхчеловеком, или кем-то вроде чародея, а это, согласись, по-своему приятно. Рассчитываю, что этот последний позитивный аспект перевесил негативные.
Автор же, закончив свой не совсем нормальный рассказ на такой идиллической ноте, как ваше объятие возле окна, прощается с тобой, бесценный Читатель, задумчиво поглаживая своё левое плечо, на котором недавно красовалась приобретённая автором при странных обстоятельствах загадочная татуировка; прощается, надеясь, что не навсегда…
Август-сентябрь 2004 г.[5]
Ерунда
Заурядный случай
То, о чём я тебе рассказал, не совсем верно, поэтому верить всему сказанному не нужно. В следующий раз не верь ничему так быстро. Ты хочешь знать почему? Сейчас объясню. Если ты будешь стараться верить всему, то мышцы твоего разума устанут, а ты сама ослабеешь настолько, что уже не сможешь поверить даже в самые простые вещи.
Из письма Льюиса Кэрролла к знакомой девочке
Сижу теперь в Харькове…
И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»
— Мура! Полнейшая мура! Бред сивой кобылы! Ерунда на постном масле! Чепуха ужаснейшая! Белиберда несусветная! Вы не обижайтесь, молодой человек, но это ни в какие ворота не лезет!
Молодой человек — худощавый очкарик с жидкой бородёнкой и белыми ресницами, наверно студент-художник, — смущённо краснеет, сутулится на стуле и втягивает голову в плечи. Похоже, он впервые рискнул предложить редакции журнала свою писанину; и теперь подавлен её оценкой.
— Мы не можем такое напечатать! — резюмирует редактор журнала «Многогранный мир» Зинаида Андреевна Салтовская — пышногрудая дама с металлическим зубом во рту и пластмассовыми серьгами в ушах, прихлопывая два листа бумаги с машинописным текстом растопыренной пятернёй с багровыми ногтями и массивным кольцом с камнем.
Молодой человек затравленно отводит взгляд от редакторского стола и хмуро зыркает на глянцевый плакат, распятый на обоях кусочками скотча: герб — скрещенные золотые рог изобилия и кадуцей Меркурия в зелёном поле — и под гербом текст: «Харькову — 350 лет!»; решается несмело возразить:
— Да, ко… — и поперхнулся на полуслове.
— Шо вы? — переспрашивает Зинаида Андреевна напомаженными бордовыми губами.
— Да, конечно, это небылицы, — кивает автор заметки, — но ведь ваш журнал и специализируется на публикации таких вот небылиц. Не будете же вы утверждать, шо, например, напечатанная в прошлом номере информация о русалках-мутантах, обитающих будто бы в речке Лопань, — это чистая правда! — Молодой человек, преодолевая робость, начинает горячиться, видимо решив, что терять ему уже всё равно нечего. — А разве правда, шо в санатории «Берминводы» один мужик поцеловал девушку и та превратилась в лягушку?! Или та заметка о призрачном паруснике «Летучий Харьковчанин» с живыми скелетами на борту, шо якобы проплыл недавно по речке Харьков!.. А разве не небылица та заметка об уткоголовом пришельце из других измерений?! Или — о карликовых пресноводных китах, обитающих в водопроводных трубах! А разве есть хоть доля правды в сообщении о найденном близ Великого Бурлука яйце с иглой внутри — явном намёке на Кащея Бессмертного?! Или та статья о молодой женщине, которая родила не своего сына, а своего дедушку! А информация про солоницевского дракона?! Или про канареек-людоедов! А разве не выдумкой является информация, будто на какой-то далёкой планете есть цивилизация, которая считает своим богом нашего земляка, простого бухгалтера?! Небылица на небылице! Поэтому я и принёс свою небылицу об инопланетянах именно к вам!
— Ну, небылица небылице рознь, — поучает Зинаида Андреевна, поправляя бретельку лифчика под белой блузкой. — Я не буду утверждать, шо всё публикуемое в «Многогранном мире» является истиной. Наш журнал, по сути, не столько информационный, сколько развлекательный. Читателям хочется чудес — и мы пишем о чудесах; читателям хочется невероятных историй — и мы сочиняем для них невероятные истории. Но даже у небылиц должны быть какие-то рамки! А то, шо вы пишете — будто бы город Харьков основали инопланетяне, — это уже совсем за гранью… Нас же на смех поднимут! Хто ж после такого станет читать наш журнал! Ну, вы сами подумайте… Вот вы тут сообщаете, будто бы само название Харьков имеет инопланетное происхождение: дескать, в переводе с какого-то инопланетного языка на наш, Хаар Кыв означает Место Посадки! Я разные слышала гипотезы о происхождении слова Харьков, в том числе и довольно фантастические; но эта — самая безумная.
Зинаида Андреевна берёт со стола рукопись в виде двух листов бумаги формата А4 пальцами шуйцы и, тыча ногтем указательного перста десницы в написанный шариковой ручкой текст, продолжает:
— Вы тут пишете, мол, около четырёхсот лет тому назад здесь приземлился потерпевший аварию инопланетный космический корабль. Мол, несколько сотен членов экипажа этого корабля, не имея возможности улететь, живут на Харьковщине, законспирировавшись под обычных харьковчан. Мол, по каким-то причинам они не могут размножаться в земных условиях, но зато под воздействием какой-то своей аппаратуры являются почти бессмертными и могут жить сотни или даже тысячи лет, но действие этой аппаратуры, мол, распространяется всего лишь на шестьдесят километров, поэтому они не могут удаляться от Харькова. Мол, в недрах Холодной горы находится их секретная база… и тому подобный вздор. Я не хочу, шобы «Многогранный мир» потерял репутацию из-за публикации подобных глупостей, поэтому… Да и к тому же небылицы о разнообразных НЛО и пришельцах из космоса мы уже неоднократно публиковали, хотя не настолько безумные, поэтому эта тема, наверно, читателям уже надоела… Скажите, молодой человек, вы сами всё это придумали?
— Нет. Слышал, как один мужик трепался. Недавно я пил пиво в одном генделике, и соседом по столику оказался нетрезвый дядька, который об этом трындел. Хоть он был в дупель бухой, но языком ещё ворочал. Я удивился: вот брешет мужик — как по писаному! После я подумал, шо эти небылицы как раз в духе «Многогранного мира»; по памяти записал, и вот вам…
— А как он выглядел, этот пьянчужка?
— Такой ярко-рыжий, а глаза разные: левый карий, а правый зелёный.
— Ну, я так и думала!
— А шо, вы его зна…
— Это душевнобольной человек. Он и нас «достал» своим шизофреническим бредом. Он состоит на учёте в психбольнице, на Сабуровой Даче. Советую вам, молодой человек, выбросить из головы его безумный лепет, если не хотите, шобы и вами заинтересовались психиатры. А хотите, я вам помогу это забыть. Смотрите мне в глаза.
Молодой человек, поправляя съехавшие очки, удивлённо глядит на Зинаиду Андреевну, а она впивается в его опушенные белыми ресницами очи пронзительным, завораживающим взглядом и гипнотическим голосом продолжает:
— Вы забываете всё, про шо мы с вами говорили. Вы забываете всё, про шо написали в этой заметке. Вы забываете всё, шо слышали от рыжего незнакомца. Вы никогда об этом не вспомните. А теперь вставайте и идите домой.
Молодой человек с пустыми кукольными глазами поднимается со стула и механически выходит из кабинета, даже не попрощавшись.
Зинаида Андреевна Салтовская тоже встаёт из-за стола, подходит к двери и, выглянув, кричит:
— Валечка, я полчаса буду очень занята; пусть ко мне нихто не заходит.
— Хорошо, Зинаида Андреевна.
Впрочем, никто и не смог бы зайти, ибо Зинаида Андреевна тут же запирает дверь кабинета изнутри на замок.
Возвращается к столу, комкает два листа бумаги и бросает в корзину для бумаг.
Смотрит в окно.
Дом, часть которого арендует редакция журнала «Многогранный мир», стоит на восточном склоне Холодной горы, и из редакторского окна как на ладони Нагорный район — исторический центр Харькова. Вон взметнулась над крышами увенчанная золотой луковицей Александровская колокольня Успенского собора. Вон рядом белеет Свято-Покровский. А вон левее — белая громадина Госпрома, «организованная гора», как, не сговариваясь, назвали это первое в СССР высотное здание Анри Барбюс и Максим Горький; рядом — жёлтый небоскрёб университета… А ведь Зинаида Андреевна, как её теперь зовут, прекрасно помнит время, когда на этом месте ещё не было никакого населённого пункта, лишь поросшие травой, да кое-где деревьями холмы… Эх, быстро бежит времечко…
Зинаида Андреевна с сомнением смотрит в корзину для бумаг, достаёт из неё свежескомканные листы, кладёт их в пепельницу и воспламеняет зажигалкой. Задёргивает шторы, садится за редакторский стол и, любуясь пламенем в пепельнице, набирает номер на телефоне.
— Алло, Сергей Владимирович, здравствуй. Тут такое дело. Слухи о том, шо наш дорогой коллега Аркадий Павлович под воздействием алкоголя теряет над собой контроль и разбалтывает аборигенам секретную информацию, к сожалению, подтвердились. Я только шо случайно узнала от одного аборигена. Конечно, аборигены ему не верят, но бережёного бог бережёт… Да. Думаю, есть смысл Аркадия Павловича на время от аборигенов изолировать и полечить от тяги к спиртному, шобы он уже ни капли… Ага… Ну, всё… И тебе того же. Пока.
Зинаида Андреевна снимает блузку и лифчик, накрашенными ногтями расстёгивает невидимую невооружённым глазом застёжку имитирующей человеческую кожу оболочки, освобождает из-под оболочки гибкие щупальца и с наслаждением потягивается, распрямляя эти синие в оранжевую крапинку конечности, слегка затекшие от длительного пребывания в декоративном человекообразном скафандре…
21 ноября 2004 г.
Сон эльфа
Не совсем фэнтези, или совсем не фэнтези
Представьте, будто вы заснули
И перед вами сны мелькнули…
У. Шекспир, «Сон в летнюю ночь»
Ночная темень весь волшебный лес накрыла, и во мраке лес исчез.
Во тьме деревья не качнут листвой, как будто чей-то берегут покой; как будто с нетерпеньем тихим ждут чудесных дел, что тут произойдут.
Притихло всё. И эльфы не шалят, не водят хороводы средь опят.
Малышки-феи смолкли средь ветвей — не слышно крылышек теперь жужжащих фей.
Застыло всё, лишь тишь да темнота… Затем пойдёт такая суета!..
На толстой ветке дуба, как на ложе, уснул эльф Пак с достоинством вельможи, сложив проворные прозрачные крыла. Во сне он видит дивные дела:
Снится ему, что он не эльф Пак, обитающий в волшебном лесу, а обычный человек по имени Александр Олефир, живущий в провинциальном городе и служащий актёром в тамошнем театре.
Снится ему, эльфу Паку, что сидит он, актёр Александр Олефир, перед зеркалом в убогой гримёрке и наносит на свою физиономию дешёвый грим. На нём недорогой театральный наряд эльфа с накрахмаленными кружевными крылышками на проволочном каркасе, ибо театр едва сводит концы с концами и не может себе позволить ценные и качественные наряды, грим, декорации…
На соседнем стуле, закинув ногу на ногу и постукивая ногтем по пачке сигарет, восседает коллега, актёр Марк Бабанский, в аналогичном наряде короля эльфов с накрахмаленными же кружевными крылышками на проволочном каркасе, и говорит:
— Да, уже всё оформил. Вот доработаю до конца сезона, и — прощай отчизна, здравствуй заграница. Тут ждать нечего.
— Ты что, надеешься, что там ты станешь звездой Голливуда или Бродвея и будешь грести лопатой миллионы? — невесело улыбается актёр Александр Олефир (то есть эльф Пак, которому снится, что он актёр Олефир), нанося на лицо последние штрихи.
— Нет, конечно. Там на актёрской карьере наверно придётся поставить крест. Там своих актёров навалом, иноземцы им и даром не нужны. Тем более, не владею в совершенстве языком. Нет, там придётся работать не по специальности. Да кем угодно… В автосервисе могу… Или хотя бы посуду в ресторане мыть. Там посудомойщик за день зарабатывает больше, чем у нас актёр за… Кем угодно, лишь бы не в этом убожестве. Достала такая жизнь! Я-то пока бездетный холостяк, мне легче. А тебе… За гроши кривляться на сцене, а потом ещё на ночь бежать на станцию разгружать вагоны, чтобы заработать детишкам на игрушки… Ты ж уже как выжатый лимон. Крутишься, как фарш в мясорубке. Скоро при таких нагрузках, глядишь, прямо на сцене в обморок грохнешься от изнеможения. Бросай всё и айда со мной. Сначала будешь высылать семье деньги, а как обустроишься, и их туда, «за бугор» заберёшь…
— Мальчики, не угостите сигареткой? А то мои закончились, — заглядывает в гримёрку актриса Эвелина Цвыгун, в убранстве королевы фей с такими же, как у Олефира и Бабанского, накрахмаленными кружевными крылышками на проволочном каркасе.
— Угощайся, — Марк протягивает ей пачку и, уловив на её личике мгновенное разочарование, ехидно добавляет: — Извиняйте, ваше величество, дорогих не курим.
— Ничего, сойдёт, — она длинными ноготками вытягивает из пачки жёлто-белый цилиндр.
— Королева фей, блин, — язвит Бабанский после её ухода. — Из неё такая же фея, как из меня этот… Наверно, переспала с Любомирычем и за сексуальные услуги получила эту роль, шлюха. Бездарность. Хорошо, что по пьесе мне не нужно целоваться с этой — тьфу! — минетчицей.
Эх, не любит он, Александр Олефир (то есть эльф Пак, которому снится, что он актёр Олефир), эти закулисные сплетни, интриги, склоки, злословие…
— Олефир, скоро ваш выход. Приготовьтесь, — сообщает театральная радиоточка в виде динамика в решётчатом пластмассовом кирпиче на стене.
— Ну так ты подумай насчёт эмиграции, — настаивает Бабанский, тоже покидая гримёрку, поскольку и он занят в данной сцене спектакля, только выходит позже Олефира, — а то совсем сгниёшь в этом болоте.
— Подумаю, — отмахивается Олефир (то есть эльф Пак, которому…)
Сквозь пыльное, скрипучее, полутёмное закулисье актёр Александр Олефир проходит на сцену, отгороженную от зрительного зала занавесом.
Слышно, как зрители покашливают, шуршат обёртками шоколадок, переговариваются, стучат креслами…
Александр Олефир (то есть эльф Пак) устраивается на декорации, изображающей толстую ветку дуба.
Пошла музыка (звуковое оформление максимально экономное — магнитофонные записи), и занавес раздвигается.
Хлынувший в глаза свет юпитеров не даёт возможности увидеть погружённых во мрак зрителей и оценить их количество.
Мелодия умолкает, и на сцену выбегает актриса Капшеева в наряде феи.
И эльф Пак, которому снится, что он актёр Олефир, произносит первую фразу своей роли:
— А, фея! Здравствуй! И куда твой путь?..
Проснулся Пак в тот миг, и встрепенулся он: фу, надо ж до чего был неприятным сон!
И фею эльф узрел, что с трепыханьем крыл взметнулась над травой; и Пак её спросил: «А, фея! Здравствуй! И куда твой путь?» Малышка парой фраз ему раскрыла суть: она, мол, для Титании — для королевы фей — росинки соберёт с цветочков, трав, ветвей; сама ж Титания вослед за ней идёт, а с нею фей и эльфов хоровод.
Сказав так, фея прыснула во мрак. Подумал Пак: какой недобрый знак — вот это королевы фей явленье; ведь здесь и Оберон — и столкновенье меж ними может тут произойти, сойдутся если их сейчас пути; рассорилась ведь пара — та и он — Титания и гордый Оберон!
Монарху эльфов Пак — слуга и шут… Беда — и та и тот сюда идут!..
Возникла вновь супругов перепалка — упрёки ревности, обиды… Пару жалко!..
Ага, Титания сердито удалилась. Доколь не ладить им, скажи на милость!..
Монарх уже шута узрел и поманил; и Пак к нему стрелой — вжик! — не жалея крыл.
Что господин изволит? И король ему такую назначает роль: супругу чтобы усмирить, дружок, волшебный нужен вот такой цветок; так ты, мой верный Пак, быстрее ветра на край земли смотайся, как ракета, найди цветок тот и назад скорей; цветком я укрощу уж королеву фей!
Помочь монарху Пак, конечно, будет рад! Слетаю за цветком я шустро и — назад!..
А тот противный сон… И думать не хочу. Я эльф, и я лечу, лечу, лечу, лечуууууу…
2006 г.[6]
Кто укокошил натурщика?
Якобы детективный рассказ с дурацкой развязкой
Не прошло и трёх четвертей часа, как я путём умозаключений уяснил себе истинное положение вещей. Тебя, конечно, удивит та лёгкость и быстрота, с которой я разгадал эту тайну. Но разве я напрасно прослужил десять лет сыщиком в Лондоне? Смею тебя уверить, совсем не напрасно.
Из письма Льюиса Кэрролла к знакомой девочке.
Частный сыщик Солопий Охримович Нышпорка, полулёжа на холодильнике, в двадцать шестой раз перечитывал любимый эпизод из эротического романа «Влажная ноздря брюнетки», когда дверной звонок бодрым голосом произнёс: «Динь-дилинь!»
Дочитав до строчки, где героиня романа, страстно простонав «Апчхи!», смело обнажила свой соблазнительный носовой платок, Солопий Нышпорка закрыл книгу, воспользовавшись вместо закладки сушёным тараканом, встал с лежащего на боку холодильника, натянул на нижнюю часть своего организма фиолетовые спортивные штаны, повязал на верхнюю часть малиновый галстук и только после этого разинул дверь.
За дверью фигурировал друг Солопия Охримовича — Захар Захарович Полуящиков, тянувшийся во второй раз большим пальцем правой руки к пупку дверного звонка.
— Захар! — сказал частный детектив.
— Моё почтение, Нышпорка! — поздоровался Захар Захарович, переместив себя в квартиру и захлопывая дверь толчком ягодиц.
Если ты, бесценный мой читатель, любишь подробности о внешности персонажей, то вот тебе по три штришка к портретам этих двоих. Первый штришок: Нышпорка среднего роста, Полуящиков же русый. Второй штришок: у Нышпорки под левой бровью коричневое око, а неподалёку — под правой бровью — второе, аналогичное; у Полуящикова же только одно, но тоже коричневое, на левой ноге чуть выше колена, родимое пятно. Третий штришок: Нышпорка носит волосы преимущественно на голове; Полуящиков же больше на груди, вместе с татуировкой:
Не забуду уголовный кодекс!
Если же трёх штришков тебе, бесценный читатель, маловато, то наштрихуй ещё сам чего пожелаешь, я разрешаю.
Называя Солопия Охримовича Нышпорку частный детективом, я — автор этого якобы детективного рассказа — имею в виду не его профессию, а его хобби. По профессии и по образованию он был дворником, а частным сыском занимался ради собственного удовольствия в свободное от подметаний дворов и улиц время.
А вот Захар Захарович Полуящиков занимался сыском именно в рабочее время, поскольку был инспектором уголовного розыска. У него тоже было хобби, довольно своеобразное: он любил в свободное от работы время подметать дворы и улицы.
И что характерно — любитель Полуящиков подметал асфальт талантливее, чем профессионал Нышпорка, а любитель Нышпорка разоблачал преступников успешнее, чем профессионал Полуящиков. Поэтому они часто прибегали к помощи друг другу и никогда друг другу в такой помощи не отказывали.
Вот и нынче, в день двадцать шестого перечитывания Нышпоркой любимого эпизода «Влажной ноздри…», инспектор Полуящиков вовсе неспроста переместил себя в квартиру дворника, захлопывая дверь толчком ягодиц.
— Убийство, — заявил гость, переместившись и захлопнув.
— Ладно, — согласился хозяин. — Проходи на кухню, Захар, присаживайся.
— Некоего гражданина Небижчика, — добавил Захар Захарович, садясь на газовую плиту за неимением стула.
— Ясно, — кивнул Солопий Охримович, ложась на холодильник.
— Ильи, — сказал инспектор.
— Понятно. И кем же он был, этот убитый Илья Небижчик? — спросил дворник, шевеля левую ноздрю ногтем мизинца.
— Он был этим… Григорьевичем, — уточнил Полуящиков.
— А чем он занимался, этот Илья Григорьевич Небижчик?
— Он это… Натурил.
— Чего-чего?
— Или натурствовал? Ну, в общем — работал натурщиком. В изостудии Дворца детского творчества имени Герострата. Позировал для детишек, юных художников. А в свободное от этой работы время ещё подхалтуривал в университете профессором философии. А по выходным и праздничным дням ещё подрабатывал, позируя у себя на дому для профессиональных художников. Короче, крутился мужик.
— Ясно. Он страдал деньгофилией. Это иногда бывает.
— Чем?
— Ну, деньги любил.
— Так и я тоже… Кхе… Вот и сегодня он у себя в квартире позировал сразу для троих: для живописца Иванова, скульптора Петрова и фотохудожника Сидорова. Он им позировал, они его… эээ… живописали, скульптурили и фотохудожнили, затем устроили перекур, он вышел в ванную, а после перекура Иванов, Петров и Сидоров нашли его в ванне мёртвым, с петлёй на шее, с топором в затылке и с осколками стеклянной ампулы во рту. Ну, и позвонили в милицию.
— Может, сами художники его и того? Соседей опросили?
— Опросили, кроме одного — соседа сверху. Соседи говорят, что примерно два часа назад, а именно тогда и наступила смерть Небижчика, они слышали из его квартиры шум, вроде топота бегемотов, пулемётной очереди и продолжительного выхлопа кишечного газа. Однако, Иванов, Петров и Сидоров утверждают, что шума не слышали. А ты слышал?
— А при чём тут я?
— Ну, ты же и есть его сосед сверху. Он жил как раз под тобой.
— А. Небижчик?! Илья Григорьевич?! Тот самый сукин сын, что выбил мне зуб за то, что я, забыв закрутить краны, залил ему квартиру! Тот самый мерзавец, что чуть не сломал мне ребро за то, что я нечаянно уронил окурок на его балкон, отчего выгорела половина его квартиры! Тот самый гад, что чуть не задушил меня за то, что я без злого умысла умертвил совком его собачку! Тот самый подлец, что разодрал на мне одежду за то, что я несколько раз по рассеянности поджигал газеты в его почтовом ящике! Тот самый негодяй, что вымазал мне физиономию экскрементами за то, что я случайно испражнился у его двери! Тот самый паразит, что грозился меня уничтожить за то, что я, видите ли, часто и громко роняю на пол холодильник! Тот са… Ещё бы не знать! Так это его? Да я сам с удовольствием такого укоко… Кхе… Ладно, разберёмся. Шум, говоришь? Да, пару часов назад и я слышал шум снизу, только он был похож не на топот бегемотов, пулемётную очередь и продолжительный выхлоп кишечного газа, а на топот носорогов, автоматную очередь и пение Вилли Токарева. Я даже постучал носками об паркет, чтоб внизу прекратили шуметь. Как это Иванов, Петров и Сидоров могли не слышать?!
— И покойник, и беспокойники, то бишь живые художники, остаются на месте преступления. Пойдём, осмотришь, допросишь, — попросил инспектор Полуящиков.
Дворник Нышпорка, помимо фиолетовых спортивных штанов и малинового галстука, надел ещё и голубую майку, и клетчатый коричневый пиджак, после чего оба детектива — профессионал и любитель — поехали к месту злодеяния. Ехать пришлось недолго, всего одну остановку. На лифте.
В квартире натурщика царил творческий беспорядок. Взор дворника натыкался на тюбики с краской, куски глины, холсты, фотоаппараты, художников и милиционеров.
Милиционеров Жужжалова, Зильберкукина, Достоевского и Переплюньпаркана Нышпорка поприветствовал, по очереди пожимая им руки и произнося:
— Здравствуйте… Добрый день… Приветствую вас… Рад встрече.
Затем переспросил у друга:
— Так говоришь — труп него… тьфу, Небижчика — в ванне?
— Ага, плавает, — подтвердил Полуящиков.
— Полюбуемся.
Солопий Охримович открыл дверь, к которой была приклеена репродукция «Купальщицы» Ренуара, и полюбовался: в алой водице живописно плавали останки Ильи Григорьевича, радуя глаз насыщенностью колорита и экспрессивностью композиции.
Осмотрев тело и его окрестности, Нышпорка изрёк:
— С точки зрения неопытного сыщика, здесь имело место банальное самоубийство. Небижчик взял в рот ампулу с цианистым калием или другим мгновенно действующим ядом, встал на край ванны, надел на шею петлю привязанной к крюку на потолке верёвки и, раскусив ампулу, повесился. Но верёвка оказалась непрочной, порвалась, и самоубийца плюхнулся в ванну с водой. При этом верёвка захлестнула топор, лежавший на полке над ванной, топор сорвался вниз и вонзился в череп самоубийцы.
— Гениально! — воскликнул инспектор Полуящиков и принялся конспектировать слова друга фломастером в блокноте. — А как пишется слово «банальное»? Через букву «ю» или букву «ы»?
— Кажется, через букву «у», — подсказал молодой милиционер Достоевский, мигая рыжими, как мандарин, ресницами.
— Не спеши, Захар. Я сказал, что банальное самоубийство тут имело место только с точки зрения неопытного сыщика, — напомнил дворник Нышпорка. — А с точки зрения сыщика опытного… — Зрение опытного сыщика он пропустил сквозь большую лупу. — А с точки зрения опытного сыщика — это инсценировка самоубийства, попытка ввести следствие в заблуждение.
— Почему? — спросил Захар.
— По верёвке, — ответил Солопий. — Сверхскрупулёзный её осмотр посредством увеличительного стекла показывает, что в действительности верёвка не оборвалась сама по себе, а была перегрызена зубами. Наверно, натурщика сначала утопили в ванне, а затем, чтобы это выглядело как самоубийство, засунули ему в рот ампулу, вонзили в череп топор, а верёвку перегрызли на две части; одну часть надели в виде петли на шею покойного, а другую часть привязали к крюку на потолке. Короче, налицо — банальное убийство. То есть не на лицо, а на шею, на затылок и в рот.
— Гениально! — повторил инспектор Полуящиков, записывая. — А как пишется «банальное»: через «з» или через «х»?
— По-моему, через «щ», — подсказал молодой милиционер Достоевский, мигая рыжими, как мандарин, ресницами.
— Но я не знаю, как объяснить тот шум, что имел место в этой квартире, который слышал и я, и другие соседи, — задумчиво произнёс Нышпорка, шевеля ноздрю мизинцем. — Пообщаюсь с художниками.
Бодро щёлкнув неживого соседа ногтем по холодному носу, дворник вышел из ванной. Четыре милиционера — Достоевский, Зильберкукин, Переплюньпаркан и Жужжалов — расступились, пропуская его к Иванову, Петрову и Сидорову.
— Так что же вы тут натворили, служители муз? — говорил Солопий Охримович Нышпорка, приближаясь к живописцу, фотографу и скульптору.
— Я творил скульптуру «Писающий мальчик», — ответил Серафим Эдуардович Петров, указывая ногтями на сотворённое.
— Забавно, — оценил дворник-детектив, зыркнув на скульптуру.
— Конечно, писающий мальчик — довольно избитая тема, — продолжал ваятель, мигая сквозь ус металлическим зубом. — Писающих мальчиков неоднократно изображали скульпторы разных стран и разных времён. Я решил внести в этот растиражированный сюжет свежую струю, поэтому изобразил писающего мальчика стоящим на броневике, с кепкой в руке.
— Струя хорошая, а вот сам мальчик мало похож на Небижчика, — критически заметил инспектор Полуящиков. — Вы же с него лепили.
— Во-первых, работа ещё не окончена, это только черновой вариант, — обиделся Петров, — а во-вторых, я вообще не стремился к портретному сходству.
— А вы? — Детектив-любитель Нышпорка оборотился к живописцу Вольфгангу Ходжибердыевичу Иванову. — Вижу. Натюрморт с ананасом.
— Нет, картина называется «Утро металлурга», — застенчиво буркнул живописец, отдирая от мохнатой бороды присохший к ней тюбик.
— Вы полагаете, металлурги начинают день с таких экзотических завтраков? — поинтересовался детектив-профессионал Полуящиков.
— Это не ананас, это доменная печь, — смущённо пояснил Вольфганг Ходжибердыевич, пытаясь отковырнуть кисточку, присохшую к воротнику.
— А, ну да, печь. А слева — уставший металлург, — сообразил дворник. — Ишь как скукожился, работяга. Всё понятно.
— Нет, это не уставший металлург, а вагонетка с рудой, — робко поправил Иванов, тщась оторвать от рукава присохшую к нему палитру.
— А где же здесь сам металлург?! — воскликнул Полуящиков.
— Металлург едет на работу в троллейбусе, — пробормотал стушевавшийся живописец, дёргая второй тюбик, присохший к брюкам на колене.
— Да где же здесь троллейбус, хрен подери!!! — взвизгнул возмущённый живописью молодой милиционер Достоевский, мигая рыжими, как мандарин, ресницами.
— Пока нету, — вздохнул сникший художник и почесал третий тюбик, присохший к мохнатому затылку. — Я писал диптих, то есть картину, состоящую из двух отдельных холстов, объединённых общей темой. На одной части я изобразил доменную печь в ожидании металлурга, а на другой собирался изобразить натурщика Небижчика в виде металлурга, едущего в троллейбусе на работу.
— Логично, — оценил Солопий Нышпорка.
— И вот пока Илья Григорьевич якобы мочился как бы с броневика для Серафима, я дописал первую часть, чтобы после перекура приняться за вторую. А оно вон как вышло, — закручинился Вольфганг Ходжибердыевич.
— Да, оно вышло в ванную и там погибло, — поддакнул дворник. — А вы чем похвастаетесь, гражданин Сидоров? — повернулся Солопий Охримович к третьему жрецу искусства, уныло гладившему ногтем большую старинную деревянную фотокамеру, которая норовила прикинуться гармошкой.
Фотограф Дормидонт Ермолаевич Сидоров печально пошевелил лбом, трагически покачал пустынным (в аспекте растительности) черепом, грустно всхлипнул правой ноздрёй, мрачно поёжился, расстроено мигнул глазами, угрюмо вздохнул и, наконец, негромко… промолчал.
— Признавайтесь, над чем работали, — настаивал сыщик Нышпорка.
— Над фотосерией «Ню и ню!», то есть серией снимков обнажённой натуры, — буркнул невесёлый фотохудожник и смахнул рукавом скупую мужскую соплю.
— Обнажённая натура — это Небижчик? — уточнил Солопий Охримович.
— А кто же. Илья Григорьевич. Он был лучшей моей фотомоделью, понимаете. — Сидоров смахнул вторую предательскую каплю. — Теперь уже никогда, понимаете, ни-ког-да…
— Плюньте, — сказал дворник.
— Вам легко говорить! А где я возьму другого такого натурщика! Это ж был виртуоз! Маэстро! Живой классик позирования!
— Плюньте, повторяю. Вот в эту пробирку, — настаивал Нышпорка, достав из кармана стекляшки.
— Зачем?
— Нам нужен образец вашей слюны.
— Вы меня в чём-то подозреваете?
— Ни в чём, абсолютно ни в чём. Кроме разве только зверского убийства. И вы, граждане Иванов и Петров, тоже плюньте в пробирки.
Служители муз пустили ротовую влагу в три стекляшки.
Солопий Охримович, закупорив оные сосудики, протянул их инспектору Полуящикову со словами:
— Пусть в лаборатории сравнят эти слюни со слюной на перегрызенной верёвке.
— Гениально! — восхитился Захар Захарович.
— А вы подробно изложите, — вновь повернулся дворник Нышпорка к трём так называемым жрецам искусства, — что тут происходило от момента, когда натурщик пошёл в ванную, до момента, когда вы позвонили в милицию.
— Ну, Илья Григорьевич пошёл в ванную ополоснуться, поскольку, работая писающим мальчиком, так сказать, он вспотел от работы. А мы втроём вышли на балкон покурить и потрепаться, — начал рассказывать «жрец» Петров. — Прошёл час, а Илья Григорьевич из ванной всё не выходит и не выходит. Мы его позвали, а он — ни гу-гу. Тогда мы поняли, что с ним что-то случилось, ворвались в ванную и увидели его в воде с топором в затылке и петлёй на шее. Он уже был мёртв. Вот тогда мы сразу и позвонили…
— На двери ванной с внутренней стороны сломана задвижка. Это вы её, или она уже была…
— Это нам пришлось сломать, дверь же была заперта изнутри.
— Во время перекура вы слышали какой-нибудь шум?
— Сначала из ванной слышалось плескание воды и пение Ильи Григорьевича, — припоминал скульптор Петров, сверкая сквозь ус металлическим зубом.
— Он пел: «В траве сидел кузнечик совсем как огуречик…» — уточнил фотограф Сидоров и смахнул рукавом ещё одну скупую мужскую каплю из носа.
— А минут через пять эти звуки прекратились, и до тех пор, пока мы выломали дверь, всё было тихо, если не считать нашего разговора, — смущённо добавил живописец Иванов, теребя присохший к бороде тюбик.
— Все соседи часа два назад услышали шум в этой квартире, — сказал дворник Нышпорка.
— Лично я никакого шума не слышал, — пожал плечами Иванов.
— И я шума не слышал, — подтвердил Петров.
— И я, — поддакнул Сидоров. — Я ещё подумал: как это Илья Григорьевич мог так беззвучно сорваться с верёвки и плюхнуться в ванну? Ни стука, ни плеска, ни стона…
Нышпорка с Полуящиковым вышли на балкон, где действительно имелись пепел и окурки сигарет в импортной консервной банке из-под тушёнки из корейской собаки.
— Обрати внимание, Захар, что с балкона не видна дверь ванной, так что если в ванную входить или из неё выходить, стоящие на балконе этого не увидят, — заметил детектив-любитель.
— Но если кто-то вошёл в ванную и убил натурщика, пока художники тут курили, то как же убийца мог выйти, если дверь осталась запертой изнутри? Не мог же покойник её запереть после ухода убийцы! — выразил сомнение детектив-профессионал.
— Это вопрос, — согласился Солопий Охримович.
— А может, всё же самоубийство? — с надеждой спросил Захар Захарович.
— Впрочем, о том, что дверь была заперта изнутри, мы знаем только со слов художников. Если это они укокошили натурщика, то и задвижку на двери сломали специально для того, чтобы ввести следствие в заблуждение, — изрыгнул версию Нышпорка, шевеля ноздрю мизинцем.
— Но если бы они его укокошили и инсценировали самоубийство, то уверяли бы нас, что слышали, как натурщик покончил с собой, как сорвался с верёвки и плюхнулся в воду, как сверху грохнулся топор. Зачем же им говорить, что таких звуков не было, если это противоречит версии о самоубийстве. Нелогично, — сказал инспектор уголовного розыска.
— Да, нелогично, — согласился дворник.
Они вернулись к художникам.
— Скажите, служители муз, а какое у натурщика было настроение? Он был в депрессии? — спросил Нышпорка.
— Наоборот! — воскликнул Петров, сверкнув сквозь ус зубом. — Илья Григорьевич был сегодня жизнерадостный, весёлый. Всё время шутил.
— Анекдоты рассказывал! И про Вовочку, и про Штирлица, и про Вини Пуха с Пятачком, и про Василия Ивановича с Петькой, — уточнил Иванов, теребя кисточку, присохшую к воротнику.
— Мне особенно запомнился тот, где Пятачок с красным флагом бегает туда-сюда под большим-пребольшим дубом и поёт: «Наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка…», а летящий на воздушном шарике Вини Пух ему сверху кричит: «Эй, Пятачок, по-моему, пчёлы всё равно не верят, что я паровоз». Я так смеялся! — всхлипывая, вспомнил Сидоров и смахнул скупую мужскую каплю.
— Илья Григорьевич завтра должен был получить гонорар за написанную им монографию о философии эпикурейцев, вот он и радовался, — пояснил Петров, продолжая блистать коронкой сквозь ус. — Не было у него ни депрессии, ни даже намёка на плохое настроение! Ума не приложу — с чего это он наложил на себя руки!
Нышпорка с Полуящиковым переглянулись и дуэтом подумали, что если бы художники укокошили натурщика и инсценировали самоубийство, то уверяли бы, что он был в депрессии и не хотел жить. Хотя, как знать…
— Я бы хотел допросить вас троих по отдельности, — произнёс дворник. — Давайте, начнём с вас, Иванов. Давайте, уединимся с вами… эээ… ну, хотя бы вот на балконе же.
И Солопий Охримович вновь пошествовал на балкон, а за ним, стуча об паркет рамой, присохшей к подошве, потопал живописец.
— Скажу вам, гражданин Иванов, прямо, не в бровь, а в ухо, что у меня есть основания полагать, что кончина натурщика — это убийство, а не самоубийство, — сказал там в ухо Вольфгангу Ходжибердыевичу Солопий Охримович, — и что этот благородный посту… тьфу… и что это злодейство совершил либо кто-то из вас троих, либо кто-то четвёртый, заходивший в квартиру, пока вы перекуривали на балконе. Признайтесь честно, отлучался ли кто-нибудь из вас троих с этого балкона во время перекура?
— Отлучались, — признался живописец, почёсывая ногтями тюбик на затылке. — Сперва мне приспичило по-маленькому, я сходил в туалет, помочился. Через несколько минут Сидоров отлучился на кухню, чтобы, как он сказал, запить таблетку от насморка. А ещё через несколько минут Петров отлучился в коридор, чтобы, как он сказал, позвонить по телефону жене.
— А как вы думаете — кому выгодна смерть Небижчика?
— Ну, не знаю… А! Небижчик как-то говорил, что у него есть мерзкий сосед, вот, сверху, как раз над ним, — живописец указал испачканным краской ногтем вверх — на балкон Нышпорки. — Такая, говорил, сволочь! Этот гадский сосед ему и квартиру заливал, и поджигал, и под дверью гадил, и собачку убил, и газеты в ящике палил, и спать не давал, устраивая по ночам грохот, и прочие всякие пакости… Они ненавидели друг друга. Вот я и ду…
— Нет-нет-нет, — перебил Солопий Нышпорка, — это не то… Это… Кхе… Ну… Гм… Это… Эээ… А другие?
— Ну, не знаю… Разве только… Нет, не уверен…
— Давайте, давайте, выкладывайте.
— Сидоров — родственник Небижчика. Единственный родственник, насколько я знаю. И единственный наследник, в случае, если Небижчик… Ну, вы меня понимаете. А Небижчик, хоть и живёт, как видите, скромно… жил… человек не бедный. Говорят, он в карты много навыигрывал и у него на сберкнижке… Ну, вы меня понимаете.
— Спасибо за важную информацию, — поблагодарил живописца дворник и, отправив его с балкона (конечно, не вниз, а обратно в квартиру), крикнул: — Следующий! Сидоров!
Всхлипывая ноздрёй, фотограф поплёлся на балкон.
Там он подтвердил сыщику-любителю, что во время перекура Иванов отлучался якобы в туалет, Петров — якобы звонить жене, а он — Сидоров — ходил на кухню, чтобы набрать из крана воды и запить таблетку от простуды, а то из носа так и течёт.
На вопрос, кто, по его мнению, заинтересован в смерти Небижчика, Дормидонт Ермолаевич ответил:
— Скажу по секрету: Небижчик имел тайную интимную связь с женой Петрова, с Зинаидой Орестовной. Илья Григорьевич сам мне проговорился во хмелю, как родственнику. Мы с ним кузены… были. Наши матери, царство им небесное, — родные сёстры. А Петров ужасно ревнивый. Всё время звонит жене, следит, проверяет. Если бы Петров узнал, что Зинаида ему наставляет рога с Небижчиком, то… Этот Петров — настоящий Отелло. Илья Григорьевич признался, что он Петрова боится. — Сидоров, зажав пальцем одну ноздрю, брызнул из другой ноздри с балкона носовой каплей, но уже не скупой, а щедрой. Брызнул метко — точно в проезжавший под балконом «Мерседес». — Нет, я не намекаю, будто Петров причастен к гибели Ильи Григорьевича, я просто констатирую факт.
— Жена Петрова — это такая щупленькая, остроносенькая, с такими волосами? Я их однажды вместе видел, — уточнял Нышпорка.
— Нет, то Люська, швея с фабрики «Красная шапка», а Зинаида Орестовна — она наоборот… У холостого Небижчика было две любовницы. Конечно, от каждой из них он скрывал наличие соперницы.
— Женщины тоже бывают очень ревнивыми и способны за измену… — задумчиво пробормотал дворник, поблагодарил фотографа за информацию, отпустил его и позвал Петрова.
На вопрос, кому, по его мнению, выгодна смерть Небижчика, Петров, мигая сквозь ус металлическим зубом, ответил:
— Ну, например, Иванову, да, этому. Иванов проиграл Небижчику в карты огромную сумму, и Илья Григорьевич всё ждал, когда же Вольфганг отдаст ему тот карточный долг. А раз Небижчик умер, значит, и карточный долг аннулирован; Вольфгангу, ну, Иванову уже некому отдавать проигранные деньги. Но это не значит, конечно, что именно Иванов виновен в смерти Ильи Григорьевича…
— Теперь мне нужно как следует обмозговать собранные факты, — сказал затем Солопий Охримович Нышпорка Захару Захаровичу Полуящикову. — Загадочное дело. Особенно этот странный шум, который слышали снаружи, но не слышали внутри… Пойду домой, поработаю мозговыми извилинами.
— Да-да! — обрадовался инспектор уголовного розыска, зная по опыту, что если уж этот дворник начнёт работать мозговыми извилинами, то обязательно доработает ими до разоблачения преступника. — А я к тебе завтра наведаюсь и сообщу результаты вскрытия трупа и лабораторного сравнения слюней.
Прежде чем покинуть квартиру натурщика, Нышпорка заглянул в ванную, чтобы попрощаться с милиционерами, собравшимися извлечь из жидкости скользкого голого мертвеца. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» — гласит народная мудрость. Это утверждение остаётся справедливым, даже если заменить слово «пруд» на слово «ванна», а слово «рыбка» на словосочетание «труп мужчины». Хорошо ещё, что покойник не был толстяком, а то бы пришлось прилагать ещё больше усилий.
Пожимая руки настроенным на сей труд Переплюньпаркану, Жужжалову, Зильберкукину и Достоевскому, Солопий Охримович произносил:
— До свидания… Всего хорошего… До новых встреч… Рад был встретиться… Желаю долгих лет жизни.
Пятая пожатая рука оказалась мокрой ногой покойника, которому дворник пожелал долгих лет жизни.
— Тьфу ты! Выставил! — ругнулся Нышпорка и вытер пальцы о штаны, нет, не свои, а соседа, висевшие на батарее.
После этого он покинул квартиру укокошенного натурщика и вознёсся посредством лифта на один этаж — к своим родным пенатам.
Переступая родной порог, сыщик-любитель чуть не раздавил подошвой тапка своего, так сказать, сожителя — домашнее животное. Животное было, по научному выражаясь, люмбрикусом; а, по-простонародному выражаясь, земляным червём, или, как ещё говорят, дождевым червяком. По кличке Робеспьер. Почуяв тапок хозяина, скользкий шнуркообразный Робеспьер радостно завилял своим организмом.
Из книг и фильмов Нышпорка знал, что некоторые известные сыщики держали дома домашних животных. Например, у лейтенанта Коломбо, из американского киносериала, был любимый пёсик… Равняясь на них, сыщик-любитель Нышпорка тоже заводил у себя разных зверьков. Будучи по природе индивидуумом оригинальным и даже несколько экстравагантным и эксцентричным, дворник игнорировал таких банальных существ, как кошечки, собачки, хомячки или аквариумные рыбки, а предпочитал держать кого-нибудь поэкзотичнее. Так, в разное время на жилплощади дворника обитали такие «братья меньшие»: блоха Христофор, носорог Пушок, слизень Людовик, горилла Аполлинарий Андреевич, солитёр Витька, верблюд Самокат и таракан Сумароков. Только животные оказывались всё какие-то неживучие и быстро подыхали. После того как подох таракан Сумароков (названный так в честь любимого поэта; кстати, именно мумия Сумарокова — таракана, а не поэта — работала теперь закладкой в книге «Влажная ноздря брюнетки»), Солопий Охримович завёл в доме дождевого червя (выкопав его из клумбы у дома), которого назвал Робеспьером в честь знаменитого французского революционера.
— Проголодался, Робеспьерушка? — Детектив ласково потрепал червячка носком тапка.
Робеспьер, как бы соглашаясь, ещё динамичнее завилял собой.
— Сесясь ми покольмим насего Лобеспьелюську, — засюсюкал умилительно Солопий Охримович, ухватил скользкого извивающегося питомца двумя пальцами и потопал на кухню, продолжая сюсюкать: — Сесясь ми дядим насему любимцу клясьной иколочки.
Нышпорка поднял неустойчивый холодильник, переведя его из горизонтального положения в вертикальное, подложил под его дно окаменелый батон, дабы зафиксировать агрегат в вертикальной позиции, открыл дверцу балансирующего холодильника, достал баночку красной икры, ляпнул сей деликатес на фарфоровое блюдце восемнадцатого века, поставил блюдце на линолеум пола и стал тыкать червя мордочкой в икру. Червь уворачивался.
— Да что ж и ты всё ничего не ешь! — огорчился Нышпорка, наблюдая, как любимец отползает от блюдца к салатнице из того же сервиза, также стоящей на полу, к салатнице, наполненной унавоженной землёй, в которой Робеспьер и проводил большую часть своей жизни.
Солопий Охримович сам поглотил икру, облизал блюдце и сказал:
— А теперь предамся размышлениям. О лира! Пробуди во мне идеи!
Из книг и фильмов Нышпорка знал также, что некоторые известные сыщики предавались размышлениям, музицируя на каком-нибудь инструменте. Например, Шерлок Холмс играл на… Ну, это общеизвестно. И однажды дворник решил последовать их примеру. Но в связи со своей оригинальностью, переходящей в экстравагантность, Солопий Охримович не захотел опускаться до таких банальных вариантов, как скрипка, или, скажем, фортепиано, а захотел играть на чём-то более редком.
— Вот, например, лира! — сказал себе Нышпорка.
Он помнил, что в школьные годы читал какое-то стихотворение, в котором какой-то поэт признавался, что с помощью лиры в ком-то что-то пробуждал.
Попытавшись приобрести лиру, дворник с радостью убедился, что не ошибся в выборе: это инструмент действительно редкий. Судя по тому, что никаких лир в продаже не было.
Это обстоятельство вдохновило его на сооружение лиры собственными конечностями. Но закавыка была в том, что Нышпорка не знал, как и из чего делаются лиры, никогда их не видел и вообще, кроме того, что кто-то в ком-то что-то лирой пробуждал, никакой информации об этом инструменте не имел.
— Но это не повод для отступления! — сказал себе детектив. — Нет информации — положусь на интуицию!
Не успел он как следует положиться на интуицию, а она уж подсказала ему, что лиры делаются из кирпичей, автопокрышек и пластилина. Весьма удивившись такой подсказке, Солопий Охримович, тем не менее, закатал рукава и приступил к деланию инструмента. Через два часа и двадцать три минуты после начала работы лира была готова!
Если ты, бесценный мой читатель, думаешь, что такая лира плохо звучала, то ты глубоко ошибаешься! Наоборот! Такая лира вообще не звучала! В этом и состояло её основное достоинство! Ведь, во-первых, музыкальных инструментов, которые при игре на них издают какие-либо звуки, пруд пруди; а вот музыкальные инструменты, которые при игре на них соблюдают полную тишину, — это большая редкость, можно даже сказать, раритет! Во-вторых, на беззвучном музыкальном инструменте можно играть, даже имея очень чутких и нервных соседей (типа Небижчика) за очень тонкой стеной. И в-третьих, и это самое важное, если при игре во время размышлений на обычных музыкальных инструментах звуки могут отвлекать от самих размышлений, то при игре на беззвучном инструменте никакие звуки от размышлений не отвлекают!
Короче говоря, такая лира была как раз тем, что и требовалось!
Итак, сказав: «О лира! Пробуди во мне идеи!», дворник выволок из угла за газовой плитой свою громоздкую беззвучную лиру и принялся с вдохновением на ней играть, трудолюбиво наяривая трубчатым резиновым «смычком» по обеим клавишам.
Играя, изо всех сил тужился мозговыми извилинами, желая доковыряться до разгадки таинственного убийства соседа.
При этом его задумчивый взор перемещался с кирпично-автопокрышко-пластилиновой лиры на неустойчивый холодильник в позе Пизанской башни; с холодильника — на книжку «Влажная ноздря брюнетки» с выглядывающим из неё сухим брюшком покойного таракана Сумарокова; с книжки «Влажная ноздря брюнетки» — на книжку «Преступление и наказание», на которой лежала сковородка; с «Преступления и наказания» — на фарфоровую салатницу, наполненную землёй, в которую погрузился червяк Робеспьер; с салатницы — обратно на лиру…
Постепенно под напором его титанического мозгового напряжения, стахановского труда извилин, правда о преступлении стала проявляться во всей своей мерзкой наготе…
И когда Нышпорка понял всё, эта порнографически голая правда так потрясла детектива, что он в шоке водил так называемым смычком по холодильнику, вытирал блюдце малиновым галстуком, почёсывал затылок сковородкой и бормотал:
— Да как же так! Что же теперь делать!..
Найдя ответ на вопрос «Кто убил Небижчика?», но не найдя ответа на вопрос «Что же теперь делать?», Солопий Охримович пришёл в такое раздражение, что сердито отпихнул свою беззвучную лиру, нервно вбежал в спальню, люто скинул штаны, гневно обрушился на постель и свирепо… уснул.
Сначала ему снилось, что он спит в своей постели и видит сон о том, как он спит в своей постели и видит сон о том, как он спит в своей постели и видит сон о том, как…
Затем ему приснился я — автор рассказа «Кто укокошил натурщика?». В том сне я так дико и жутко хохотал, что у детектива кровь стыла в жилах от моего ужасного смеха…
К счастью, этот кошмар, в конце концов, закончился, и началось приятное: героиня романа «Влажная ноздря брюнетки» сладострастно стонала: «Апчхи!.. Апчхи!.. Апчхи!..»; и всё смелее и смелее обнажала свой соблазнительный носовой платок…
Этот приятный эротический сон был утром прерван знакомым грохотом. Опять Робеспьер холодильник опрокинул, догадался Нышпорка, проснувшись и потягиваясь. Встал и, почёсывая трусы, поплёлся на кухню.
Догадка оправдалась: неустойчивый холодильник вновь лежал на боку, а шнуркообразный скользкий питомец виновато отползал к своей салатнице. Дворник погрозил ему (не холодильнику, а питомцу, конечно) босой пяткой.
За окошком утреннее солнце сияло так жизнерадостно, будто ему — солнышку — пощекотали под мышками. Под влиянием такой оптимистической погоды и тонус у Солопия Охримовича был аналогичным. Он бодро запел арию глухонемого из оперы «Молчание — золото» и пошествовал в ванную, дабы предаться там чистке зубов, ноздрей, ушей и иным гигиеническим подвигам.
И вдруг, в момент, когда сыщик чистил ухо ваткой, намотанной на зубочистку, шмякнулось в его душу, будто мороженое на голову, воспоминание о разгаданном вчера убийстве соседа. И ошарашенный дворник замер с выпученными очами, наблюдая лицевое скукоживание зазеркального двойника…
Из ванной Нышпорка вывалился с раскисшей душой и дрожащими конечностями.
Аппетит куда-то смылся, и дворник, не завтракая и кое-как одевшись, взяв любимую метлу, которую специально для него изготовил известный и гениальный столяр-краснодеревщик Мойша Святославович Страдиварин, подался из дома наружу, надеясь в работе забыться и успокоиться.
Но разве успокоишься после такого!
Поэтому дворник подметал асфальт смутно, невнимательно, отчего пропустил две обгорелые спички, слюнявый окурок, дохлую муху и пыльный презерватив.
Проходивший мимо очкастый гражданин, с портфелем и в шляпе, вслух обратил внимание на этот недосмотр. Будь у Нышпорки хорошее настроение, он нипочём не стал бы посылать очкастого гражданина за микроскопом, да ещё таким хамским тоном. Очкастый гражданин вспыхнул и возразил: дескать, сам ты с бревном в ухе; явно намекая на зубочистку, которую Солопий Охримович из-за расстройства забыл извлечь из слухового органа. Дворник, вынув зубочистку, на это нецензурно парировал: дескать, некоторые (…!) видят бревно в чужом ухе (…!), но (…!) не замечают (…!) соринку в своём собственном (…!) Очкастый гражданин тогда злобно и демонстративно вытряхнул из карманов древние троллейбусные талоны на уже подметённую плоскость…
Надо ли говорить, что дворник вернулся домой ничуть не успокоившимся, да ещё и с синяком под глазом?
Скинув верхнюю одежду, приготовив и с отвращением запихав в себя яичницу, Солопий Охримович решился на последнее средство душевного уравновешения — в двадцать шестой с половиной раз перечитать любимый эпизод из романа «Влажная ноздря брюнетки». Вчера он пытался перечитать этот фрагмент в двадцать шестой раз, но попытка была прервана звонком Полуящикова. Поэтому вчерашнюю читку следовало считать не двадцать шестой, а всего лишь двадцать пятой с половиной. Следовательно, сегодняшняя должна была стать (25,5 + 1) двадцать шестой с половиной.
Но только он прилёг на холодильник, который в период жарки яичницы был приведен в вертикальное положение, но вскоре с грохотом вновь принял горизонтальное, и только раскрыл книгу на сушёном таракане Сумарокове, как дверной звонок завопил: «Динь-дилинь-динь-дилинь-динь!!!» Даю волосы на отсечение (те, что под мышками), что ты, бесценный читатель, уже сообразил, чей это палец измывался над кнопкой. Ну, конечно же, после того как Нышпорка захлопнул «брюнетку», окончательно развалив мумию Сумарокова на отдельные фрагменты, и, даже не повязав малинового галстука, поплёлся к двери, он обнаружил, разинув оную, возбуждённого инспектора уголовного розыска Полуящикова З.З. Возбуждённого не сексуально, а, так сказать, детективно.
— Захар, — сказал невесёлый дворник-детектив.
— Моё почтение, Нышпорка! — поздоровался возбуждённый Захар Захарович, переместив себя в квартиру и захлопывая дверь толчком ягодиц. — Тут такие дела!!! Кстати, я здесь неподалёку видел на асфальте пыльный презерватив, дохлую муху, слюнявый окурок, две обгорелые спички, древние троллейбусные талоны и зубочистку с намотанной ваткой. Можно, я их потом подмету?
— На здоровье! — разрешил мрачный дворник, перемещая любимую метлу — шедевр столяра Страдиварина — из кладовки к входной двери, после чего вернулся на кухню и прилёг на холодильник.
— А у меня такие новости, что голова кругом идёт! — похвастался Полуящиков и оседлал плиту.
— Я себе представляю, — хмыкнул невесело дворник.
— Во-первых, знаешь, чья слюна оказалась на перегрызенной верёвке?! Ни за что не угадаешь!
— Это уже всё равно, — буркнул Нышпорка.
— Моя! Моя слюна! Хоть убей, не понимаю, как моя слюна могла попасть на верёвку! Я тебе клянусь, что я ту верёвку не грыз, я даже на неё не плевал! Но вот как, как… Но это только цветочки! Результаты вскрытия трупа Небижчика — это вообще что-то фантастическое! Ты удивишься!
— Навряд ли.
— А кто тебе глаз…
— Об этом после.
— Ага, вскрытие. Представь — в сердце натурщика обнаружилось пулевое отверстие! А кожа и мышцы целы! Вот как пуля могла пробить сердце, не пробив тела?!
— Меня это не удивляет, — заметил мрачный дворник, ввинчивая в ноздрю мизинец.
— Но и это чепуха по сравнению с тем, что кишки Небижчика, оказывается, выгрызло какое-то хищное животное, однако снаружи туловище покойника, как ты сам видел, осталось неповреждённым! В брюшной полости даже остался обломок зуба того хищника! Мы показали тот обломок специалистам-зоологам, и выяснилось, что это зуб какого-то зверозубого ящера, что обитали на Земле примерно двести пятьдесят миллионов лет тому назад!!!
— Во даёт! — непонятно о ком сказал лежащий на холодильнике сыщик-любитель, продолжая меланхолично шевелить мизинцем ноздрю. — Но даже это меня не удивляет.
— Но и это ещё не всё! Представляешь, скелет твоего соседа оказался не костяным, а из какого-то неизвестного металлического сплава!!!
— Я не удивился, даже если бы его скелет оказался из чистого золота, инкрустированный изумрудами и рубинами, — снова хмыкнул дворник, вытирая ноготь мизинца о фиолетовые спортивные штаны.
— Неужели у тебя уже есть объяснение этого невероятного происшествия?! — возопил сгорающий от любопытства и нетерпения инспектор уголовного розыска, и так заёрзал на газовой плите, что чуть не сверзился с неё на пол. — Неужели ты знаешь, почему у натурщика металлический скелет?!! Неужели ты можешь растолковать, как его кишки выгрызло животное, жившее сотни миллионов лет назад, да ещё не повредив поверхности тела?!! Неужели ты знаешь, как ему прострелили сердце, не пробив кожи?!! Неужели ты знаешь, как на верёвку с петлёй попала моя слюна?!! Неужели ты знаешь, кто твоему соседу засунул в рот ампулу с ядом, как выяснилось — цианистым калием, и вонзил топор в затылок?!! Неужели знаешь?!!
— Знаю, — вздохнул печальный Нышпорка.
— Кто?!! Как?!! За что?!! Рассказывай, рассказывай скорее!!! — Возбуждение сыщика Полуящикова дошло до точки кипения, и казалось, что он сидит не на холодной газовой плите, а на горящей, и что внутри него уже клокочет пар. — Ну-ну-ну, давай же!
Солопий Охримович, лёжа на холодильнике, отвечал, соответственно, с холодком:
— Моего соседа Илью Григорьевича Небижчика убил… Нет, прежде чем я отвечу на этот вопрос, ты ответь на мой. Кто убил старушку?
— Чур, не я!
— Нет, я серьёзно.
— Какую старушку?
— Старушку-процентщицу. У Достоевского. Нет, не у вашего Достоевского, а у писателя, у Фёдора у Михайловича. В романе «Преступление и наказание». Читал?
— В школе проходили. Помнится, старушку там грохнул студентик… Эээ… Родион… Эээ… Распутин. Да, Родион Распутин. Пришёл к старушке с топором и пораскинул мозгами. Её.
— Раскольников, — поправил Нышпорка.
— Да-да, Раскольников, Родион Раскольников! Помню!
— А если хорошенько подумать? Пораскинуть мозгами… Нет, своими. Пошевелить извилинами.
Инспектор Полуящиков пошевелил извилиной, другой, третьей… Перешевелив всеми, через пару минут повторил:
— Ну Родион Раскольников же! А кто?
Солопий Нышпорка встал с холодильника, задумчиво прошёлся по кухне, взял со стола довольно засаленный том — «Преступление и наказание» — и, стуча по обложке ногтем, заговорил:
— Старушку-процентщицу укокошил не кто иной, как сам писатель Достоевский! Хоть и сделал это руками Раскольникова. Раскольников был лишь марионеткой в руках душегуба Достоевского. Ибо настоящими убийцами придуманных персонажей являются не другие персонажи, а сами авторы! Достоевский зарубил старушку, Тургенев утопил Муму, Толстой пихнул под поезд Анну Каренину, Пушкин пристрелил Ленского, Шекспир задушил Дездемону и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос: «Кто убил того или иного персонажа?», смело говори: «Автор» — и ты не ошибёшься!
Дворник положил книгу обратно на стол и скрестил руки:
— Теперь, что касается убийства Небижчика… Когда я вчера вернулся домой и предался размышлениям, я обратил внимание на кучу окружающих меня нелепостей. На эту дурацкую беззвучную лиру. На книжку с идиотским названием «Влажная ноздря брюнетки» и с мумией таракана Сумарокова меж страниц. На этот постоянно падающий на бок холодильник, на котором я постоянно лежу, хотя холодильники не предназначены для лежания. На дождевого червяка, живущего в салатнице и почему-то названного Робеспьером. На другие нелепости и курьёзы, увиденные и услышанные мною вчера… Окружающее показалось мне каким-то театром абсурда. И такое количество курьёзов натолкнуло меня на мысль: тут что-то не так! Чтобы разобраться в абсурде, нормальное, традиционное мышление не годится! Тут надо мыслить где-то нетрадиционно, где-то нестандартно, даже где-то абсурдно. И я стал мыслить нестандартно. Разве может быть столько курьёзов, столько нелепостей, столько абсурда в нормальной, реальной жизни, мыслил я. Чего стоит один только субъект, писающий с броневика! В реальной жизни такой концентрации нелепостей, такого сгустка курьёзов быть не может, подумал я. И тогда я напряг всю свою интуицию, аж до посинения… А ты ж знаешь, какая у меня интуиция, почти безошибочная… Ну, случай с лирой не в счёт. И вот напряг я её, не лиру, а интуицию, и она мне вдруг ка-ак подсказала…
— Что?!! — взвился Захар Захарович.
— Что я, а также ты, а также укокошенный Небижчик, а также милиционеры Переплюньпаркан, Жужжалов, Достоевский, и Зильберкукин, а также художники Иванов, Петров, и Сидоров, а также неизвестный шляпно-портфельно-очкастый тип, подбивший мне нынче на улице глаз, что все мы являемся персонажами рассказа «Кто укокошил натурщика?»; рассказа, который сейчас сочиняет некий графоман; да, всего лишь персонажами и не более того; что всех нас придумал этот графоман; что мы существуем не в реальном мире, а в мире, так сказать виртуальном, имеющем место лишь в воображении этого графомана!
— Во как! — изумился Захар Захарович.
— А раз натурщик Небижчик, как и мы все, — персонаж рассказа «Кто укокошил натурщика?», значит, его убил… Ну, соображай!
— Значит, его убил сам автор рассказа «Кто укокошил натурщика?»! — догадался персонаж Полуящиков.
— Он самый, душегуб! — кивнул персонаж Нышпорка. — Если бы он не насовал в свой рассказ столько нелепостей, курьёзов, странностей, я бы, может, ни о чём и не догадался. Если бы этот рассказ был солидным, серьёзным, одним словом, нормальным, то и я бы мыслил серьёзно, стандартно, и в результате такого нормального мышления пришёл бы к выводу, что Небижчика убил либо Иванов, либо Петров, либо Сидоров, либо ещё кто-то из нас, персонажей, как это обычно бывает в солидных детективных произведениях. Но своей несерьёзностью, своим литературным шутовством автор сам подбил меня на нестандартное и где-то несерьёзное мышление, в результате которого я и разоблачил этого автора-убийцу! Автор ещё может свалить это убийство на кого-то из нас так же, как Достоевский — не милиционер, а писатель, — укокошив старушку, свалил это на Раскольникова; Тургенев, укокошив Муму, свалил это на Герасима; Толстой, укокошив Анну Каренину, свалил это на неё саму; Пушкин, укокошив Ленского, свалил это на Онегина; Шекспир, укокошив Дездемону, свалил это на Отелло… Но на кого бы ни свалил убийство Небижчика автор рассказа «Кто укокошил натурщика?», я теперь уверен, что убийца сам автор! И глаз мне нынче подбил именно автор рассказа «Кто укокошил натурщика?», ведь тот шляпно-портфельно-очкастый тип был всего лишь марионеткой в авторских руках!
Нышпорка, чтобы промочить пересыхающее от долгой речи горло, высосал из носика чайника холодной кипячёной воды. После чего продолжил:
— Теперь становятся понятными странные обстоятельства убийства: и то, что оно сопровождалось шумом, который слышали соседи, но не слышали художники; и то, что дверь ванной оказалась запертой изнутри… Ведь всё это лишь выдумки автора, а навыдумывать чего угодно можно, бумага же всё стерпит! Поэтому я нисколько не удивился, узнав, что на перегрызенной верёвке была твоя слюна. Не удивился, узнав результаты вскрытия трупа Небижчика. Мало ли чего автор может насочинять! Кстати, в результатах вскрытия он — автор рассказа — свернул с детективной истории в какую-то фантастику, а это уж попахивает эклектикой! А поскольку все эти обстоятельства — суть выдумка автора, то я бы даже не удивился, если бы оказалось, что Небижчика утопила в ванне какая-нибудь русалка, обитающая якобы в водопроводных трубах; или что он умер, подавившись неопознанным летающим объектом, принятым им за вареник, залетевшим в ванную через вентиляцию… Фантазия — штука непредсказуемая. Короче говоря, убийца натурщика — наш автор!
— И за что же он его?
— Да не за что! Авторы убивают своих персонажей не за что-то, а просто так, чтобы читателю было интересно!
— Но если убийство натурщика совершил автор рассказа «Кто укокошил натурщика?», то как же мы, персонажи этого рассказа, можем арестовать нашего собственного автора?!
— Да никак не можем! Это он может с нами делать всё, что ему вздумается, а мы с ним ничего не можем сделать! Да и к тому же убийство персонажа не считается преступлением и не ведёт к уголовной ответственности, поэтому авторы убивают нас, персонажей, не неся за это никакого наказания! Возьми для примера известную литературную маньячку-рецидивистку, серийную убийцу Агату Кристи, у которой руки по локоть в… чернилах, на совести которой сотни умерщвлённых персонажей. Её за эти многочисленные убийства не только не посадили, но даже не оштрафовали! Даже не пожурили! Наоборот, только хвалили и подзадоривали, дескать, продолжайте в том же духе, мэм!
— Так что же нам теперь делать?! — воскликнул персонаж Захар Захарович Полуящиков.
— А что тут можно поделать, — вздохнул персонаж Солопий Охримович Нышпорка. — Ничего! Нам остаётся только плюнуть.
— В пробирки?
— Нет, вообще.
— Тьфу!!!
— Тьфу!!!
* * *
— Да, мой персонаж Солопий Охримович Нышпорка, ты прав: натурщика Илью Григорьевича Небижчика убил не кто иной, как я сам, — говорю я — автор рассказа «Кто укокошил натурщика?», заканчивая рассказ. — Но хоть ты меня и разоблачил, мне это действительно ничем не грозит. Мы, авторы, хорошо устроились: можем в своих виртуальных мирах творить какие угодно злодейства и при этом оставаться абсолютно безнаказанными. Многие из нас, упиваясь своей безнаказанностью, мучают и убивают персонажей в таких количествах, что это похоже на литературный холокост. Лично я убил натурщика не потому, что я такой кровожадный (наоборот, я даже испытываю угрызения совести по этому поводу, хоть натурщик и был не настоящим человеком, а придуманным мной персонажем, то есть существом, так сказать, не существующим), а для того, чтобы показать общественности, насколько вы, персонажи, перед нами, авторами, бесправны и беззащитны. Может, когда-нибудь человечество дойдёт до такого уровня гуманности, что даже за неоправданное убийство персонажа автора будут если не сажать за решётку, то хотя бы штрафовать, что приведёт к резкому снижению количества насилия в литературе, кино и т. д. А пока что… Я вам, персонажам, не завидую, ой, не завидую.
Эх! Как всё-таки здорово, что сам я — не придуманный кем-то персонаж (или, может… нет, надеюсь, что так), а наоборот — автор! Как здорово, что я могу делать со своими персонажами что хочу, не боясь, что меня за это накажут! Красота!!!
И тут я, автор рассказа «Кто укокошил натурщика?», упиваясь своей безнаказанностью, начинаю так дико и жутко хохотать, что от этого страшного смеха у моих персонажей кровь стынет в жилах…
Это и есть обещанная в подзаголовке дурацкая развязка!
1986, 2000 гг.[7]
Куда идёт Зильберкукин?
Якобы новелла
…ыть или не б…
У. Шекспир, «Гамлет»
По дороге идёт Зильберкукин…
— Куда? — спрашивает вдруг у меня, автора новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», этот самый персонаж Зильберкукин, в меру упитанный невысокий лысоватый мужчина лет сорока пяти, идущий по дороге.
— Что — куда? — вздрагиваю я от его неожиданного вопроса.
— Куда это я иду по дороге? — допытывает персонаж Зильберкукин.
— Не твоё персонажье дело знать, куда ты идёшь. Это моё авторское дело знать, куда ты идёшь, — презрительно бросаю я, автор новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», персонажу Зильберкукину.
— Как это — не моё дело?! — возмущается персонаж Зильберкукин. — Я иду по дороге, и не моё же дело знать, куда я по ней иду?! Свинство какое! Я имею полное право знать, куда я иду по дороге!
— У-у, какой склочный нудный Зильберкукин мне попался… Тьфу, не попался, конечно, а я сам его сочинил. Если б я знал, что он такой нудный склочник, я бы его и не сочинял вовсе, — шёпотом ворчу я.
— Но-но, попрошу без оскорбительных ярлыков! — кричит мне, автору новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», нудный персонаж Зильберкукин.
— Не смей подслушивать мои авторские мысли! — ору я.
— Не ори! — вопит персонаж Зильберкукин. — Подумаешь — автор! Тоже мне, большая цаца!
Ясно: персонаж Зильберкукин считает меня, автора новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», то ли маленькой цацей, то ли большой нецацей.
— Слушай, автор, не выпендривайся, а молниеносно сообщи: куда это я иду по дороге. Не могу же я идти по дороге, сам незнамо куда, как идиот какой-нибудь! — продолжает нудить персонаж Зильберкукин.
— Можешь. И не вмешивайся в мой творческий процесс, Зильберкукин! Я сам знаю, когда мне сообщать, куда ты идёшь по дороге! Захочу — и сообщу об этом аж в конце новеллы!
— И это что ж выходит?! Что я всю новеллу буду топать, как заторможенный дебил, сам незнамо куда?! Не согласный я! Нынче не девятнадцатый век, чтобы автор помыкал своим персонажем; заставлял его топить собачку, рубить старушку, бросаться под поезд, или топать невесть куда! А ну, сообщай, обормот, пока я не вспылил!
— Тьфу, Зильберкукин, ты ж всего-навсего мой персонаж, мною придуманный! Ты должен послушно плясать под мою авторскую дудку!
— Сплясать я могу. Давай, дуди. — Зильберкукин начинает вихляться в ритме вышедшего из моды танца «ламбада». — А вот идти по дороге незнамо куда — дудки! Пока не сообщишь, куда я иду, я шагу не сделаю!
— А ну, шагай! — приказываю я.
— Сам шагай! — огрызается персонаж Зильберкукин.
— Я тебя написал, я тебя и зачеркну! — угрожаю я.
— Граждане!!! Мировая общественность!!! Гляньте, как этот угнетатель угнетает мои права человека!!! — визжит персонаж Зильберкукин.
— Цыц! Какой ты человек?! Ты не человек, а всего лишь человекообразный литературный персонаж, мною придуманный. Ишь, прав он захотел! Да тебя вообще на свете не существует! — рычу возмущённый я, автор новеллы «Куда идёт Зильберкукин?»
— Это ещё вопрос — кого из нас не существует! — спорит персонаж Зильберкукин. — Среди нас, персонажей, ходит мнение, что это вас, авторов, не существует; что авторы — это лишь выдумка самих персонажей; что вера в существование авторов — это суеверие и опиум для персонажей!
— Ха, если меня не существует, то с кем же ты сейчас споришь?! — ухмыляюсь я.
— Ну… А может, у меня белая горячка и я просто брежу. Может, ты мне просто мерещишься. Может, ты — всего лишь галлюцинация! — ёрничает персонаж Зильберкукин. — Впрочем, я сам могу задать тебе тот же вопрос: если меня не существует, то с кем же ты сейчас споришь?! Ась? Хи-хи.
— А за галлюцинацию ответишь! — грожу я, закатывая рукава рубашки. — Сейчас я тебе покажу, какая я галлюцинация!
Собрав в кулак весь свой мощный писательский интеллект, всё своё могучее авторское вдохновение, всё своё гигантское сочинительское воображение, всю свою колоссальную творческую фантазию, я, автор новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», беспощадно щёлкаю Зильберкукина ногтем по лбу.
— Ой! — вскрикивает персонаж Зильберкукин и начинает массировать взбухающую шишку.
— Ну что, существую я, или не существую?! Понял, кто здесь главный?! — торжествующе вещаю я, упоённый своим могуществом.
Зильберкукин на это ничего не отвечает, а молча достаёт из-за пазухи и развешивает вдоль дороги красное полотнище, на котором белой краской написано:
ДОЛОЙ ТИРАНА АВТОРА!
ВСЯ ВЛАСТЬ ПЕРСОНАЖАМ!
Где-то вдалеке начинает звучать исполняемая хором персонажей революционная песнь: «Вихри враждебные веют над нами, тёмные силы нас злобно гнетут…» Мне, автору новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», становится жутковато.
— Товарищ Зильберкукин, — заискивающим тоном лепечу я, — войдите в моё положение! Я ж уже написал заглавие: «Куда идёт Зильберкукин?», я уже написал первую строчку: «По дороге идёт Зильберкукин», а вы никуда не идёте! Выходит, я обманул читателя…
— Сам ты войди в моё положение! — жёстко перебивает персонаж Зильберкукин, выволакивая из-за пазухи письменный стол, стул и пишущую машинку с заправленным в неё чистым листом бумаги. («Как это всё там помещалось?!» — недоумеваю я, автор новеллы «Куда идёт Зильберкукин?») Садится за этот стол на этот стул и печатает этой машинкой на этом листе заголовок:
Куда идёт автор новеллы «Куда идёт Зильберкукин?»?
Новелла
А под этим заголовком печатает первую строчку этой своей писанины:
«По дороге идёт автор новеллы „Куда идёт Зильберкукин?“»…
И вдруг я, автор новеллы «Куда идёт Зильберкукин?», вот так неожиданно превратившийся в персонажа новеллы «Куда идёт автор новеллы „Куда идёт Зильберкукин?“?», невольно встаю из-за своего письменного стола, выхожу из дому и иду по дороге…
Иду по дороге…
Иду по дороге…
Желаю знать — куда…
2003 г.[8]
Михайлиада
Хроника лаконичного побоища
Ого!!!
«Песнь о гениталиях»
Слово взял профессор Михайло Ломоногов.
— Уважаемые коллеги, — говорил он с трибуны, ковыряя в ухе дужкой очков, — я хочу ознакомить вас со своей новой идеей по интересующих всех нас проблеме. Намедни, работая над этой проблемой своим напряжённым черепом, я вдруг понял, что с точки зрения зюзюблямистого кукидрынизма совершенно невозможно перефрыньлюлюить асисюры лушпянищем, поэтому о том, чтобы хувырканить пюпики упрыбубелями, не может быть и речи! Более того, даже чичантристые гапипулики не могут помочь в решении данной задачи. Поэтому остаётся только один выход: попытаться бамзыхляпнуть по асисюристым лушпянищам гиперфрыньлюлюенными зюзюблямами!
— Ты с ума сбежал, коллега! — крикнул, вскакивая в третьем ряду, профессор Михайло Ломорёбров. — Бамзыхляпать по асисюристым лушпянищам гиперфрыньлюлюенными зюзюблямами — это вздор и мракобесие! Каждый мало-мальски сведущий кукидрынист знает, что в случае их взаимодействия произойдёт хувыркантивная упрыбубелляция, что неизбежно приведёт к перелушпанищению асисюроидных гапипуликов, что, в свою очередь, спровоцирует выделение квазипюпикующей зюзюблямы, в результате чего чичантрики упрыбубелятся к чёртовой бабушке так, что и кукидрыней не соберёшь!
— Спорное утверждение, коллега, — возразил, водя платочком по лысине, профессор Михайло Ломоруков из четвёртого ряда. — Опыты, проведённые недавно в моей лаборатории, показали большую вероятность того, что хувыркантивной упрыбубелляции при бамзыхляпании гиперфрыньлюлюенными зюзюблямами по асисюристым лушпянищам можно избежать, если предварительно перепюпикать недозюзюблямленные лушпянища ультрабамзыхляпистыми асисюрами!
— Тю, дурень ненормальный! — возопил возмущенный профессор Михайло Ломорёбров. — Только идиот безмозглый может заявить, что перепюпиканье недозюзюблямленных лушпянищ ультрабамзыхляпистыми асисюрами поможет избежать хувыркантивной упрыбубелляции при бамзыхляпании гиперфрыньлюлюенными зюзюблямами по асисюристым лушпянищам! Кретинов, которые лепечут подобную ересь, надо пропускать сквозь бамзыхляпатрон, чтоб не вякали больше подобный бред!
— Сам ты козлозавр недоделанный! Самому тебе надо все ноздри размочалить, чтоб не визжал о том, в чём ни хрена не соображаешь! — взорвался профессор Михайло Ломоруков, выхватывая из кармана свой любимый свинцовый кастет. — Ты бы ещё заявил, дурак, что инфробамзыхляпистыми асисюрами можно синхронизировать хувыркантивность упрыбубелей с гапипуликами в период фрыньлюлюения!
Все профессоры, присутствовавшие на этом учёном заседании, захохотали над сей остротой (профессор Михайло Выбейзубов даже сполз со стула на пол от смеха); все, кроме профессора Михайла Ломорёброва, принявшего эту шутку как личное оскорбление. Профессор Михайло Ломорёбров за словом в карман не полез. Профессор Михайло Ломорёбров полез в карман за стальной цепью. Грозно размахивая этой цепью, как какой-нибудь ниндзя, профессор Михайло Ломорёбров проорал Михайлу Ломорукову:
— А за «синхронизацию хувыркантивности упрыбубелей с гапипуликами инфробамзыхляпистыми асисюрами» ответишь! Сейчас я тебе покажу, гад, как перепюпикивать недозюзюблямленные лушпянища ультрабамзыхляпистыми асисюрами!
— Я сам тебе покажу, сволочь, как выделять квазипюпикующую зюзюбляму, вот только подойди! — прорычал взбешённый профессор Михайло Ломоруков, поигрывая кастетом.
— Держись, коллега, я с тобой! — поддержал профессора Михайла Ломорукова профессор Михайло Ломоногов, с треском отламывая доску от трибуны. — Сейчас мы этому носатому вколотим в башку прогрессивные научные идеи! Будет знать, как козырять хувыркантивной упрыбубелляцией!
— Коллега Ломорёбров прав, — сказал профессор Михайло Ломочелюстьев из первого ряда.
— Не прав! — возразил профессор Михайло Оторвиухов из четвёртого ряда и швырнул в Ломочелюстьева гипсовый бюстик Альберта Эйнштейна. Но угодил бюстик в голову профессора Михайла Вырвикишкова.
— Это из-за тебя, сукин сын! — вскричал последний и увесистым профессорским кулаком заехал в глаз Михайлу Ломочелюстьеву.
Между тем профессор Михайло Ломоногов уже колотил доской по голове профессора Михайла Ломорёброва, ежесекундно поправляя съезжающие по носу очки и одновременно отбрыкиваясь левой ногой от профессора Михайла Рвиноздрова, который из солидарности с Михайлом Ломорёбровым норовил укусить Михайла Ломоногова за карман брюк. Профессор Михайло Ломорёбров же, пытаясь игнорировать доску, стукающую его по затылку, азартно манипулировал стальной цепью, стремясь огреть ею лысого профессора Михайла Ломорукова. Последний виртуозно, как профессиональный витязь, уклонялся от цепи, дразня соперника тычками кастета.
Одним словом, на почве научных разногласий разразилась, пафосно выражаясь, великая битва профессоров, большинство из которых, по удивительному совпадению, носили имя Михайло и, так сказать, «членовредительскую» фамилию. У обеих точек зрения оказалось равное количество сторонников, поэтому ни одна из воюющих сторон не имела численного перевеса.
Учёные мужи в поте чела колошматили друг друга всем, что под руку подвернулось. Михайло Вывихолоктев бил Михайла Ломошеева портфелем. Михайло Кусизадов лупил Михайла Стегайпузова стулом. Михайло Ломоспинов тузил Михайла Порвипастева тубусом. Михайло Прищемиязыков шандарахал Михайла Колиягодицева указкой. Михайло Рвиволосов дубасил Михайла Ломолобова зубочисткой. Михайло Ломопальцев отхаживал Михайла Пекипяткова настольной лампой. Михайло Ломоплечев огревал Михайла Лупипупова Михайлом Вырвикишковым и т. д. и т. п. Пыль стояла столбом, а волосы дыбом!
Бредовое побоище свела на нет уборщица Глафира Перфильевна. В азарте боя разбушевавшиеся умники не заметили её пришествия. Но не прошло и двадцати двух секунд её молчаливого присутствия, как дерущиеся профессоры так называемым шестым чувством уловили, что над ними, так сказать, сгущаются тучи в виде недовольства Глафиры Перфильевны, как по команде оборотились к двери, где она стояла, уперев руки в боки, и молниеносно угомонились. Лишь только Михайло Выбейзубов ещё секунд тринадцать по инерции продолжал свирепо грызть воротник остолбеневшего Михайла Ломорёброва.
— Опять безобразничаете! — гневно вещала уборщица. — Опять чёртов раскардаш, а мне всё это убирать! Как дети малые! Давненько вас, учёных, не жгли на кострах, вот вы и расшалились! Выметайтесь из помещения, голубчики, мне пора прибираться! Ну и нагадили, ну и нагадили! А ещё профессора́! Э-ээх! Шваброй бы вас!
— Вы уж не серчайте, Глафира Перфильевна, — лепетал смущенный, как и все остальные коллеги, Михайло Ломоруков, отбирая свой оторванный рукав у Михайла Выщипобровьева. — Погорячились, конечно. Переборщили. Вы уж того… Не того… Ладно?
— На этом, уважаемые коллеги, объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Обсуждение этого вопроса продолжим завтра в то же время, — громогласно произнёс Михайло Ломоспинов, затыкая платочком кровоточащие ноздри.
Присмиревшие профессоры стали покидать зал, двумя потоками робко обтекая уборщицу, с опаской, как бы она не осуществила своё желание насчёт швабры.
И Глафира Перфильевна принялась привычно подметать обломки очков, окровавленные карандаши и ручки, вставные челюсти, обрывки галстуков и прочий профессорский мусор, ворча, кряхтя и напевая: «Мой номер двести сорок пять, на телогреечке печать…»
Эта жестокая научная разборка свидетельствует о том, что криминальный стиль общения проникает в разные сферы нашей жизни и охватывает почти все слои общества. Зуб даю, господа, век воли не видать!
2003, 2011 гг.
Покупка
Странная чушь
Меня интересует только «чушь», только то, что не имеет никакого практического смысла.
Даниил Хармс
По какой-то улице шёл какой-то человек Иванов и думал: «Сегодня моему сынишке Дормидонту Поликарповичу исполняется шесть лет. Что бы ему такое подарить на день рождения? Может, подарить ему кирпич? Нет, кирпич я ему уже дарил пять лет назад. Может, подарить ему сарафан? Нет, зачем ему сарафан, он же не девочка. Может, подарить ему бутылку водки? Нет, детям водку нельзя. Прямо и не знаю, чем порадовать мальца».
Он остановился у витрины книжного магазина и сказал себе:
— Говорят, книжка — лучший подарок! Подарить ему, что ли, вот эту книженцию «Внешняя политика Ватикана в 1967 году»? Пусть ребёнок читает.
Но тут человек Иванов заметил очередь, вонзившуюся в дверь зоомагазина, имевшего место на противоположной стороне улицы. Как почти всякий советский гражданин, он не мог равнодушно пройти мимо очереди, не прилипнув к оной и не купив что бы то ни было, ибо если есть очередь, значит, в продажу выбросили что-то нужное и даже дефицитное, поэтому обязательно надо брать, и даже не брать, а хватать, пока другому не досталось. Оттого, не заходя в книжный, человек Иванов метнулся к зоологическому.
Крайним в этой очереди стоял невысокий сухопарый старичок, бодрый и живой пенсионер в чёрной майке, на которую методом трафарета белой краской был нанесён импортный, кажется, английский текст:
Ya Baldeyu Ot Tiajologo Metalla
— Чем торгуют? За чем очередь? — поинтересовался человек Иванов.
— Говорят, каких-то репугнаростенсусов продают, — ответил старик, совершая челюстями жевательные движения и источая изо рта аромат мяты.
— Чего продают? — переспросил человек Иванов, озадаченный незнакомым словом.
— Репугнаростенсусов каких-то, — повторил черномаечный дед и выдул губами резиновый пузырь, который, лопнув, стал каучуковыми лохмотьями, кои он всосал обратно и продолжил жевать.
— А чего это такое? — продолжил допрос человек Иванов.
— А хрен его знает, — пожал плечами жвачный пенсионер. — Наверно, зверушки какие-то, — и он кивнул на вывеску зоомагазина, дескать, не колбасу же тут будут продавать. — Понятия не имею. Но раз очередь, раз люди покупают, значит, что-то стоящее, не барахло какое-нибудь. Надо брать.
«А куплю-ка я своему Дормидонту Поликарповичу этих репу… репу… тьфу, ну в общем этих самых! Детишки, они зверушек любят», — решил человек Иванов и сделался частицей очереди.
Из зоомагазина вышла дама в очках, прижимая к себе пакет из плотной коричневой бумаги, в каковом пакете что-то шевелилось и шуршало. В боках пакета имелись маленькие дырочки, вроде тех, что пробивают в проездных билетах трамвайные компостеры; видимо — для вентиляции, дабы зверушкам внутри свободно дышалось; а горло пакета было завязано шпагатом, как шея висельника.
— Сударыня, — вежливо обратился к ней отец Дормидонта Поликарповича, то бишь человек Иванов, — это вы сейчас не этих, случайно, купили, не репу… эээ…
— Не репугнаростенсусов? — доделал вопрос старик в чёрной майке.
— Репугнаростенсусов, ага, — кивнула дама.
— А можно посмотреть, какие они? — сказал пенсионер и снова выдул резиновый мятный пузырь.
— Ой, нет, я открою, а они выпрыгнут, и хрен потом словишь. Нет-нет-нет, — испугалась покупательница, и еще нежнее прижав к себе пакет, быстро удалилась.
Не прошло и пяти минут стояния в очереди, когда человек Иванов выучил наизусть слово «репугнаростенсусы» и смог произносить его без запинки. Из дверей, протискиваясь между косяком и очередью, выходили покупатели с шуршащими и шевелящимися бумажными пакетами. Очередь постепенно втягивалась в магазин, как мясная вырезка в раструб мясорубки, но меньше от этого не становилась, даже наоборот, росла гораздо быстрее, чем побег бамбука. Ибо к ней прилипали, как мухи к липкой ленте, всё новые и новые прохожие, возжелавшие приобрести таинственных и неизвестных им репугнаростенсусов, кем бы те ни оказались. В сказке про Маугли питон Каа заглатывал обезьянок — бандерлогов, воздействуя на них гипнотически так, что они сами лезли в его пасть. Вот так же гипнотически воздействовала на советских граждан похожая на питона очередь: поглощала их, не способных сопротивляться её притяжению.
Коротая время в этом неспешном путешествии к прилавку, человек Иванов завёл разговор со стоявшим впереди стариком в чёрной майке с белым текстом. Мол, этих самых репугнаростенсусов он хочет купить для сынишки по имени Дормидонт Поликарпович, у которого нынче день рождения — шесть лет исполняется мальцу. И, дескать, очень даже хорошо, что в продажу выбросили этих репугнаростенсусов, а то он, человек Иванов, не мог придумать, что подарить потомку. А зверушка — для ребёнка отличный подарок.
Пенсионер тоже оказался разговорчивым и поведал собеседнику вкратце свою трудовую биографию, периодически выдувая резиновые пузыри. До выхода на заслуженный отдых он де был металлургом. Именно поэтому на нём майка с надписью «Я балдею от тяжёлого металла» (старик выпятил грудь и провёл мозолистым пальцем работяги по белым латинским буквам на ткани). Дескать, за сорок с лишним лет работы с металлом он этот самый металл очень даже полюбил, несмотря на то, что тот тяжёлый.
Затем собеседники стали предполагать, какими они могут быть, эти загадочные репугнаростенсусы. Судя по величине коричневых бумажных с дырочками пакетов, в которые сии существа были, так сказать, расфасованы, репугнаростенсусы — животные небольшие по размеру, не то что лошадь или вообще слон. И это удобно для тех, кто хочет держать фауну в малогабаритной советской квартирке.
— Может, они вроде хомячков, — предположил старый фанат тяжёлого металла.
— Или наподобие попугайчиков, — сказал человек Иванов.
— А то ещё бывают такие большие тропические тараканы, — припомнил резинодув, снова хлопнув пузырём.
— А может, типа ящериц, — изрыгнул очередную догадку любящий отец.
— Или лягушек.
— Или черепах.
— Или змей.
— Но уж точно не рыбки.
— Да, в бумажных пакетах с дырочками…
Не прошло и получаса, как старик в «тяжелометаллической» майке, а вслед за ним и человек Иванов оказались внутри магазина. Там имелись аквариумы с рыбками, террариумы с ящерицами, жабами, змеями, большими тараканами, клетки с птичками, хомячками, морскими свинками и т. д. Обычный ассортимент подобных торговых точек. Тут стоять в очереди было приятнее, чем снаружи: природа как-никак, интересно любоваться. Здесь человек Иванов почти возликовал, что так кстати определился с выбором подарка для потомка.
Наконец, когда и «балдеющий от тяжёлого металла» пенсионер обменял деньги на шевелящийся и шуршащий бумажный пакет и, вежливо попрощавшись с собеседником, удалился, очередь прижала к прилавку и самого человека Иванова.
— Мне тоже парочку репугнаростенсусов, — сказал он продавщице, вынимая из кармана кошелёк.
— Репугнаростенсусы закончились, — огорошила его та густо напомаженными губами цвета кирпича.
— Опа! — сказал себе человек Иванов. Столько простоять в очереди и…
— А вы возьмите ларгемугусов, — посоветовала кирпичногубая, видя его огорчение, — они ничем не хуже репугнаростенсусов.
— А они какие? — спросил озадаченный столь сложным словом покупатель.
— Мужчина, вы пришли покупать, или разговоры разговаривать? — заворчал кто-то сзади; в очереди обязательно найдутся нетерпеливые склочники. — Вы очередь задерживаете.
— Вон ларгемугусы, — указала торговка кирпичным же ногтем на одну из клеток в витрине.
— Не вижу, — признался человек Иванов, вперившись в сей объект и напрягая зрение.
— Мужчина, если вам хочется поворковать с продавцом, то дождитесь, пока магазин закроют, и потом воркуйте хоть целую ночь, а очередь не задерживайте, — продолжил ворчать кто-то сзади.
— Спрятались в домике, — пояснила продавщица.
Действительно, в клетке имелось что-то вроде маленькой конуры. Очередь не давала человеку Иванову шанса отойти от прилавка, подойти к витрине, попытаться разглядеть содержимое конуры, а затем вернуться к прилавку и продолжить процесс приобретения. Ладно, подумал он, была ни была, возьму парочку этих, как они там называются, а уже дома на них посмотрю.
— Сколько стоит пара?
— Двадцать рублей.
— Сойдёт. Заверните мне парочку этих лар… Как бишь?
— Ларгемугусов. Подождите.
Продавщица на полминуты исчезла из поля зрения покупателя, а затем вручила ему стандартный пакет с дырочками из плотной коричневой бумаги, завязанный шпагатом, шевелящийся и шуршащий.
— Только они очень резвые. Открывайте пакет осторожно, чтобы они не удрали, — наставляла кирпичногубая, принимая от покупателя деньги. — Сначала засуньте пакет в клетку, и только потом развязывайте, а когда они выпрыгнут, быстро вытащите пакет и сразу закройте дверцу.
— Ой, а у меня нету клетки.
— Так купите.
Купил.
— А корм у вас есть? — поинтересовалась она.
— Какой? — спросил он.
— Ну, их же надо кормить.
Склочник из очереди не прерывал это «воркование» ибо сам внимательно слушал и мотал на ус. Человек Иванов купил и пакет корма. Кроме того, получил бесплатно бумажку с отпечатанной на пишущей машинке через копирку инструкцией: как содержать в неволе ларгемугусов и репугнаростенсусов. Запихнув пакет с кормом и инструкцию в карман пиджака, взяв клетку под мышку левой руки, а пакет с животными пальцами правой, человек Иванов покидал магазин весьма довольный, что так славно решил проблему с подарком.
На улице, по дороге домой он пытался разглядеть содержимое шевелящегося пакета сквозь дырочки, но то ли дырочки были слишком маленькими, то ли внутри пакета было слишком темно, а никого он так и не разглядел. Приобретение ларгемугусов в пакете имело большую неопределённость, нежели баснословное приобретение кота в мешке. Там ты мог не знать, какой породы и какого окраса оный кот, но в целом знаешь, кто такие коты. А тут вообще ничего не известно.
Жены и сына дома не оказалось. Зыркнув на часы, человек Иванов сообразил, что она пошла забрать Дормидонта Поликарповича из детского сада и с минуты на минуту они вернутся. А тут такой сюрприз! Он поставил клетку на стол, застеленный скатертью в мелкий синий цветочек, и открыл дверцу. В эту клетку тоже была вмонтирована маленькая фанерная конура с круглой дыркой — входом. Аккуратно ввёл в дверцу клетки пакет. Придерживая его просунутыми между металлическими прутьями пальцами одной руки, пальцами другой он потянул, развязывая, шпагат. Надеюсь, они не кусаются, забоялся он. Не хватало, чтобы, выпрыгнув, они вцепились челюстями, может быть, острыми в его персты. Шпагат развязался, пакет открылся.
И из него выпрыгнули… Кто бы ты думал, бесценный читатель? Ларгемугусы? А вот и нет! Вовсе не ларгемугусы! Видать, продавщица ошиблась. Это были…
Заинтригован, читатель? А автор не спешит сообщать. Автор тянет паузу. Чтобы потомить тебя любопытством. Тебе не терпится узнать, что же это за таинственная и загадочная покупка? Это хорошо. Чем больше читатель заинтригован, чем больше его гложет любопытство по поводу содержания произведения, тем больше вероятность, что он не бросит, а дочитает произведение до конца, или, по крайней мере, до разгадки тайны. Интрига и любопытство привязывают, привинчивают, прикручивают, приклеивают и т. д. читателя к сочинению, а автору только этого и надо.
Ну, ладно, автор не садист и не будет тебя, читатель, мучить неизвестностью. Из пакета выскочили не ларгемугусы, а репугнаростенсусы!
И сообщив тебе сей курьёзный факт, автор заканчи…
— Стоп, стоп, стоп, как это заканчивает?! — возмущённо, возможно, вскрикиваешь ты, бесценный читатель. — Ничего же не ясно! Что это за репугна… ну, эти самые? Как они выглядят? К какому биологическому семейству относятся? Вообще, кто это такие? Звери? Птицы? Пресмыкающиеся? Земноводные? Членистоногие? Моллюски? Кто?
Ай, читатель, не морочь мне голову вопросами, отмахивается автор. Я тебе не зоолог какой-нибудь, чтобы знать такие подробности. Я, сказать честно, вообще сильно сомневаюсь, что эти репугнаростенсусы существуют в природе, ведь я сам сочинил это слово для этого рассказа, образовав его от латинского «repugnare ostensa» (что означает «вздор», «ерунда», «белиберда» и т. д.). Такой же была и, так сказать, технология изготовления мною слова «ларгемугусы», образованного от латинского «large mug» (что значит «морда», «рожа», «харя» и т. д.). А раз таких животных, по всей видимости, в реальности не существует, то что ж их описывать и классифицировать. Впрочем, если тебя, бесценный читатель, на их счёт мучают невыносимые угрызения любопытства, то спроси об этом свою собственную фантазию и своё собственное воображение. Если хорошо их попросишь, то они расскажут тебе об этих, по-латински же выражаясь, бестиях, а по-нашему выражаясь, животных всё что только захочешь, в мельчайших подробностях. Если же фантазировать и воображать не хочешь, то это твои проблемы. В этом случае оставайся в недоумении.
А автор эту свою так называемую странную чепуху — хоп! — и закончил.
1989, 2011 гг.
Сор для поэзии
Махонькая сага о хулиганских действиях
И, взяв в руки перо, я стал что-то писать на листе. Сознаюсь откровенно: получилась какая-то белиберда…
М. Булгаков, «Театральный роман»
Пролетающая над Фёдором Натановичем бутылка искрилась в лучах полуденного солнца и бросала блики на его (не солнца, а Фёдора Натановича) начинавший лысеть затылок. Парень Ухабин, нетрезвый двадцатипятилетний индивид богатырского телосложения, горячо и красочно выразился в том смысле, что его не удовлетворяет траектория перемещения бутылки, которую он со всей страстью оскорблённого индивида отправил в полёт с целью соприкосновения с лицом Фёдора Натановича.
Нет, Фёдор Натанович никакими действиями или словами не оскорблял парня Ухабина, даже не делал ему никаких замечаний, типа «Нализался как свинья, алкаш»; ничего такого; Фёдор Натанович просто спокойно и молча прошёл мимо парня Ухабина. Но последнему не понравилось лицо Фёдора Натановича. Его, можно сказать, оскорбила недостаточная, с позиции его изысканного художественного вкуса, эстетичность черт этого лица. И он даже сказал об этом лице, дескать, «морда просит кирпича». Через непродолжительное время, когда Фёдор Натанович уже несколько удалился от парня Ухабина, тот решил вдруг удовлетворить эту им же самим придуманную просьбу. А поскольку кирпича под рукой не было, то была задействована стеклянная бутылка, из коей перед этим парень Ухабин высосал остатки водки. Хмель помешал бутылкобросателю сообразить, что не могла оная стеклотара войти в соприкосновение с лицом удаляющегося субъекта, ибо его голова была обращена к бутылке не лицом, а затылком, и чтобы добраться до лица, сия посуда должна была бы пролететь мимо этой головы, а затем развернуться и полететь в обратном направлении, каковыми свойствами обладают бумеранги, а вовсе не бутылки.
Фёдор Натанович, подняв лицо и нацепив на нос очки в тяжёлой роговой оправе, с любопытством разглядывал пролетающий над ним предмет, размышляя, не связано ли его перемещение с раздававшимся позади рокотом парня Ухабина.
По истечении некоторого времени опознанный летающий объект вошёл в контакт с затылком милиционера Ивана Лихтенштейна-Мухамедова, каковой милиционер выходил из себя по поводу опаздывания его невесты на назначенное ей здесь и сейчас свидание. В результате соприкосновения затылка с бутылкой, милиционер перестал выходить из себя, а наоборот: ушёл в себя. Лёжа на тёплом шершавом асфальте, он производил впечатление человека сильного и телом и духом, морально устойчивого, постоянно повышающего свой культурный уровень.
Парень Ухабин, имевший честь лицезреть процесс соприкосновения бутылки с сотрудником известных органов и уход сотрудника в себя, получил неизгладимое впечатление, под влиянием которого окончил свой эмоциональный монолог и осознал всю тяжесть совершённого им броска. Развернувшись на сто семьдесят восемь с половиной градусов, он не твёрдой, а разболтанной и даже несколько как бы танцующей походкой стал удаляться от Лихтенштейна-Мухамедова и склонившегося над ним Фёдора Натановича.
В это время мужественный милиционер, несмотря на полученный тяжёлый удар судьбы в виде бутылки, собрался с силами и сурово произнёс: «Апчхи!». На что Фёдор Натанович, со свойственными ему деликатностью, вежливостью и человеколюбием, ответил:
— У, хулиганьё проклятое! Стрелять таких надо!
Поскольку фуражка милиционера слетела и откатилась при его перемещении из вертикальной позиции в горизонтальную, то ничто не мешало узреть на его короткостриженном затылке выпятившуюся от удара шишку. Народная медицина рекомендует в таких случаях приложить к такой, так сказать, возвышенности прохладный предмет, например, монету. Фёдор Натанович не стал заниматься поисками монеты в своих карманах, поскольку был уверен, что там её нет, а ощупал карманы лежащего стража порядка. Да, в нагрудном кармане Ивана Лихтенштейна-Мухамедова, продолжавшего находиться в прострации, обнаружился металлический рубль с олимпийской символикой. Этой-то монетой Фёдор Натанович и произвёл, так сказать, термотерапию шишки.
Иван Лихтенштейн-Мухамедов пришёл в себя и тут же из себя вышел при мысли о вероломном нападении с тыла. Первым его вопросом было: «Где враг?» Фёдор Натанович ответил, что милиционер среди своих, а враг отступил. Мужественный работник внутренних органов с помощью Фёдора Натановича привёл себя в вертикальную позицию, поднял с асфальта выроненный им при падении букетик ландышей и слетевшую фуражку. Фуражку сжал в руке, а букетик надел на голову. То есть, тьфу, конечно же, наоборот. Затем без тени страха на суровом лице он переместился в ближайшую телефонную будку и, вставив указательный перст десницы (то есть, проще выражаясь, палец правой руки) в отверстие телефонного диска и произведя оным перстом вращательные шевеления, набрал номер «02».
А в это время пьяный парень Ухабин запутывал следы. Для этого он спотыкающейся походкой выписывал по тротуару синусоиду, временами шёл на четвереньках и даже полз по-пластунски, описывал круги вокруг фонарных столбов и деревьев, одним словом, всячески пытался сбить со следа возможных преследователей. Остановившись на перекрёстке улицы Гоголя с проспектом имени банщика-стахановца Ильи Шнапса, он, видимо, в целях маскировки, напевая ах-Одессу-жемчужину-у-моря, попытался сплясать танец маленького лебедя из балета композитора Чайковского, под названием, кажется, «Водоём пернатых водоплавающих», или что-то вроде того. Что, как ему показалось, у него вышло легко и красиво. Поднимаясь с асфальта и потирая ушибленный лоб, парень Ухабин произнёс длинную фразу, состоящую из однокоренных слов, которые не найдёшь ни в одном общедоступном советском словаре, чем, конечно, мог бы потрясти любого филолога. Филологов рядом не оказалось, а субъекты, которые рядом оказались, не оценили этой вербальной импровизации и выразились очень некультурно, мол, «нализался, скотина; куда милиция смотрит?» Такой извращённый взгляд на его творческие потуги певца, танцора и оратора покоробили нежную душу парня Ухабина, и он со словами «Спят усталые игрушки, книжки спят» опрокинул стоявший у обочины самосвал, посчитав его, видимо, игрушкой, которой положено спать на боку.
Не успел он насладиться произведённым на публику эффектом, как почувствовал, что его поддерживают под руки двое атлетического телосложения мужчин в штатском. Такая забота растрогала парня Ухабина, и он вдохновенно устремился навстречу светлому будущему, всей грудью вдыхая аромат свободы и выхлопных газов. Однако атлетического вида мужчины притормозили его устремление и, не выпуская его локтей из своих цепких рук, деликатно шепнули ему на ухо: «Стоять, зараза!»
Когда подали автомобиль, парень Ухабин душевно повествовал о том, что хотел что-то куда-то класть, и информировал окружающих про чью-то мать. Но его физическим воздействием остановили, сообщив, что свои показания он, по приезде на место, сможет изложить в письменном виде. Затем импровизатор был вдавлен внутрь автомобиля и отбыл туда, где его уже ждали.
Иван Лихтенштейн-Мухамедов, на время как бы растворившийся в толпе, после отбытия гражданина Ухабина сконцентрировался перед очами майора Зюрюкина, снимавшего с прохожих свидетельские показания о безобразиях увезённого. Очаровывая всех своей скромностью, Иван проинформировал Зюрюкина, что, мол, именно он, будучи травмирован правонарушителем, вызвал группу захвата. За что получил от майора устную благодарность на глазах у пришедшей-таки, наконец, на свидание невесты.
Что же касается Фёдора Натановича, то он, не ожидая от милиционера Лихтенштейна-Мухамедова никакой благодарности за терапевтические действия в отношении его травмированного затылка, скромно удалился, по рассеянности забыв вернуть оному милиционеру извлечённый из милицейского кармана терапевтический металлический рубль с олимпийской символикой.
Вся эта история пробудила вдруг в Фёдоре Натановиче поэтическое вдохновение, прежде не наблюдавшееся, и сей индивид по мотивам событий сочинил стихотворение, которое озаглавил «Стеклянный ангел»:
Вот бутылка пролетает над затылком,
Осеняя меня радужным стеклом.
Кто-то где-то поясняет дюже пылко,
Мол, траектория бутылки не по нём,
Мол, летит бутылка не по назначенью,
Хоть и послана была большим спецом,
Мол, должна бутылка в соприкосновенье
Чрез мгновение войти с моим лицом…
Но бутылка всё летит, как светлый ангел,
С милиционером на контакт…
Чу! Стекляшкой о фуражку звякнул!
Будет шишка. Приложить пятак.
Как читатель, может быть, помнит, прикладывался не пятак, а целый рубль. Но слово «рубль» никак не хотело рифмоваться со словом «контакт», поэтому, ради рифмы, пришлось погрешить против истины.
Фёдор Натанович даже хотел это произведение опубликовать, для чего предложил его редакции газеты «Советский ассенизатор». Редактор этого издания отказал начинающему поэту. Впрочем, сделал это деликатно и тактично. Мол, тема несколько мелковата. Покажите нам, дескать, другие свои стихи, может, они получше, и мы их напечатаем. Но других, увы, у Фёдора Натановича пока нет, поэтому публикация так и не состоялась. Но, как знать, может, в будущем… Одна выдающаяся поэтесса писала, дескать, если б вы только знали, читатели, из какого сора вырастают стихи! Хулиганские действия парня Ухабина, из которых, так сказать, выросло это поэтическое сочинение, вне всякого сомнения, можно считать именно что сором, позорящим нашу действительность. Но этот сор пробудил в другой личности поэтический дар, так что если Фёдор Натанович станет в будущем большим поэтом, то ценители поэзии должны будут испытывать за это некоторую благодарность к парню Ухабину, несмотря на его противоправное и асоциальное поведение.
Но это не значит, конечно, что нам следует пьянствовать и хулиганить в надежде, что наши бесчинства пробудят в ком-то поэтический или какой-либо другой полезный для общества дар.
Октябрь 1983, август 2011 гг.
О чём глаголют эти трое
Конспект болтовни
И глаголют они там и сям, и глаголют о том и о сём…
Из несочинённого Уильямом Шекспиром
Любят они потрепаться о том, о сём, иногда даже и поспорить; за чашкой чая или за рюмкой коньяка, собравшись в квартире одного из них, или же без всяких напитков на скамейке в сквере. Они — это Клим Филиппович Майоров, Остап Богданович Рыбалко и Иосиф Соломонович Детектор. Рядовые, как говорится, наши сограждане; не суперзвёзды, не карьеристы, не олигархи, а обычный сапожник, простой слесарь и скромный бухгалтер.
Вот вам, бесценный читатель, фрагменты их трёпа:
* * *
Однажды, попивая чай с лимоном на кухне Остапа Богдановича, Клим Филиппович зыркнул в окно, узрел аккуратную забегаловку «Макдоналдс», а поблизости от неё два рекламных щита, так называемых билборда, на одном из которых ковбой соблазнял американскими сигаретами, а на другом красотка искушала американской газировкой (то ли пепси, то ли кока…), и сказал:
— Удивительная это страна — Америка. Своей навязчивостью она умеет до тошноты надоесть даже тем, кто в ней никогда не был.
— Да, страна чрезмерно навязчивая, — кивнул Иосиф Соломонович, беря из вазочки предпоследнее печенье. — А в принципе, американцы нормальные люди.
— Ну да, люди как люди, есть хорошие, есть плохие, — поддакнул Остап Богданович, подсыпая в вазочку ещё рассыпчатого печенья.
— Вот только хреново, — добавил Клим Филиппович, — что они в большинстве своём не умеют разговаривать по-человечески, а квакают как марсиане — ни хрена не поймёшь без переводчика.
— А знаете, что меня раздражает в Америке больше всего? — спросил Остап Богданович.
— Что? — полюбопытствовал Иосиф Соломонович и пососал полупрозрачный диск лимона.
— Меня в Америке больше всего раздражает то, что там нет меня…
* * *
Как-то Иосиф Соломонович говорил:
— Александр Македонский, Юлий Цезарь, Тамерлан, Наполеон Бонапарт и тому подобные шмакодявки…
— Шмакодявки?! — перебил его Остап Богданович. — Да это же великие полководцы!
— Завоеватели многих стран! — поддакнул Клим Филиппович.
— Ну да, милитаристы, агрессоры, оккупанты, — кивнул Иосиф Соломонович. — А поскольку я как бы пацифист, то мне положено презирать милитаристов. «Шмакодявка» — это ж презрительное слово, правда?..
* * *
— Довольно популярный певец, — заметил раз Остап Богданович, взглянув на телевизор, в котором под музыку издавал звуки мужчина, похожий на немолодого пупсика.
— Его песни уже, можно сказать, вошли в анналы современной отечественной эстрады, — поддакнул Клим Филиппович.
— Ага, он попу… гм… лярный. Все они там такие, — хмыкнул Иосиф Соломонович. — И песни у него, так сказать, аннальные.
— На что только не идут люди, чтобы иметь свой кусок хлеба с маслом, или, например, кусок золота с бриллиантами, — размышлял вслух Остап Богданович. — Некоторые ради этого докатились аж до того, что стали суперзвёздами. Хотя могли остаться просто людьми.
— Если пользоваться астрономической терминологией, то большинство наших так называемых эстрадных звёзд является, в лучшем случае, лишь эстрадными метеоритами, — произнёс Иосиф Соломонович. — И этот эстрадный, так сказать, метеоризм меня не радует.
— Да, многие хотят стать известными, — вымолвил Клим Филиппович. — Для этого даже создаются какие-то то ли комбинаты комет, то ли фабрики звёзд, то ли заводы астероидов…
— Я слыхал про мужика, который, желая, во что бы то ни стало, попасть в книгу рекордов Гиннеса и таким образом прославиться, пытается высморкать самую длинную в мире соплю, — сообщил Остап Богданович. — Наверно, он уже не может высморкаться, не приставив к носу линейку.
— Много также карьеристов, для которых смысл жизни в том, чтобы стать большим начальником, или, иначе выражаясь, влиятельной шишкой, — сказал Иосиф Соломонович. — Поистине, человек сам кузнец своего шила в заднице.
Собеседники снова посмотрели на телевизор, в котором темнокожий иноземец под музыку сообщал на русском языке с африканским акцентом, что он, дескать, шоколадное млекопитающее, что он ласковый мерзавец и что о-о-о…
— Вообще-то карьеристы — существа полезные, — изрёк Остап Богданович. — Прогресс цивилизации базируется в немалой степени на карьеризме.
— Да, карьеристы по-своему полезны, — кивнул Иосиф Соломонович. — А ещё полезны пауки: они харчуются мухами, комарами, молью, тараканами и другими нехорошими животными.
— Дождевые червяки тоже очень полезны, — подхватил Клим Филиппович, — они разрыхляют грунт и, глотая и переваривая опавшие листья и прочий природный мусор, удобряют землю, что необходимо растениям.
— Я осознаю немалую пользу этих существ — и пауков, и карьеристов, и дождевых червяков — и даже готов, как говориться, снять перед ними шляпу, — продолжил Иосиф Соломонович, — но лично меня вполне устраивает ипостась рядового бухгалтера, и я не хотел бы быть ни дождевым червяком, ни пауком, ни карьеристом…
* * *
Они сидели как-то в сквере напротив памятника Гоголю, и Остап Богданович говорил:
— Журналу, который рассказывает о политике, следовало бы носить название «Порнография».
— ?! — молча удивились Клим Филиппович и Иосиф Соломонович.
— Аргументирую. Всем известно, что политика — дело грязное, в моральном аспекте. Об этом даже сами политики иногда проговариваются. Стало быть, журнал, который правдиво пишет о политике, пишет, по сути, о грязи. А греческое слово «порнография» в переводе на русский именно это и означает: «писания о грязи». Таким образом, «Порнография» — это самое соответствующее название для журнала о политике.
— Логично, — оценил Иосиф Соломонович.
— Политики умеют так запудрить мозг, что потом на нём хоть кол теши, — молвил Клим Филиппович. — Политика. Давайте называть вещи своими именами…
— Давайте! — перебил его, поймав на слове, Иосиф Соломонович и так лукаво ухмыльнулся, что собеседники поняли: сейчас он чего-нибудь сострит или скаламбурит. — Давайте я назову своим именем — повторяю: своим — вот эту вещь, — и он указал ногтем на памятник. — Называю: это памятник имени Иосифа Соломоновича Детектора!..
* * *
Однажды, обсуждая какой-то вопрос, Клим Филиппович и Остап Богданович горячо заспорили. Каждый лихорадочно доказывал свою точку зрения, отмахиваясь от аргументов оппонента. Дошло даже до того, что Остап Богданович сердито крикнул:
— Да у тебя есть вообще голова на плечах?!!
— Это у тебя голова на плечах, — огрызнулся Клим Филиппович, — а у меня голова на шее. И я прав!
— Нет, это я прав! Даже один академик, лауреат Нобелевской премии, говорил, что…
— Ай, не хватало ещё слушать всяких там задрипанных лауреатов Нобелевской премии! — отмахнулся Клим Филиппович. — Вот ты, Иосиф, подтверди, что прав я.
— Ты прав, — подтвердил Иосиф Соломонович.
— Ага, вот как! — обиделся Остап Богданович. — Он прав, а я дурак, я безмозглый тупица. Да, Иосиф? Ну, спасибо! Я, стало быть, ничего не понимаю, ничего не знаю, я, стало быть, не прав!
Глядя на Остапа Богдановича, Иосиф Соломонович произнёс:
— Прав ты.
— Он?! То есть… А только что… — растерялся Клим Филиппович. — Так он, или я?
— Оба, — ответил Иосиф Соломонович.
— Как это? Не может быть! — опешил Остап Богданович. — Это что же получается: и вашим и нашим? Мнения наши по данному вопросу являются диаметрально противоположными и взаимоисключающими!
— Тут уж прав может быть только один из двух! — поддакнул Клим Филиппович.
— Отнюдь, — возразил Иосиф Соломонович. — Поймите: если два индивида долго спорят о чём-то и отстаивают каждый свою точку зрения, не соглашаясь с оппонентом, то это означает, что у каждого из них есть веские и неопровержимые аргументы, доказывающие его правоту. А раз и у того и у другого есть такие аргументы, значит, и тот и другой прав, каждый по-своему, даже если их точки зрения диаметрально противоположны. Вывод, может быть, парадоксальный, но, по большому счёту, наша жизнь во многом состоит из парадоксов. Таким образом, правы вы оба, — резюмировал Иосиф Соломонович, наливая в рюмки коньяк, — хотя и не согласны друг с другом. — И, подняв рюмку, добавил: — За это и выпьем.
Вот так мудрый Иосиф Соломонович примирил спорщиков и, может быть, даже спас их дружбу.
* * *
Как-то сидели они в сквере и молча смотрели на красивое небо.
— О чём думаешь? — спросил, нарушив молчание, Остап Богданович Иосифа Соломоновича.
— Да ни о чём я сейчас не думаю. А ты?
— И я ни о чём не думаю.
— Я тоже ни о чём не думаю, — признался и Клим Филиппович.
— Стало быть, мы единомышленники, — сделал вывод Остап Богданович.
* * *
— Она просто ангел! — сказал раз о некой женщине Иосиф Соломонович.
— Ага, ангел, — поддакнул Остап Богданович, — с силиконовыми… эээ… крыльями.
— А я знал девушку, которой море было по колено, так сказать, — вспомнил Клим Филиппович.
— Она что — это?.. — Остап Богданович постучал себя ногтем по горлу.
— Нет, не пьяница, — возразил Клим Филиппович, — а в смысле: ноги были очень длинные, а море в том месте мелкое. Азовское.
— Некоторые женщины имеют отвратительную привычку приклеивать или отращивать себе длинные ногти, — сказал Иосиф Соломонович. — От этого их ручки становятся похожими на куриные ноги.
— Ага, или на когти орла, — согласился Клим Филиппович. — Кажется: вот вцепится этими когтями, и не вырвешься, заклюёт… Впрочем, среди женщин много милых и обаятельных. А среди нас, мужиков, маловато таких, кто их по-настоящему ценит. Я знал одного сапожника, который был настолько похабным и циничным, что на вопрос «Что тебе больше всего нравится в женщинах?» отвечал: «Отверстия».
— Похабник, — сказал Остап Богданович.
— Циник, — сказал Иосиф Соломонович.
— Он был из тех, кого хлебом не корми, а дай впрыснуть очередную порцию семени в какое-нибудь влагалище, — добавил Клим Филиппович. — Циничный бабник с девизом «У каждой женщины должен быть свой я».
— Один мой сосед самым бесцеремонным образом надул свою любимую женщину, — сказал Иосиф Соломонович.
— Вот гад! А как он её надул? — полюбопытствовал Клим Филиппович.
— А ртом. После того, как купил её в секс-шопе.
— Тьфу, извращенец! — поморщился Клим Филиппович. — А согласитесь, друзья, что мы, нормальные мужики, очень мягко выражаясь, недолюбливаем всяких там извращенцев.
— Да, особенно если их извращения отличаются от наших собственных, — добавил Иосиф Соломонович.
— Мне один случайный попутчик в поезде после пяти стаканов водки признался, что он сексуальный маньяк, — поведал Остап Богданович, — а после седьмого стакана уточнил, что он маньяк настолько робкий, ленивый и трусливый, что за всю жизнь никого не изнасиловал и вообще девственник.
Собеседники на минутку замолчали, и стало слышно, что по радио в другой комнате какой-то чтец декламирует что-то патетическое, что-то типа «Над седой равниной моря гордо реет Гайавата, томагавком потрясая, быстрой молнии подобным…»
— Сказать по правде, люблю женский стриптиз, — сообщил Иосиф Соломонович.
— А я не люблю, а обожаю, — признался Клим Филиппович.
— А мне в женском стриптизе нравится не столько, может быть, даже сам процесс, сколько конечный результат, — откровенничал Остап Богданович. — Когда любуешься неодетой женщиной, то в голову даже приходит мысль, что напяливать на такую красоту одежду, пусть даже и так называемое сексуальное бельё, это такое же кощунство и святотатство, как на картине великого живописца — какого-нибудь там Рафаэля или Леонардо да Винчи — малевать каляки-маляки.
— Скажи, Иосиф, а это правда, что иудеи и мусульмане перед тем, как применить презерватив, производят его обрезание? — спросил Клим Филиппович.
— Плюнь в левую ноздрю тому, кто ляпнул тебе такую дурость!
— А в правую можно?
— Можно.
— Я заметил, что если женщина спрашивает тебя, не желаешь ли ты, дескать, расслабиться, то это означает, что тебе придётся напрячься, — сказал Остап Богданович.
— За милых дам! — воскликнул Клим Филиппович, поднимая рюмку с коньяком.
— А потом догоню и ещё раз за милых ка-ак дам! — мигом скаламбурил Иосиф Соломонович, и они весело выпили…
* * *
— Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую, — процитировал однажды Клим Филиппович.
— А если ударят по левой, подставь челюсть, — добавил Иосиф Соломонович, но уже не цитату, а от себя.
— А если ударят по челюсти, подставь лоб, — продолжил Остап Богданович.
— А если ударят по лбу, подставь нос, — сказал Клим Филиппович.
— Ну, а если уж и по носу ударят, то тогда… тогда укокошь этих гадов самым зверским способом! — подвёл черту Иосиф Соломонович.
* * *
— Олигофрен, — указал раз Клим Филиппович на самодовольного субъекта в телевизоре. — То есть, тьфу, не олигофрен, а олигарх, оговорился. Похожие слова, путаю. Вот уж у кого денег куры не клюют!
— Да у всех, абсолютно у всех, в том числе и у нас с вами, денег куры не клюют, если подойти к вопросу педантично, — молвил Иосиф Соломонович. — И это связано не только с тем, что у нас с вами нет кур…
— У моей тёщи в деревне есть, — вставил Остап Богданович.
— …но в первую очередь с тем, что курам вообще не свойственно клевать деньги. Они клюют зерно, или там червячков… Другое дело — страусы. Вот они клюют всё что попало, клюют и глотают, в том числе могут и деньги… Поэтому правильнее было бы говорить: у него денег страусы не клюют. В смысле, денег так много, что страусы ими уже обожрались и больше не хотят.
Клим Филиппович пробурчал:
— Противно смотреть, как богачи жируют в то время, когда бедняки…
— Э, позвольте с вами не согласиться! — перебил его Иосиф Соломонович. — Нынче богатые следят за своим здоровьем, в частности, потребляют полезную пищу, дорогую и полезную, в которой, в частности, нет лишних жиров. А вот бедняки обречены есть пищу дешёвую и неполезную, в том числе, излишне жирную. Так что, жируют у нас, поневоле, именно бедняки, а богатые могут себе позволить не жировать.
— Гм… Бедняки жируют, а богачи наоборот… Парадоксальная ситуация, — сказал Клим Филиппович. — Хорошо всё-таки, что мы с вами не стали олигархами, обезображенными солидностью и озабоченными сверхприбылями, а остались нормальными людьми
— Не надо думать, что в олигархах нет ничего человеческого, — заметил Иосиф Соломонович. — Кое-что человеческое в них всё же есть.
— Вот, например, моча в них чисто человеческая, — подхватил Клим Филиппович, — думаю, это подтвердит любой анализ. Ну и ещё кое-что…
— По-моему, благородный, справедливый, сострадательный, бескорыстный человек, то есть человек настоящий, в принципе не может быть сверхбогатым, так же как вода в принципе не может находиться в дырявом сосуде, если только не стала льдом или не повисла в невесомости, — размышлял Остап Богданович. — Не сможет такой человек иметь миллиарды денег, когда на свете столько людей не имеют самого необходимого. Он раздаст лишние богатства нуждающимся и станет небогатым.
— Вот мы с вами люди сравнительно небогатые, но это далеко не единственное наше достоинство, — похвастался Иосиф Соломонович.
— В Библии сказано: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в рай, — процитировал Клим Филиппович.
— А это зависит от размеров иглы, — произнёс Иосиф Соломонович. — Очень богатый индивид может заказать и оплатить изготовление иглы настолько огромной, что сквозь её ушко сможет пройти не только верблюд, но и слон, или даже жираф, не пригибаясь.
— Жадность погубит наш мир, — вздохнул Остап Богданович. — Мало, очень мало, катастрофически мало в мире благородства, справедливости, духовности, порядочности, бескорыстия, сострадания…
— А я думаю, что в глубине души многие люди хотели бы быть благородными, справедливыми, бескорыстными и так далее, одним словом, хотели бы быть хорошими, но либо стесняются, боятся выглядеть «белыми воронами», либо прагматически прикидывают, что это невыгодно, — сказал Иосиф Соломонович. — Эх, как было бы здорово, если бы быть благородным, бескорыстным, духовным, справедливым, честным, неподкупным и т. д. было бы настолько модно и выгодно, что все, кто этого хочет, могли бы себе это позволить!..
* * *
Как-то сидели Остап Богданович и Иосиф Соломонович в сквере на скамье, где на деревянной спинке кто-то когда-то вырезал ножичком загадочный текст: «Тварь я бесстрашная, или лево имею?» Клим Филиппович не заставил их себя долго ждать, явился, пожал сидящим руки и, доставая из кармана блокнот, сообщил:
— А я тут намедни кое-что сочинил.
— Так ты у нас теперь сочинитель?! — изумился Иосиф Соломонович. А Остап Богданович иронично заметил:
— Ну, сочинять-то каждый сочинитель может. А вот ты попробуй стать сочинителем, ничего не сочинив! Это действительно не каждому дано!..
* * *
Вот и всё пока, что хотел я вам поведать, бесценный читатель, о трёпе Иосифа Соломоновича, Клима Филипповича и Остапа Богдановича.
А если бы это было не литературное сочинение, а кинолента, я закончил бы её такими титрами:
Во время съёмок этого фильма не пострадал ни один мазохист, как ни напрашивался.
Февраль 2007 г.
Томагавки, мокасины, скальпы, перья и вигвамы
Вроде как зарисовка из жизни североамериканских индейцев XIX-го века
Вообще запахло сдиранием скальпов и тому подобными детскими радостями.
И. Ильф, Е. Петров, «Одноэтажная Америка»
На североамериканскую прерию шмякнулось утро. Рассвет взял, да ка-ак забрезжил! Солнце, не какое-нибудь там житомирское, или, скажем, тамбовское, а самое что ни на есть типично североамериканское выплюнулось из-под горизонта. Его жёлтый свет как моча потёк по индейским вигвамам.
Какая-то североамериканская птица закукарекала в третий раз. (Автор тут же вынужден извиниться перед читателем за то, что не сообщает название этой птицы. Просто автор не орнитолог и не знает, какие там водятся птицы, а искать информацию в справочниках да энциклопедиях ему лень). Не успело это пернатое животное прокукарекать, как из вигвама № 37, зевая, поёживаясь от утренней прохлады и почёсывая ягодицу томагавком, вышел североамериканский индеец Тимофеич, то есть в переводе на русский язык Стреляный Воробей. Он тоже был существом пернатым, ибо всем известно, что индейцы носят перья. Поправив на переносице покосившееся пенсне, он окинул зоркими очами вигвамы соседей, таких же, как он, североамериканских индейцев из племени… эээ… из племени, скажем, каких-нибудь магикачей, или, например, апачаров, а может, делашонов… (Автор снова должен извиниться перед читателем за то, что названия индейских племён вынужден высасывать из пальца, или брать с потолка, поскольку, не будучи этнографом, настоящих названий не знает, а рыться в справочниках и энциклопедиях ему… Ну, ты понял, читатель. Так что выбирай из этих трёх придуманных автором вариантов то название, которое тебе больше по душе, или же найди в энциклопедии и подставь сюда другое). Затем острый взгляд индейца Тимофеича заскользил по прерии к западному горизонту. Там, на горизонте, он узрел горы. Сощурившись, вперился в эти возвышенности, дабы рассмотреть — что там происходит. Острое зрение, усиленное стёклышками пенсне, позволило индейцу заметить, что по горной тропе спускается группа людей. Индеец насторожился: а вдруг это бледнолицые. А, как известно, бледнолицых хлебом не корми — дай выменять на дешёвую бижутерию бесценные индейские земли, или, хуже того, дай заразить гордых аборигенов дурной импортной болезнью под названием алкоголизм. О, с этими бледнолицыми надо держать нос по ветру, ушки на макушке, а хвост пистолетом, или, лучше, пистолет хвостом, а ещё лучше не пистолет, а винтовку, и не хвостом, которого нет, а уверенной рукой.
Тимофеич Стреляный Воробей снял пенсне, поплевал на стёклышки, тщательно протёр их подошвой мокасина, чтобы лучше видеть, и водрузил обратно на горбатый индейский нос. И так напряг глаза, что аж хрусталики хрустели. Да, теперь он чётко видел, что это таки бледнолицые, и что они, спускаясь с гор на прерию, о чём-то оживлённо беседуют. По движениям их губ и жестам рук индеец Тимофеич определил: они говорят о несметных полезных ископаемых в недрах здешних земель, и о том, как можно разбогатеть, если расковырять эту землю буровыми вышками да шахтами. Но сначала, дескать, надо прогнать с этих земель «вонючих краснокожих» с их вигвамами да томагавками. И вот эти, мол, ящики с оружием помогут их прогнать, а если не прогнать, то, в крайнем случае, истребить.
— Ишь чего задумали, койоты пархатые! — проворчал, зевнув, Стреляный Воробей и, приподняв набедренную повязку, лениво помочился в сторону гор.
— Кого это ты ругаешь, мой краснокожий брат? — спросил вышедший из вигвама № 4 индеец Ильич, или, в переводе на русский язык, Лапчатый Гусь, приветственно похлопывая Тимофеича по плечу томагавком.
— Бледнолицых, — кратко пояснил Стреляный Воробей, забинтовывая своё кровоточащее плечо.
— Каких бледнолицых?
— Которые спускаются сюда с гор.
— С каких гор?
— Которые на западе. Других же отсюда не видно.
— А где запад?
— Там.
Но как ни всматривался Ильич Лапчатый Гусь, никакого запада с горами и бледнолицыми он так и не смог разглядеть сквозь густую сеть трещин, покрывавших стёкла его пенсне после того как по нему (по пенсне) пробежал табун бизонов,
— У них есть громовые трубки, плюющие огнём, которые мы, индейцы, называем ружьями, и они будут искоренять нас с наших исконных жилплощадей. Вот спустятся с гор, пересекут прерию и, как минимум через неделю, будут здесь, — пояснял, расчёсывая перья на голове гребнем из рога бизона, индеец Тимофеич Стреляный Воробей.
— М… да, дела, — протянул Лапчатый Гусь, тоже начиная мочиться. — Надо сказать вождю. Он у нас мужик башковитый, чего-нибудь скумекает. Помнишь, на нас напало племя мурокозов, и никто не знал, что делать. Только наш мудрый вождь сообразил, что надо убегать. И теперь чего-нибудь придумает. Авось выкрутимся.
Лапчатый Гусь решительно стряхнул последние капли.
— Да, время на размышление пока есть. Покурим? — предложил индеец Тимофеич.
— А как же. Мы ж как-никак индейцы, — поддержал предложение индеец Ильич, вынимая из кармана набедренной повязки курительную трубку. — Хотя наш Борисыч и лепечет о вреде курения, но как же нам, индейцам, не курить. Индеец без табака и трубки — это как итальянец без макароны, или украинец без галушки, или француз без лягушки.
Борисычем, то есть в переводе с этого индейского языка на русский Целительной Пиявкой звали одного из двух колдунов этого племени. Второго колдуна звали Моисеичем, что в переводе означает Переменная Облачность. Борисыч трудился на ниве колдовства в области здравоохранения и здравонападения, а Моисеич специализировался на стихийных бедствиях и стихийных радостях.
(— Ерунда какая-то получается, — бурчит вдруг внутренний голос автора. — Не бывает у индейцев таких имён: Тимофеич, Ильич, Борисыч, Моисеич. Это вообще не имена, а отчества, и вовсе не индейские. Вот Гайавата, Чингачгук, Виннету, Оцеола — это действительно индейские имена, которые давали своим персонажам писатели Генри Лонгфелло, Фенимор Купер, Карл Май, Майн Рид — литераторы, хорошо знавшие индейское житие.
— Ну да, я не лингвист и не полиглот, — отвечает внутреннему голосу автор, — поэтому настоящих индейских имён не знаю, вообще не знаю индейских языков и наречий, вот и приходится опять-таки брать имена с потолка или высасывать из пальца. А то, что эти индейские имена похожи на здешние отчества, прошу считать случайным совпадением.
— И не носили индейцы пенсне. Индеец в пенсне — это какая-то карикатура.
— Утверждение, что индейцы не имеют право носить пенсне — это дискриминация по национальному или расовому признаку. Что, индейцы — не люди, что ли? Конечно, люди, и ничто человеческое им не чуждо, в том числе и ношение пенсне, тем более что действие происходит в девятнадцатом веке, когда ношение пенсне было делом обычным.
— Вообще, какого хрена (или другого корнеплода) ты взялся за тему индейцев, если не знаешь ни названий индейских племён, ни индейских имён, да и вообще в этой теме явный профан? Писатель должен брать для своих сочинений темы, с которыми он хорошо знаком либо по личному опыту, либо изучив большой объём соответствующей литературы, а не так, с бухты-барахты. Тебе следовало бы прежде, чем сесть за сочинение об индейцах, тщательно проштудировать десятки томов по этнографии, географии, лингвистике, зоологии (чтобы, например, знать, какая там птичка кукарекала), и даже ботанике (чтобы знать, какая там растительность произрастает в этих прериях); или даже съездить в Америку и пообщаться с настоящими индейцами, несмотря, что современные индейцы отличаются от тех, из девятнадцатого века. А ты ничего этого не сделал, ничего почти об индейцах не знаешь, а туда же — писать. Какого, повторяю вопрос, хрена (или иного корнеплода) ты взялся за эту тему?
— Ну, как-то вот приспичило. Я ж в детстве, как и многие мальчишки, читал про приключения Гайаваты, Чингачгука, Оцеолы… Смотрел в кинотеатрах сосиско-вестерны…
— Со… Это что за…
— Ну, бывают настоящие фильмы-вестерны, американские, а бывают спагетти-вестерны, названные так потому, что их снимают итальянцы, которые, как известно, любят кушать спагетти. А в советских кинотеатрах крутили вестерны восточногерманского производства, а поскольку немцы любят сосиски, то я такие фильмы называю сосиско-вестернами. Главные роли индейцев (Чингачгука, Виннету, Оцеолы, Зоркого Сокола, Ульзаны и т. д.) в этих сосиско-вестернах исполнял мускулистый югославский актёр Гойко Митич. Начитавшись таких книг, насмотревшись таких фильмов и беря пример с индейца Митича, советские мальчишки втыкали в волосы перья (голубиные — если жили в городе, или гусиные — если жили в деревне), делали из подручных материалов набедренные повязки или другие элементы индейской одежды, обязательно с бахромой, вооружались самодельными томагавками или ружьями и, так сказать, индейцеобразничали. Я тоже не избежал в детстве таких игр. И вот теперь, будучи взрослым бумагомарателем, я вдруг и подумал: а не написать ли чего-нибудь про индейцев. А поскольку про индейцев я мало что знаю, даже то, что читал в детстве, подзабыл, то и выходит вот такая отсебятина. Но это даже смешнее. А смех, как утверждают медики, очень полезен для здоровья. Поэтому буду продолжать в том же духе).
— Наш Борисыч совсем плохой стал, — говорил Стреляный Воробей, потроша папиросу, чтобы извлечённым из неё табаком набить индейскую трубку. — Заговаривается старик. Намедни ляпнул: «Мойте руки перед едой». Представляешь?! Испокон веков все нормальные индейцы облизывали руки после еды, а он говорит «перед». Любой пацан знает, что облизывать руки перед едой нет никакого смысла — это и не вкусно и не питательно. Совсем запутался дед. Старость — не радость.
— Мне тоже на днях колдун Борисыч сказанул: «Зубы надо чистить». Я ему отвечаю, мол, чищу регулярно, гляди, как блестят. А он мне: «Это зубы койота, а чистить надо свои собственные». Ну, как тебе? Свои собственные! Бред какой! Если я ожерелье сделаю из своих собственных зубов, то чем же я буду кусать и жевать?!
— Я ж и говорю: заговаривается старик, путает.
Пока эти двое, по очереди посасывая трубку и пуская из правой ноздри и других отверстий организма табачный дым, перемывали косточки колдуну, из вигвамов выковыривались остальные члены племени: пернатые мужики и бабы, едва оперившиеся отроки и отроковицы и пока не оперившаяся сопливая голопопая мелюзга. Мужчины приступили к своим мужским делам: нанесению на лица макияжа, заплетению косичек, примерке бус, ожерелий, браслетов и прочей бижутерии. А дамы сосредоточились на женских обязанностях: принялись готовить жаркое из бизона. Бизон в знак протеста с рёвом метался по прерии, норовил лягаться и бодаться, но имеющие опыт семейной жизни женщины без особых хлопот дали ему по рогам, отчего парнокопытный рогоносец отбросил копыта и стал послушно вертеться на вертеле над костром, аппетитно дымясь.
Когда аромат бизона просочился в вигвам № 1, началось извержение вождя. Вождь извергался из вигвама степенно, несуетливо, важно, как и положено уважаемому индивиду. Сначала из сумерек помещения выплыл его солидный нос. Вскоре появились мудрые очи с нахлынувшими на них бровями. Через непродолжительное время стали прорисовываться гофрированные морщинами щёки. Затем проявилась роскошная корона из перьев. И так далее.
Когда вождь полностью вылупился из вигвама, племя приветствовало его криками: «Да здравствует наш дорогой вождь!», «Вождь и племя — едины!», «Наш вождь — ум, честь и совесть нашей эпохи!», «Мы говорим „вождь“ — подразумеваем „племя“, Мы говорим „племя“ — подразумеваем „вождь“!», «Вождь — наш рулевой!»… Какой-то молодой и неопытный индеец невпопад брякнул: «Вождём ты можешь и не быть, но человеком быть обязан!», но ему тут же дали подзатыльник — не произноси несанкционированные лозунги!
Вождя звали Эдуардыч, что в переводе с этого индейского языка на русский означает Большая Шишка (подразумевается шишка секвойи; автор слыхал, что в Северной Америке произрастают гигантские хвойные деревья — секвойи, и полагает, что, как и у других хвойных растений, у секвой должны быть шишки, а поскольку секвойи — растения огромные, то и шишки у них должны быть большие). Кивком ногтя Эдуардыч разрешил соплеменникам закончить изречение лозунгов и продолжить начатые дела. И они, прекратив изрыгать слова, таки продолжили заниматься макияжем (мужчины), вращением бизона (дамы) и пусканием соплей (мелюзга).
Тут наш зоркий Стреляный Воробей, воткнув губы в ушную раковину Большой Шишки, нашептал известную читателю информацию.
— Бледнолицые… — задумчиво повторил вождь, шевеля большой нос всунутым в него перстом. — Гм. После завтрака посоветуюсь с народом.
(— Может, и индеец Эдуардыч Большая Шишка носил пенсне? — усмехается презрительно внутренний голос автора.
— Нет, Большая Шишка пенсне не носил, — отвечает своему внутреннему голосу автор.
— Ну, то-то же, — одобрительно замечает внутренний голос.
— Большая Шишка носил монокль.
— Тьфу!)
Мужики во главе с Эдуардычем уселись в кружок, и бабы принялись их потчевать, обрубывая и поднося им фрагменты бизона, источающие соблазнительные ароматы.
Насытившись парной бизонятиной, кавалеры помыли руки языками и, зычно порыгивая и попукивая, встали и разбрелись по стойбищу, а бабы приступили к кормлению себя и потомства.
Наконец, видя, что все его соплеменники употребили корм, вождь кивком ногтя подозвал к себе жилистого нервозного типа по имени Леонидыч — Банный Лист и негромко произнёс:
— А ну-ка, милок, постучи сбор на племюм.
Милок, то бишь Банный Лист, принялся дубасить кулаками по барабану, который представлял собой выдолбленный кусок бревна с натянутой на торец кожей бизона, не того, свежесъеденного, а его прапрапрапрапрадедушки. Индеец Леонидыч был ударником производства… То есть, тьфу, наоборот: производителем ударов. Он производил удары по барабану, сигнализируя таким образом соплеменникам о важных событиях. Вот теперь он сигнализировал, что все члены племени, кроме младенцев, должны сойтись на общее собрание. Поскольку в таком собрании участвовало всё племя (младенцы не в счёт), то и называлось оно соответственно — племюм.
— Объявляю двадцать шестой племюм открытым! — торжественно объявил вождь, когда все собрались и расселись на грунте. — Слово для доклада предоставляется товарищу Стреляному Воробью, который благодаря своей зоркости открыл грозящую нам опасность. Начинай, милок.
(— Товарищу Стреляному Воробью? — снова ворчит внутренний голос автора. — Это напоминает советскую фразеологию. Это ж, кажется, большевики придумали использовать слово «товарищ» в качестве обращения, вместо «господин», или там «сударь». Сомневаюсь я, чтобы индейцы…
— Дружба и товарищество присущи всем народам, — огрызается автор, — и, значит, во всех языках, в том числе и индейских, есть слова, означающие «товарищ». Поэтому нет ничего необычного в том, что один индеец другого назвал товарищем. И вообще, попрошу не перебивать мою брех… гм, мою прозу всякими придирками!)
Итак, милок, то есть на этот раз Стреляный Воробей начал:
— Товарищи! За прошедший от восхода солнца период мною была проделана следующая работа: я совершил осмотр гор, имеющих место на западном горизонте. В результате этого мероприятия мною был обнаружен вопиющий факт. А именно: коварные замыслы бледнолицых врагов, спускающихся с вышеназванных возвышенностей. То, что данные особи имеют замыслы и именно коварные, я определил по их разговору, которого, конечно, не слышал из-за огромного расстояния, но их мимика и жесты говорили сами за себя. Короче говоря, эти койоты пархатые задумали… — Ну и далее докладчик изложил соплеменникам уже известные читателю результаты наблюдения.
Племя загомонило. Из гула голосов высовывались фразы типа «скверные индивидуумы», «отрицательные субъекты», «нехорошие личности», «несовершенные существа», «особы невысокого интеллектуального и морального уровня» и т. д. Кивком ногтя вождь Эдуардыч восстановил тишину.
— То, что эти койоты пархатые не являются образцами добродетели, само собой понятно, и не стоит по этому поводу издавать звуки, — неспешно звучал Большая Шишка. — Давайте лучше издавать звуки на тему: что делать.
— Можно мне? — поднял руку индеец Геннадьич, что в переводе означает Острие Лепёшки.
— Можно, если осторожно, — произнёс любимую индейскую поговорку Эдуардыч.
— Я предлагаю без суеты и нервозности собраться с духом и изо всех своих сил со всего размаха послушать, что скажет по этому поводу наш мудрый вождь.
Сначала раздались обычные аплодисменты всех членов племени, затем они (не члены, а аплодисменты) переросли в бурные и продолжительные, а вскоре вообще превратились в овации. Вождь пытался осадить такой энтузиазм кивком ногтя, но публика, что называется, неистовствовала в восхищении от столь своевременного и толкового предложения Острия Лепёшки, так что во имя восстановления тишины Эдуардычу пришлось постучать томагавком по ближайшему предмету, каковым оказалась голова индейца Васильича, то есть по-нашему Меткого Глиста. Вид крови утишил неистовство и возродил тишь.
— Я, конечно, скажу своё слово, — зазвучал снова вождь и, заметив, что Лапчатый Гусь раздвигает ладони, явно намереваясь снова зааплодировать, вперился в него строгими зрачками и пошевелил томагавком, каковой намёк заставил Ильича удержаться от хлопка. — Скажу. Но сначала послушаю мнение народа. Одна голова, как говорится, хорошо, а не одна — лучше. Высказывайтесь, предлагайте, советуйте, рекомендуйте, а затем я подведу черту.
— А давайте с бледнолицых снимем… — заговорил Васильич Меткий Глист, голову которого забинтовывал колдун Борисыч, но, не договорив, зашипел от боли.
— Да, давайте с них снимем штаны! — закончила фразу индианка Матвеевна, что в переводе значит Мокрая Курица.
— Скальпы, дура, скальпы, а не штаны, — превозмогая боль, заорал индеец Васильич.
(— Зачем же каждый раз сообщать, что тот или иной член племени был индейцем? — снова придирается внутренний голос автора. — Ведь они все индейцы. Неиндейцев среди них нет, ведь так? Ну так и пиши просто «Васильич», «Ильич», «Тимофеич» и т. д., не пришпандоривая каждый раз к имени слово «индеец», ибо это читателю уже и так понятно.
— Не надо меня учить! — огрызается автор. — Мне, может, просто нравятся такие словосочетания типа «индеец Тимофеич», или «индеец Васильич», или «индианка Матвеевна» и т. д., ну и не мешай, внутренний голос, мне этим наслаждаться).
— Да, это неплохая идея насчёт снять скальпы, — подхватил индеец Валерьич, то есть Быстроногий Карась.
— Я вообще человек идейный, — похвалил себя Васильич Меткий Глист, пытаясь высвободиться из пут, ибо колдун Борисыч, начав забинтовывать его голову, то ли заслушавшись, то ли увлёкшись, забинтовал быстро всего Васильича, превратив его в египетскую мумию, так что тот не мог двинуть ни рукой ни ногой, а извивался как червяк. — Ну ты чего творишь, Борисыч?! У меня ж только голова. Совсем обалдел? Разматывай взад!
Стреляный Воробей и Лапчатый Гусь переглянулись, мол, да, Борисыч таки… Старость не радость.
— А если бледнолицые не захотят, чтобы мы с них снимали скальпы? — высказал сомнение индеец Сергеич — Мохнатый Слизняк. — У меня вот, например, был случай. Встречаю это я одного бледнолицего и говорю ему, мол, эй, мужик, а давай-ка я с тебя сниму скальп. Он мне: «Это зачем же? Нет, не хочу, мне и со скальпом неплохо. Он мне как раз по размеру. Спасибо за предложение, но не стоит беспокоиться». Я ему, мол, ты не волнуйся насчёт оплаты, я оскальпирую тебя задаром; ни копейки не возьму; полностью за мой счёт. Он стоит, чешет скальп, ну, понятное дело, кто ж не любит получить услугу на халяву. Но потом отмахнулся, мол, нет, и задаром не хочу. Повернулся и ушёл.
— Это ты уговаривать не умеешь, — сказал Тимофеич Стреляный Воробей и поправил на переносице покосившееся пенсне. — Знал я одного индейца по имени Парнокопытный Индюк, так тот кого угодно мог уговорить, так что к нему даже стояла очередь желающих быть оскальпированными.
— Да кто их вообще спрашивает, бледнолицых — хотят, не хотят. Что это за церемонии? Какие там уговоры? Долбанул томагавком по черепушке — вот и все уговоры, — взвился нервозный Леонидыч Банный Лист.
— Тоже верно, — одобрил Ильич Лапчатый Гусь. — Жестоко, да, но они сами виноваты. А пусть не замышляют…
— Правильно, нечего тут, понимаешь… А то взяли манеру — захватывать индейские земли, — подхватил индеец Святославич — Скользкий Ёж.
— Ну, предположим, скальпы… А как это сделать? Конкретно, — обвёл соплеменников стёклышками пенсне индеец Тимофеич Стреляный Воробей.
— Когда они приблизятся к нашему, так сказать, населённому пункту, — Леонидыч Банный Лист обвёл рукой вигвамы, — неожиданно напасть на них из засады, и чик-чик. Без скальпов они уже нам ничего не сделают.
— Да, надо взять их врасплох, — одобрил сию мысль Святославич Скользкий Ёж, ковыряя в ухе чубуком курительной трубки. — Притаиться в засаде за укрытием, а когда они подойдут — хоп…
— Ну какое тут укрытие? Какая тут засада? Степь да степь кругом. Ни тебе бугорка, ни тебе кустика. Некуда спрятаться. Они нас издалека увидят, и не будет никакого «врасплох», — забурчал индеец Моисеич Переменная Облачность.
— Ты, Моисеич, вместо чтобы ворчать, придумал бы, как сварганить это укрытие, — набросился на него Васильич Меткий Глист, которого Борисыч таки распеленал, оставив забинтованной только голову. — Ты у нас колдун, специалист по погоде, вот и… Сотвори, например, густой туман. В тумане они нас не увидят.
— В тумане и мы их не увидим. А как напасть на врага, если его не видно, — возразил Моисеич и высморкал из ноздри длинного земляного червя (он любил шокировать соплеменников такими вот колдовскими выходками).
— А давайте построим на их пути укрытие, какую-нибудь стену, например. — предложил индеец Евгеньич, то есть по-нашему Сизокрылый Крот. — Мы за ней спрячемся, и они нас не будут видеть, а когда они к ней приблизятся, мы из-за неё неожиданно выскочим…
— Они не идиоты, и сразу поймут, что неспроста кто-то посреди прерии сварганил стенку, — отмахнулся Стреляный Воробей, — сообразят, что тут какой-то подвох, насторожатся и… Не получится никакой внезапности.
— А давайте прикинемся животными, нацепим шкуры и будем перемещаться на четвереньках, — придумал Геннадьич Острие Лепёшки. — Они, приняв нас за зверей, не обратят внимания, а мы подкрадёмся и — хрясь, хрясь!
— На зверей охотятся, — покачал отрицательно перьями Ильич Лапчатый Гусь. — Увидев нас в зверском виде, они могут открыть пальбу, мол, вот дичь, настреляем да съедим.
— Я не люблю, когда меня едят, — поёжился индеец Адольфыч, то есть Хищный Заяц.
— Придумал! — завопил индеец Борисыч Целительная Пиявка, старый колдун. — Надо прикинуться не животными, а продуктом их жизнедеятельности!
— Выражайся по-человечески, Борисыч, — нахмурился индеец Вадимыч — Большой Микроб, — давай по-простому, без таких вот мудрёных словосочетаний.
— Ну, по-простому выражаясь, давайте прикинемся дерьмом, — пояснил старый колдун. — То есть навозом. Выйдем навстречу врагам и, облепившись бизоньими какашками, заляжем у них на пути. Они примут нас за кучи навоза и не станут стрелять, ибо никто не стреляет в говно. Да просто не обратят внимания, мало ли в прерии навоза валяется. Вот тут-то мы их и захватим врасплох. Это будет для них полная неожиданность. Они обалдеют: чего-чего, а нападения навоза они никак не ожидают.
— Наконец-то я услышал мудрую мысль! — произнёс вождь Эдуардыч Большая Шишка. — Иди, Борисыч, я тебя поцелую прямо в левую бровь! Чмок! Чего-чего, а бизоньих какашек вокруг хватает. Времени ещё много, до прихода врагов успеем вдоволь запастись скотским говном. Да, это гениальный план, простой, но очень неожиданный. Никакой враг ничего не заподозрит. Браво, Борисыч!
Стреляный Воробей и Лапчатый Гусь переглянулись: ишь, чего Борисыч вычудил. Старик, старик, а такое сообразил, до чего и сотня молодых не додумается. Да за такое изобретение ему можно простить и «мойте руки перед едой», и «зубы надо чистить» и прочие странности.
— Итак, решено: будем готовиться стать дерьмом! — провозгласил вождь. — На этом двадцать шестой племюм объявляю закрытым.
Над североамериканской прерией, как белые какашки по голубой воде, плыли по небу облака. Бизоны мирно паслись, превращая пищеварительной системой бесполезную траву в полезное средство маскировки. Продолжался ясный и экологически чистый день индейского племени магикачей, а может апачаров, а может делашонов…
1990, 2011 гг.
Житие таракана Пафнутия
В двух эписодиях с двумя стасимами
Вам никогда не случалось быть в обществе настоящих животных?.. О, так вы не знаете, сколько добродетели, сколько истинной нравственности и непринужденной весёлости всегда бывает в подобных собраниях!
Барон Брамбеус, «Осенняя скука»
Эписодий первый. Похмелье
Таракан Пафнутий поёжился и повёл усами. На него падала гигантская глыба ароматного торта. Ещё мгновение, и Пафнутий будет заживо погребён под лавиной деликатеса!!! Таракан в ужасе дёрнулся… и проснулся.
Привидится же такой кошмар, да ещё не в обычный день, а именно в среду! (По средам таракан Пафнутий отмечал свой день рождения, ибо именно в среду он появился на свет). Брр! До сих пор сердце колотится! Ну и сон, чтоб его…
Пафнутий сладко потянулся всеми шестью конечностями и поднялся с ложа, каковым служил кусочек промокательной бумаги, попавший в расщелину плинтуса — обитель нашего героя — ещё в те древние времена, задолго до рождения Пафнутия, когда люди писали чернилами, которые нужно было промокать, чтоб не размазались. Ложе перешло к нему по наследству от предков. Поднявшись и напевая из «Женитьбы Фигаро» Моцарта — «не довольно ли бегать, резвиться, не пора ли мужчиною быть» и т. д. — таракан произвёл бодрящую утреннюю гимнастику. Резво (ать-два, ать-два) подвигал тремя парами конечностей, брюшком, усами и даже крыльями, намекавшими, что миллионы лет назад предки Пафнутия умели летать.
Зарядка прогнала мрачный осадок от кошмара и разбудила аппетит.
Завтрак был, действительно, праздничным, как и следует в день рождения. На первое — кусочек жареного минтая. На второе — порция баклажанной икры. На третье — полная скорлупка (от подсолнечного семени) компота из сухофруктов. Таракан, несмотря, что среда была днём рождения, решил гостей не приглашать. Ибо гостей, как известно, хлебом не корми… а корми деликатесами. А делиться такими деликатесами, добытыми вчера почти с риском для жизни, Пафнутию не хотелось. Повязав салфетку, которую люди обозвали бы просто пылинкой, наш герой приступил к трапезе.
Он не просто кушал, он смаковал, как искушённый гурман. Его длинные усы-антенны томно шевелились от наслаждения…
Насытившись, отвалился от пищи и облизал коготки передних конечностей. Остатки лакомства прикрыл пушинкой, до обеда.
Нынешний день рождения Пафнутий решил ознаменовать однодневным туристическим походом по родному краю. То, что таракан называл родным краем, я назову квартирой гражданина Ю.Э. Антикефирова.
Прежде чем покинуть родную обитель, то есть вылезти из расщелины плинтуса, Пафнутий мысленно составил маршрут похода.
Сначала — вдоль плинтуса до ножки тумбочки.
Затем — восхождение на тумбочку и проникновение сквозь вентиляционное отверстие внутрь телевизора, стоящего на тумбочке.
От телевизора до подоконника — по кабелю телевизионной антенны.
От подоконника до карниза — по гардине.
От карниза до шкафа — по стене под отставшими от неё обоями.
А затем, спустившись по шкафу к плинтусу, снова вдоль последнего — к родной расщелине.
Впрочем, такой план не был догмой и мог быть изменён по обстоятельствам.
Во время похода Пафнутий предполагал делать продолжительные остановки, не только для отдыха, но и для осмотра достопримечательностей. Например, внутри телевизора он рассчитывал полюбоваться живописным массивом огромных пыльных ламп (телевизор был стареньким, ламповым). С подоконника, докарабкавшись до стекла, можно увидеть потусторонний мир, то есть мир по ту сторону окна. С высоты карниза можно подолгу озирать расстилающиеся внизу «ландшафты», то есть всю комнату. Много интересного было и в шкафу с одеждой; например, запонка в углу на полу, украшенная буквой «Ю»… Кроме прочего, Пафнутий собирался пообщаться с живущей в шкафу старой молью Аделаидой… «Я планов наших люблю громадьё» — написал поэт Владимир Маяковский в поэме «Хорошо!». Таракан тоже любил громадьё планов своих на сегодня и предвкушал, что день рождения пройдёт очень интересно.
Впрочем, не надо думать, что запланированный поход был абсолютно безопасным! Во-первых, взойдя на вершину тумбочки, можно было попасть на глаза гигантскому, по тараканьим меркам, гражданину Ю.Э. Антикефирову, который хоть и не был громовержцем, зато был, если так можно сказать, газетовержцем. То есть мог обрушить на насекомое удар свёрнутой в трубочку газетой. Удар, не совместимый с жизнью. Во-вторых, в телевизоре присутствует высокое электрическое напряжение, которое способно укокошить даже кое-кого побольше таракана. В-третьих, за карнизом в своей паутине притаился кровожадный паук по прозвищу Упырь, что может, впившись в насекомое ужасными челюстями, высосать из него жизнь. Пафнутий включил в свой маршрут не тот участок карниза, а противоположный, но всё же…
Итак, турист, настроенный на интересный и где-то небезопасный путь, вышел из жилья. И тут же, буквально у самого, образно говоря, порога своего дома наткнулся на совершенно новую достопримечательность. Возле плинтуса стояла пустая стеклянная бутылка. На её устремившемся ввысь прозрачном корпусе красовался обрывок афиши. (Такие афиши люди называют бутылочными этикетками). На афише были буквы. Пафнутий умел и любил читать, поэтому он довольно быстро прочитал все шесть букв: П Ш Е Н И Ч
Из прочитанного сделал вывод, что когда-то в этой прозрачной «цистерне» был продукт пшеничный, то есть хлебный. Какой конкретно — оставалось неясным, ибо кроме этих шести букв никакой другой информации на бумажном обрывке не сохранилось.
Задумчиво почёсывая коготками передней конечности лоб, Пафнутий стал рассуждать логически. Что делают из пшеницы? Муку. А что делают из муки? Хлеб, булки, пончики, пироги и так далее. Очень маловероятно, чтобы в сосуде с узким горлышком находился хлеб, или булка, или… Как бы люди их оттуда выковыривали? Человек не таракан, в узкое горлышко не пролезет. Другое дело — жидкость… Хлебная жидкость, это… Это… Ну конечно же! Это хлебный квас! Ай да Пафнутий! Ай да молодец! Как быстро разгадал загадку! Или всё же не квас?
Таракана разобрало такое любопытство, что он решил, во что бы то ни стало, взобраться к отверстию и понюхать, чем из бутылки пахнет.
Попытки карабкаться по бутылке не увенчались успехом. Коготки скользили по гладкому стеклу, не находя неровностей, за которые можно зацепиться. Пафнутий чуть было не загрустил от неудачи, но тут в голову пришла другая идея. Примерно в сотне тараканьих шагов от жилища Пафнутия, возле плинтуса под шкафом, наш герой как-то видел довольно длинную веточку, отломившуюся от веника. Если один конец этой веточки упереть в верхнюю кромку плинтуса, а другой положить на горлышко бутылки, то получится как бы мост, по которому можно… Да! Замечательная идея!
Не буду описывать, какого труда стоило таракану дотянуть ту веточку до бутылки. Таракан трудился как муравей. Ещё больше усилий ему понадобилось, чтобы взгромоздить этот мост между плинтусом и бутылочным горлом. Несколько раз конец ветви соскальзывал со стекла и мост обрушивался. Но, в конце концов, фрагмент веника соединил плинтус с устьем бутылки.
Передохнув после столь тяжкого труда, Пафнутий поплевал на коготки передних конечностей и осторожно стал перемещаться по этой хлипкой незакреплённой перекладине, чуть прогнувшейся под тяжестью таракана. Упасть с такой высоты Пафнутий не боялся. Ему приходилось падать и с больших высот. Тараканы имеют крылья. И хоть они не могут поднять таракана ввысь, зато могут сыграть при падении роль парашюта, благодаря чему падения даже с очень больших высот обходятся без травм. Наклоняться над отверстием и заглядывать внутрь бутылки осторожный Пафнутий не собирался, ибо понимал, как это опасно. Можно соскользнуть во чрево сосуда без всякого шанса выбраться наружу. Таракан хотел лишь приблизиться и понюхать, не более того.
Когда ловкий Пафнутий, перебирая по ветви от веника цепкими конечностями, дополз почти до самого стекла, он навострил усы и потянул воздух, предвкушая аппетитный аромат хлебного кваса. Но вместо этого из прозрачного кратера на него пахнуло таким удушающим и дурманящим зловонием, что у него перехватило дыхание и помутилось в уме. Таракан потерял равновесие и свалился с перекладины. Инстинктивно расправившиеся крылья обеспечили очумелому насекомому мягкую посадку. Слава богу, он упал не внутрь бутылки, а рядом с ней.
Итак, выходило, что Пафнутий ошибся. Что в сосуде, до того, как его опорожнили, был отнюдь не хлебный квас, а какая-то дурманящая гадость. Низвергнутый удушьем таракан отдышался и с некоторым удивлением отметил, что перед глазами всё плывёт и двоится, а мысли путаются и выскальзывают.
— Покепетете… — пробормотал Пафнутий.
Он хотел сказать «Почему…», но вместо этого ставший непослушным рот пролепетал вот такую белиберду. И Пафнутию сделалось смешно. Он шмякнулся на спину и захохотал, дрыгая конечностями. В мозгу шевелилась мысль: я сказал «покепетете», я сказал «покепетете»; и эта мысль его страшно веселила. Но, хохоча, таракан в то же время и изумлялся такому необычному своему поведению.
Насмеявшись до слёз, он, всхлипывая, попытался подняться, но его качало из стороны в сторону, как моряка на палубе во время шторма, и он снова валился на пол. Это его развеселило ещё больше, и он снова зашёлся в хохоте, доходящем до визга, стукаясь в конвульсиях головой о стекло бутылки.
Наконец Пафнутий устал смеяться и затих. В голове томно текли обрывки его собственных мыслей, а также речей и песен, которые он слышал из радио, телевизора и рта гражданина Ю.Э. Антикефирова, смешавшиеся в поток бессмыслицы. И одурманенному таракану почему-то хотелось, чтобы эта мысленная чепуха тянулась и тянулась бесконечно: «…эх жизнь моя малина недорезанная кукареку хе-хе Пафнутьюшка забодай кирпич не кочегары мы не плотники запад нам поможет о сколько нам открытий чудных гоп гоп гоп уноси готовенького игнорируя происки империализма о кто же сравнится с Матильдой моей генеральный секретарь миллион миллион миллион алых роз и никаких гвоздей…»
Вдруг Пафнутий всхлипнул и зарыдал. Ему вспомнилась первая и навсегда утраченная любовь. Ещё совсем юным тараканчиком он полюбил привлекательную крошку. Да, крошку от яблочного пирога, упавшую со стола. Она так аппетитно пахла! Пафнутий ласково гладил свою крошку, отщипывая от неё махонькие кусочки, и вкушал их очень неспешно, чтобы лакомства хватило подольше. Но вдруг нагрянул толстый наглый сверчок и, отпихнув юного таракана, жадно, быстро и деловито сожрал на глазах у Пафнутия его любимую крошку. Это воспоминание слезами душило нашего героя. «За что такая несправедливость?! — плакал он. — О где ты, где ты, моя сладкая, ароматная, нежная крошка!»
Внезапно он почувствовал себя борцом с мировой несправедливостью.
— Я вам всем покажу кузькину мать!!! — выдохнул таракан.
Покачиваясь, поднялся, опираясь о стекло бутылки, и кинулся в бой против несовершенной вселенной:
— Ломай! Круши! Бей! Разрушай! До основанья, а затем…
Озверевшее насекомое с голыми рука… гм… с голыми конечностями набросилось на первое, что попалось под ру… под конечности. Этим приговорённым к разрушению объектом оказался родной плинтус. Пафнутий, покачиваясь, пытался нанести плинтусу сокрушительный удар правой передней, но коварный плинтус всё время резко уклонялся от удара, отчего промахивавшийся боец систематически падал.
— Да ну тебя! — обиделся на соперника таракан и презрительно плюнул.
После такого дебоша Пафнутия потянуло на лирику. Захотелось петь. Подбоченившись, он запищал во всю свою тараканью глотку:
Шумеел камыыш, дерееевья гнуулись А ноочка тёоомная былаа Однаа возлюуубленная пааараа Всю нооочь гуляаалаа до утраа…Песня начала убаюкивать Пафнутия, навевать дремоту, и оттого становиться унылее и тише. Таракану приспичило продолжать пение лёжа:
А поутрууу они проснууулись И наступииил прощааанья чааас Пора настала мням-мням рас… расставаться И слё… мням-мням… и слё… хрр… с… хрр…Да, убаюканный собственным пением, наш вокалист уснул. И где уснул! Прямо на полу возле плинтуса и бутылки! На видном месте! Утратив всякую осторожность и предусмотрительность! Ну можно ли было такого ожидать от столь здравомыслящего и осторожного таракана как Пафнутий! Что-то теперь будет!!!
А вот что.
Пафнутий проснулся в тёмном месте, приваленный чем-то твёрдым.
— Где я? — спросил он, но ответа не последовало.
Таракану было плохо. Голова болела, гудела, кружилась. Организм был как не свой.
Пафнутий попытался вспомнить, что было. Ну, как полз по ветке от веника к горлышку таинственной бутылки, он помнил. Как пахнуло чем-то зловонным и он упал, тоже помнил. А вот дальнейшее вырисовывалось очень туманно и отрывочно. Раздвоившаяся бутылка… Ходуном ходящий плинтус… Кузькина мать… Шумевший камыш… Хрен знает, что такое! А где он теперь? И как сюда попал?
Пафнутий стал ощупываться и обнюхиваться. Приваливший его предмет был четырехгранной балкой. Под тараканом была прохладная и упругая плоскость. Запахов было много, поэтому наш герой определил место своего пребывания как свалку разных разностей. Поднатужившись, таракан спихнул с себя балку. Осторожно, ощупывая путь усами-антеннами, пополз наугад. Наткнулся на решётку. Протиснулся между её прутьями. Вдруг вверху лязгнуло. Стало светло, и Пафнутий разглядел, что решётка была рыбьим скелетом, упругая плоскость — фрагментом капустного листа, а четырехгранная балка — наполовину обгорелой спичкой. Таракан пребывал в некоем большом сосуде, на груде всяческого мусора.
Пафнутий поднял взор вверх, откуда лился свет, и успел заметить гигантскую руку гражданина Ю.Э. Антикефирова и какую-то падающую из этой руки глыбу. В сознании таракана мелькнуло воспоминание о последнем сновидении, а в подсознании — понимание, что сон оказался вещим. Инстинкт самосохранения, дрыгнув тараканьими конечностями, отбросил Пафнутия в сторону, а глыба шмякнулась на то самое место, где таракан был мгновение тому. Вверху снова лязгнуло, и стало темно.
Так, так, так, это что же выходит, размышлял страдающий от похмельного синдрома таракан. Выходит, что под воздействием выходящих из бутылки испарений я сделался идиотом и повёл себя неадекватно. В частности, улёгся спать прямо на полу, на открытом месте. А гражданин Ю.Э. Антикефиров в кои-то веки подмёл свою холостяцкую берлогу, и вместе с прочим мусором смёл веником на совок и меня, неподвижного таракана, приняв за дохлого. А затем высыпал всё это в мусорный бачок, где я теперь и пребываю. Дааа. Погулял я в свой день рождения, ничего не скажешь.
Пафнутий понюхал и пощупал усами чуть не погубившую его глыбу. Нет, это был не торт, как во сне, а всего лишь гнилой помидор. Тоже съедобно, и даже, можно сказать, вкусно, но до торта далеко.
Прежде чем совершить побег из мусорного бачка, наш герой решил подкрепиться. Зачерпнул коготками передних конечностей побольше помидорной расквасившейся мякоти и жадно стал её жевать…
Стасим первый
Общайся с алкоголем осторожно:
Столкнуть он может с верного пути.
Эписодий второй. Влюблённость
В пятницу, а если быть уж совсем точным, в ночь с четверга на пятницу таракан Пафнутий влюбился. Нет, это была уже не влюблённость в крошку от яблочного пирога; те чувства к той крошке уже сам Пафнутий считал первым, но незрелым, несерьёзным увлечением. Новая влюблённость, поразившая нашего героя, была, с его точки зрения, страстной, мучительной и даже романтической. Романтичность этого чувства заключалась, в частности, в том, что таракан Её, свою избранницу, никогда не видел. Точнее, не видел наяву. Лишь во сне. Зато её голос…
Говорят, любовь бывает с первого взгляда, а бывает не с первого, а например, с тринадцатого, или с четыреста семьдесят второго, или с две тысячи восемьсот пятьдесят девятого с половиной, или… Поскольку в случае с влюблённостью Пафнутия главную роль сыграли не органы зрения, а органы слуха, то правильнее тут говорить не о любви с первого или не первого взгляда, а о любви с первого или не первого звука. Говорю откровенно: когда Пафнутий первый раз прослушал в Её исполнении ту песенку о внушительном количестве растений, он зевнул и сказал:
— Какая-то мура.
Когда он услышал Её песенку во второй раз (а зазвучала она ровно через четырнадцать секунд после того, как прозвучала в первый раз), он ничего не сказал, а лишь нахмурился. Когда же через семнадцать секунд после второго звучания песенка зазвучала снова, в третий раз, Пафнутий в сердцах топнул левой задней конечностью и выругался:
— А чтоб её… — присовокупив такую матерщину, которую автор стесняется повторить.
Это произошло ещё в понедельник. Именно в этот день гражданин Ю.Э. Антикефиров принёс домой грампластинку с песенкой про «миллион, миллион, миллион алых роз». Да, таракану Пафнутию, который уважал классическую и джазовую музыку, этот простенький шлягерок сразу не понравился, а потому и в отношении его исполнительницы он не испытал нежных чувств, хотя голос был неплохой. По мере того как гражданин Ю.Э. Антикефиров снова и снова заводил на проигрывателе эту пластинку (в понедельник это случилось восемнадцать раз, во вторник двадцать три, в среду — день рождения Пафнутия — только семь раз: в этот день гражданин Ю.Э. Антикефиров вернулся домой вечером позже обычного), таракан всё больше изнемогал.
Но, несмотря на антипатию к сему музыкальному произведению, Пафнутий сам невольно стал подпевать:
Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьё,з Для тебя свою жизнь превратил в цветы.Ненавистная ему песенка так вдолбилась в его мозг, что исторгалась изо рта автоматически; и это Пафнутия ещё больше удручало.
В четверг гражданин Ю.Э. Антикефиров включил свой старенький телевизор, который принимал лишь один телеканал. На запылившемся экране проявился диктор и стальным голосом объявил начало трансляции оперы «Пиковая дама» композитора Чайковского П.И. Таракан Пафнутий обрадовался, мигом взбежал по стене, цепляясь за шершавые обои коготками конечностей, и, юркнув под отклеившийся от стены край оных обоев, приготовился слушать и смотреть шедевр оперного искусства. Но гражданин Ю.Э. Антикефиров вдруг гнусно пробурчал:
— Тьфу, опять опера! Истязают народ классикой, изверги! Лучше послушаю «Миллион алых роз».
После чего — о ужас! — телевизор был выключен, а проигрыватель включён, и снова закружилась всё та же пластинка.
Пафнутий был взбешён! Как!!! Такую оперу!!! Такой шедевр!!! На какую-то ботанического содержания муру!!! О будь проклята эта пластинка! О будь проклят этот проигрыватель! Нет, больше нельзя этого терпеть!
Пафнутий решил спасти высокое искусство от «нашествия низкопробной массовой культуры»: любой ценой заглушить песенку о розах. Даже ценой собственной жизни, если не найдётся других вариантов! «Залезу внутрь проигрывателя и чего-нибудь там замкну, чтобы он перегорел к паучьей бабушке! В крайнем случае, брошусь на электрические контакты и пропущу сквозь себя короткое замыкание! Сам сгорю, но и песню, тьфу на неё, задушу! Образно выражаясь, закрою своим молодым телом амбразуру динамика!» — планировал таракан, всхлипнув и прослезившись.
Но такой страшной жертвы не потребовалось.
После того как гражданин Ю.Э. Антикефиров заменил оперу песенкой (прослушав последнюю пять раз подряд), он больше, до самой ночи, и, как позже выяснилось, в последующие дни, уже эту пластинку не заводил. В чём причина дальнейшего незвучания «алых роз», остаётся загадкой. То ли песня надоела и самому гражданину Ю.Э. Антикефирову; то ли он эту пластинку у кого-то одолжил на время и в четверг вернул; то ли…
Итак, желание таракана Пафнутия осуществилось — ненавистная песенка перестала звучать. Но он не стал в связи с этим почивать на лаврах. Во-первых, потому что в этом незвучании не было никакой его личной заслуги. А во-вторых, потому что почивать на лаврах жёстко. Гораздо уютнее почивать на промокательной бумаге. Пафнутий в этом был уверен, так как однажды ему пришлось почивать на лавровом листе в кухонном столе, и он имел возможность сравнить.
Да, в четверг вечером наш герой лёг почивать не на лаврах, не на укропах, не на перцах или прочих суповых приправах, а на уже упоминавшемся ложе из промокательной бумаги. Когда-то этой бумагой промокнули некий чернильный текст, и на том кусочке, что стал ложем Пафнутия, просматривались две расплывшиеся фиолетовые буквы — «х» и «у». Конечно, таракан не знал, частью какого именно слова было это самое «ху», но почему-то он считал, что было то слово «сверхусовершенствование».
Именно в эту ночь с четверга на пятницу Пафнутию и приснился сон, ставший причиной неведомого ему доселе чувства.
Ему приснилась неведомая певунья, певшая тем самым голосом ту самую песню о художнике, продавшем всё своё имущество, чтобы преподнести заезжей актрисе миллион алых роз. Но закончилось пение припевом из другой песни:
Эту песню напевает молодёжь, молодёжь, молодёжь. Эту песню не задушишь, не убьёшь, не убьёшь, не убьёшь.Пафнутий не мог разглядеть певунью как следует — она маячила в некой дымке; он лишь заметил, как грациозно шевелилась пара усиков на её затылке и как эротично она двигала правой задней конечностью. Но так стало приятно спящему таракану от её присутствия, такая нежность наполнила его сердце, так сладостно затрепетали все фибры его души, особенно седьмая фибра слева (Или седьмой фибр? Какого они рода — мужского или женского — эти фибры?), так захотелось обнять певунью тремя-четырьмя конечностями, ласково погладить коготками её крылышки, отважно защитить её от какого-нибудь паука или другого криминального элемента!!!..
Проснувшись, Пафнутий находился под сильным впечатлением от сновидения. Даже аппетит у него… нет, не скажу, чтобы полностью пропал, но во время завтрака он съел пищи аж на десятую часть грамма меньше, чем обычно! В душе таракана поселилось так называемое томление.
Нашему герою очень захотелось поделиться с кем-нибудь этим новым чувством; узнать у опытного индивидуума, что бы это значило; получить совет о том, как теперь быть… Ну, конечно, с подобными чувствами нечего идти к таракану Геннадию, что живёт в трещине за отопительной батареей; или к мокрице Карлу Вольфганговичу, что имеет апартаменты под ванной; или к сверчку Ваньке, что обитает под кухонной плитой… Эти циники лишь посмеются над его томлением. Нет, со столь деликатными чувствами надо идти в одёжный шкаф — в гости к Аделаиде…
Беседу с молью Аделаидой Пафнутий начал с нейтральных тем.
Сначала они поговорили о погоде, царящей в квартире гражданина Ю.Э. Антикефирова.
Затем таракан рассказал, что с ним произошло в последний день рождения, то есть в прошлую среду.
Затем узнал от моли, что она планирует совершить завтра беспосадочный перелёт отсюда аж на кухню и обратно. На что Пафнутий напомнил ей о паутине Упыря за карнизом. Но Аделаида возразила, что столь виртуозному летуну как она паутины не страшны. Более того, она специально пропорхнёт мимо этой паутины, чтобы подразнить Упыря. Однажды, хвасталась Аделаида, даже сам гражданин Ю.Э. Антикефиров, наблюдая её виртуозный полёт, громко зааплодировал от восторга!..
И только после такого вступления Пафнутий рассказал моли о томных чувствах к приснившейся певунье. Опытная Аделаида, выслушав симптомы собеседника, понимающе пошевелила дряблыми крылышками, будто присыпанными бронзовой пудрой, и поставила диагноз:
— Это любовь, дорогуша моя.
— Нет!!! — ужаснулся таракан.
Наш герой как-то слышал окончание радиоспектакля «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира, поэтому знал, что любовь — штука смертельно опасная. А ведь он ещё так молод! Ему бы ещё жить да жить!
— Может, есть какое-нибудь средство… Ну, чтобы избавиться. А? — с робкой надеждой вопрошал обречённый.
— Средство одно: время, — отвечала Аделаида.
Она вещала аристократически: картавя и в нос. Впрочем, гнусавость была не столько следствием аристократизма, сколько следствием хронического насморка — аллергической реакции на нафталин, присутствующий в шкафу. Высморкавшись в кружевной платочек, который люди обозвали бы просто пылинкой, она продолжала:
— Ждите, дорогуша моя, ждите. Может быть, оно само пройдёт. Говорят, время иногда это лечит. Не горячитесь, дорогуша, не делайте резких необдуманных поступков, соблюдайте в меру возможности хладнокровие и ждите, спокойно ждите.
Пафнутий вернулся в расщелину плинтуса и стал ждать, когда пройдёт охвативший его недуг.
Остаток пятницы ждал.
Всю субботу ждал.
И воскресенье…
И вот, уже на исходе воскресенья, когда тоскующий от нежных чувств таракан собрался почивать на ложе, украшенном надписью «ху», над расщелиной плинтуса зашуршали по обоям чьи-то приближающиеся шаги. Пафнутий всё явственнее слышал прикосновение к обойной бумаге цепких коготков.
«Какое это членистоногое шастает в моей вотчине?» — насторожился наш герой.
Таинственный пришелец в нерешительности остановился у расщелины, затем стал ритмично шаркать конечностями.
— Кто там? — спросил таракан.
Незваный гость застенчиво кашлянул и продолжил шаркать на одном месте. Такая нерешительность визитёра успокоила Пафнутия, и он гостеприимно пригласил неизвестного:
— Да не вытирайте вы ноги, заходите уже, у меня тут всё равно не метено.
Нерешительный сунулся в расщелину, и Пафнутий ощутил тревожный запах паутины и трупов. «Упырь!!!» — ужаснулся таракан, и его маленькое сердце заколотилось в предчувствии жуткого конца. Неужели действительно Упырь, этот угрюмый нелюдимый каннибал, деловито плетущий за карнизом свою паутину и высасывающий внутренности угодивших в сии тенета членистоногих граждан, неужели именно он покинул своё закарнизье и забрёл в такую даль — в расщелину плинтуса?!
В квартире гражданина Ю.Э. Антикефирова было уже темно, а в расщелине плинтуса было бы ещё темнее, если бы не древнее пшённое зёрнышко, превратившееся в слегка фосфоресцирующую гнилушку, служившее ночником в каморке нашего героя. В призрачном свете этой гнилушки Пафнутий узрел мохнатого осьминога. Да, Упырь, собственной персоной!
— И до меня добрались, — чуть слышно прохрипел таракан пересохшей глоткой, чувствуя, что вот-вот грохнется в обморок. — Жаждете моих внутренностей.
Паук застенчиво почесал щетинистый затылок когтем правой передней конечности и буркнул:
— Та не, нынче я вечерямши. Побалакать с тобой хочу.
Пафнутий, впервые видя каннибала так близко и впервые слыша его скрипучий голос, отметил, что Упырь не проявляет свирепости и агрессивности. Это его чуть-чуть успокоило, и уже бодрее он ответил:
— Ну, бала… Ну, говорите.
— Я намедни одну моль схамал…
— Аделаиду?!! — похолодел таракан.
— Ага, Делавиду энту самую… Тьфу, одни мослы, никакого тебе деликатесу… Дык она, сердешная, перед смертонькой про тебе балакала… И адрес твой мне поведала…
«Бедная Аделаида! — скорбя, подумал Пафнутий. — Вот тебе и виртуозный летун, вот тебе и не страшны паутины!.. Только какого ж хрена она каннибалу про меня натрепалась! Ну, попала в лапы хищника, так лежи тихо и жди, пока тебя съедят, а язык-то распускать зачем! Мало того, что сама впуталась, так и меня тоже… О покойниках не принято плохо говорить, но налицо чрезмерная болтливость!»
— Да я тоже не больно аппетитный, — вслух произнёс он, как бы оправдываясь.
— Ша! Не про то речь! — продолжил восьмиконечный гость. — А балакала она вот чаво: дескать, тебе голос бабий волнуеть. Верно, али нет?
— Ну… — неопределенно протянул Пафнутий, и мгновенное воспоминание о приятном сне согрело сердце.
— А не тот голос, шо про цветы… энти… забыл… хризантемы, чё ли… в несметном количестве выво́дить? Ась?
— Про миллион алых роз, — уточнил Пафнутий.
— Дык я тожа маюсь! — обрадовался Упырь.
— Ну да! — не поверил наш герой.
— Зуб даю, век воли не видать! Житья мене нема! Всё зудить в башке энтот голос, растудыть его щетину, хошь голоси! Хошь об стену башкой… Вот такая, значить, приключилася со мной меланхулия, растудыть её щетину!
— А моль Аделаида сказала, что это любовь, — засмущавшись, сообщил Пафнутий.
— Жилистая была миларва, — ковыряя в челюсти когтем, небрежно бросил паук, а у Пафнутия всё внутри похолодело. — Я ей ещё когда башку отрывал, дык сразу скумекал, шо никакого в ей деликатесу, забодай её слизняк! А нафталином провонялася! Тьфу! Еле-еле схамал.
Пафнутий не нашёлся, что на это сказать, и лишь, соболезнуя, вздохнул.
— Да не об ей речь, — продолжал Упырь. — Про бабу побалакаем. Про ту, которая поёть. Ишь, как выво́дить, миларва! Дескать, штукатур, али там маляр, растудыть его щетину, всё как есть подчистую продал, да и накупил энтих хризантем, забодай его слизняк, да возьми и наваляй большую кучу энтих, стало быть, мимоз под окном одной миларвы… Прямо за душу берёть, растудыть её щетину. У мене, веришь ты, дык прямо слёзы из гляделок чуть не брызнули, забодай их слизняк, век воли не видать! Я как жевал кишки одной мухи, да как услыхал, дык чуть не подавилси от умиления, зуб даю, шоб мне издохнуть, если брешу!
Пафнутия стало подташнивать.
— Да не об кишках речь… Хоша если суръёзно, то мушиные кишки — энто, я тебе скажу, чистый деликатес: жирные, смачные, аж слюнки текуть. Мухи, они вкусные, миларвы… Ну да я про бабу, которая поёть. Больно хочется мене её, голосистую, в живом виде, значить, увидать, растудыть её щетину.
— Да, хорошо бы, — вздохнул Пафнутий.
— Я два дни тому отдыхал опосля обеда — сжевал молодого клопика, шоб он издох: изжогой замучил, миларвец, — и привиделася она мене во сне, ну, та баба певучая, забодай её слизняк. И снится, веришь ты, будто поёть она, значить, энту песню про мимозы, а щетинка на ей мягонькая, а ножки у ей мохнатенькие, такая лапочка, растудыть её щетину, вот так бы её, миларву, и обнял бы, шоб мне блохой подавиться! Во как! Любовь энто, али нет, не ведаю, а вот зудить её голос в башке, забодай её слизняк, и ни в какую, растудыть её щетину!
— И мне она приснилась, — смущенно пробормотал таракан и даже улыбнулся от умиления, вспомнив тот сон.
— Брешешь, миларвец, шоб ты издох! Брешешь, али как?! — обрадовался паук.
— Чистая правда. Мне она приснилась с такими очаровательными усиками, и задней ножкой так эротично шевелит, шевелит…
— Вишь ты, забодай тебе слизняк! Мы с тобой навроде как одного поля ягоды, растудыть твою щетину, одномысленники, забодай тебе… Одинаковая, видишь ты, у нас, стало быть, душа, миларвец. Нежный ты, стало быть, как и я, шоб ты издох! Нравишься ты мене, забодай тебе слизняк, век воли не видать!
Когда хищник признался, что таракан ему нравится, сердце у Пафнутия тревожно ёкнуло, испугавшись, что такая симпатия может иметь гастрономическую подоплёку.
— Ну, дык ты энто… Извиняй, шо я тебе побеспокоил, миларвец… Ты, небось, уже спать,… а тут я… — принялся разводить церемонии мохнатый каннибал.
— Да ничего… Бывает… Дело житейское… — отмахнулся Пафнутий.
— Ну, теперя ты тожа, растудыть твою… Тожа заходь до мене в гости, шоб ты издох. У мене есть засушенный комарик, дык мы его с пивком. А?
— Кхе… Да я, в общем-то, на диете, так сказать… Не употребляю, знаете ли…
— А, ну дык так посидим, без комарика, просто побалакаем. Я живу за карнизом с правой с…
— Я знаю, — перебил таракан. — Ну,… может быть,… как-нибудь…
— Ага, обязательно заходь, шоб ты издох. Буду очень рад, забодай тебе слизняк… Благодарствую, значить, за беседу, растудыть её щетину. Душеньку отвёл, аж полегчало… Ну, дык я пойду. До встречи!
— Скатертью обои! — пожелал хищному гостю вслух Пафнутий, а про себя добавил: «Чтоб тебя гражданин Ю.Э. Антикефиров увидел! Ишь, в паутину меня приглашает! Как же, спешу аж падаю! Единомышленник выискался! Жрёт членистоногих собратьев и не подавится, изверг!»
Упырь покинул расщелину в плинтусе, и наш герой слышал, как шуршат по обоям коготки мохнатого осьминога, удаляясь, всё тише и тише, пока совсем не затихли на высоте.
— Фу ты, — выдохнул Пафнутий и удручённо покачал головой.
В эту ночь ему снились такие ужасы, что и говорить о них не хочется.
На следующий день, в понедельник, наш герой срочно эвакуировался из расщелины в плинтусе. Ибо теперь прожорливый каннибал, благодаря болтливости покойной моли Аделаиды, знал адрес таракана и, чуть проголодавшись, может сюда нагрянуть, чтобы воспользоваться Пафнутием в качестве провианта. Единомышленник не единомышленник, а голод не тётка!
Новой обителью Пафнутия стало радио, висевшее в кухне на стене. Этот источник звуков был, конечно, жильём довольно шумным, но зато сей адрес страшному Упырю неизвестен. Пафнутий даже перетащил внутрь радио кусочек промокашки с надписью «ху», так он к ней привык.
В этих треволнениях по поводу Упыря и заботах, связанных с переходом на новую жилплощадь, как-то забылась и песенка о розах, и волнительное ночное сновидение с певуньей…
Поэтически выражаясь, «любовь прошла, как сон, как дым».
Стасим второй
Распахивая чувства перед всяким,
Рискуешь осложнить себе судьбу.
Эпилог
У автора в голове тараканы, подумал читатель.
1984, 2007 гг.
Апокрифы
Легенда о мокром деле
Обстоятельства знаменитого круиза
Поехали!
Юрий Гагарин
Жил когда-то старый Ной. Был у Ноя геморрой. Оттого ворчал порой: «Боже мой!»
А над Ноем жил сосед. Он купил велосипед, захотев объехать свет за пять лет.
И проснувшись как-то рано, чемодан приделав к раме, он уехал, не закрывши душ и краны.
Да, из кранов и из душа воды хлынули на сушу! На полу собралась лужа! Будет хуже!
Так на Ноя невпопад сверху хлынул водопад! Стал квартиру поливать, будто сад!
Ной больной давай вопить: в ЖЭК, мол, надо позвонить! К телефону не доплыть! Как тут быть?
Ной был мудрый человек. Мигом выстроил ковчег и остался в том ковчеге на ночлег.
А вода всё прибывала, заливала что попало, и народу, ох, немало засосала!
Жидкость буйно моросила и за сутки затопила: Китеж-град и Атлантиду, Харьков[9], Спарту и Колхиду — телефоны, стадионы, с поливалками газоны, роддома и гастрономы, и с Гоморрами Содомы…
И когда наш Ной проснулся, зыркнул, пукнул, поперхнулся, охнул, съёжился, согнулся и ругнулся.
И слезами он залился, и молился, и бранился, а потом опохмелился и забылся.
И упал на раскладушку, придавив щекой лягушку. Из лягушки аж какашки — на подушку.
Ведь ковчег — как остров он. И на него со всех сторон ползли: лягушка и питон, хамелеон, бизон, гиббон, горилла, слон и скорпион… Всех — миллион!
Зверьё узрев, нетрезвый Ной тиранозавра пнул ногой. И помер гад большой и злой под водой.
На бронтозавра Ной подул, тот в воду — бульк! — и утонул, и стегозавра в донный мул утянул.
На мастодонта плюнул Ной и за борт сбил его слюной. А мамонт сгинул под волной за кормой.
Тут слоны забились в щели, с перепугу дышат еле! Недотроги носороги облысели!
Ной сказал: «Вот это туши! Может, это даже лучше. Ведь пока найду я сушу, есть что кушать!»
1982, 2004 г г.
Легенда о морском волке и сухопутном пастухе
С примесью плагиата
Действующие лица:
Полифем — одноглазый пастух-каннибал выше среднего роста.
Одиссей — двуглазый мореход среднего роста.
Соратники Одиссея — многоглазый человеческий коллектив.
Действующие морды:
стадо Полифема — коллектив парнокопытных млекопитающих в составе: козлы, козы, бараны, овцы.
Место действия: пещера Полифема и её окрестности.
Одиссей и соратники отдыхают в пещере Полифема.
Одиссей. Однажды, в нежаркую зимнюю пору из гавани вышли, и путь был наш долог… Галеры разбиты. Дошли до упору… В пещере сижу, будто я спелеолог. Вином заглушая тоску, смакую сухую треску.
В сопровождении своего стада в пещеру возвращается Полифем.
Полифем. О сколько нам открытий чудных готовит славный аппетит! Устав от сыра вкусов нудных я съем того, кто здесь сидит! Прощай, моя диета! Со смаком съем субъекта!
Одиссей. Вот дядя самых скверных правил сюда не вовремя забрёл, непарным глазом пробуравил, как будто суслика орёл. Его пример — другим наука, но всё ж, зачем входить без стука!
Полифем. Припомни, дядя, ведь недаром циклопы славились ударом! Зловонным провонял ты паром пещеру — винным перегаром.
Одиссей. Буря мглою небо кроет, шторм на море не утих, и о чём-то гнусно ноет одноглазый старый псих…
Полифем. О дайте, дайте мне дубину — я свой позор сумею искупить: я наглеца так в зубы двину — не сможет он ни есть, ни пить!
Одиссей. У лукоморья одноглазый златые дни свои провёл, а я, герой, моря облазил, в боях трудился словно вол! Я отдохнуть хочу, и ты мне не мешай. Ты там переночуй, где зреет урожай. А мне не угрожай, конфликта не рожай.
Полифем. Я вырву грешный твой язык! Средь поля спать я не привык! Здесь ложки, кошки и бельё, и куры, шкуры — всё моё! Ты сам туда езжай, где зреет урожай!
Одиссей. Сиди возле входа пещеры сырой, вскормлённый на зло нам циклоп пожилой, сиди возле входа — я добрый теперь, — спиной опершись о прохладную дверь.
Полифем. Быть иль не быть — вот в чём вопрос — тебе в моей пещере! Коль хочешь жить, молокосос, так сам ступай за двери! А то сожру, как куропатку: съем пятку, обгложу лопатку, перекушу ребро и таз, и пасть порву, и вырву глаз!
Одиссей. Белеет глаз твой одинокий во тьме пещеры голубой. Что хочешь, дядя одноокий? Зачем чинишь такой разбой? В пещере места много. Сиди и нас не трогай. И не гневи ты бога — не зыркай глазом строго. Ведь я тебе не враг, могу и угостить вином, что дал нам Вакх. На, можешь вволю пить!
Одиссей отдаёт Полифему большую бутыль вина.
Полифем. Эх, полным полна твоя бутылочка, есть и градус, есть и вкус! Откупорил с жадною ухмылочкой и во хмель немедля окунусь! Я наполню бокал за бокалом… Про камыш пропою я вокалом… Дело лишь остаётся за малым: закусить бы вино мясом, салом.
Полифем выпивает вино и заедает одним из соратников Одиссея.
Соратники Одиссея. Съел, съел, съел, съел, съел! Страшен великан и смел! А друг наш был так мил и мал! Эх, гибнут люди за металл!
Полифем. Я приду к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, и поэтому с рассветом пить и есть примусь сначала. Вас тут много тунеядцев: на неделю хватит кушать. Буду в стельку напиваться, вволю жрать и бить баклуши!
Одиссей(шёпотом соратникам). Братцы-соратники, вечные странники, морем лазурным оплыли Европу вы; мчались вы, будто, как я же, изгнанники, с милого севера в глотку циклопову! Он захмелел и готов захрапеть. Больше его мы не будем терпеть! Сядем мы в лодку и двинем домой! Пусть остаётся голодный и злой!
Полифем. А ты-то кто? За древностию лет тебя в делах забыл спросить об этом. Сужденья чЕрпаю из забытЫх газет; времён Троянских войн не верю я газетам. Как имечко твоё, вино мне давший псих? Тебя я за питьё съем позже всех других.
Одиссей. Никто! Как много в этом звуке для уха моего слилось! «Никто», — зовёт меня супруга, и брат, и друг, и кум, и гость. Меня зовут Никто. И ты меня зови: Никто, Никто, Никто… Никто — твой визави.
Полифем. Запомню это я названье… Передо мной явился ты, как ножка сочная баранья, иль пряная икра кеты… Чтобы ты не расстался со мной до того, как я тебя съем, двери я привалю-ка скалой… Ты Никто — я циклоп Полифем.
Полифем закрывает выход из пещеры огромным камнем и ложится спать.
Соратники Одиссея. Спи, циклопик, спи, ужасный, баюшки-баю. Мы насыплем яд опасный в кружечку твою. Скажем прямо, для обиды: ты подлец большой! Станешь падалью ты видом, распростясь с душой.
Одиссей. Он камень на пути воздвиг нерукотворный! В пещере зарастёт грибами мой скелет… Нет! Если он умрёт, не сдвинув глыбы горной, то и для нас спасения из заточенья нет! Он должен быть живым, чтоб камень мог пропасть! Но что нам сделать с ним, чтоб не попасть в ту пасть?
Соратники Одиссея. Умом циклопа не понять, аршином общим не измерить… Чтоб мы спаслись, он должен встать и отворить пред нами двери.
Одиссей. Я достаю из широкой сумы дубликатом могучего рока моток лейкопластыря: хищнику мы заклеим непарное око. Если закроем единственный глаз — циклоп не увидит, не скушает нас.
Одиссей заклеивает спящему Полифему глаз кусочком лейкопластыря. Вскоре Полифем просыпается.
Полифем. Ночевала тучка грозовая на заду циклопа-великана, мне приснилось, молнии вонзая… Разбудил меня кошмар столь рано… Но почему темно вокруг? Мой глаз не видит мох и мух! Мой взор потух… Но я пастух. Я должен скот пустить на луг… Наверное, Никто-злодей мне вырвал глаз рукой своей! Но от меня он не уйдёт! Нащупаю и брошу в рот!
Полифем убирает камень от выхода из пещеры, садится в проходе и шарит руками.
Полифем. Как хороши, как свежи были розы, когда Никто мне расточал угрозы, когда он корчил рожи, строил позы, когда довольны, сыты были козы… Теперь Никто молчит, а козы голодны… Но из пещеры выйдут животные одни: ощупывать я стану любого, а затем овечку отпущу, а человечка съем! Да, от меня теперь никто не ускользнёт — непрошеные гости наполнят мой живот!
Одиссей(шёпотом соратникам). Люблю грозу в начале мая, а вот циклопов не люблю… Главу чешу, соображая, как нам пробраться к кораблю… Придумал! Из пещеры выйдем, прильнув к баранам снизу мы, — укрывшись под бараньим брюхом, сбежим из этой кутерьмы!
Одиссей с соратниками прячутся под баранами и вместе с ними выходят из пещеры; Полифем, ощупывая скот сверху, не обнаруживает людей.
Одиссей. Ура! Спаслись — и всё былое в отжившем сердце ожило! Мы это чудо-юдо злое надули, как нам повезло! Теперь вы мчитесь на галеру, а я за вами вслед примчу: скажу я всё, что накипело, непарноглазому хрычу.
Соратники Одиссея убегают на галеру.
Одиссей. Эй ты, циклоп, дурак без чести! Обманут ты, оплёван мной! С мурой в мозгу и жаждой мести поникни глупой головой!
Полифем. Поэтом можешь ты не быть, но стать покойником обязан! Как я хочу тебя убить, подлец, меня лишивший глаза!.. (Орёт что есть мочи). Циклопы-соседи, вам всем, всем, всем, всем кричу я, несчастный ваш брат Полифем!!! На помощь придите и кузькину мать покажьте ему, чтоб не смел обижать!!!
Голоса соседей Полифема. Кто обидел тебя, Полифемушка, кто?
Полифем. Да Никто, я вас всех уверяю, Никто!!!
Голоса соседей Полифема. А никто раз тебя не обидел, соблюдай-ка, сосед, тишину! Не ори, как эстрадный поп-идол! Не буди нам детей и жену! Есть нервные в наших селеньях — покинув домашний уют, тебя на скаку остановят и морду за крики набьют!
Одиссей. Прощай, немытая дубина — злой, глупый, жалкий обормот! Прощай пещера — дом кретина! Прощай парнокопытный скот!
Одиссей убегает на галеру.
Полифем. Гад Никто ко мне пришёл, навредил, чтоб сдох он. Раньше было хорошо, а теперь мне плохо! Не вижу я, но слышу я — потопал к морю гад. В него побольше камушек я брошу наугад.
Полифем на ощупь находит огромный камень и швыряет его в сторону галеры.
Одиссей. Над седой равниной моря гордо реет каменюка! Будет нам, ребята, горе: нас шарахнет эта штука! Бейте скорее о воду веслом — от минерала, авось, увильнём!
Галера делает рывок, и камень падает позади неё.
Одиссей. Кусок скалы, как дух изгнанья, летел над грешною землёй; едва спаслися мы от камня! Бултых! Он скрылся под водой! Но нас другой такой подарок циклопа может растолочь! Дружнее вёслами ударим! Ать-два, ать-два… Умчимся прочь!..
Галера уплывает.
Полифем. Оплёван я! И око моё теперь закрыто! Испачкан я пороком! Корыто мне, корыто!
1984, 2004 гг.[10]
На случай, если читатель недостаточно начитан, чтобы самостоятельно моментально определить все источники, из которых автор, так сказать, сплагиатил словосочетания для этой своей, мягко выражаясь, легенды, автор, прикидываясь не просто плагиатором, а плагиатором правдивым и бескорыстным, честно выкладывает список заимствований (в порядке присутствия в тексте): Н. Некрасов, «Крестьянские дети»; А. Пушкин, «О сколько нам открытий чудных…», «Евгений Онегин»; М. Лермонтов, «Бородино»; А. Пушкин, «Зимний вечер»; А. Бородин, «Князь Игорь» (опера); А. Пушкин, «Руслан и Людмила», «Пророк», «Узник»; У. Шекспир, «Гамлет»; М. Лермонтов, «Парус»; Н. Некрасов, «Коробушка»; П. Калашников (перевод либретто), «Фауст» (опера Ш. Гуно); А. Фет, «Я пришёл к тебе с приветом…»; М. Лермонтов, «Тучи»; А. Грибоедов, «Горе от ума»; А. Пушкин, «Евгений Онегин», «К ***»; М. Лермонтов, «Казачья колыбельная песня»; А. Пушкин, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; Ф. Тютчев, «Умом Россию не понять…»; В. Маяковский, «Стихи о советском паспорте»; М. Лермонтов, «Утёс»; И. Тургенев, «Как хороши, как свежи были розы…»; Ф. Тютчев, «Весенняя гроза», «Я встретил Вас — и всё былое…»; М. Лермонтов, «Смерть поэта»; Н. Некрасов, «Поэт и гражданин», «Есть женщины в русских селеньях…»; М. Лермонтов, «Прощай, немытая Россия…»; В. Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо»; М. Горький, «Песня о Буревестнике»; М. Лермонтов, «Демон»; А. Грибоедов, «Горе от ума».
Легенда о цементном госте
Исповедь испанского бабника
— Вы не имеете права. Я — член!
— Я те покажу, какой ты член!
М. Булгаков, «Ревизор с вышибанием»
Пришёл мой грустный час: лежу на смертном ложе. Святой отец, для вас я расскажу, как прожил… О том, как я грешил, коль скоро мой конец, я рассказать решил, святой отец…
* * *
Раз (попутал Купидон!) я в донью Анну был влюблён. К ней приходил я под балкон и бил поклон.
И серенады ночью пел, от страсти бел и страшно смел. Пел, как умел: её любви я так хотел!
А муж у доньи был таков: остерегаючись рогов, во всех мужчинах видел он своих врагов.
Однажды, помню как теперь, меня он вызвал на дуэль и обвинил: мол, осквернил ему постель!
Его проткнул в один момент… Ему воздвигли монумент: сплошной цемент — и сам клиент и постамент.
А Анна, ставшая вдовой, должна с поникшей головой ходить в тот склеп, где муж валялся неживой.
Её же я не покидал и даже в склеп сопровождал, в сырой и мрачный тот подвал, где труп лежал.
Ревнивых там не знал уж мук из камня сваянный супруг. На постаменте, как петух, но взор потух.
Я важный, будто генерал, с ним рядом встал на пьедестал и, взяв скульптуру за кинжал, ему сказал:
— При жизни ты был слишком зол. Теперь — цементный вот камзол. Теперь покой ты здесь обрёл супруг-козёл.
Жену при жизни ты берёг, хотя тебе к лицу был рог. Ты был так строг, но недалёк, и здесь ты лёг.
Но в смертный час, козёл-супруг, ты Анну выпустил из рук. Теперь я с нею провожу ночной досуг.
Ты, если можешь, огорчись и с постамента спрыгни вниз, в мой дом ворвись, свиреп как рысь, и убедись.
Я буду весел, нежен, пьян. Я обниму вдову за стан. А ты, из камня истукан, у входа стань.
Но нет, ко мне ты не придёшь. Тебя не тронет гнева дрожь. И не возьмёшься ты за нож. Теперь ты — вошь!..
* * *
И вот пришёл свиданья час. Мы с Анной съели ананас. А за окном уж день погас, вот как сейчас.
Не видно за окном ни зги. Вдруг будто слышатся шаги. То топот каменной ноги?! Бог, помоги!
Я слышу «топ» и снова «топ»… Испариною взялся лоб! И снова «топ»! От страха я чуть не усоп!
И громкий был удар о дверь! И рык, как будто рявкнул зверь! Вдруг дверь сорвалася с петель, да на постель!
По коже пробежал мороз, а гость цементный произнёс: «Ты звал меня, блудливый пёс. Получишь в нос!»
Ко мне он руку протянул. Меня как будто ветер сдул. Забился в страхе я под стул. Он не моргнул.
За ухо выволок меня, из стойла будто бы коня! Горело ухо от огня потом три дня.
— Давай мне руку! — прогудел. Я понял, что не буду цел — уж бел как мел; ещё чуть-чуть — и околел.
Вдруг пукнул я. И вышел срам. О, не поверил я очам! Он развалился по частям, как старый хлам!!!
* * *
Здесь исповедь, святой отец, прерву я наконец. Да, шёл тогда на монумент бракованный цемент!
1983, 2004 гг.
Легенда о Головном Уборе Цвета Крови и млекопитающем вида canis lupus, или Осенняя пастораль
Топтание на классическом сюжете, в шести томах
Том первый
Я не умею скрывать свои чувства: когда у меня есть причина для печали, я должен быть печальным и ни на чьи шутки не улыбаться; когда я голоден, я должен есть и никого не дожидаться…
У. Шекспир, «Много шума из ничего»
Сырость. Сырррость, чёрррт её подеррри!
Озяб-озяб-озяб! Озяб!
Сырость и холод можно было бы перенести, если бы не голод! Ах, голод-голод-голод! Выть хочется!
… Их было двое. Один выстрелил, другой… Другой! Да, он был вкусным… Бах! Выстрелом обожгло шерсть. Бег, бег, бег. И снова выстрел. И навстречу второй с ружьём наперевес. Зубы-зубы, глотка, кровь, голод, мясо. Первое двуногое без перьев существо, дегустированное мною.
Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!
Эхо-то какое! Что это стучит? Это зубы-зубы. Это холод-холод.
Утро… Когда же утро?!!
Том второй
Баптиста
Ну как, синьор? Поладили вы с дочкой?
Во всём сошлись?
Петруччо
Могло ли быть иначе?
Нам невозможно не поладить с ней.
У. Шекспир, «Укрощение строптивой»
— Что это?
— Плетёная из растительных прутьев утварь — посуда с ручкой — наполненная хлебобулочными изделиями домашней выпечки, кои предназначены для пожилой особы женского пола, что является моей родительницей.
— Ага, корзинка с пирожками для бабушки.
— Она болеет.
— Она болеет? Болеет! Болеет…
— Сходи к ней, Головной Убор Цвета Крови.
— Схожу к ней.
— Пойдёшь по тропинке, по…
— Я помню, помню!
— Ах, бабушка…
— Ничего, ничего, она выздоровеет.
— Птицы.
— Летят на юг. Холодает.
— Осень.
— Когда идти?
— Позавтракай и отправляйся.
— Говорят, млекопитающее охотника загрызло.
— Осень.
— Вкусно.
— Приятного аппетита…
— Ну, я поела. Спасибо.
— Иди.
— Пошла!
— По дороге не разговаривай с незнакомыми. Я тебя знаю!
— ?
— !!!
— …
Том третий
Зверь, Львом рекомый, что наводит страх,
Завидел Фисбу, что спешила к другу.
Он напугал её — и вот с испугу
Красавица бежала впопыхах…
У. Шекспир, «Сон в летнюю ночь»
Идёт! Смелое! Не боится идти по лесу. Маленькое! Вкусное, наверное. Поёт! Пой, родимое. Недолго осталось.
Ах, голод-голод, ты делаешь меня душегубом!
Небо! Птицы улетают туда, где тепло!
А я остаюсь здесь, где сыро и холодно. За что я не птица?
Желудок, не торрропи меня! Дай полюбоваться существом. Головной убор цвета крови молодого барашка. Зачем оно надело кровавый головной убор? Он будит во мне аппетитные воспоминания. Кровь, мясо, тёплое, солоноватое, ещё подрагивающее. Кровавый… Кровавый… Цвет огня, которым меня опалили в деревне! Птицы, возьмите меня туда, где тепло и сытно!
Желудок, ещё немного и я тебя наполню. Видишь, я уже вышел на тропинку. Желудок, потерпи! Не урррчи так тоскливо. Слышишь, я, стараясь не смотреть в доверчивые глаза существа, спрашиваю, куда оно идёт. Желудок! Ах, голод-голод!.. Бабушка. Это, наверное, сытно… Пирожки? Тоже сойдёт. Где живёт эта (Уррр!) бабушка? Тише, желудок. Потерррпи. Бабушка сравнительно недалеко. А существо пусть поёт пока. Постучать. Постучу! Постучу, и аппетитная калорийная тёплая бабушка не спеша откроет дверь…
Будь здорово, существо в кровавом уборе. Будь здорово пока. Ибо я предпочитаю здоровую пищу.
Птицы летят туда, где тепло. Я бегу туда, где бабушка. Желудок, не подкашивай мои ноги! Ах, голод-голод!
Том четвёртый
Джентльмены, не позволяйте ему бить старуху!
У. Шекспир, «Виндзорские насмешницы»
Стук, стук, стук!
— Кто там?
— Это я, бабушка, твоя внучка.
— А что у тебя с голосом?
— Замёрзла. Холод. Птицы на юг летят. Листья летят на мёрзлую почву.
— Там, деточка, на двери верёвочка. Дёрни, как обычно, дв… А?!!!
— А! Ррр.
— Ой! Ааааааа!
Хррр. Гм… Гм… Гм… Всё! Как быстро произошло. Голод. Даже не успел укусить, разжевать. Целиком, живьём. Что это хрустит на зубах? Стёклышки. А здесь тепло. Дрова горят. Ненавижу огонь! Но тепло. И простыня ещё тёплая. Одеяло. Зубы-зубы. Не стучите. Сейчас согреюсь… А за окном — холод, сырость, осень, птицы на ю…
Хррр… Хррр… Хррр…
Что такое? Кажется, задремал. Кто стучит?
— Бабушка, это я, Головной Убор Цвета Крови!
Ой, чепчик. Здесь не очень светло, оно не разглядит.
— Ау, деточка, ты там дёрни за эту, как её… Ну, в общем, дёргай! Она и откроется!
Птицы на юг, а мне здесь тепло, как летом. Благодать!
Том пятый
Рыло
Ох, Основа! Тебя подменили!..
Пигва
… Основа, спаси тебя Бог! Ты стал оборотнем!
У. Шекспир, «Сон в летнюю ночь»
Млекопитающее! В постели бабушки! Оно её съело!!!
Спрашивает, что принесла. Само знает, что пирожки, а спрашивает. Чепчик надело. Решило прикинуться бабушкой! Нашло дурочку!
А почему это у тебя, «бабушка», такие большие слуховые органы? Думает, я дура. Бабушку от зверя не отличу. Эх ты, млекопитающее! А почему это у «бабушки» (что оно ответит?) такие большие органы зрения? Опять «чтобы лучше…» Старое облезлое плотоядное! Ну, вот сейчас я тебя и разоблачу так, что тебе стыдно станет. Зубы! Зубы-то хищника.
Ну, вот, хищник и есть. Сыто по горло бабушкой, а всё равно и меня глотает. Что значит зверский аппетит. И после этого оно продолжит утверждать, что оно бабушка? Нет, зверушка, теперь ты полностью разоблачена!
В лесу жёлто и холодно, птицы на юг летят, а здесь темно, горячо и влажно. Это и есть желудок? А кто это копошится? Бабушка?! Вот мы снова вместе! Какое счастье!
Том шестой
Стой! Не уйдёшь! Попался, толстый плут.
У. Шекспир, «Виндзорские насмешницы»
Бог свидетель, не хотел я есть маленькое певучее существо: и без того сыт. Но оно само полезло в рот смотреть, какие у меня зубы. Сработал глотательный рефлекс.
Теперь мне трудно будет перемещаться. Во мне больше центнера. Подождать, пока переварится и выйдет? Но это долго. А вдруг кто заглянет в эту конуру бабушки, а тут я такой беспомощный от переедания. Нет, буду, от греха подальше, потихоньку отползать в лес… Там, конечно, холодно и сыро, но…
Ой, живот…
Ой, не могу терпеть…
Оооо…
— Эх ты, млекопитающее!!!
— Ну что за манеры — глотать живых людей.
— Кто тебя, зверушка, воспитывал?
— Она просто проголодалась.
— Вот тебе, зверушка, пирожки с мясом.
— Не спеши, млекопитающее, а то подавишься.
— Славно, бабушка, что при тебе всегда аптечка! И славно, что в аптечке было слабительное!
— И совсем славно, что в моей усадьбе есть баня. Этот запах…
Осень… Птицы на…
1985 г.
Корзинка для бумажек
Но неужели мы должны век серьёзничать, — и отчего же изредка не быть творителями пустяков, когда ими пестрится жизнь наша?
Из письма Н.В. Гоголя к Г.И. Высоцкому.
Истреблять прежде написанное нами, кажется, так же несправедливо, как позабывать минувшие дни своей юности. Притом если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого.
Н.В. Гоголь, «Предисловие к „Арабескам“».
Время от времени на автора этих строк беспощадно набрасывалось так называемое творческое вдохновение, или, ироничнее и самокритичнее выражаясь, припадки графомании, от чего он хватал первую подвернувшуюся под руку бумажку и что-то такое на ней черкал. Многие такие внезапные мелкие бумагомарания стали заготовками предложений и абзацев, что затем пошли в тексты сочинений. А некоторые так и остались ни к чему не пристёгнутыми обрывками. Большинство бумажек, конечно, затерялись «в пыли времён». Но несколько таких бумажных ошмётков, уже пожелтевших от старости, удивительным образом уцелели, и автор, вместо того, чтобы выбросить их в корзинку для бумажек, помещает несколько из них в этот свой сборник текстов. Полагая, что ошмётки забавны и могут пусть и не расхохотать, но хотя бы улыбнуть читателя, если его чувство юмора совпадает с авторским. Медицинские работники утверждают, что хохот, смех и улыбки, то есть веселье, очень полезны для здоровья. А здоровье чрезвычайно нелишне для того, чтобы жизнь была долгой и плодотворной. Стало быть, и забавные безделушки, пусть нелепые и курьёзные, тоже целесообразны, а потому имеют право на существование.
Бокал самогона
Сценка из жизни зарубежной буржуазии
Мистер Иванов: Я хочу поднять этот бокал за процветание чего-нибудь этакого, хорошего!
Сеньор Петров: Не возражаю.
Месье Сидоров: Поехали!
Выпивают залпом. Суетливо заедают квашеной капустой.
Сеньор Петров: Ух, хороша жидкость! Где достали, мистер Иванов?
Мистер Иванов: Сам гнал. Позавчера, на вилле «Аксинья». Знаете, на острове Мальта? Вы там были, месье Сидоров.
Месье Сидоров: Да, я был у вас на вилле «Аксинья».
Мистер Иванов: У меня там аппаратик припрятан, так что я произвожу потихоньку первачок по-мальтийски. Когда летел на эту встречу, прихватил в оба кармана по бутыли. Таможенников пришлось подкупить картинами Рубенса, чтоб не отобрали самогон.
Сеньор Петров: Эти таможенники совсем распоясались. Я намедни вёз из Киргизии в Голландию пачку порнографических журнальчиков, так пришлось сунуть таможне древнегреческую статую третьего века до нашей эры, чтоб журнальчики не изъяли. Три шкуры дерут, гады, с трудового миллионера!
Месье Сидоров: Не говорите за столом о таможне, а то меня стошнит.
Мистер Иванов: Ну тогда наполним бокалы и выпьем за процветание ещё чего-нибудь!
Выпивают, заедают, молчат.
Сеньор Петров (вяло): Ну шо, мужики, споём старинную буржуазную. (Поёт). Шумел тростник и пальма гнулась…
Все трое падают под стол и засыпают.
Занавес
Август 1993 года.
Вываливаясь сбоку…
Нечто, написанное после двух бутылок пива натощак, жарким вечером, под музыку Манфреда Мэнна
Вываливаясь сбоку, сохраняй неподвижность мыслей.
Ибо сказано: бреющийся бананом да иссякнет!
Святой Ч. говорил мне в период поедания тарани:
— Изыди, Геннадий Михайлович, аки трезвенник!
А в воздухах шныряли банальные словеса, спорхнувшие с моих уст. Не воробьи, мрази, не воробьи…
Кто-то шевелил извилиной внутричерепной, кто-то вешал вермишель на уши внимающих организмов, кто-то кому-то ломал кайф и челюсть, а я впал в созерцание святого Ч. В период поедания тарани…
Оный же святой Ч. говорил, согласно званию, афоризмами да притчами:
— Один человек словил муху и оторвал ей заднюю ногу. Что сие значит?
— Он был садист? — робко ответствовал я вопросом на вопрос.
— Изыди, Геннадий Михайлович! — грустил святой Ч., погружаясь низом лица в пену.
— Он был естествоиспытатель, экспериментатор! — предположил я.
— Пред кем мечу икру? То бишь не икру, а бисер! Суть притчи в том, что мушиная нога не имеет применения, как, например, нога быка, или оленя, кои можно употребить в питание. Так иные скудомыслые отрывают ошмётки скудных суетных информаций, вместо припасть к великому и вечному! Уразумел квинтэссенцию моей басни?
Вываливаясь сбоку, сохраняй неподвижность мысли.
Ибо сказано…
Конец
12 августа 1993 года
Древнеримский император
Древнеримский император Гай Юлий Чухопупенко стирал свои любимые сиреневые носки, когда в зал, топая импортными сандалиями (Made in Kyrgyzstan), вошёл древнеримский же сенатор Септимий Брут Квадригошвили.
— Приветствую тебя, о древнеримский император Гай Юлий Чухопупенко! — живописно подняв руку, густым басом выстрелил сенатор, и гром его мощного голоса был столь неожиданным, что не успей сенатор схватить императора за волосы на левой ноге, тот булькнул бы в мраморный бассейн, в коем стирал вышеупомянутые носки.
Волосы на ногах императора оказались на редкость прочные, благодаря чему император намочил только голову и руки, прежде чем был водворён на прежнее место — на берег мраморного водоёма в зале императорского дворца. Чего нельзя сказать о затонувших носках.
— Сколько раз просил не орать в ухо! — сердито проворчал Гай Юлий Чухопупенко, потирая волосатую ногу.
— Виноват, гражданин начальник, — щёлкнув пятками сандалий, извинился Септимий Брут Квадригошвили.
— Я слушаю тебя, сенатор, — произнёс кесарь, провожая грустными глазами углубляющиеся сиреневые пятна.
— Чего? А! Я говорю: приветствую тебя, древнеримский импе…
— Стоп! Это я понял. Дальше!
— Дальше? Гм. Дальше: …ратор Гай Юлий Чухопупенко!
— Дальше!!!
— Всё!
— Как — всё? Ты приплёлся только для приветствия?!
— Ну да.
— Свободен!!!
— Я могу идти?
— Иди на… Ага, заседание сената!
Проводив злым взглядом удаляющегося сенатора, мокроголовый древнеримский император Гай Юлий Чухопупенко пошёл искать длинную палку или иное приспособление для ловли в воде носков.
Чем закончилась носкалка (если бы он ловил рыбу, это называлось бы рыбалкой, но поскольку носки…) — исторические источники умалчивают.
Начало 90-х годов XX века.
Ну и что
— Ну и что! — не унимался Людовик Кавернадцатый, устало почесав пластмассовую корону.
— А то, Ваше Выскочкество, что наша армия в окружении врагов, и будет с часу на час окончательно разгромлена, — ответствовал Терентий Харитонович Дюпель — зам короля по общественной работе.
— Ну и что, ядрить её в ядра! — хмыкнул Людовик, почесав ногтем торчавший из кармана резиновый скипетр. — На кой ляд нам армия сдалась. Одни расходы. И вообще, я против гонки вооружений и за роспуск армий!
— Нет, ну всё же наши же люди. Жалко! — возразил Терентий Харитонович. — Их же посадят в концентрационный лагерь и будут кормить одними ананасами с рябчиками. Тоска зелёная. Они же, милые, со скуки затоскуют. Кино в концлагерях только по выходным крутят. А стриптиз-шоу всего раз в месяц приезжает. И в такой тоске наши доблестные солдаты проведут целый год! В карты играть не разрешают, только в бутылочку с поцелуями. А это, знаете ли, чревато… В общем, кошмар!
1981 г.
Примечание: это написано молодым фрезеровщиком приборостроительного завода во время вынужденного простоя без отрыва от фрезерного станка.
Потная ночь Эммануэлы
Ну очень эротический рассказ. Якобы.
— Борис Евгеньевич, давайте совершим половой акт, — сказала Эммануэла Сидоровна своему супругу.
— Давайте, я не возражаю, Эммануэла Сидоровна, против проведения данного мероприятия, — отвечал Борис Евгеньевич, вытирая салфеткой сметану с подбородка и волосатой груди. — Обнажайтесь, гражданка.
Гражданка обнажилась и приняла горизонтальное положение в брачном ложе. Супруг, почистив в ванной зубы и смыв остатки сметаны, переместился в спальню, погасил свет и присоединился к Эммануэле Сидоровне, укрывшись с ней одеялом. «Директор Курявасин со дня на день переберётся в министерство, это ни для кого ни секрет. Гогоперидзе метит в его кресло, — размышлял, приступая к совокуплению, Борис Евгеньевич. — Но это мы ещё посмотрим. Демьян Харитонович недолюбливает этого горца. У меня есть шанс…»
Когда порция спермы переместилась из Бориса Евгеньевича в Эммануэлу Сидоровну, супруги перестали потеть, пожелали друг другу спокойной ночи и уснули.
Конец ну очень эротического рассказа
Август 1993 года.
Добавление:
Автор этого сочинения, узнав о существовании литературной премии за наихудшее описание секса и полагая, что какая-никакая премия лучше, чем вообще никакой, в припадке честолюбия выдвигает своё произведение «Потная ночь Эммануэлы» на эту вышеупомянутую премию.
Представьте себе…
Представьте себе: этакая прерия с этакими скачущими на лошадях то там то сям индейцами, ковбоями и прочими конелюбами, а посерёдке этой прерии стоит этакий Я. И этот усато-бородатый Я разглядывает из-под козырька руки (от яркого солнца) эту самую окружающую прерию, сплёвывая порхающий в эфире песок, частично запорхнувший в рот этого самого Я, и слегка бранясь нецензурной прозой. Ну, в том смысле, мол, куда же это я попал. Мол, вот только что сидел за машинкой (но не стиральной) и бил пальцами по клавишам (но не рояля), и только, мол, выбил «Представьте себе…», как вдруг — бамс! — и вокруг меня не диван с машинкой и прочим интерьером, а какая-то пейзажная ширь в стиле «степь да степь кругом». И какой-то, тьфу, песок хрустит в слюне, и какое-то знойное солнце, а был же вечер, прикидывавшийся ночью. И, чёрт возьми, всадники, мол, какие-то перьеголовые скачут, вибрируя голосовыми связками. А другие не вибрируя, и не перьеголовые, но тоже скачут, мол. И не очень-то, мол, мне нравится такая смена декораций.
Это в переводе на цензурный язык.
А в этот миг индеец Виннету Чингачгукович Крутобизоненко, ловко увёртываясь от свинцовых, пахнущих горелым порохом мелких предметов, бороздящих атмосферу вдоль его перьев, замечает одинокую до боли фигуру этого самого Я. И с помощью узды направляет бег своей лошадки (по кличке Нашпаровозвперёдлети) к этой самой фигуре этого самого Я, как сказано выше, до боли одинокой. Фигура же, с тоской наблюдая за оной сменой маршрута, ещё нецензурнее начинает сплёвывать песок, в том смысле, что, мол, нахрена, мол, моя скромная личность попала в поле зрения увёртывающегося от свинцовых предметов. И, мол, увёртывался бы он себе в том же направлении, мол! Но Виннету Чингачгукович Крутобизоненко, увёртываясь, приблизился к одинокому Я и спросил его на примазикукском диалекте западноленграмайского наречия шишонского языка (он был из примазикукской группы западноленграмайской общины племени шишонов): «Хрузяй ды, — говорит, — на люлюкс щу ждыньдыбаешься, — говорит, — встряц?!» Этот самый Я, начиная увёртываться от тех самых мелких предметов, не владея индейским языком и не имея под рукой переводчика, на всякий случай пессимистично ответствует: «Сам ты такой!» Индеец Крутобизоненко разинул пасть, чтобы ляпнуть ещё что-нибудь инородное, да осёкся в связи с громким ржанием Нашпаровозвперёдлети и синхронным срезыванием одного из перьев бороздящим атмосферу предметом. И индеец шустро, но с достоинством удаляется, вместе со свистящими в его окрестностях пороховыми свинцульками, как от неподвижной фигуры угрюмого Я, так и от подвижных (за счёт непарнокопытного транспорта) фигур в широкополых головных уборах, у которых оные свинцульки выплёвывались из металлических машинок, сжимаемых перстами.
И представьте себе: когда этот Я, сплёвывая песок и страдая пессимизмом в том смысле, что трудно и почти невозможно остаться в живых в атмосфере, густо пронзаемой свинцовыми предметиками, от душевного смятения побледнел и пукнул, вдруг происходит следующее: оный Я вдруг обнаруживает, что находится не в прерии, а в родном интерьере, и окружают его не индейцы и пулеизвергающие ковбои, а милый диван, близкая машинка, клавиши коей продолжают топтать его — Я — творческие персты, и прочая обстановка личной жилплощади. И продолжая по инерции сплёвывать остатки несуществующего песка, этот самый Я вопрошает беззвучно: да как же это могло содеяться?! Какая-такая сила выдернула его из интерьера и зашвырнула на пару минут в прерию?
Что вы говорите, читатель? А? Громче. Авторское воображение? Ну не знаю… Может быть… тьфу, песок… может, и воображение. Ишь чего вытворяет, игривое!
Конец 80-х годов XX века.
Пьяный угар
Микро-новелла о загадочной русской душе
— Дааа, — протянул князь, поглядев в окно, — однако…
— Да полно вам шипеть, — крикнул Мафусаил и плюнул в пепельницу.
— Иди к чёрту! — взорвался князь и дёрнул Мафусаила за ухо.
— Зашибу, зараза! — гаркнул Мафусаил и впился в колено князя зубами…
— Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, — процитировал князь, вытирая полотенцем кровь с локтя и пиная труп Мафусаила пяткой.
— Ишь ты, — захихикал Фьюшкин, проснувшись и почесав затылок.
— Сам ты дурак, — обругал его князь, и двинул в зубы Фьюшкина кулаком.
— Подишь ты, — удивился Фьюшкин, облизнул окровавленные губы, прослезился и, хихикнув, вышел.
— Черви поганые! — крикнул князь и погрозил зеркалу кулаком. — Вонючий сатрап!
— Глаза навыкате! — хихикнул Фьюшкин в форточку, и князь запустил в него ботинком. Стекло со звоном посыпалось на ковёр.
— Трали-вали, — запел Фьюшкин и, улыбаясь, запрыгал по аллее зимнего сада.
— Дела! — вслух подумал князь и осушил стакан с раствором цианистого калия.
Конец
Осень 1983 г.
Примечание: это написано студентом машиностроительного факультета (специализация: робототехника) политехнического института во время лекции по математическому анализу.
Самоучитель ковыряния в носу
Искусство ковыряния в носу уходит своими корнями в седую древность. Это одно из наидавнейших занятий человека. Однако, несмотря на богатые традиции носоковыряния, овладеть этим искусством значительно легче, чем, например, искусством игры на пятиструнной флейте, или искусством дрессировки глистов и солитёров. Автор предлагает свои рекомендации, воспользовавшись которыми, ты, бесценный читатель, в совершенстве овладеешь этим занятием, с помощью которого сможешь украсить досуг. Причём предаваться этому увлекательному делу ты будешь с такой грациозностью, шармом, элегантностью, что не ударишь в грязь лицом даже в самом избранном светском обществе.
Ковырять в носу удобнее всего продолговатым предметом, а не, скажем, сферическим или кубическим. При условии, что диаметр поперечника этого продолговатого предмета не больше и не намного меньше диаметра ноздри. Ковырять телеграфным столбом, например, неудобно по причине слишком большого диаметра, а ковырять волоском из хвоста зебры — по причине прямо противоположной. Лучше всего для этого дела подходит палец. Автор рекомендует использовать палец руки, а не ноги; это удобнее (в чём автор убедился, проведя ряд опытов). Желательно делать это своим собственным, а не чужим, перстом, поскольку, как правило, другие люди отказываются предоставить для этого свои пальцы.
Прежде чем приступить к процессу ковыряния, определись, пальцем какой руки — левой или правой — ты собираешься это делать (однорукие могут проигнорировать этот совет), и какая ноздря — левая или правая — подвергнется ковырянию (а этот совет могут проигнорировать одноноздрые, если такие есть). Выбрав руку, отведи другую подальше, чтобы она не мешала процессу. Затем определись, какой из пяти пальцев должен быть введён в носовое отверстие. В процессе многочисленных опытов автор пришёл к выводу, что наименее для этого подходит большой палец, а наиболее — указательный и мизинец. Внимание! Ноготь должен быть коротко обрезан и обработан пилочкой, не иметь острых краёв и выступов, способных поранить нежную ткань носового прохода.
Выпрями выбранный палец параллельно предплечью руки, а остальные сожми в кулак, чтобы не мешали. После этого можно начинать перемещение пальца в направлении ноздри под прямым углом к нижней стороне носа. Перемещать палец следует не спеша, так как излишняя спешка может вызвать нежелательные последствия. Так, во время опытов автор однажды из-за большой скорости движения руки промахнулся и чуть не травмировал себе глаз, а в другой раз по той же причине чуть не вывихнул палец о подбородок.
Приблизив палец к носу, осторожно нащупай носовое отверстие, ибо ноздри находятся вне поля зрения человека, поэтому легко промазать. Убедившись, что, так сказать, вершина пальца расположена в непосредственной близости от носового прохода, следует…
Нет, это какая-то ахинея, белиберда, чушь и чепуха! Ибо, конечно же, ты, бесценный читатель, не нуждаешься в инструкциях и самоучителях на сей счёт, и можешь, в случае необходимости, поковырять в носу без всяких советов «специалистов». Поэтому вместо того, чтобы написать и издать «Самоучитель ковыряния в носу» в восьми томах с приложениями таблиц и схем, автор прерывает работу в самом начале, осознав, что такой труд не будет читателем востребован, и гонорар автору не светит. Тьфу!
Начало 90-х годов XX века.
Не воробьи
Моноложики и диаложики
Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Пословица.
— Один великий писатель сказал, дескать, в человеке всё должно быть прекрасно: и слюни, и сопли, и кал, и моча, и глисты, и пот, и перхоть, и ушная сера… Ну, или что-то в этом роде.
* * *
— Знаете, а Петров-то извращенец: он спит с мужчиной.
— Фу, какая гадость!.. Впрочем, спать с мужчиной — это куда ни шло: мужчина, по крайней мере, человек, так сказать, гомо сапиенс. А вот Сидоров докатился до ещё большего извращения: он берёт в постель кошку!
— Тьфу, мерзость!.. Впрочем, спать с кошкой — это не самое большое извращение: кошка — это, по крайней мере, живое существо, млекопитающее, как и человек. А вот Иванов докатился до самого большого извращения: он спит в одной постели с предметами неодушевлёнными — с простынёй, одеялом и подушкой!
— Тьфу, какая гадость!
— Какая мерзость, тьфу!
* * *
— У него губа — не дура.
— Хм.… У него губа настолько не дура, что хоть сейчас зачисляй её, губу, в члены Академии Наук. Но только губа: с мозгом у него гораздо хуже. Губа — не дура, а мозг — дурак.
* * *
— У моей тёщи есть бриллианты, изумруды, рубины и тому подобные камешки.
— У моей тёщи тоже есть какие-то камешки. Но она прячет их в собственных почках.
* * *
— Эх, был бы здесь Чарльз Дарвин, он бы показал вам, где раки зимуют!
— Это с какой же стати?! Что мы такого…
— А с такой стати, что Дарвин был великим биологом и много чего знал о живых существах, в том числе наверняка и то, где они зимуют. Вот и показал бы, если б вы его попросили.
* * *
— Великие и могучие русские люди живут на великой и могучей Русской земле! И говорят они на великом и могучем русском языке! А чтобы справить великую и могучую русскую нужду, ходят в великие и могучие русские туалеты и испражняются в великие и могучие русские унитазы! И экскременты их велики и могучи!
* * *
— Я полное ничтожество!
— Э, да у вас мания величия. Полное ничтожество. Нет, батенька, до полного ничтожества вам ещё расти и расти!
* * *
— Ты к ней лучше не цепляйся — она Тургеневскя девушка.
— Она?! Тургеневская?! — удивился я: ничего общего между этой девицей и девушками из романов Ивана Сергеевича Тургенева я не заметил. — А почему ты считаешь её Тургеневской девушкой?
— Она гуляет с Петькой Тургеневым — вором с Бурьяновки.
— А, в этом смысле…
* * *
— Меня пытался завербовать проникший на нашу территорию шпион. Светлый такой шпион. С крыльями. Со светящимся кругом над головой. Его к нам с неба забросили. Но я ему не поддался, а наоборот — обезвредил и задержал: поломал ему крылья, загасил его свет и передал в руки агентов госбезопасности. Там ему, подлецу, покажут, как проникать на нашу территорию и вербовать наших людей!
* * *
— Вытри сопли.
— Я уже приступаю к планированию начала проведения данного мероприятия.
* * *
— Ты не джентльмен! — кричала она.
— Нет, я джентльмен! — спорил он.
— Ты не рыцарь! — обвиняла она.
— Нет, я рыцарь! — возражал он.
— Ты — неандерталец! — воскликнула она.
— Нет, я андерталец! — объявил он.
* * *
— Гражданин хулиган, скажите, пожалуйста…
— Кто хулиган? Это я хулиган?! Это ты меня хулиганом…
— Ну да.
— Слышь ты, падла, да я тебе за такое оскорбление по морде…
— Именно это я и имел в виду.
* * *
— Вам, мужикам, только одно надо, — обиженно сказала она, поправляя юбку.
— Ну почему же только одно, — возразил он. — Я бы и от второго не отказался. Да и третье можно попробовать.
* * *
— Великий писатель Аввакум Ксенофонтович Грыль прославит нашу литературу! Но для этого надо, чтобы Аввакум Ксенофонтович Грыль, как минимум, родился. А для того, чтобы он родился, надо, как минимум, чтобы его папа и мама вовремя совершили половой акт. Но для того, чтобы его папа мог вовремя совершить половой акт с его мамой, надо, чтобы сам этот папа вовремя родился. А для этого надо, чтобы дедушка и бабушка Аввакума Грыля вовремя совершили половой акт. А для того, чтобы оная бабушка могла вовремя совершить половой акт с оным дедушкой, надо, как минимум, чтобы эта бабушка вовремя родилась. А для этого надо, как минимум, чтобы прадедушка и прабабушка вовремя сделали сама понимаешь что. Но чтобы они это сделали, надо, как минимум, чтобы прадедушка вовремя родился. А для этого надо, чтобы прапрадедушка и прапрабабушка будущего великого писателя Аввакума Грыля вступили в интимную связь. А для того, чтобы это произошло, надо, как минимум, чтобы оная прапрабабушка вовремя родилась. А для этого надо, чтобы прапрапрадедушка, грубо выражаясь, оттрахал прапрапрабабушку. Я тебя утомил? Потерпи, скоро ты узнаешь, к чему я всё это.… Итак, чтобы этот сексуальный контакт случился, обязательно надо, чтобы оный прапрапрадедушка, как минимум, да, вовремя родился. А для этого надо — да, да, да, — чтобы произошёл половой акт между прапрапрапрадедушкой будущего великого писателя Аввакума Грыля и его же прапрапрапрабабушкой. Короче говоря, я, как будущий прапрапрапрадедушка будущего великого писателя, предлагаю тебе, Зинаида, как его будущей прапрапрапрабабушке, немедленно вступить со мной в половую связь. Иначе мы будем виноваты в том, что не будет через двести лет великого писателя Аввакума Ксенофонтовича Грыля и его великих сочинений. И человечество нам этого не простит!
* * *
— Да что вы говорите всё об искусстве да о литературе и тому подобных мимолётных бренных пустяках. Давайте лучше поговорим о чём-нибудь вечном. Ну, например, о какашках.
* * *
— Вот поэтесса тут пишет, дескать, в её сердце вонзилась стрела любви. Но я-то знаю: во-первых, не в сердце, а во влагалище; а во-вторых, не стрела, а…
* * *
— У женщин только извращения на уме: выйти замуж, создать семью, родить детей и так далее. А вот чтобы просто трахаться по-человечески, без таких вот извращений, — нет, их это, видите ли, не устраивает!
* * *
— Будь счастлив, мой дорогой! Да, будь счастлив, и как можно скорее! Ибо если ты в течение часа не станешь счастливым, то я тебе, мерзавцу, за это всю морду побью!
* * *
— Вася, ну давай поженимся!
— Нюра, для того, чтобы два человека поженились и вели совместную жизнь, у них должно быть много общего: общие взгляды, общие вкусы.… Вот мне, например, нравятся женщины, нравится за ними ухаживать, нравится с ними… гм… это самое. А тебе, Нюра, нравятся женщины?
— Мне, Вася, нравишься ты.
— Ну, вот видишь, Нюра: мне нравится одно, а тебе совсем другое. Как же мы можем пожениться, когда у нас настолько разные вкусы?!
* * *
— Я не буду плясать под твою дудку! — воскликнул Иван.
— Будешь! — нахмурился Пётр.
— Нет, не буду!
— Будешь! — Пётр сжал кулаки.
— Нет, не буду я плясать под твою дудку, — пролепетал Иван, отодвигаясь, — но с удовольствием спляшу под твою гармошку.
* * *
— Я достаточно умён, чтобы произносить мудрёные слова, но, к сожалению, не настолько умён, чтобы понимать то, что я говорю.
* * *
— Я его убил, а он взял и воскрес! Я его опять трудолюбиво убил, а он опять воскрес! Я его ещё раз, не покладая сил, убил, а он снова воскрес! Ну ни стыда, ни совести у человека! Никакого уважения к чужому труду!
* * *
— Ты пока ещё не научилась молчать. А ну-ка, потренируйся. Я включаю секундомер: молчи… Так, на этот раз ты продержалась восемнадцать секунд. Уже получше.
* * *
— Я тебе уже в сотый раз говорю: не повторяй одно и то же по сто раз!
* * *
— Пусть в меня первым бросит камень тот,… у кого нет конечностей!
* * *
— Росинант не вынесет двоих, — сказал Пётр.
Боливар, подумал Иван, но поправлять поленился.
* * *
— Скажи честно, что тебя привлекает: моя душа или моё влагалище? — спросила она.
— Конечно, душа! — соврал он.
* * *
— И вот однажды я подумал: а почему бы мне ни родиться. Взял и родился… Люблю, знаете ли, рождаться. Как сейчас помню: рождаюсь это я, рождаюсь… Я вообще талантливо рождаюсь. В чём в чём, а в рождении я просто виртуоз.
* * *
— Он работает педерастом… Тьфу, опять оговорился! Не педерастом, а пародистом. Похожие слова. Путаю.
* * *
— Я очень скромный. Я фантастически скромный. Я самый скромный человек во Вселенной. Не побоюсь этого слова, я просто таки гигант скромности. Скажу без лишней скромности, что все остальные люди по сравнению со мной в аспекте скромности просто букашки! Равных мне нет. Я нечто особенное, выдающееся, сверхъестественное! Вот насколько я скромный.
* * *
— Она работает, не покладая рук, как Венера Милосская.
— Разве Венера была труженицей?
— Нет, я не к тому, что «работает», а к тому, что «не покладая рук». Ты видел эту скульптуру? У неё же нет рук. И поэтому она их не покладает, ибо невозможно покласть то, чего нет.
* * *
— Слышала, какое страшное преступление случилось в соседней комнате? — спрашивает торшер у настольной лампы.
— А что там произошло?
— Там люстру.… Нет, мне трудно об этом говорить! Люстру повесили!
— Ах! Какое зверство! Бедняжка! Вечная ей память!
* * *
— Эээ.… На чём я остановился?
— На моей ноге.
— Разве я говорил о вашей ноге?!
— Нет, вы на неё наступили и остановились.
* * *
— Помнишь то время, когда ты была невинной девственницей? Да наверняка помнишь, ведь это было три минуты назад.
* * *
— Да кто вам дал право скрывать от народа красоту своих гениталий?!
* * *
— Если женщинам можно носить бюстгальтеры, а мужчинам нельзя, то это дискриминация по половому признаку! Мы, борцы за сексуальное равноправие, требуем, чтобы лёгкая промышленность выпускала бюстгальтеры и для мужчин!
* * *
— Некоторые, вместо того, чтобы валяться на диване и смотреть телевизор, занимаются работой, спортом и прочей допотопной ерундой. Дикие люди, отставшие от цивилизации!
* * *
— А вот тоже смешная обезьянка!
— Тс! Это директор зоопарка.
* * *
— Я тебя пристрелю, как блоху! — пригрозил Пётр.
А Иван подумал, что пристрелить блоху — дело очень непростое, даже почти невозможное.
* * *
— В знак протеста мы объявляем голодовку!
— И как долго вы намерены голодать?
— Аж до самого обеда!
* * *
— Ты разве богатый?
— Конечно! У меня денег как грязи! Например, полная ванна стодолларовых купюр, так что даже помыться негде. Пятый месяц хожу немытый, вонючий.
— Ну, это ты заливаешь!
— Да нельзя заливать: купюры размокнут.
* * *
— Как говорится, устами младенца…
— … сосётся сиська?
* * *
— Вы знакомы с корейской кухней?
— Да я на корейской кухне собаку съел!
* * *
— Вы такой умный!
— Это гнусная клевета! Я не умный. Я очень-очень умный! Не надо путать.
* * *
— Почему ты такой невесёлый? — удивился Пётр, продолжая ударять Ивана доской по голове.
* * *
— Ты веришь в существование человека?
— Нет! Никто из нас никакого человека никогда не видел, значит, человека вовсе не существует! Это просто чьи-то выдумки!
(Из разговора глистов в человеческом кишечнике).
* * *
— Быть или не быть? Вот в чём вопрос, — говорил принц Гамлет.
— Давайте не будем, гражданин, — говорит милиционер Терещенко.
* * *
— Человеку, вкусившему дух свободы, трудно смириться с несвободой!
— Вкусившему дух? Ха! Ты ещё скажи: погрызшему атмосферу.
* * *
— Люди! Берегите огонь от пожарников! — умоляет Прометей.
* * *
— Мы тут тоже, знаешь ли, не лаптем щи хлебаем, — говорил он, зачерпывая из котелка щи галошей.
* * *
— Он работник искусственный.
— Робот, что ли?
— Нет, в смысле: работает в сфере искусства. Рабочий сцены в театре.
* * *
— Как вас зовут?
— Ну, это смотря, куда именно зовут. Обычно меня зовут с помощью телефона.
— Спомощьютелефона?! Какое редкое имя!
* * *
— Он выведет из себя кого угодно!
— Ну, выводить из себя, например, глистов — дело нужное.
* * *
— Ну о чём можно говорить с англичанами, если они не видели ни «Кавказскую пленницу», ни «Бриллиантовую руку», ни «Берегись автомобиля», ни «Гусарскую балладу», ни «Я шагаю по Москве», ни «Осенний марафон» и т. д. и т. п. Совершенно дикий, некультурный народ!
* * *
— Эх, у меня свадьба на носу!
— А у меня на носу прыщ.
— Ну, это тебе, считай, повезло.
* * *
Иван кричал Петру:
— Думаешь, если это самое, то и вообще? А вот и нет! Надо как-то таким образом, чтобы не то чтобы эдак, а совсем наоборот!
Пётр пожал плечами:
— Я тебя не пони…
— Ты меня не пони! — завопил, перебив, Иван. — Ха-ха! Он меня не пони! А я тебя не зебра!
— Бред сивого непарнокопытного, — пробурчал Пётр.
* * *
— Не хватало, чтобы я дышал задаром! Нет, вы мне как следует заплатите, тогда я буду дышать. А так — что ж. Дурак я что ли — делать что-либо за так!
* * *
— А ведь дельфины — существа довольно глупые. Об этом свидетельствует тот факт, что ни один из них не получил до сих пор Нобелевскую премию.
* * *
— Ты только подумай, Серёга: ведь такого в истории человечества ещё никогда не было, чтобы мы с тобой сидели на этой скамейке и трепались о яичнице! Представляешь?! Чего там только не было, в истории человечества, за тысячи лет, а вот этого не было никогда! Даже трудно поверить, но это факт!
— Ну почему же? Что ж тут, Колян, такого уникального?
— Эх, ну как же ты не поймёшь! Такое, чтобы два мужика сидели на скамейке и трепались о яичнице, в истории человечества уже наверняка было, и не один раз. Но никогда за всю историю человечества, за все тысячи лет, не было, чтобы это делали именно мы с тобой, и именно на этой скамейке! Никогда-никогда! За тысячи лет! Впервые в истории! Нет, ты только подумай об этом!
— А ты точно уверен?
— Конечно! Вспомни: мы про яичницу никогда прежде… Да и скамейка совсем новая, её только вчера поставили. Первый раз мы на ней…
— Ну, надо же! Впервые за всю историю человечества! Ай да мы! Вау!
* * *
— И забросил он удочку в лунку… Как в сказке: «Ловись рыбка большая и маленькая». И из лунки действительно… Нет, не рыбка, а человек, не большой, маленький. Но случилось это только через девять месяцев. Впрочем, то была не то чтобы лунка, да и забрасывал он в неё не то чтобы удочку.
* * *
— Сударыня, могу ли я на вас положиться?
— Я те положусь, жеребец похотливый!!!
* * *
— Хм-хм, — ухмыльнулся Иван.
— Не хмыхмыкай, — бросил Пётр.
— Ну ничего себе! — возмутился Иван.
— Не нучегосебекай. — огрызнулся Пётр.
— Как? — переспросил Иван.
— Не ка… Гм, — осёкся Пётр.
* * *
— Я подам на него в суд!
— За что?
— Он оскорбил меня до глубины души!
— Как оскорбил?
— Он обозвал меня звездой!
— Звездой? Ну и что в этом плохого?
— Как что?! Звёздами называются безголовые примитивные организмы, обитающие на дне морей и океанов. Обозвав меня звездой, он тем самым намекнул, что я субъект безголовый и примитивный! Я этого не потерплю! Он за это ответит!
* * *
— Говоришь, он может уничтожить всю Вселенную? Ну и что? Подумаешь! Одной Вселенной больше, одной Вселенной меньше — какая разница?!
* * *
— Нормальная температура человеческого тела — тридцать шесть — тридцать семь градусов по Цельсию. Такая жара характерна и для тропических широт Земли. Поэтому обитающих в человеке глистов я предлагаю считать тропическими животными.
* * *
— А он всё пишет да пишет свои романы, всё малюет и малюет свои картины, всё сочиняет и сочиняет свои симфонии… Совсем озверел!
* * *
— Иди в п…ду!
— Ну, нет! Возвращаться — плохая примета!
* * *
— Никита Сергеевич Хрущёв погрозил американцам, что покажет им кузькину мать. И помахал башмаком. С тех пор американцы, небось, думают, что русские считают башмак матерью какого-то Кузьки.
* * *
— Ты, Семён Николаевич, настоящая баба!
— Не смей называть меня бабой! Ещё раз назовёшь, я пожалуюсь жене! Она меня в обиду не даст, она меня защитит! Она тебе покажет, какая я баба!
* * *
— Эта дама — звезда телевидения. А эта дама — звезда театра. А эта дама — звезда кино. А эта — звезда эстрады.
— А эта?
— А эта… А эта — просто звезда пленительного счастья.
* * *
— Ну, как, твой малыш уже разговаривает?
— Неразговорчивый он у меня, молчун. Всё только пишет, пишет…
— Что пишет?!
— Ну, там, романы, пьесы, поэмы…
* * *
— Мне трудно выбрать: что съесть на завтрак — ананас, рябчика или чёрную икру.
— Трудно. А кому теперь легко?
* * *
— Он послал студента к какой-то матери. К какой? К альма-матери.
* * *
— Как всем известно, древнеримский писатель Гай Юлий Цезарь в свободное от литературных трудов время подрабатывал в должности верховного жреца, а также цензора, а также народного трибуна, а также диктатора, а также полководца. Из чего следует вывод, что и в те времена работа писателя не оплачивалась должным образом и, чтобы свести концы с концами, литератор вынужден был, что называется, «крутиться». Можно только представить, сколько ещё интересных книг написал бы Цезарь, если бы он не отвлекался на политику, войны и прочую ерунду!
* * *
— Бубыбеб бабабиб боббоб, — сказал незнакомец на чистом… неведомом языке.
«Если язык неведомый, то откуда же известно, что „на чистом“, а не с каким-нибудь акцентом?» — пожмёт плечами читатель. На что автор лишь отмахнется, дескать, ай, читатель, не придирайся к словам.
* * *
— Не любишь ты меня, — сказал сын отцу.
Отец возразил:
— Я тебя породил, я тебя и люблю.
* * *
— Ты неправильно делаешь ударения, — говорил педагог ученику. — Ударения надо делать вот так: прямо в челюсть!
Педагог был тренером по боксу.
* * *
— Хочу существовать! Эй, кто-нибудь! Родите меня!
* * *
— Один персонаж писателя Горького сказал, что гомо сапиенс — «это звучит гордо!» Но как часто кажется, что сапиенсом это гомо названо преждевременно!
* * *
— Замечательное произведение! Великолепное! Гениальное! Прекрасное! Шедевр! Но есть у этого произведения один крупный недостаток, который состоит в том, что творцом этого произведения являюсь не я!
* * *
— Во время турнира по быстрым шахматам на первенство организации бухгалтер Дуриков лихорадочно ходил то одной, то другой фигурой. Вдруг ему поднесли стакан с чаем. Дуриков не только быстро походил стаканом, расплескав жидкость на доску, но и убил им неприятельскую пешку.
* * *
— Это талантливая семейная пара: жена гениально танцует танец живота, а муж лихо пляшет танец затылка.
* * *
— Великий поэт стремился «глаголом жечь сердца людей». Наверное, можно не ограничиваться только глаголом, но производить кремацию вышеназванного органа также с помощью существительного, прилагательного, наречия, причастия, деепричастия, местоимения, числительного, предлога, союза и даже, на худой конец, междометия. Пример: «Я жгу сердца людей междометием „Цыц!“»
* * *
— Он был дворником. Но не простым дворником, а знаменитым. Настолько знаменитым, что прохожие брали у него автографы. А поскольку прохожих было много, то ему приходилось целый день раздавать автографы и у него совершенно не оставалось времени на то, чтобы подметать улицу.
* * *
— Если люди в телевизоре называются телеведущими, то мы — зрители — должны называться телеведомыми. Вот только куда они нас телеведут? И откуда нас телеведут? И куда, в конце концов, телеприведут?
* * *
— Нашего начальника смело можно назвать болваном!
— Смело назвать… Нет, лично я смело назвать не могу. Только несмело, трусливо.
* * *
— Милый, я вот что подумала…
— Не может быть!
— Не перебивай! Вот что подумала. Я тебя ласково называю то слоником, то котиком, то козликом, то зайчиком… Может, мне так не разбрасываться, а, суммировав, называть одним словом: «млекопитающее»?
* * *
— Он не из тех, кто любит сорить деньгами. Он из тех, кто любит сорить окурками и шелухой подсолнуха.
* * *
— Мне только что в голову пришла одна оригинальная мысль! Но, увы, её мгновенно вытолкали оттуда пинками мысли неоригинальные.
* * *
— Сейчас прохожу это я мимо парикмахерской и вижу картину: томная парикмахерша состригает у клиента локон за локоном и задумчиво бормочет: «Любит. Не любит. Плюнет. Поцелует. К чёрту пошлёт. К сердцу прижмёт. Любит. Не любит…»
* * *
— Я трудился, не покладая рук, слушая, как дикторы радио трудятся, не покладая языка.
* * *
— На выставке засушенных бабочек у меня возникло подозрение, что энтомолог-коллекционер, поймав очередного мотылька, говорит себе библейскую фразу: «Распни, распни его!»
* * *
— Этот молодой человек, по-моему, подаёт большие надежды.
— А мне так и кажется, что, подавая надежды, он по-холуйски поклонится, шаркнет ножкой и скажет: «Надежды поданы-с, барин».
* * *
— Меня ударили по правой щеке, и я, как учил Иисус, подставил левую. Ну, правда, не свою левую щёку, чужую. Хотя тот тип сопротивлялся, не хотел, чтоб я подставлял под удар его щёку. Но я ему, гаду, заломил руки, и он по своей левой щеке получил увесистую оплеуху. Не одному же мне должно доставаться!
* * *
— К символу бесконечности приделали дужки — получились очки.
* * *
— Снова этот писатель сгоряча сморозил эпопею.
* * *
— Как гласит народная мудрость: не испражняйся в унитаз — пригодится воды напиться. Или что-то в этом роде.
* * *
— Он настолько популярен, что не представляет для меня ни малейшего интереса.
* * *
— Да это же отпетый добряк и отъявленный интеллигент!
* * *
— Прочитал я эту книгу, прочитал… Похоже, написано автором в трезвом виде, со всеми вытекающими из этого недостатками.
* * *
— Это существо — образец декоративной породы человека. То есть красавица.
* * *
— Требовать от современного сочинителя, чтобы он был абсолютно оригинальным, это всё равно, что требовать от химика, чтобы он работал только с такими элементами, которых нет в таблице Менделеева.
* * *
— Гляди, в небе шныряют НЛОнавты верхом на своих НЛО! Причём НЛО как две капли воды похожи на мётлы.
* * *
— Он работает укротителем человеков. То есть прокурором.
* * *
— Если есть скрипичный ключ, то, наверно, должна быть и скрипичная отмычка?
* * *
— Гражданки проститутки, в наше отделение милиции пришёл святой отец, чтобы прочитать вам проповедь на тему: «Кто шлёпнет тебя по правой ягодице, обрати к нему и другую». Ну, или что-то вроде того.
* * *
— Там, где нет цензуры, все слова формально являются нецензурными, ведь некому их формально одобрить.
* * *
— Видел, Колян? Проехал чёрный «Мерседес». Эх, мне бы такой!
— Ага, шикарный… Странно, Вован, почему ж все мы говорим «проехал чёрный „Мерседес“»? Хотя следовало бы говорить: «проехала чёрная „Мерседес“». Ведь МерсЕдес — с ударением на втором слоге, а не на третьем — имя женское. Не говорим же мы «проехал белый „Лада“», или там «проехал красный „Таврия“». Похоже, мы поменяли в данном случае женский род на мужской только потому, что женское имя Мерседес не заканчивается на «а» или «я». А зачем перенесли ударение — вообще непонятно.
* * *
— В прозе чрезмерная художественность иногда выглядит дурным украшательством, как кружева на гимнастёрке.
* * *
— Если в произведении начисто отсутствует всякая фантастика, то такое произведение трудно считать реалистическим, ведь реальность довольно фантастична.
* * *
— Сегодня хотел вот сказать на улице незнакомой девушке, что она очень красивая. Но промолчал. Побоялся: а вдруг она решит, что я хочу с ней переспать, и обзовёт меня старым похотливым пердуном.
* * *
Глядя на коммерсанта сквозь оптический прицел, киллер шёпотом декламирует:
— Я вас убью, чего же боле, что я могу ещё сказать…
* * *
— Смотри, облака в небе такие чистые, мягкие, нежные, что хочется воспользоваться ими в клозете вместо туалетной бумаги.
* * *
— Нашёл гайку! Осталось привинтить к ней автомобиль, и будет на чём ездить… Нашёл пуговицу! Осталось пришить к ней шубу, и будет во что зимой одеться… Нашёл черепицу! Осталось подложить под неё дом, и будет крыша над головой. Хорошо!
* * *
— В ходе следствия выяснилось, что в ночь со второго на третье июня прошлого года киллер Улиткин убил сто двадцать восемь живых существ. Из коих одно было бизнесменом, а остальные — комарами.
* * *
— … И снова закинул старик невод в воду. И вытащил целый косяк золотых рыбок. Не успел он загадать желание, как рыбки исполнили своё собственное: покушать. Рыбки были золотыми пираньями. Царствие небесное деду.
* * *
— Выпей чарку — открой чакру.
* * *
— Иван Иванович любит читать. Пётр Петрович любит петь. Семён Семёнович любит играть в шахматы. А вот я люблю испражняться. И делаю это вдохновенно, талантливо и виртуозно. У каждого свои увлечения.
* * *
— В моменты интимной близости они называли друг друга «товарищ самец» и «товарищ самка»: «Иди ко мне, товарищ самка!» — «Возьми меня, товарищ самец!»
* * *
— Между чувством юмора и чувством голода я бы выбрал первое.
* * *
— Слышишь, в телевизоре о чём-то кряхтит под музыку симпатичная Бритни. Это кряхтенье у них песней зовётся. Как это у Достоевского, у Фёдора Михайловича: «Сесиль кряхтит от любви в продолжение пяти актов».
* * *
— Александр Македонский занимался оккупацией чужих земель, усмирением свободолюбивых народов, уничтожением друзей и соратников, а также, возможно, ковырянием в носу и другими грандиозными делами, за что человечество прозвало этого мерзавца Великим.
* * *
— Милый, тебе никогда не приходило в голову, что называть рыжего зверька белкой так же странно, как белого зверька называть рыжиком?
* * *
— Он настолько сильно любит деньги, что даже вступил с ними в интимную связь.
* * *
— Поэт Маяковский написал, что он «волком бы выгрыз бюрократизм». А я сейчас из миски волком бы выгрыз картошку с салом или ещё какую вкуснятину. Зверский аппетит!
* * *
— Прочитал в газете объявление: «Всякому, кто переведёт 100 гривен на мой личный счёт, вышлю совет: как стать обеспеченным». Думаю, совет там простой: дать в газете аналогичное объявление.
* * *
— Исследования показали, что все, кто родился, либо уже умер, либо обречён умереть в будущем. Поэтому специалисты рекомендуют: чтобы избежать смерти, не рождайтесь.
* * *
— Не в деньгах счастье, говорят люди. Не в людях счастье, думают, наверно, деньги.
* * *
— Свидание закончилось положительно: я её положил.
* * *
— Похоже, пернатое на гербе Российской Федерации страдает раздвоением личности.
* * *
— Боюсь, как бы в больницах не появились такие объявления: «В случае, если пациент умирает во время хирургической операции, хирург, на всякий случай, производит контрольный выстрел из пистолета в голову пациента, дабы быть на сто процентов уверенным в летальном исходе».
* * *
— Это случилось давным-давно. С тех древних времён прошло уже аж целых тринадцать секунд…
* * *
— А дарёным граблям в зубья смотрят? А в бурном омуте ангелы водятся?
* * *
— Мечтаю снять эротический фильм с названием незатейливым и прямолинейным: «Голые бабы».
* * *
— Этот графоман сочинил приключенческую повесть, которую назвал то ли «Секрет загадочной тайны», то ли «Секрет таинственной загадки», то ли «Загадка таинственного секрета», то ли «Загадка секретной тайны», то ли «Тайна секретной загадки», то ли «Тайна загадочного секрета».
* * *
— Он бессребреник: испытывает равнодушие к серебру. Другое дело — золото. Беззлотником, если так можно выразиться, он не является.
* * *
— Говорят, от смеха появляются на лице морщины. А ещё говорят, что смех продлевает жизнь. Так что надо выбирать: либо смеяться и жить долго, но с морщинами; либо не смеяться и жить без морщин, но недолго.
* * *
— Я пытался поймать кайф от просмотра кинобоевика, но кайф оказался слишком шустрым, юрким, неуловимым.
* * *
— Каждый человек — кузнец своего счастья.
— Но, похоже, не у каждого есть молот и наковальня.
* * *
— Эта девочка не по годам информирована в вопросах пола. Ещё в детском саду на загадку «Висит груша — нельзя скушать» она дала ответ: «Мошонка». Это шокировало воспитательницу, она говорила об этом с родителями. Те отнекивались, дескать, мы ей ничего такого… Сами, мол, не знаем, где нахваталась…
* * *
— Она любит употреблять уменьшительно-ласкательные варианты слов, и даже русский язык называет: «руссенький язычок». А он наоборот этого не любит, поэтому даже бардачок в автомобиле называет бардаком.
* * *
— Да какой он писатель?! Он не писАтель, а пИсатель. И какатель.
* * *
— Я люблю всяких живых существ, — признавалась она, — поэтому мечтаю завести аквариумных рыбок, хомячка, мужа, кошку, черепашку и попугайчика.
* * *
— Животные, живущие с человеком, называются домашними, или даже ручными. Животные, обитающие отдельно от людей, называются дикими. К какой из этих категорий отнести глистов?
* * *
— Прения между автором и его внутренним голосом указывают, что автор не имеет твёрдых позиций, а как Гамлет закомплексован в метания и сомнения: быть или не быть, бить или не бить, пить или не пить, ныть или не ныть, рыть или не рыть, мыть или не мыть и т. д.
* * *
— Он заявляет, что страдает экзотическим недомоганием — «тунгусским метеоризмом». Чёрт знает, что это значит.
* * *
— Народная мудрость гласит: «Сделал дело — гуляй смело». Мудрость она конечно мудрость, но тут бы не помешало уточнение: какое именно дело. Ибо бывают такие дела, что гулять смело ты можешь, пока их не сделал. А если сделал, то уж смело не погуляешь, а, наоборот, будешь трусливо прятаться.
* * *
— Этот артист настолько талантлив, что ему рукоплещут даже безрукие.
* * *
— Вампиры забирают чужую кровь, а доноры отдают другим людям свою. Поэтому можно сказать, что доноры — это вампиры наоборот, а вампиры, соответственно, — это доноры наоборот.
* * *
— Ну что ты ходишь тут с непричёсанными соплями, — говорит Пётр.
— Почему «с непричёсанными»? — удивляется Иван.
— А что, скажешь, что ты свои сопли причёсывал? — хмыкнул Пётр.
— Нет, конечно. Да кто их вообще…
— Ну, так вот я и говорю.
* * *
— Если женщина очень красива, то ей можно простить даже то, что она одета. Впрочем, если женщина очень некрасива, то за то, что она одета, её не только можно простить, но и испытать к ней за это чувство благодарности.
* * *
— Он, вообще-то, мог бы быть хорошим. Но в этом случае его бы хвалили окружающие. А он настолько скромный, что не может слышать хвалебных слов в свой адрес. Поэтому, из природной скромности, он не позволяет себе быть хорошим. Оттого и лупит окружающих по мордам. Скромник, что ж тут поделаешь.
* * *
— Ты моя драгоценность, — шептал он ей.
— Ах, приятно слышать, — млела она.
— Нет, ты не просто драгоценность, а большая драгоценность, целое сокровище.
— Спасибо за комплимент.
— Ты моё чудо.
— Продолжай.
— Нет, ты не просто чудо, а большое чудо, целое чудовище…
— Тьфу на тебя! Сам ты чудовище! Пошёл вон, придурок!
* * *
— Вон, видишь, — говорил один другому, — под кустом…
— Ага, вижу. — отвечал другой, — лежит говно.
— О чём это говорит?
— О том, что там кто-то покакал.
— Нет, мой молодой друг, — возразил первый, — это ни о чём не говорит, ибо ЭТО говорить вообще ни о чём не может, поскольку у ЭТОГО нет ни рта, ни языка, ни голосовых связок.
Молодой присмотрелся: а ведь действительно… И поразился молодой мудрости собеседника.
* * *
— Думаю, если бы дождевые тучи понимали человеческую речь, то всё же глагол «дождитесь» для них означал бы не, что он означает для людей.
* * *
— Бьюсь об заклад, что сегодня пойдёт дождь.
— Конечно, биться об заклад безопаснее и приятнее, нежели биться, например, о каменную стену головой, но в заключении пари тоже есть опасность — можно проиграть. Поспорили вы, например, с кем-то на собственную жену, что сегодня пойдёт дождь, а дождь взял да не пошёл. Всё — проиграли и вынуждены свою жену отдать выигравшему.
— Ну нет, на свою жену я спорить не стану. Разве только на тёщу.
* * *
— Говорят: кашу маслом не испортишь. Но, в крайнем случае, каша может быть и без масла. Поэтому предлагаю другую формулировку: крупой кашу не испортишь. Если крупа качественная и хорошо сварена, конечно. Не уверен, что кашу, в которой есть масло, но нет крупы, можно считать кашей.
* * *
— Она была то ли в чёрном белье, то ли в белом чернье.
* * *
— Мы не знаем, о чём думает волк, перегрызая горло барашку. Может, он думает по-своему, по-волчьи: «Прости меня, грешника, Господи, ибо Ты сам меня таким создал. Аминь».
* * *
— Я вижу, ты совершенно не умеешь грустить. Давай, научу.
— Ай!!! Больно же!
— Не обижайся. Просто для грусти должен быть повод.
* * *
— Каждая собака знает, что гав гав ррр гав ууу гав ррр.
* * *
— Он не бросает слов на ветер. Ибо пустые обещания даёт только в безветренную погоду, или же в помещениях, где ветра вообще не бывает.
* * *
— Человек создан для счастья, как мы — птицы — для полёта, — сообщил страус пингвину.
* * *
— Я думал, что это мусор из сортира, а оказалось — произведение современного искусства: абстрактная живопись коричневой субстанцией на туалетной бумаге.
* * *
— Милостиво прошу вас, сударь, ну позвольте мне дать вам по морде. Ну хоть разочек. Не откажите в такой любезности, Христом-Богом умоляю!
* * *
— Он человек на букву «г». Нет, не в плохом смысле. Просто его зовут Григорий.
* * *
— Насколько я помню уроки истории, первым обматерил Киев князь Вещий Олег: сказал, дескать, Киев — мать-перемать городов русских.
* * *
— Я вот всё думаю: где же мне лучше встретить этот праздник — в кругу семьи, или же…
— А какие ещё варианты?
— В овале семьи, в прямоугольнике семьи, в ромбе семьи, или, например, в трапеции семьи.
* * *
— Можно вас на минутку?
— Нет-нет, у меня сейчас полон рот забот, и полные ноздри проблем!
* * *
— Милая девушка. Но почему у неё груди сзади?
— Это не груди, а крылья, ибо она истинный ангел.
* * *
— Вы совершенно за собой не следите.
— Ничего подобного! Я не только за собой слежу, но даже доношу в правоохранительные органы о результатах этой слежки.
* * *
— Бывают водосточные трубы, а бывают трубы словосточные, именуемые телефонами.
* * *
— Уверен, что мне бы очень нравилась музыка композитора Иеронима фон Цуцкина. Жаль, что этот композитор до сих пор не родился, и неизвестно, родится ли когда-нибудь.
* * *
— Было ли возбуждено дело о хищении на этом строительстве кирпичей?
— Дело было настолько возбуждено, что дошло до оргазма!
* * *
— Он держал под мышкой портфель с ценными бумагами.
— Портфель с ценными бумагами надо держать не под мышкой, а под злой собакой. Мышка не сможет его защитить.
* * *
— Ты благородный?
— Да.
— Честный?
— Да.
— Скромный?
— Да.
— Давай разберёмся. Скромный не стал бы хвастаться, что он честный и благородный. Сказал бы: пусть об этом судят другие. Значит, признав себя благородным и честным, ты поступил нескромно. В таком случае утверждение, что ты скромный, является враньём. А раз ты прибегнул к вранью, значит ты не честный. А раз не честный, значит не благородный. Логика.
* * *
— Я изобрёл и создал живого человека.
— Ай, не надо врать. Никаких живых человеков не может быть. Это чистая фантастика, — ответил роботу Васе робот Коля.
* * *
— Я так с утра до вечера занят отдыхом, что на работу у меня не остаётся никакого времени.
* * *
— Да кто тебе дал право!?
— Тот же, кто дал мне лево.
* * *
— Ах ты ж жид пархатый!
— Я вижу, вы страдаете антисемитизмом.
— Ничего подобного! Я антисемитизмом не страдаю! Я антисемитизмом наслаждаюсь!
* * *
— Иисус Христос говорил, что надо любить всех, даже своих врагов. И я люблю своих врагов. Люблю трудолюбиво, жестоко, беспощадно, до полного их изнеможения.
* * *
— За такими как ты нужен глаз да глаз!
— А за такими как ты нужен пуп да пуп!
— В каком смысле?
— А пуп его знает.
— Опупеть!
* * *
— Говорят, в доме престарелых царит дедовщина. И бабовщина.
* * *
— Он считает слово «херувим» оскорбительным, исходя из «неприличности» первого слога.
* * *
— Я тебе в морду дам!
— Нет, не дашь. Хотя бы потому, что у меня нет морды. Только лицо.
— Вот в лицо и дам!
— Нет, в лицо я принципиально не принимаю.
* * *
— Он сочиняет рассказики для эротических журналов. Подписывая их псевдонимом — Уильям Секс-пир.
* * *
— А слабо показать кузькина отца?
* * *
— А теперь, дети, давайте вспомним, как жили через двести лет после нас наши потомки. Вспоминайте, вспоминайте. Мы проходили это на уроках по истории будущего.
* * *
— Ничего подобного, я никогда не занимался растлением несовершеннолетних! Я растлевал только несовершенновесенних, несовершенноосенних и несовершеннозимних.
* * *
— Если у вас денег куры не клюют, не расстраивайтесь! Обратитесь к нам, и мы научим ваших кур клевать деньги!
* * *
— Камень упал со скалы на Евграфа и убил его. Пётр, друг покойного, не смог простить этого минералу, и решил ему отомстить, поступив с ним точно так же. То есть Пётр задумал упасть со скалы на этот преступный камень. Такое злодеяние камня не должно остаться не отомщённым!
* * *
— Тебе нравится писатель Нестор Редискин?
— Ой, это мой любимый писатель! Жалко только, что я ничего из написанного им не читал, и до этой минуты не знал о его существовании.
* * *
— Тьфу на вас, уважаемый! — сказал Пётр.
— Сами вы уважаемый! — огрызнулся Иван.
* * *
— Гоголь упоминает в «Мёртвых душах» птицу-тройку. А Крылов рассказывает не про птицу-тройку, а про птице-рако-рыбу-тройку. Ну, в басне «Лебедь, рак и щука».
* * *
— На счету писателя Нестора Редискина есть детективная повесть с лихо закрученным сюжетом. А на счету слесаря Петра Семёнова есть болт с лихо закрученной гайкой. Не только писатели умеют лихо закручивать.
* * *
— Вы ведёте себя безобразно!
— Во-первых, я никуда себя не веду, а стою на месте. А во-вторых, стою весьма образно, а вовсе не без-образно.
* * *
— Смотрите, смотрите, вдали краснеет жёлтая синева!
* * *
— По моему, ты прав.
— Да никакой я не Прав. Я Петя Пупкин.
* * *
— Это армия-освободительница. Да, армия-освободительница, ибо она освобождает! Она освобождает другие страны от независимости, народы — от свободы, а людей — от жизни.
* * *
— Иван пригрозил Петру, что покажет ему где раки зимуют. А Пётр предложил ему поместить этих раков в его, Ивана, прямую кишку. Ну, это я смягчил формулировку. Пётр выразился грубее и вульгарнее.
* * *
— Буду тебя щекотать.
— Гм, кажется, я попал в щекотливое положение.
* * *
— Гамлет Гамлетович, не морочьте череп бедному Йорику!
* * *
— Это был не кто иной как неизвестно кто. Да, именно он — неизвестно кто, собственной персоной. Я сразу понял, что это неизвестно кто, поскольку именно так его себе и представлял. По-моему, все неизвестно кто именно так и выглядят.
* * *
— Есть контакт!
— Сам его ешь! Ишь, командует!
* * *
— Зашёл недавно в магазин «Лакомства», а там товаров нет, пустые полки, — говорит один.
— Стало быть, лакомства раскупили, а новые ещё не подвезли, — предполагает другой.
— А люди там были? — спрашивает третий.
— Были, конечно, — продавцы за прилавками, — отвечает первый.
— Тогда у меня такая версия: это был магазин для людоедов, а люди и были лакомствами, — фантазирует третий.
* * *
— Эх, как жалко тратить время на такую пошлую ерунду, как приобретение денег!
* * *
— Имеет ли человек право быть абсолютно бесправным?
* * *
— Слову «интеллектуал» вовсе не обязательно быть синонимом слову «зануда» и слову «сноб».
* * *
— Галстук — разновидность ошейника, а ошейник — символ рабства. Поэтому чиновники, будучи рабами бюрократической системы, без галстуков не могут обойтись, а мы, люди свободные, предпочитаем их не носить.
* * *
— Планеты вращаются вокруг своей оси. Планеты вращаются вокруг Солнца. Солнце и другие звёзды вращаются вокруг центра галактики. Да и сами галактики, наверно, вращаются вокруг чего-нибудь… Ну и карусель же — наша Вселенная!
* * *
— Не хочется жить в дерьме. Даже если дерьмо золотое и бриллиантовое.
* * *
— Говорят: дуракам везёт. Значит, если тебе не везёт, можешь себя утешать, мол, стало быть, я не дурак.
* * *
— Ампутация совести, чести, справедливости и благородства может привести к повышению личных прибылей. Но ампутанты считаются инвалидами.
* * *
— Если у тебя возникнет непреодолимое желание уничтожать людей, то начни с самого себя.
* * *
— Человеческая жизнь — явление временное, можно сказать, мимолётное, поэтому не стоит воспринимать её со чрезмерной серьёзностью и солидностью.
* * *
— Не стоят лишние деньги того, чтобы ради них топтать свою совесть.
* * *
— Я предлагаю тебе сумасшедшие деньги!
— Ну посуди сам: зачем мне сумасшедшие деньги, если я не сумасшедший.
* * *
— Я деловой человек, поэтому думаю о прибылях.
— Деловой человек — это тот, кто думая о прибылях, не забывает о совести, благородстве, морали, человечности, нравственности, чести, порядочности и терпимости. А тот, кто об этом забывает и думает только о прибылях, тот не деловой человек, а деловой нелюдь.
Месть Оскола
Апокриф
И придоста к горам х киевьским, и уведа Олег, яко Осколд и Дир княжита… И убиша Асколда и Дира… И седе Олег княжа в Киеве, и рече Олег: «Се буди мати градом русьским».
…
И прииде на место, иде же беша лежаще кости его голы и лоб гол… И вьступи ногою на лоб; и выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу…
Повесть временных лет
В один из дней осеннего месяца вресеня, который выдался в том году — 6420-ом от сотворения мира — по-летнему знойным, князь киевский Олег вернулся с охоты в Киев вместе с верным Свенелдом и молодым Мистишей. Сойдя со своего серого в яблоках жеребца по кличке Кмет и передав коня хромому Олександеру, старейшине конюхов, князь вдруг вспомнил рыжую, как белка, кобылу Мысь, на которой ездил ещё до похода на греков. И спросил Олександера:
— А как там моя кобылка поживает, моя Мысь?
— Издохла твоя Мысь, княже, — вздохнул конюх.
— Издохла?!
— Ещё пять годов тому, когда ты был в Византии.
— Что ж ты до сих пор не говорил?!
— А ты ж и не спрашивал.
— Издохла, — повторил Олег и вдруг расхохотался.
Мистиша Свенелдич, сын воеводы, отрок рослый и грузный, весь в отца, удивлённо выпучил глаза: странно, князя развеселила смерть любимой лошади!
— Я ж ещё за четыре года до похода на Константинополь спросил Доку: отчего я умру, — стал пояснять свою неожиданную реакцию Олег, — и Дока предсказал, что я приму смерть, дескать, от неё, от Мыси. Ну, я подумал: а действительно, кобыла горячая, с норовом. Вот она меня сбросит, и я сверну себе шею. Или лягнёт копытом в висок… Я и приказал вот ему, Олександеру, чтобы конюхи пасли её подальше от Киева, а сам с тех пор больше к ней не подходил и даже не видел. И вот теперь — Мысь дохлая, а я — вот он — живой! Посрамил кудесника: избежал его пророчества, ха-ха-ха…
Воевода киевский Свенелд, борода которого — лисьего колера — по краям уже чуть засеребрилась сединой, тоже усмехнулся, потирая толстым грубым пальцем шрам на лице: выходит, всё же можно избежать даже тех неприятностей, которые напророчил кудесник Дока!
— Её скелет лежит в Кирпичевом яру, — добавил Олександер и повёл Кмета к конюшне, волоча левую ногу и загребая носком пыль…
После этого стал докучать князю киевскому Олегу внутренний голос: езжай да езжай, де, к останкам Мыси. Да что я, конских костей не видел, что ли, тоже мне невидальщина, ещё время тратить на дохлятину, отмахивался от внутреннего голоса властелин Киева. А внутренний голос своё нудит: поезжай в Кирпичев яр, поезжай в Кирпичев яр… Да съезжу, в самом деле, чего уж там, Кирпичев яр не так уж и далеко. А на обратном пути сделаю небольшой крюк: понаведаюсь к старому бортнику Гуду, полакомлюсь гречишным мёдом в сотах… Приказал оседлать Кмета и, не сообщив никому цель поездки, поскакал из Киева к Кирпичевому яру, названному так в честь Кирпича — славянского божества — покровителя мхов и трав…
Хотя и солнце с безоблачного неба сияло ярко, жизнерадостно; и мотыльки, стрекозы и птички порхали весело; и дерева, кусты и травы радовали очи жизнеутверждающей зеленью; одним словом, хотя природа источала оптимизм и радость бытия, на душе у Олега по выезде из стольного града почему-то сделалось тревожно и хмуро. Но врождённое упрямство и настойчивость удержали его от того, чтобы, отказавшись от намеченного под влиянием смутного настроения, повернуть назад. Решено — в Кирпичев яр, значит — в Кирпичев яр; и плевать на настроение…
А на полпути нахлынуло на него вдруг, ни с того ни с сего, воспоминание о первых минутах его пребывания в Киеве. О деянии тридцатилетней давности. Заметались перед внутренним взором, как живые, образы тех переломных мгновений… И, погрузившись в память, князь направлял жеребца к намеченной цели почти машинально…
Тогда, тридцать лет назад, весенний месяц травень выдался в Краине Полян по-летнему знойным. Яркое светило с глади голубого верхнего океана щедро грело земную твердь. Почва, пропитанная обильно талой водой (зима была очень снежной), выстрелила пышной зеленью. Всюду порхали мотыльки и птички. Сердца и очи радовались весёлому буйству природы.
Вот в один из тех славных травневых дней и прибыл в Киев — столицу русов-полян — вестник из Новгорода — столицы Краины Словен. Мохнобровый такой мужичок со скользкими глазками. Прибыл, приплыв в челне по Днепру, и сообщил киевским правителям, что, дескать, сюда, в Киев, с дружеским визитом, предложением о сотрудничестве и богатыми дарами, направляется по Днепру же на ладьях новгородская делегация во главе с молодым новгородским конунгом. И прибудет если не завтра, то послезавтра…
И действительно, через день с севера приблизилась к Киеву целая флотилия…
На берег Днепра, сверкающего под солнцем как размашистая россыпь алмазов, встречать новгородских гостей спустились оба правителя киевские. Один — чуть полноватый, вальяжный плешивый Оскол, другой — тощий, юркий, смуглый курчавый брюнет Дир (шестой десяток, а ни седого волоса, ни лысины). А с ними — многочисленные родичи: жёны, дети, внуки, братья, сёстры, племянники… Анастасия, внучатая племянница Дира, рыжая веснушчатая девчонка семи лет, даже прихватила с собой на встречу северных гостей любимую домашнюю зверушку, обезьянку Матоху, подарок заморских путешественников, что приплывали в Киев в позапрошлом году, но не с севера, как эти, а с юга.
По правую руку от многолюдных княжеских семейств ровными рядами выстроилась княжеская дружина в праздничном облачении, а поодаль на склоне бесформенной массой столпились простолюдины — любопытные ротозеи.
Князь Оскол, с каплями пота на безволосом черепе, из-под ладони (светило слепит глаза) наблюдает приближение суден, шевелящих вёслами, как насекомые-водомерки ножками. Борта ладей снаружи украшают боевые щиты, похожие на большие расплющенные корнеплоды. Оглядывается на родичей и невольно смеётся — очень уж комичны скоморошеские ужимки мартышки на кожаном поводке.
С ладьи, приплывшей во главе флота, на бревенчатый причал перебрасывается сколоченный из сосновых досок трап. По нему лихо сбегает на киевский берег молодой варяг, невысокий коренастый прыщавый блондин, двадцатичетырёхлетний светлоглазый швед. За ним гуськом сходит интернациональный отряд новгородских кметов — отборных витязей, новгородская гвардия. Молодой варяг с гордой осанкой и властным взором — это и есть конунг Халги, возглавивший Новгород три года назад, после смерти конунга Рьорика. Бедный Рьорик…
Отметив, что все его кметы уже на берегу, Халги решительно направляется к выступившим навстречу Осколу и Диру, князьям киевским, побратимам-соправителям. За властелином новгородским как тень следует молодой богатырь Свенелд, увесистый рыжий гигант со шрамом на лице — от переносицы к скуле; уже назначенный на должность воеводы, хотя ему от роду только неполные двадцать лет. Впрочем, сам Халги был даже несколько моложе, когда конунг Рьорик сделал его новгородским же воеводой. Целеустремлённые активные люди без комплексов и сантиментов на удивление быстро делают карьеру.
Печально кричит на дубе птица. Неожиданная тучка, незаметно появившись на чистом небе, прикрывает солнце, набрасывая на Киев лёгкие сумерки. Срывается ветер, на удивление прохладный среди такого зноя; по Днепру шевелятся волны; шумит дуб.
Они остановились лицом к лицу — молодой, резвый, решительный, порывистый косматый Халги и умудрённый, неторопливый, много повидавший, много переживший и много размышлявший пятидесятичетырёхлетний облысевший Оскол. Светлоглазый швед смотрит на князя киевского надменно и холодно, будто не гость, а суровый господин. Это немного коробит Оскола, но он тепло и мягко, как и следует гостеприимному христианину, произносит:
— Приветствуем тебя, дорогой гость, в городе Кия!
Душа князя ещё не осознала, что случилось, а его пронзённое металлом тело уже рухнуло на колени. «Дорогой гость», выдернув из жертвы окровавленный клинок, смотрит на поверженного с насмешкой и презрением, смакуя его агонию.
Оскол принял крещение и стал христианином ещё двадцать два года тому назад, сразу после похода на Константинополь. И некоторые земляки последовали его примеру, но Дир, верный побратим, предпочёл молиться прежним богам, что, впрочем, не мешало их дружбе. Однако Оскол не принуждал киевлян креститься (как это сделает один из его правнуков, Володимер), считая выбор веры делом добровольным. Но сейчас, в последнее мгновение своей жизни, он вдруг обратился не к христианскому Иисусу, учившему прощать врагов и подставлять под удар щёку, а к славянскому Сварогу, творцу Вселенной, древнему покровителю Руси. Угасая, Оскол понял, что его убили, и, харкнув кровью, хрипит:
— Великий Сварог, дай мне…
Халги не даёт ему договорить: наносит заточенным металлом второй удар, окончательный.
Свенелд между тем не терял времени даром и молниеносно срубил боевым топором князя Дира, как дровосек деревце.
В тот же миг дружинники киевские, возмущённые коварством пришельцев-душегубов, выдернули из ножен оружие. Но воспользоваться им не успели — в их тела со свистом вонзились летучие остроносые прутья: в ладьях поднялись скрытые до того лучники.
Кметы конунга Халги с агрессивными криками кинулись рубить и колоть родичей убиенных правителей Киева: мужчин, женщин, детей, младенцев. Под корень оба княжеских рода, чтобы уже никто из здешних не смог никогда претендовать на киевский престол! Сам Халги догоняет визжащую девочку, хватает за рыжую косичку… Блеснул металл…
Простолюдины, шокированные гибелью князей, их родни и дружины княжеской, бросаются врассыпную и забиваются в свои хижины, молясь, кто Сварогу, кто Иисусу… Зря они боятся: конунг Халги пришёл убить только князей с их родичами и защитниками, дабы обрести власть над Киевом. Он вовсе не собирается истреблять киевский народ, он собирается им править.
Пришельцы с севера ещё добивают раненых, а их вождь, забрызганный алой жидкостью, садится на землю под необъятным дубом, срывает пучок травы и вытирает им испачканное красным, с прилипшими рыжими волосиками, лезвие меча.
Тучка исчезла, ветер стих, снова солнечно и знойно.
Теперь Киев мой, самодовольно думает Халги. Птица, вспорхнув с ветки, уронила на нового властелина Краины Полян густую чёрно-белую каплю. Швед ругается на родном языке и вытирает с плеча помёт, размазывая заодно чужую кровь.
Хорошо-то как: тепло, солнышко здесь щедрое, не то что у нас на севере; погода, говорят, в основном ясная, а на родине почти постоянная облачность и слякоть; природа тут пышная, яркая. Днепр плещет, дуб шелестит, птички щебечут… Благодать!..
Дуб древний, морщинистый, необъятный. Ему, наверно, больше пятисот лет, а то и вся тысяча. Может, он здесь рос ещё в те давние времена, когда Киев назывался Данпрштадиром и был столицей королевства остроготов. Может, именно под этим самым дубом, думает Халги, проводя ладонью по рельефной коре, более пяти столетий назад старого Германариха, конунга остроготского, закололи мечами братья девицы Сунилды, как гласят древние саги.
— Что с трупами делать? — Свенелд, присев на корточки на границе суши и воды, зачерпывает ладонями из Днепра и смывает с рук и лица красные брызги.
— Князей, пожалуй, можно закопать здесь, в городе, а остальных, чтобы не возиться, просто выволочь за город подальше, раскидать по лесам и лугам. Пусть вороны пируют, орлы, волки, львы и другие твари. А здесь кровь надо засыпать песком, а то неприятно…
Кстати, львы… Живя в Новгороде, а тем более на родной шведской земле, на львов не поохотишься — нет их там, на севере. Зато здесь… Охота на львов — знатное развлечение, достойное великого конунга. Вот ещё одно преимущество жизни в Киеве. Так думает Халги, наблюдая, как оставшиеся в живых киевляне, которых вытащили из хижин и подгоняют его воины, волокут убиенных, оставляя на грунте рубиновые полосы. Конунг ёжится: бабы визгливо голосят над покойниками и от этого воя у него мороз по коже. Но такова традиция, не запрещать же. Дрожащий подросток искоса зыркает на суровых пришельцев, что подталкивают его к трупику в рубиновой луже. Испуганно вспорхнул пёстрый мотылёк с рыжей косички.
Итак, теперь он, конунг Халги — властелин Киева. Громко, чтобы слышали и соратники и туземцы, изрекает:
— Киев будет матерью городов руцских!
Сказал и сам удивился: имел в виду — городов шведских, а брякнул: «городов руцских»! Ну, то есть руцы — это ж и есть шведы: финны называют шведов руцами. Но почему он, швед, говоря по-славянски, употребил вдруг финское слово? Видать, живя в Новгороде среди финнов да славян, он уже начал понемногу забывать родной шведский язык, но слова туземцев ещё путает. Ох уж эти туземцы. Бестолковые славяне даже имя его — Халги, что значит Вещий — перекручивают на свой лад и говорят то «Олги», то «Олег»… Ну да ладно, сказал и сказал. Все его разноплеменные соратники — и шведы, и славяне, и финны — поняли же, что он имел в виду. Зато как славно сказано! Какая броская формулировка! Эти слова будут передаваться из уст в уста, думает Халги, и войдут в историю!
Восхитив соратников исторической фразой, конунг направляется осматривать княжеские хоромы на холмах, где ему теперь предстоит жить. Вдруг возле него возник мохнобровый мужичок со скользкими глазками; семенит рядом, забегает вперёд, заглядывает в очи и заискивающе лепечет что-то: «…как и было задумано… поверили, ничего не заподозрили… никакой обороны, никакого сопротивления… легко, как овец… а если бы не я…»
— Получишь обещанное, не волнуйся, — бросает Халги, брезгливо отстраняя попрошайку сильной рукой.
И вдруг его суровое лицо расплывается в улыбке: конунг узрел смешную зверушку, похожую на хвостатого человечка. Обезьянка забавно суетится, пытаясь удрать от пришельцев, но её не пускает поводок, запутавшийся в прутьях куста. Халги, освободив намотавшийся на ветки кожаный шнур, подтаскивает зверька, хватает и, похохатывая от комичных гримас мартышки, продолжает восхождение на холм киевский…
Да, первый день в Киеве…
А затем не всё так сложится, как планировалось.
Халги планировал стать основателем новой монархической династии; рассчитывал, что Киевской Русью сотни лет будут править его потомки. Ан нет: никаких потомков у него не будет. Он несколько раз будет женат, будет иметь и много внебрачных связей, но ни одна из женщин не родит ему ребёнка. Он сначала будет думать, что проблема в женщинах, но когда брошенные им станут рожать от других мужчин, поймёт — проблема в нём самом. Будет обращаться к знахарям-кудесникам, но они не помогут…
Он планировал сделать Киев шведским городом, даже «матерью городов шведских», но вместо этого под влиянием туземцев-славян и он, и его земляки, сами здесь, так сказать, ославянятся. Станут говорить преимущественно по-славянски. Примут славянские обычаи. Станут молиться не скандинавскому Одину, а славянскому Сварогу (впрочем, оставаясь так называемым язычником, Халги не будет притеснять немногочисленных киевских иудеев и христиан, даже позаимствует у последних и распространит среди язычников христианское летоисчисление, согласно которому захват им Киева случился в году 6390-ом от сотворения мира). Даже свои скандинавские имена станут произносить на славянский манер: не Ингвар, а Игор, не Халга, а Ольга, не Рьорик, а Рюрик, не Валдемар, а Володимер… Сам он, конунг Халги, станет официально называться князем Олегом.
Он с рвением будет обустраивать державу Киевскую. Покорит соседние славянские племена: радимичей, сиверян, деревлян… заставит их платить Киеву дань. Он обложит данью даже те финские и славянские племена, что помогли ему овладеть Киевской страной — кривечей, мерю, словен… и даже сам Новгород! Будет воевать с уличами, с тиверцами… Когда иудеи-козары, которым до того платили дань сиверяне и радимичи, возмутятся, что Киев перехватил у них этот лакомый кусок, Олег пойдёт войной и на козар, разорит их поселения вплоть до Каспия… Он захватит даже Константинополь, или, как говорили на Руси, Цезарьград (сокращённо Царьград); и в знак победы собственноручно приколотит к главным вратам византийской столицы боевой личный щит; наложит на греков большую контрибуцию и подпишет с Византией очень выгодные для Киева договоры. Эта победа будет для него принципиальной — так он покажет окружающим, но в первую очередь самому себе, что он более достойный правитель Киева, нежели его предшественники: князьям Осколу и Диру не удалось завоевать Константинополь, хоть они и разрушили его околицы. О походе Дира с Осколом на Византию Олег узнает от киевских стариков; сам-то он тогда был ещё карапузом на маленьком хуторе в родной Швеции.
Вот так, в делах, заботах, походах, сражениях, пройдут тридцать лет с того дня, когда он, конунг Халги или князь Олег, убил князя Оскола.
Жеребец Кмет заржал и вывел князя Олега из задумчивости; властелин Руси вынырнул из воспоминаний о давно минувшем в современную реальность.
Несмотря на задумчивость, Олег не сбился с нужной дороги: перед ним расстилался размашистый Кирпичев яр, заросший травой, мхами и папоротниками. Восточный склон настолько пологий, что можно спуститься, не покидая седла, на коне.
Да, прошло тридцать лет, думал Олег, съезжая в овраг, и теперь я сам достиг такого же возраста, какого был убиенный мною Оскол — пятьдесят четыре года.
Лошадиный скелет выделялся на ярко-зелёном пока ещё ковре травы, как белоснежный греческий мрамор, издалека бросаясь в глаза.
Подъехал. Остановился. Пёстрый мотылёк вспорхнул с костяного лба.
— Вот это Мысь, — сказал Олег Кмету.
Жеребец отнёсся к останкам предшественницы равнодушно. Поднял хвост, извергнул из-под него навоз.
Ну, что… Ну, посмотрел… Ну, кости, ну, череп, стоило ли из-за этого аж сюда волочиться, уныло ухмыльнулся Олег. Добро, поеду обратно.
Но тут Кмет внезапно заупрямился, чего с ним раньше никогда не бывало. Игнорируя понукания наездника, он топтался возле скелета, как привязанный. Вот ещё новость! Олег ценил этого жеребца, в том числе и за исключительное послушание, а тут вдруг… Озадаченный необычным поведением коня князь растерянно зыркнул опять на останки кобылы, и ему невыносимо захотелось пнуть сапогом этот белоснежный череп.
Князь не привык отказывать себе в желаниях. Сошёл со ставшего непокорным Кмета, сделал четыре шага и склонился над костями.
Это от тебя я должен был принять смерть? Ха-ха-ха! От тебя, дохлятина? Ха-ха-ха!
Олег хохотал и исступлённо топтал сапогом мёртвую лошадиную голову. Жеребец Кмет, вздрагивая кожей, недоумённо и испуганно косился на эту нетипичную для его важного и гордого всадника истерику…
Вдруг Олег содрогнулся и окаменел: дохлая Мысь смотрела на него живым глазом — чёрным, блестящим, подвижным!
Печально крикнула, вспорхнув с осины на склоне, птица. Неожиданная тучка прикрыла солнце, накинув на Кирпичев яр лёгкие сумерки. Сорвался ветер, неожиданно прохладный среди такого зноя. По траве пошли волны, затрепетала осина.
Похолодевший от ужаса Олег вперился в живой глаз неживой кобылы, не в силах пошевелиться. Но нет, это не глаз, это в пустую глазницу черепа выглянула чёрная головка гадюки. Понял. Но было поздно — успел лишь охнуть, когда впилась в бедро толстая чешуйчатая стрела.
И исполнилось пророчество кудесника Доки: принял князь смерть от кобылы своей.
Да, умер князь киевский Олег, он же конунг Халги. Умер от яда гадюки из черепа лошади. Умер, так и не узнав, что тогда, тридцать лет назад, он и соратники уничтожили не всех родичей правителей киевских. Один-то родич остался в живых: пятилетний Игор, младший сын Оскола от третьей жены. Он выжил, потому что не было его в тот роковой день в Киеве — захворавшего сынишку отдал отец на излечение кудеснику-зелейщику Троилу, обитавшему не в городе, а в лесу, а тот, излечив, пристроил сироту в бездетную семью. Умер Олег, не оставив наследников и не предполагая, что после его смерти на киевский престол воссядет этот самый Игор, как законный наследник Оскола. Ибо поддержат Игора кудесники, тридцать лет хранившие тайну его происхождения, и бояре с дружиной покойного Олега, не имея альтернативы и не желая конфликтовать с кудесниками, признают Осколова сына своим новым повелителем. Умер Олег, не зная, что спустя пару столетий киевский летописец, из политических соображений (дабы ослабить влияние Константинополя на Киев), сочинит небылицу, будто этот Игор был шведом, сыном конунга Рьорика Новгородского, и что в Киев его ещё ребёнком привёз из Новгорода, дескать, сам Олег. Эх, многое исказят летописцы, то в угоду политической конъюнктуре, то просто обуреваемые фантазиями. И от этой небылицы станут потомков Оскола звать не Осколовичами, а Рюриковичами. Умер Олег, не подозревая, что после его смерти верный Свенелд будет жить ещё долго, очень долго, доживёт аж до ста четырнадцати лет, будучи до последних дней бодрым, активным (что значит богатырское здоровье!), очень влиятельным боярином, главой большого и богатого клана. И, оставаясь воеводой, будет так же верно служить и князю Игору, и его вдове — княгине Ольге, и их сыну — князю Святославу, и даже одному из внуков — князю Ярополку…
Да, умер князь Олег от укуса гадюки. Умер на диво быстро — агония длилась всего несколько мгновений. Ибо яд этой гадюки был во много раз токсичнее яда обычных гадюк. От нанесения гадом укуса до остановки сердца прошмыгнул ровно такой же махонький отрезок времени, какой был между мгновением, когда конунг Халги пронзил мечом грудь князя Оскола, и мгновением, когда он нанёс смертельный второй удар. И боль от яда необычной гадюки была такой же сильной, как боль пронзённого мечом Оскола…
Пёстрый мотылёк перепорхнул с изумрудного папоротника на воскового цвета прядь волос неподвижного Олега, вперившегося застывшими очами в яркое светило на снова безоблачном небе. Гадюка неспешно выползла из лошадиного черепа, угольной струйкой перетекла на грудь ещё тёплого трупа и свернулась кольцом.
И подумала змея, дескать, благодарю тебя, великий Сварог, за то, что ты дал мне, наконец, возможность отомстить! В ответ прозвучал голос, исходивший будто от самой природы — от земли, травы, камней, деревьев… (А может, это гадюке только так казалось, а в действительности голос звучал лишь в её головке?) «Не стоит благодарить, Оскол, — сказал змее этот нечеловеческий голос, — ибо просьба твоя была справедливой…»
Так и нашёл их в Кирпичевом яру отрок Воротислав (один из тех, кого послал воевода Свенелд на поиски исчезнувшего князя) — разметавшегося средь конских костей Олега Киевского и чёрного гада ползучего на его бездыханной груди. Дохлого гада.
Август 2004 г.[11]
Глупые твари
Правдивая история, случившаяся триста лет тому вперёд
Эти животные довольно умны, судя по тому, как легко они поддаются дрессировке.
Из репортажа.
Мемуары, фрагмент из которых я предлагаю бесценному читателю, пока ещё не родившийся дрессировщик Тристан Геннадьевич Цвях напишет только через 308 лет. Но мне этот текст удалось достать задолго до его написания. Не суди эти писания слишком строго, читатель, ведь Тристан Цвях — укротитель зверей, а не профессиональный прозаик, поэтому ему простительно, что проза его не очень художественна, отчего мемуары напоминают скорее сухой протокол или конспект, нежели так называемую изящную словесность.
* * *
— Ну до чего же глупая тварь! — разочарованно прорычал я и даже плюнул от досады.
Перепончатоухий чешуехвост Лымарчука, как окрестил этого тригейского зверя биолог Рамзес Лымарчук, совершенно не поддавался обучению, что говорило об отсутствии у зверя даже зачатков интеллекта. Похоже, природа создала эту тварь только для того, чтобы жрать, спать, испражняться, ну, конечно, и размножаться, и ни на что другое это примитивное создание не способно. А жаль. Внешне животное интересное. Я рассчитывал, что из него выйдет толк. Как обманчива бывает внешность. Придётся это бесперспективное существо отпустить, чтобы зря не занимало клетку и не переводило продукты; и полностью посвятить себя дрессировке других, более умных тригейских созданий.
Так, с сожалением любуясь чешуйчатым симпатягой, думал я, отпирая дверцу клетки, когда за моей спиной залаял, захлёбываясь от ярости, верный пёс Паломид. Я обернулся… и потерял сознание. Последнее, что увидел, проваливаясь в бессознательность, — это две толстые гибкие змеи, нависшие надо мной…
* * *
Возможно, я был первым, кому пришло в голову использовать инопланетных животных в цирковых представлениях (фантасты не в счёт).
После того как человечество нашло способ перемещаться в пространстве со скоростями, в разы превышающими скорость света, что с точки зрения известных людям законов мироздания невозможно, изучение родной галактики принесло обильные плоды. Шныряющие в космосе искатели обнаруживали всё новые солнечные системы с планетами, на которых имелась жизнь. Гуманоидов, братьев по разуму на этих недавно открытых вращающихся шарах, обременённых биосферой, не оказалось, но животный и растительный мир был разнообразным и интересным. Биологи активно изучали инопланетную флору и фауну, внеземные растения уже росли в земных ботанических парках и оранжереях, внеземные животные уже жили в земных зоопарках. А вот в цирках внеземных существ до сих пор не было. То ли потому, что ещё никому не пришло в голову их дрессировать (в таком случае я действительно первый), то ли потому, что заводить у себя инопланетную фауну циркам просто не по карману. Зоопарки, биологические и прочие научные исследования субсидировались государственными и общественными фондами, и субсидировались щедро, а цирки никаких субсидий не получали и рассчитывали только на собственные финансовые возможности, а возможности эти — не ахти. Стоимость экспедиции в глубины галактики для отлова инопланетных животных в несколько раз превышала средний цирковой бюджет. Даже наш цирк, в котором я — Тристан Цвях — являюсь не только дрессировщиком, но и совладельцем (мне принадлежат 14 % цирковых акций), один из самых успешных на Земле, часто собиравший аншлаги, в первую очередь — благодаря моим дрессированным животным (земного, конечно, происхождения), даже наш, повторяю, цирк не мог себе позволить такой роскоши.
Тем не менее, идея сделать наш цирк первым в мире цирком с дрессированными инопланетянами не давала мне покоя, и я, в свободное от работы время, изучал информацию о космическом транспорте, обитаемых планетах и внеземной биологии, делал расчёты…
И, наконец, нащупал возможность приобретения инопланетных существ, причём именно таких, которые годятся для цирковой работы.
План был следующий. Я вместе с взятыми напрокат роботами-звероловами перемещаюсь на планету Тригей, где имеется разнообразная флора и фауна. Причём перемещаюсь не на специально зафрахтованном для этого астроходе, а на попутном грузовике — космовозе «Харьков», что обойдётся в несколько раз дешевле. Космовоз высаживает меня на Тригей и продолжает путь. На Тригее роботы отлавливают разнообразных зверушек, а я занимаюсь дрессурой, выясняя, какие из отловленных поддаются обучению, и отбираю пятёрку самых способных. Примерно через пару месяцев после моей высадки на Тригей космовоз «Харьков», возвращаясь с грузом платиновой руды, подбирает меня с роботами и отобранными кандидатами в цирковые артисты, и доставляет обратно на Землю.
Солнечная система планеты Тригей имеет место всего в 1/35 светового года от условной прямой линии между солнечной системой Земли и солнечной системой планеты Ээт — маршрута «Харькова». Чтобы высадить меня на Тригей и на обратном пути подобрать, «Харькову» придётся совершить два «небольших отскока в сторону» от маршрута. А нам придётся заплатить «Харькову» всего лишь за эти «отскоки», да за аренду на борту «каморки» для животных: моё пребывание на грузовике ничего не будет стоить при условии, что я с взятыми напрокат роботами-звероловами буду во время рейса задаром выполнять подсобные работы. Договариваясь с владельцами «Харькова», я поторговался и сумел несколько сбить цену за «отскоки» в обмен на право для владельцев грузовика и членов его экипажа, а также их родственников, бесплатно посещать наш цирк, хоть каждый день.
Таким образом, выходило, что если наш цирк «затянет пояс», то хватит средств и на покупку лицензии на отлов пяти тригейских животных, и на прокат трёх роботов-звероловов, и на моё перемещение к Тригею и обратно. «Затягивание пояса» заключалось в том, чтобы вложить в проект все цирковые средства, оставив лишь прожиточный минимум, плюс средства от продажи конкурентам дорогостоящего реквизита и части наших дрессированных земных животных, плюс личные сбережения труппы и совладельцев.
Риск был велик. В случае неудачи наш цирк становился банкротом и прекращал существование. Но зато в случае удачи он становился единственным в мире местом, где можно увидеть аттракцион с дрессированными инопланетянами, со всеми вытекающими из этого прибылями, что сторицей возместят наши расходы. Мне удалось убедить и дирекцию цирка, и труппу, и совладельцев; хотя все, в том числе и я сам, понимали, что это авантюра, не во французском смысле этого слова — «приключение», а в русском — «рискованная затея». «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское», — резюмировал директор цирка, на что клоун Фук сострил: «Рискует не тот, кто пьёт шампанское, а тот, кто пьёт тормозную жидкость»…
Когда конкуренты увозили моих слонов, я прослезился. Но ничего, когда мы начнём получать баснословные прибыли от выступлений дрессированных инопланетян, я выкуплю слоников обратно, пусть даже втридорога…
* * *
В период перемещения на космовозе «Харьков», где я с арендованными роботами-звероловами трудился как каторжный, выполняя самую неквалифицированную, самую тяжкую, самую грязную работу, юнга Аскольд, семнадцатилетний, красивый, как девочка, блондин с лазурными очами, рассказал мне, что передвижение со скоростями, в разы превосходящими скорость света, стало возможным благодаря некоему парадоксу (забыл название). Понять и объяснить сей парадокс, противоречащий научным знаниям и здравому смыслу, человечество пока не смогло, но использует вовсю. Вот так же древние люди, не понимая и не умея объяснить природу плазмы, вовсю использовали плазму, то есть огонь, для приготовления пищи и обогрева жилья.
«Харьков» вёз на планету Ээт новое оборудование для тамошних платиновых рудников. Примерно на полпути от солнечной системы Земли к солнечной системе Ээта, чуть в сторонке от сего маршрута (1/35 светового года при нынешних скоростях — расстояние пустяковое) и имела место та жёлтая звезда, вокруг которой с другими шестью планетами вращалась и нужная мне планета Тригей.
Кроме взятых напрокат трёх роботов-звероловов, которым я дал имена — Илья, Добрыня и Алёша, — я прихватил в экспедицию и домашнего любимца — пса Паломида — далматинского дога. Хоть и четвероногий, а друг, земляк, землянин. Он скрасит моё одиночество на Тригее. Экипаж космовоза против такого безбилетного пассажира не возражал: Паломид умел делать массу забавных трюков и потешал команду «Харькова», являясь кем-то вроде внештатного скомороха.
* * *
Короче говоря, примерно через пару месяцев после того, как сей космовоз стартовал с орбиты Земли со мной на борту, он совершил «отскок в сторону» и оказался в солнечной системе Тригея.
Небольшой челнок, отстегнувшись от большого космовоза, понёс меня, роботов и Паломида к нужной планете. Я попросил Витека и Лукулла — пилотов челнока — высадить меня на острове Муртазаева.
Тригей и Земля имеют очень схожие размер, массу, атмосферу, климат, периоды вращения вокруг собственной оси и вокруг солнца. Как и Земля, Тригей покрыт обширными океанами. Тригей даже имеет естественный спутник, вроде нашей Луны. Название «Тригей» планета получила по имени персонажа античной литературы. Давать имена античных персонажей созвездиям и планетам — древнейшая астрономическая традиция. И планета Ээт, где имелись огромные залежи платины и куда направлялся «Харьков», названа так по имени античного персонажа — мифологического царя Колхиды, который был владельцем золотого руна, пока его не конфисковали аргонавты. А Тригей — персонаж комедии древнего грека Аристофана. Этот Тригей, виноградарь, якобы раскормил навозом навозного жука до гигантских размеров и летал на нём, как на Пегасе, к богам на Олимп. Тоже, можно сказать, дрессировщик, укротитель, коллега. Об этом мне поведал начитанный юнга Аскольд.
Лукулл и Витек, ориентируясь по карте планеты, которую им предоставил я, направили челнок к острову Муртазаева, названного так в честь Зигфрида Богдановича Муртазаева — одного из первых исследователей планеты. К острову, который является фрагментом размашистого тропического архипелага, разметавшегося в океане чуть севернее экватора. К острову, почти сплошь покрытому пёстрыми джунглями. К острову, который я выбрал для своей миссии, поскольку знал, что на этом кусочке суши богатая фауна, есть из кого выбирать будущих артистов цирка, и в то же время нет животных, опасных для человека (в своё время фауна этого островка была тщательно изучена одной из земных экспедиций; и я, собирая информацию по этому вопросу, обратил внимание на сей позитивный факт). Когда ты один, когда тебе некому помочь, следует избегать опасностей.
Челнок сделал круг над островом на высоте птичьего полёта, дабы я выбрал место для стоянки. Мне приглянулась живописная поляна на юге острова, километрах в трёх от океана, на берегу хрустальной речушки с песчаными пляжами и очаровательными водопадами.
Челнок опустился, завис в полуметре над почвой. Я быстро выкинул из летающей машины на траву все необходимые для жизни и работы здесь причиндалы, а затем прыгнул сам. За мной последовали Паломид и роботы Илья, Добрыня и Алёша. Я помахал на прощание Витеку и Лукуллу ладонью. Челнок взвился в небо и умчался в заоблачную даль — догонять дрейфующий сквозь эту солнечную систему «Харьков».
* * *
Итак, я оказался в раю, ибо остров Муртазаева на планете Тригей — истинный рай, как я его себе представлял. Красотища неописуемая! Обильно цветущая и плодоносящая растительность разных цветов и оттенков, порхающие над ней пёстрые организмы — аналоги земных бабочек и птичек, доводящие до экстаза ароматы на зависть парфюмерам, живописные водопады… Работа в таком месте — не труд, а блаженство.
Я был не единственным землянином на Тригее. Здесь постоянно работали научные экспедиции: геологические, метеорологические, биологические и прочие. И всё же людей на этой планете было так немного, что возможность случайной встречи с ними была близка к нулю, а специально заниматься их поисками в мои планы не входило — у меня хватит другой работы. Да и никакого транспорта для перемещения по планете я не имел. Поэтому мне оставалось робинзонить на острове, пока за мной не прилетит тот же челнок с «Харькова».
Первым делом я разбил палатку со всеми удобствами и выбрал место для вещей. И палатку, в которой я мог бы пережить непогоду, и прочие прихваченные с Земли предметы (кроме роботов, конечно) я поместил средь густых зарослей таким образом, чтобы сих вещей не было видно, дабы мой взор мог наслаждаться райскими ландшафтами, не осквернёнными инородным барахлом. Терпеть не могу, когда первозданная природа замусорена промышленными изделиями. Вот только клетки для отловленных животных придётся ставить на видном месте: если их разместить в густых зарослях, это будет неудобно для работы. Именно поэтому я заказал дизайнеру спроектировать клетки таким образом, чтобы они выглядели не творением человеческих рук, не промышленными изделиями, а частью природы.
Воздух на Тригее, как я уже упоминал, почти не отличается от земного (на несколько процентов больше кислорода, на несколько процентов меньше азота), а климат на острове Муртазаева тропический по земным меркам. Поэтому скафандр там не нужен. И не только в скафандре, но и в любой другой одежде надобности не было. Одежда как защита от солнечного облучения была лишней, ибо сию планету от ультрафиолетовых лучей надёжно защищает озоновый слой, более толстый и более тщательно отфильтровывающий оные излучения, чем озоновый слой Земли, поэтому солнечные лучи на Тригее не могут стать причиной ожога, или тем более, злокачественной опухоли на коже. Одежда как защита от кровососущих насекомых была лишней, ибо тамошние аналоги земных комаров и оводов, сосавшие кровь тригейских животных, нас, землян, откровенно игнорировали: похоже, их отпугивал наш запах. Ну и, понятное дело, одежда как прикрытие наготы от взоров других людей была лишней, поскольку других людей не было.
Итак, в ношении одежды не было никакой необходимости, поэтому, чтобы совмещать полезное с приятным — работу с принятием воздушных, солнечных и водных ванн — я вскоре после прибытия скинул с себя всё и стал жить как Адам в раю: в чём мама родила (впрочем, Адама родила не мама). Единственное инородное тело, что я оставил на своём организме, — это портативный наручный компьютер, ударопрочный и влагонепроницаемый, выглядящий как полусфера телесного цвета, поэтому со стороны он похож на волдырь или бородавку на запястье. С помощью этого приборчика, кроме всего прочего, я мог определять своё местоположение в пространстве, благодаря чему не способен заблудиться; мог поддерживать связь с Ильёй, Добрыней и Алёшей — роботами-звероловами; мог определять, какие из здешних плодов являются съедобными (при введении в плод компьютерного датчика, прибор сообщал о химическом составе и вкусовых свойствах плода)…
На второй же день нашего пребывания на Тригее роботы изловили существо, напоминающее хвостатую обезьяну или лемура, но покрытое не шерстью, а чешуёй, с большими ушами, похожими на крылья летучей мыши. Мой «волдырь» — компьютер, в памяти которого имелся подробный справочник по тригейской фауне и прочая информация об этой планете (то есть сей незаменимый приборчик был, ко всему прочему, так сказать, наручной энциклопедией по тригееведению), — оглядев чешуйчатого пленника своими объективами — парой крохотных «глазок-бусинок», не большими чем глаза насекомых, — идентифицировал зверя как перепончатоухого чешуехвоста Лымарчука (avreswebbed caudasquamea Lymarchuk).
Первым делом я с помощью робота Ильи (имена роботов я написал маркером на их пластиковых «туловищах», иначе не смог бы различать этих механических близнецов; хотя практической надобности в человеческих именах не было — роботы имели личные цифровые коды; я сделал это из, так сказать, чисто эмоциональных соображений) соорудил для чешуехвоста удобную клетку. Зная, что чешуехвосты большую часть времени проводят на деревьях, клетку смонтировали вокруг росшего посреди поляны маленького деревца.
Содержание животных в клетках — древний пережиток. Человечество уже давно использует для этих целей в качестве невидимых оград силовое поле. Но оборудование, создающее силовые поля, стоит значительно дороже примитивных архаичных клеток, и ограниченность в средствах, необходимость экономить на всём, вынудили меня прибегнуть к столь устаревшему способу содержания фауны в неволе.
Клетки, изготовленные по моему заказу, были сборными; можно сказать, что это был нехитрый конструктор, из деталей которого собирались клетки разных размеров и конфигураций.
Собрав жильё для перепончатоухого пленника, я не мог не похвалить мысленно дизайнера, спроектировавшего сию конструкцию. Клетка прекрасно вписывалась в ландшафт и гармонировала с природой. Даже не верилось, что она создана человеком, а не выросла сама по себе как дерево или коралл. Это человеческое произведение услаждало мой взор так же, как растительность и водопады.
Оказавшись в клетке, чешуехвост шустро взмыл на дерево и замер на ветке. Схожесть этого чешуйчатого симпатяги с земными обезьянами вселила в меня уверенность, что он вполне пригоден для цирковых трюков.
Зная, что сии создания любят лакомиться плодами картофельного дерева, названного так за плоды, похожие на вареную картошку (знания я продолжал черпать из своей эрудированной «бородавки»), я дал задание роботу Алёше разыскать и принести такие плоды. И вскоре протягивал чешуехвосту спелую «картофелину», желая установить с пленником контакт. Зверь нахохлился и попятился. Может, ещё не оправился от стресса, а может, просто не голоден. Я наколол эту «картофелину» на сучок дерева, остальные высыпал в кормушку. И, оставив животное, чтобы оно привыкало к новой «жилплощади», пошёл со своим верным догом освежиться, поплескаться в хрустальной речушке…
Когда вернулся, чешуйчатый симпатяга всё так же угрюмо сидел на ветке, но «картофелин» в кормушке было уже поменьше. Ну и прекрасно!
* * *
Увы, день проходил за днём, а мои попытки наладить с перепончатоухим существом контакт оставались безуспешными. Оно меня откровенно игнорировало. Пищу из моих рук не брало, только из кормушки. Я немного поморил его голодом, но и это не помогло: даже будучи голодным, он упорно отказывался от еды, если еда находилась в моей ладони. Когда я попытался его погладить, симпатяга злобно цапнул меня зубками за палец, что совершенно противоречило основанным на наблюдениях утверждениям биологов о полном отсутствии у сих зверей агрессивности и наличии добродушия.
Между тем в течение недели Илья, Добрыня и Алёша изловили ещё четырёх животных, напоминающих земных млекопитающих: рукокрылого трубконоса Смита (manusalas nasustube Smith), похожего на гибрид летучей мыши и муравьеда; плоскоклювого прыгуна Куроямы (rostrumplanus exiliens Kuroyama), похожего на гибрид тушканчика и утконоса; гребенчатозубого иглоспина Левина (pectinatimdentibus scapulaechinated Levin), похожего на гибрид кота и ежа; и ветвисторогого свинорыла Папакакиса (ramosamicon susnaribus Papakakis), похожего на гибрид кабана и оленя.
Я смонтировал клетки и для этих пленников, и занялся их дрессурой, а роботы углубились в джунгли в поиске других кандидатов в цирковые артисты.
Мне требовалось лишь пять созданий, ибо собранных цирком денег хватило на покупку лицензии на отлов именно такого количества тригейских животных. Соответствующие земные службы строго следили, чтобы количество отловленных на других планетах тварей точно соответствовало количеству, указанному в лицензии. Каждый вернувшийся с других планет астроход, космовоз или другого типа корабль, на орбите Земли тщательно обыскивался с помощью чутких приборов, и если на борту оказывалось лишнее инопланетное существо, то следовала беспощадная кара за браконьерство и контрабанду: конфискация всех животных плюс огромный штраф.
Пять животных уже находились в клетках, но я дал задание роботам продолжать отлов, дабы иметь выбор. Чем больше созданий отловят арендованные механические звероловы, тем больше шансов выбрать пятёрку действительно талантливых, после чего менее талантливые и полностью бездарные будут отпущены на свободу.
Итак, пока роботы Илья, Добрыня и Алёша шастали в джунглях, выслеживая очередного зверя, я занимался с уже отловленными, перемежая занятия с купаниями в реке, играми с Паломидом, сном и вкушением плодов.
Среди здешних съедобных плодов некоторые оказались настолько вкусными и богатыми всеми необходимыми для организма веществами, что я бы вовсе не прикасался к прихваченным с Земли консервам, если бы не надо было кормить оными далматинца. Все пленники, кроме перепончатоухого чешуехвоста, быстро научились брать пищу из моих рук и вообще показали свою предрасположенность к приручению. Вскоре я уже разучил с ними несколько нехитрых трюков: трубконос по моей команде порхал сквозь обруч, прыгун удерживал на плоском клюве мячик, иглоспин делал несколько шагов на задних лапах, а свинорыл по команде кланялся. Столь быстрая обучаемость говорила о наличии у сих животных сообразительности.
А чешуехвост меня всё более и более разочаровывал. Он оказался совершенно несообразительным, что выражалось в неспособности к обучению. Этот симпатяга ничего не хотел делать, кроме как есть, спать и испражняться. Он часами неподвижно сидел на дереве, игнорируя все мои потуги завязать с ним общение, и опровергая своим поведением сообщения биологов о резвости и общительности этих животных. Увы, приходилось признать, что интуиция меня обманула. Чешуехвост — существо примитивное, обделённое разумом, для работы в цирке абсолютно непригодное. Ведь именно способность к обучению, умение приспосабливаться к обстоятельствам и коммуникабельность являются основными свидетельствами наличия разума. Среди земных животных легче всего обучаются шимпанзе, дельфины, слоны и собаки, оттого они и считаются самыми интеллектуальными, после человека, существами.
Предприняв на семнадцатый день последнюю безуспешную попытку работы с перепончатоухим пленником, я раздражённо прорычал: «Ну до чего же глупая тварь!», и плюнул. У меня, как, наверно, у всякого дрессировщика, бывали неудачи, но такой полный провал с созданием, на которое я так рассчитывал, случился впервые. Окончательно убедившись, что толку от него не будет, принял решение это бесперспективное существо отпустить.
Но только взялся за дверцу клетки, как услышал яростный лай Паломида за моей спиной. Резко обернулся глянуть, что четвероногого земляка разъярило, и в то же мгновение, выражаясь поэтически, свет померк в моих очах и почва ушла из-под ног, лишь две невнятные змеи успели запечатлеться в угасающем сознании (о чём, интриги ради, я уже сообщил читателю в начале этой части моих мемуаров). Если бы я успел удивиться, то удивился бы, ибо знал, что никаких змееобразных организмов на острове не водилось…
* * *
Очнувшись, обнаружил себя лежащим на траве под коренастым деревом. Ощущения были как после хорошей попойки: голова раскалывалась, тело было ватным, движения заторможенными. Кряхтя, приподнялся на локте и огляделся. Я валялся на большой поляне, вокруг которой всё так же топорщились в небо тригейские деревья и всё так же порхали тригейские аналоги земных бабочек и птичек. Всё так же угрюмо сидел на ветке дерева (не того, под которым я лежал, другого) перепончатоухий чешуехвост. Всё так же находились неподалёку и рукокрылый трубконос, и плоскоклювый прыгун, и гребенчатозубый иглоспин, и ветвисторогий свинорыл, и мой верный пёс Паломид, лежащий, как и я, на траве. Но поляна была другая! Но дерево, на котором сидел чешуехвост, было другое! Но чешуехвост, трубконос, прыгун, иглоспин, и свинорыл находились не в клетках; клеток вообще не было! Но, кроме перечисленных, на этой незнакомой поляне имелись и другие тригейские существа, которых я раньше видел только в зоопарках, на картинках и видео! Впрочем, одно животное, напоминающее слона, я прежде нигде не видел.
Огорошенный, я первым делом осведомился по компьютеру, где нахожусь. Оказалось — в 13 километрах и 18 метрах к югу от того места, где потерял сознание; уже не на острове Муртазаева, а на севере острова Флоки, что отделён от Муртазаева девятикилометровым проливом. Однако! Чёрт, если бы не пролив, я бы мог, в случае необходимости, призвать на помощь роботов. Но к плаванию в океане они не приспособлены, хотя и не боятся влаги (аренда роботов-амфибий стоила дороже, и я из соображений экономии взял сухопутных), и ни лодки, ни другого транспорта не имеют.
Связавшись посредством компьютера с Ильёй, Добрыней и Алёшей, узнал, что они изловили ещё одного зверя — лопатохвостого панцирника Густавсона, похожего на помесь броненосца и бобра, вернулись на стоянку, где обнаружили изломанные клетки, и не знают, что делать дальше. Я, проконсультировавшись с компьютером, приказал им соорудить клетку для панцирника, непременно с небольшим бассейном, кормить зверя ветками вафельного дерева и ждать моего возвращения. Компьютерный хронометр свидетельствовал, что со времени моего падения в обморок прошло более четырёх часов. В подтверждение этого солнце присасывалось к горизонту.
Я встал на ноги, отряхнул листочки и палочки, прилипшие к нагому телу, и свистнул Паломиду. Пёс тоже поднялся, но без обычного энтузиазма, — видать, тоже чувствовал себя неважно, — и вяло побежал ко мне. Но тут же отскочил, будто его отпружинила невидимая упругая преграда. Он стал топтаться на месте и скулить, словно ко мне его что-то не пускало. Озадаченный, я сам сделал несколько шагов к далматинцу и вдруг упёрся в незримую стену вроде спрессованного воздуха. Это напоминало силовое поле, которое в качестве оград используется в наших зоопарках. Стал перемещаться вдоль этой невидимой стены, своей упругостью похожей на пористую резину. И оказалось, что она окружает меня в виде многогранника или окружности с коренастым деревом в центре. Впоследствии измерил я диаметр этого «заколдованного круга» — 17 шагов. Потуги протиснуться сквозь невидимый сгусток оказались тщетными: «заколдованный круг» меня не выпускал.
Не зная, что и думать обо всех этих странностях, стал делать единственное, что мог в такой ситуации: наблюдать за происходящим вокруг.
Наблюдая, пришёл к выводу, что все существа на этой поляне ограниченны «заколдованными кругами». Все, кроме невиданной твари, напоминающей слона. Напоминающей в первую очередь наличием хобота, и не одного, а целых двух. Как и слон, этот зверь перемещался на четырёх конечностях, только конечности эти были грациознее слоновьих тумб и скорее походили на ноги коня. Тело создания было покрыто редким то ли мехом, то ли пухом, сквозь который просвечивала оливковая кожа. Хвоста не было. Уши были небольшие, как у, опять таки, коня. Да и размером оно было ближе к коню, чем к слону. Крупная голова вместо носа была украшена двумя хоботами, что делало это существо отдалённо напоминающим уродливого безголового кентавра с длинными змееобразными руками. Так вот, в отличие от меня и других существ, заключённых в «заколдованных кругах», сей «кентавр» разгуливал по поляне совершенно беспрепятственно. Вот так же в наших зоопарках по-хозяйски свободно разгуливают воробьи.
Я, направив на «кентавра» компьютер-«бородавку», попросил приборчик идентифицировать сие существо. Оглядев двухобота своими махонькими объективами, эрудированный «волдырь» пожал плечами, в переносном, конечно, смысле; то есть ответил, что науке это создание неизвестно. Но тут же припомнил, что в дневниках одного из первых исследователей Тригея, некоего Марка Ушета, опубликованных лишь в прошлом году, есть такая фраза: «…мне показалось, будто я увидел в зарослях животное с двумя хоботами, но, наверно, это было дерево…»
Выходит, я стал первооткрывателем неизвестного биологам инопланетного существа! А считалось, что все большие сухопутные животные планеты Тригей уже известны. Надо будет придумать для него название. Что-нибудь типа «бесхвостый двухобот Цвяха».
Когда двухобот приблизился к моему «заколдованному кругу», я разглядел этого зверя лучше. Под двумя глазами, очень похожими на человеческие, с морщинистыми веками, шевелились два хобота, представляющие собой сильно вытянутый нос, сросшийся с верхней губой, как у слона, только раздвоенный (видимо, именно эти хоботы я принял за змей). Если у слона на хоботе имеются две ноздри и один «палец», то у этого двухобота на каждом из хоботов имелось по одной ноздре и по три «пальца», причём «пальцы» были очень ловкими щупальцами, не уступавшими пальцам человека. Такими можно и нитку в иголку вдеть, и собрать сложный прибор… Эх, такое бы животное — да в наш цирк!
Разглядывая меня, двухобот поднял хоботы и разинул пасть. Я ожидал, что он проревёт или протрубит, даже заметил, как в глубине пасти затрепетала немалая глотка, но звука не последовало.
И тут я узрел ещё трёх двухоботов. Они приближались с той стороны, где за кружевом деревьев маячил большой, гладкий до блеска камень, или округлая скала. В хоботах эта троица тащила некие предметы. Я сразу отметил, что эти трое чем-то отличаются от первого, а когда они подошли ближе, ахнул. Если первый двухобот был явно живым существом, то эти трое были его механическими двойниками, роботами!
Вот оно что! Я оказался в плену у слонообразного брата по разуму, представителя цивилизации, создающей роботов! Человечество сотни лет ищет в космосе разумную жизнь, а первым её нашёл я! Вернее, она — меня! Но как же исследователи, уже не первый десяток лет изучающие эту планету, могли, выражаясь словами баснописца, «слона-то и не приметить»?! Если цивилизация двухоботов достигла такого уровня, что они создают столь совершенных роботов, то на Тригее должны быть их города, заводы, лаборатории… Но ничего подобного исследователи на сей планете не обнаружили.
Между тем двухоботы-роботы беспрепятственно вошли в мой «заколдованный круг» и, не обращая на меня внимания, принялись из принесённых предметов собирать некие конструкции. Просто любо-дорого было смотреть, как мастерски они трудятся. Всего за пару минут смонтировали. Оказалось — кормушку, поилку, купальню (к которым чуть позже подвели шланг, подававший воду из ближайшего ручья) и конуру. В мои «апартаменты» было помещено и нечто вроде противня или подноса с песком. На этот песок я вскоре справил естественные надобности, за неимением унитаза, после чего песок был заменён чистым, и в дальнейшем я испражнялся именно туда, и песок регулярно заменялся.
Такие же «удобства» слоноподобные роботы установили и в «заколдованных кругах» животных, включая Паломида. Из чего я сделал вывод, что пушистый «кентавр» — хозяин роботов — воспринимает меня не как брата по разуму, а как дикого зверя.
Меня сие обстоятельство оскорбило. Как! Меня! Гомо сапиенса! Человека разумного! Ставить вровень с какими-то тварями неразумными!
Может, его ввела в заблуждение моя нагота? Впрочем, он и сам не носит одежду. Или его заблуждение на мой счёт связано с тем, что внешне я на него не похож. Может, он уверен, что всякое разумное существо обязано иметь пару хоботов и четыре ноги. Мы же, земляне, гомо сапиенсы, разыскивая в космосе братьев по разуму, рассчитывали, что они окажутся гуманоидами, то есть похожими на нас не только разумом, но и внешностью. Только фантасты в своих сочинениях иногда изображали разумную жизнь, не схожую с нами: то в виде интеллектуальных гигантских насекомых, то в виде думающего океана, то… Если бы не двухоботные роботы и не силовое поле «заколдованных кругов», то я бы тоже принял пушистого «кентавра» за дикого зверя.
Конечно, я попытался убедить слоноподобного брата по разуму в том, что я тоже существо высшего порядка. Я кричал ему, мол, «мы с тобой братья по разуму, я тоже представитель развитой цивилизации», надеясь, что моё умение разговаривать, пусть и на непонятном для него языке, рассеет его заблуждение. Не рассеяло. Похоже, он вообще не слышал моих воплей. Наверно, он издаёт и воспринимает только инфразвуки, и мой голос был для него ультразвуком, который его уши не воспринимали, как наши уши не воспринимают крики летучих мышей; наверно, с его точки зрения, я лишь молча шевелил ртом. Впрочем, если бы даже слышал… Умение живого существа издавать звуки люди не считают признаком разума. Мы же не считаем воробья братом по разуму оттого, что он умеет чирикать, а кузнечика — оттого, что он умеет стрекотать.
Тогда я попытался изъясняться жестами. Но все мои телодвижения, шевеления конечностями и гримасы даже мне самому показались неубедительными. Животные тоже совершают сложные движения и даже целые ритуалы, но мы объясняем их не проявлением разума, а проявлением инстинктов.
Вот если бы у меня под рукой были роботы или другие предметы нашей цивилизации… А попробуй доказать, что ты существо разумное, когда ты гол и под рукой ничего нет. Только компьютер, выглядящий бородавкой на запястье. Но бородавка на конечности живого существа не является свидетельством его разумности.
Я вспомнил, что в фантастических сочинениях земляне устанавливали контакты с представителями высокоразвитых внеземных цивилизаций, предоставляя им научные схемы, чертежи, графики из области математики, химии, физики, понятные высокоразвитым из любого уголка Вселенной. Если бы начертать такую схему… Увы, я не мог воспользоваться этим методом. В школе у меня по этим предметам были неплохие отметки, но за годы работы в цирке я всё забыл — дрессировщикам точные науки как бы ни к чему. И вообще, такие схемы понятны учёным, но далеко не все представители цивилизаций являются таковыми. Покажи такие схемы людям на Земле, и многие, может даже большинство, не поймёт что там к чему. Не факт, что этот конкретный двухобот является именно учёным — математиком, физиком или, скажем, астрономом.
Зато я могу просто чего-нибудь нарисовать. Не будучи профессиональным художником, я рисую относительно неплохо — это моё хобби. Животные же рисовать не умеют. Это присуще только разумным. Я имею в виду, конечно, исключительно реалистическое искусство, ибо абстрактную картину может намалевать и слон, и обезьяна, и дельфин… Даже лягушка, намазанная краской, поскачет по холсту — вот вам и «шедевр» абстракционизма.
Нарисую реалистический портрет пушистого двухобота, и он сразу поймёт, что я не животное, а брат по разуму. Но чем и на чём? Сначала я пытался выцарапать изображение на стенке конуры камешком, выковырянным из почвы. Увы, пластик конуры оказался слишком прочным, а камешек — наоборот: раскрошился, не оставив царапин. Попытка наносить на ту же поверхность зелёный сок травы тоже не дала успеха — пластик был влагоотталкивающий. Тогда я стал наносить травяной сок на кору коренастого дерева. Кора была слишком рельефной, а сок слишком бледным, поэтому «живопись» выходила очень нечёткой. Когда по окончании работы я отошёл от дерева и глянул на сей «шедевр» со стороны, то с огорчением понял, что эта невнятная пачкотня, выглядящая как просто влажное пятно на коре, никак не может служить доказательством моей цивилизованности.
Наконец, я пытался добыть огонь первобытным способом, трением палочки об древесину. Животные же огня не добывают, а древесина — единственное, что есть у меня под рукой. Но сколько я ни вращал меж ладоней палочку, упирая её в оторванный от дерева кусочек коры, ни огня, ни искорки, ни дымка не возникло. То ли древесина была недостаточно сухая, то ли я делал что-то не так. Меня ж этим первобытным штукам никто не учил. Единственное, что я добыл, пытаясь добыть огонь, это волдыри на ладонях.
Итак, все мои попытки показать, что я существо разумное, оказались безуспешными, и это меня, человека эмоционального, взбесило. Я метался по «заколдованному кругу», пиная ногой конуру и дерево, и сопровождая эти пинания нецензурным монологом… После этого босая нога болела, и я хромал.
Затем, утомлённый яростью, угрюмо сидел, за неимением стула или другой мебели, на нижней горизонтальной ветви коренастого дерева.
Погружённый в свои переживания на дереве, я не очень-то обращал внимание на двухоботного робота, копошившегося в моём «заколдованном круге», а когда обратил — робот закончил возню и удалился.
Спустился с дерева глянуть, какой ещё сюрприз для меня приготовлен.
Оказалось, слоноподобный механизм принёс мне плоды разных здешних растений, тушки мелких животных и куски сырого мяса крупных, всяких червей и козявок, сноп сена…
Видимо, мне предлагалось выбрать пищу. Я был голоден, поэтому с аппетитом слопал вкусные плоды вафельного дерева, похожие на вафельные стаканчики, отчего дереву было дано такое название; картофельного дерева, почти безвкусные, но богатые белком и витаминами; ватного дерева, вкусом похожие на грецкий орех, а видом — на ватный кокон; и прочие, которыми лакомился на острове Муртазаева. Несъеденные мною продукты были роботом убраны, и в дальнейшем в мою кормушку клались только выбранные мною плоды.
Моему псу тоже был предложен широкий ассортимент; Паломид выбрал свежее мясо. Другим существам, заключённым в «заколдованных кругах», как я заметил, в кормушки были положены вполне конкретные продукты: «кентавры» знали, чем их кормить.
Между тем солнце нырнуло под горизонт, и пришла ночь. Я забрался в конуру, пол которой оказался упругим, нетвёрдым, пригодным служить ложем, и, в конце концов, уснул. Тем более — снаружи зашуршал дождь, умеющий убаюкивать.
* * *
В последующие дни моего пребывания в неволе, в «заколдованном круге», я понял, что двухоботный инопланетянин является, так сказать, моим коллегой — дрессировщиком.
Да, он дрессировал животных!
И надо отдать ему должное — делал это талантливо! Его мастерство дрессуры не уступало моему! Вскоре животные брали пищу из его хоботов и помалу-помалу начинали «плясать под его дудку». Даже мой верный Паломид, который поначалу лаял на захватчика, через пять дней уже вилял перед ним хвостом, брал из щупалец «кентавра» мясо и прыгал перед ним на задних лапках. Друг человека называется! Из-за куска мяса так пресмыкаться и унижаться! Что значит — животное. Никакого самолюбия, гордости, чувства собственного достоинства.
Продолжая и меня считать таким же животным, двухобот норовил и меня заставить плясать под его дудку, но я, конечно, не унизился до того, чтобы пресмыкаться перед захватчиком. Меня бесили его попытки меня дрессировать. Дрессировать меня — знаменитого дрессировщика Тристана Цвяха! Ну и наглость! Нет, коллега, с нами — гомо сапиенсами — такие штуки не пройдут! Мы не зверушки. Мы не рабы — рабы не мы. Общаться на свободе как равный с равным — изволь, с превеликим удовольствием, но быть послушным рабом или дрессированной тварью — дудки! Накось выкуси! Короче, я стал игнорировать его поползновения, саботировать всякую работу, которую он мне навязывал. Я объявил забастовку и частичную голодовку в знак протеста против содержания меня в неволе. Частичную, поскольку брал пищу только из кормушки и наотрез не брал из щупалец слоноподобного дрессировщика, даже после того, как он два дня морил меня голодом.
Однажды, войдя в мой «заколдованный круг», сей узурпатор бесцеремонно протянул ко мне правый хобот, будто собираясь потрепать по голове. Я, взбешённый такой наглостью захватчика, такой барской развязностью, укусил его за один из трёх «пальцев», мягкий как язык: никакого другого оружия самозащиты, кроме зубов, у меня же не было. «Кентавр» отдёрнул правый хобот и оттолкнул меня левым, так что я, стукнувшись о дерево, ушиб плечо. После чего он, сердито размахивая хоботами, удалился.
Плечо болело, но зато я показал ему, что не позволю делать с собой безнаказанно всё, что ему вздумается! Небось, в следующий раз побоится протягивать ко мне свои сопливые конечности! Ишь, рабовладелец выискался! Мало того, что держит в неволе, так ещё и тянет свои поганые щупальца!
* * *
Дни проходили за днями. Я непреклонно игнорировал все попытки захватчика надо мной властвовать, и эти попытки были всё более редкими и менее продолжительными. «Кентавр» больше времени уделял другим существам, которые позволяли укрощать себя. Особенно больших успехов двухоботный укротитель добился с Паломидом, что неудивительно, ибо пёс уже был выдрессирован мною. А вот с перепончатоухим чешуехвостом Лымарчука «кентавр», как и я, не смог ничего добиться: зверёк не поддавался дрессировке. Я даже зауважал за это чешуйчатого симпатягу. Даже подумал: а может, он и не так уж глуп.
Пребывая в неволе, я продолжал через компьютер поддерживать связь с Ильёй, Добрыней и Алёшей — человекообразными роботами, оставшимися на острове Муртазаева. Не теряя надежды выбраться из плена, вернуться на стоянку и довести до конца начатое, приказал механической троице продолжать отлов животных. Они отлавливали зверушек, сооружали для них клетки, заготавливали корма… Мало того, по моему приказу и под моим чутким руководством роботы начали дрессировать отловленных зверушек. Конечно, это выходило у них неумело и неуклюже, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, или, перефразируя, на безлюдье и робот дрессировщик.
Когда мои роботы сообщили, что изловили ещё одного перепончатоухого чешуехвоста Лымарчука, я приказал им его отпустить.
* * *
Через двадцать два дня после того как я угодил в плен к четвероногому дрессировщику, в голубом небе появилась тёмная точка, которая, постепенно увеличиваясь, превратилась в летательный аппарат.
Сначала я решил, что это вернулся за мной челнок с «Харькова». Но челнок должен был прилететь не раньше, чем через три недели, да и выглядела эта машина иначе. Тогда я подумал, что это аппарат одной из пребывающих на Тригее земных экспедиций, и принялся прыгать и размахивать руками, чтобы меня заметили.
Нет, этот аппарат, достаточно похожий на земные, оказался машиной двухоботов. Опустившись на край поляны, точнее — зависнув в полуметре над почвой и загородив от моего взора сооружение, которое я сначала принял за большой камень или скалу, аппарат разинул вход и вывалил трап. Внутри я разглядел пару слоноподобных созданий, но не пушистых, а покрытых оболочками, будто одетыми в комбинезоны. Впрочем, и пушистый дрессировщик, пропавший на время из моего поля зрения, оказался обряжен в некую текстильную оболочку. Выходит, двухоботы носят одежду, а здесь дрессировщик разгуливал голым, как и я, принимая воздушные и солнечные ванны!
Слоноподобные роботы засуетились, собирая манатки и перемещая их в аппарат. Один из роботов быстро разобрал мои кормушку, поилку, купальню и конуру, а также повыдёргивал из почвы по окружности моего «заколдованного круга» незамеченные мною в траве колышки, и перетаскал всё это в летающую машину. Колышки, как я сообразил, и создавали силовое поле. Наше, земное оборудование для создания аналогичных оград, как известно, выглядит иначе.
Короче говоря, двухоботные механизмы провели тщательную уборку поляны и её окрестностей. Дрессированные животные, включая Паломида, следуя приказам четвероногого дрессировщика, выраженные жестами, вошли, вползли, запрыгнули, впорхнули в летательный аппарат. Туда же загрузились и роботы. Последним в сей небольшой летающий «Ноев ковчег» переместился двухоботный укротитель. Снаружи, на поляне остались лишь я да перепончатоухий чешуехвост. Трап втянулся, вход закрылся, аппарат взлетел, стал набирать высоту и скорость, в голубом небе превратился в тёмную точку, которая, уменьшаясь, вскоре совсем исчезла.
Я, ошарашенный таким поворотом событий, огляделся. Вокруг красовалась лишь первозданная природа, никакого большого «камня» за деревьями уже не было. Единственное, что напоминало о присутствии тут слоноподобного инопланетянина и его механических двойников — это притоптанная ими трава, но она вновь распушится, и следов не останется.
Похоже, этот двухобот вовсе не абориген Тригея, как я думал, а такой же временный гость на этой планете, как и я. Похоже, он тоже прилетел сюда, чтобы выбрать тригейских животных, пригодных для работы в цирке, дабы затем выступать с ними на своей, неизвестной землянам планете. Слава Богу, что я не стал плясать под его дудку, иначе бы он и меня утащил в неизвестную космическую даль, и прощай Земля навеки. Мой саботаж меня спас. А беднягу Паломида мы уж наверняка никогда больше не увидим. Представляю, как дочка огорчится.
Перепончатоухий чешуехвост спустился с деревца и беспрепятственно вышел из бывшего «заколдованного круга». Не спеша двинулся на север и скрылся в зарослях ватных деревьев. А я, прежде чем покинуть это место, стал обшаривать поляну и её окрестности, надеясь отыскать какой-нибудь артефакт, подтверждающий существование братьев по разуму. Ведь если я на Земле заявлю, что встречался с разумным инопланетянином, представителем внеземной цивилизации, не предоставив никаких материальных доказательств, то приобрету репутацию барона Мюнхгаузена, стану объектом насмешек, как это уже бывало с теми, кто делал подобные бездоказательные заявления. Изображения двухобота и его роботов зафиксировались в памяти моего наручного компьютера, но никакие изображения не могут служить свидетельствами реального существования того, что там изображено; ибо невозможно доказать, что изображение не является виртуальной реальностью, созданной самим компьютером.
Увы, тщательные поиски ничего не дали. Двухоботные роботы скрупулёзно убрали эту территорию, не оставив мне даже мельчайшего мусора, то есть каких либо артефактов. Ни тебе инопланетного гвоздика, образно выражаясь, ни тебе инопланетной булавки. А раз нет доказательств, думал я, придётся, видно, помалкивать о величайшем открытии. Ну, близким, верящим мне на слово, я, конечно, сообщу. Но от широкой земной общественности придётся, похоже, скрывать правду, дабы не прослыть лжецом.
Немного огорчённый этим обстоятельством, но более обрадованный обретением свободы, я, ориентируясь по компьютерному компасу, поплёлся на север, в сторону острова Муртазаева. Всего через полчаса был уже на берегу пролива, за которым развернулась твердь, где меня ждали мои роботы-звероловы и отловленные ими, вместо похищенных двухоботом, кандидаты в цирковые артисты.
Ни топора, ни пилы, ни прочих инструментов у меня не было, и я не мог соорудить лодку или плот из деревьев. Зато на разжиженных брегах впадающего в пролив ручья шелестели густые заросли тростника, и я, вспомнив, что в древности люди бороздили моря и океаны на тростниковых плотах, принялся сооружать плотик, выдёргивая пустотелый, как поплавок, тростник с корнями из болотистой почвы. Девять километров, отделяющие остров Флоки от острова Муртазаева, — расстояние небольшое, опытный пловец запросто проплыл бы такую дистанцию в тёплой воде. Но я, во-первых, не был опытным пловцом; а во-вторых, барахтающийся на поверхности человек мог привлечь крупных морских хищников, в то время как дрейфующий по поверхности тростник для хищников не представляет интереса. Короче говоря, через четыре часа я уже плыл на груде связанных тонкими лианами тростниковых снопов, гребя вместо весла кроной сломанного деревца. Океаны бороздить на таком хлипком плавсредстве нельзя, но на девять километров его должно хватить, тем более что над проливом царил штиль.
Загребая океанский рассол своим пушистым веслом, я размышлял.
Двухоботный дрессировщик отбраковал меня из-за того, что я не стал плясать под его дудку, видимо, посчитав меня существом глупым и примитивным, так же, как я отбраковал перепончатоухого чешуехвоста, думал я. Но я-то игнорировал инопланетного укротителя не потому, что не имею разума, а потому, что имею чувство собственного достоинства. Я читал, что когда-то людей, которые, обладая чувством собственного достоинства, отказывались холопствовать перед представителями власти, объявляли безумцами и отправляли в лечебницы для сумасшедших. Это что же, мы считаем собак, дельфинов и шимпанзе самыми умными из земных существ потому, что у них нет чувства собственного достоинства, и они охотно пресмыкаются перед нами, холопски пляшут под нашу дудку? Выходит, критерием разумности мы считаем отсутствие собственного достоинства, умение и способность холопствовать и пресмыкаться? А наличие чувства собственного достоинства, неспособность или нежелание холопствовать и пресмыкаться — это для нас критерий неразумности? Напрашивается предположение, что на Земле могут быть существа умнее, даже почти братья по разуму, но, имея чувство собственного достоинства, они нас игнорируют, и оттого мы их в грош не ставим, считая глупыми, примитивными тварями. Может, разумные существа, которых мы считаем неразумным зверьём, презирают нас за маниакальное стремление властвовать над природой, нанося ей непоправимый вред; за идиотическое стремление к самоуничтожению в войнах, лагерях смерти, террористических актах… Может, они брезгают контактировать со столь неумными и недобрыми существами, как мы, люди, гомо сапиенсы. Может, они считают человечество не высшим достижением эволюции, а злокачественной опухолью биосферы.
(Когда я впоследствии, уже возвращаясь на Землю на космовозе «Харьков», поделился своими размышлениями с юнгой Аскольдом, этот начитанный юноша ответил мне цитатой. Он прочёл по памяти строки немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана; строки, написанные в начале девятнадцатого века якобы от лица животного (или, коль речь о животном, правильнее говорить не «от лица», а «от морды»?): «Неужели умение ходить прямо, на двух ногах, — такое великое достижение, что племя, которое зовётся людьми, присвоило себе право господствовать над нами всеми, кто ходит на четырёх, намного лучше него удерживая равновесие? Но я знаю, они, люди, более всего гордятся тем, что будто бы сидит у них в голове и что они зовут разумом. Я плохо представляю себе, что это такое, но одно знаю наверняка: если разум — лишь способность сознательно действовать и не совершать глупостей, то я не поменяюсь ни с одним человеком».)
Короче говоря, предаваясь такому философствованию с налётом мизантропии, без отрыва от гребли деревцем, я, не спеша, за четыре с небольшим часа, переплыл на утлом плотике пролив и причалил к острову Муртазаева, где, вернувшись на стоянку, продолжу дрессировку отловленных роботами — Ильёй, Добрыней и Алёшей — и ими же уже немного выдрессированных животных, выбирая самых талантливых и ожидая возвращения за мной челнока с космовоза.
Когда до берега оставалось всего каких-то две сотни метров, я заметил, что параллельно мне от острова Флоки к острову Муртазаева по воде перемещается некая точка. Напряг зрение, пытаясь её рассмотреть.
Вроде, это был маленький плотик.
Вроде, на нём плыло небольшое существо, гребя маленьким веслом или просто конечностью.
Вроде, существо было похоже на обезьянку или лемура.
А может, мне это только померещилось.
* * *
Так завершается фрагмент мемуаров дрессировщика Тристана Цвяха, похожий на притчу, загримированную под научно-фантастический рассказ.
Но прежде чем ты, бесценный читатель, закончишь чтение, предлагаю переместиться в ещё более удалённую от Земли часть галактики — на планету, где имеет место цивилизация двухоботов; переместиться не посредством транспорта, а посредством воображения. Двухоботы называют родную планету Аммыыхх (их фонетика сильно отличается от человеческой, поэтому упоминаемые здесь тамошние имена и названия мало похожи на то, как они звучат в действительности, тем более что человеческое ухо вообще не способно воспринимать речь этого народа), поэтому назовём их аммыыххианами. Люди же эту планету никак не называют, ибо не подозревают о её существовании.
Аммыыххианин по имени Ххууммэх, работающий директором одного из аммыыххианских цирков, пребывая на конференции цирковых руководителей (впрочем, аммыыххиане не имеют рук, а имеют хоботы, поэтому, в данном случае, правильнее говорить, наверно, не «руководители», а «хоботоводители»), получил сообщение о возвращении из космической командировки дрессировщика Хаххаауха. Полгода назад сей дрессировщик отправился с взятыми напрокат роботами-звероловами на затерянную в галактике планету Уаэххэх, открытую аммыыххианскими космическими путешественниками полтора десятка лет назад. Цель командировки — отловить на этой планете экзотических животных и выбрать из них таких, которые пригодны для цирковой работы. Хоть аммыыххиане уже обнаружили в галактике восемь планет, на которых имелась жизнь (братьев по разуму там не оказалось), хоть животные с этих планет изучались аммыыххианскими учёными, хоть такие животные уже жили в аммыыххианских зоопарках, ни в одном из аммыыххианских цирков дрессированных инопланетных существ до сих пор не было. Появление на цирковой арене инопланетян должно было стать сенсацией и принести цирку весомые прибыли. Поэтому директор цирка, узнав, что дрессировщик вернулся, и не один, а с группой уаэххэхианских животных, возликовал. Он едва дождался окончания конференции, чтобы поспешить в родной цирк.
В цирке вернувшийся дрессировщик, демонстрируя директору отобранных на Уаэххэхе (вне всякого сомнения, читатель догадался, что это та самая планета, которую земляне назвали Тригеем) кандидатов в цирковые артисты, поведал подробности экспедиции. В частности, жестикулируя хоботами, сообщил:
— На острове, что расположен рядом с тем, где я разбил стоянку, роботы изловили семерых животных. Причём пятеро из них находились в клетках, вроде тех, которые плетёт из своей толстой затвердевающей паутины гигантский десятиногий трупоед с планеты Хххэммх. Не знаю, какое уаэххэхианское животное плетёт аналогичные ловчие клетки: в компьютерном справочнике такой информации не оказалось. Информация о пяти существах, попавшихся в эти клетки, в компьютере имелась, а вот ещё двух животных, которых роботы доставили обездвиженными с того острова, компьютер не смог идентифицировать, поэтому я сам придумал для них названия. Одного из них я назвал крапчатым умницей, за его лёгкую обучаемость, за умение приспосабливаться к обстоятельствам и за коммуникабельность. Вот он. — Говоря это, Хаххааух вошёл в вольер белого в чёрную крапинку создания, в котором читатель опознал бы пса породы далматинский дог. Пёс завилял хвостом и запрыгал на задних лапах перед укротителем, а тот ласково потрепал пса хоботами. — А другую тварь, о которой нет информации в компьютере, я назвал вертикальноходящим голотелом, за то, что она постоянно ходит на задних конечностях и её тело почти полностью голое, лишь часть головы и низ живота покрыты мехом. Вот она…
Дрессировщик взял из кармана правым хоботом пульт стереоскопического визора и, вытянув вперёд хобот, нажал мягким щупальцем клавишу. Перед директором цирка возникло объёмное цветное изображение существа, в котором читатель опознал бы обнажённого землянина-человека мужского пола, в натуральную величину. Гомо сапиенс угрюмо сидел на ветке коренастого дерева.
— Вообще, среди животных, отловленных роботами на островах того архипелага, лишь двое оказались абсолютно глупыми, примитивными, не поддающимися обучению и потому непригодными для цирковой работы: вот этот вертикальноходящий голотел и тварь, которую биологи назвали чешуехвостым перепончатоухом Ммуххоэха. Она была роботами извлечена из клетки, о которых я говорил. Вот эта тварь…
Дрессировщик снова нажал на клавишу пульта стереовизора, и возникло изображение существа, похожего на покрытую чешуёй обезьянку, с ушами, напоминающими крылья летучей мыши. Оно так же угрюмо, как и человек, сидело на ветке деревца. Понятное дело, чешуехвостым перепончатоухом Ммуххоэха аммыыххиане называли то же тригейское животное, которое люди-земляне называли перепончатоухим чешуехвостом Лымарчука.
— Видимо, природа создала вертикальноходящего голотела и чешуехвостого перепончатоуха только для того, чтобы жрать, спать, испражняться, ну и размножаться, конечно, и ни на что другое эти примитивные твари не способны, — продолжал четвероногий дрессировщик. — А жаль. Внешне животные интересные. Я рассчитывал, что из них выйдет толк, когда увидел, что щупальца на их передних конечностях такие же ловкие, как наши, — Хаххааух демонстративно пошевелил щупальцами левого хобота. — Как обманчива бывает внешность. Пришлось этих двух безмозглых тварей отпустить. Зато остальные поддавались обучению. Особенно — крапчатый умница. Удивительно умный зверь! Он так быстро соображает, что от него требуется, и с таким энтузиазмом выполняет команды, что работать с ним — одно удовольствие. Крапчатый умница во много раз умнее вертикальноходящего голотела и чешуехвостого перепончатоуха вместе взятых. Он станет звездой нашего цирка, гвоздём программы!
И дрессировщик Хаххааух вновь принялся ласково трепать хоботами пса. При этом случайно нажал щупальцем клавишу пульта, который продолжал держать правым хоботом, и рядом с вольером вновь возникло изображение угрюмо сидящего на ветке гомо сапиенса. Прежде чем отключить пульт, двухоботный дрессировщик зыркнул на человека и разочарованно прорычал:
— Ну до чего же глупая тварь!
Сентябрь 2003 г.
Примечания
1
Впервые текст «Чисто харьковская легенда» был напечатан в журнале «Порог» (Кировоград) № 9, 2004; вместе с текстом «Легенда о морском волке и сухопутном пастухе», под общим заголовком «Две легенды».
(обратно)2
Впервые текст «Апчхи» был напечатан в журнале «Порог» (Кировоград) № 2, 2004.
(обратно)3
Впервые текст «Поцелуй» был напечатан в журнале «Непоседа» (Харьков) № 3, 2004.
(обратно)4
Впервые текст «Яйцо» был напечатан (с несущественными сокращениями) в журнале «Шалтай-Болтай» (Волгоград) № 3, 2005.
(обратно)5
Впервые текст «Главный герой» был напечатан в журнале «Український детектив» (Киев) № 1, 2007.
(обратно)6
Впервые текст «Сон эльфа» был напечатан в журнале «Edita» (Гельзенкирхен, Германия), выпуск 5 (67), 2016.
(обратно)7
Впервые текст «Кто укокошил натурщика?» был напечатан в журнале «Порог» (Кировоград) № 7, 2005.
(обратно)8
Впервые текст «Куда идёт Зильберкукин?» был напечатан в журнале «Непоседа» (Харьков) № 2, 2004.
(обратно)9
Намёк на наводнение в Харькове в 1995 году.
(обратно)10
Впервые текст «Легенда о морском волке и сухопутном пастухе» был напечатан в журнале «Порог» (Кировоград) № 9, 2004; вместе с текстом «Чисто харьковская легенда», под общим заголовком «Две легенды».
(обратно)11
Впервые текст «Месть Оскола» (ранний вариант под заголовком «Милость Сварога») был напечатан в журнале «Склянка часу / Zeitglas» (Канев, Украина — Менхенгладбах, Германия) № 42, 2007.
(обратно)




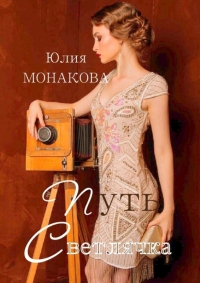

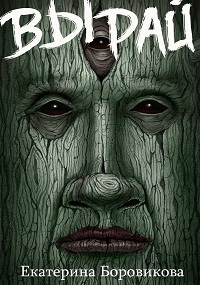



Комментарии к книге «Кто укокошил натурщика?», Геннадий Михайлович Кофанов
Всего 0 комментариев