Денис Рябцев В сторону света
Город — О!
«Бесконечная, плоская, как стол, равнина. Всюду пески, там и сям солонцы, полынь, саксаул, караваны верблюдов, ветры, палящий зной летом и невыносимая стужа зимой… — писал об Оренбурге в 1890 году писатель Владимир Кигн-Дедлов. — С вокзала нас везёт извозчик странного вида. Странен он сам, потому что он татарин; странна его беспокойная, плохо выезженная лошадёнка киргизской породы; но странней всего экипаж: маленькая долгуша на дрогах. Путь к гостинице идёт пустынной песчаной площадью, на далёких окраинах которой виднеются дома. За площадью налево, среди соснового сада, окружённого высоким каменным забором, стоит какое-то белое здание. По углам его — башни с китайскими кровлями. Из-за них поднимается минарет, увенчанный полумесяцем. Здание называется Караван-сарай. Тут живёт губернатор последней европейской провинции».
Странное дело — память. Что-то укладывается в её копилку на самом заметном месте, а что-то прячется глубоко, в потаённой глубине. И только чудо способно оживить нечто забытое, какая-то случайная деталь, случайное фото.
* * *
Оренбург. Награда моя и грусть! Здесь, где стоит ныне гордо Пётр, мы когда-то тащили с другом бредень, сбежав из школы на рыбалку. А за десятки лет до меня — маленький Лёва Бураков: «Уходили с Урала до того, как садилось солнце. Боялись возвращения лихорадки. Она и так истерзала нас. На дворе жарища, а тебя бьёт будто током, на койке чуть ли не на метр подскакиваешь, а зубы лязгают так, что на соседней улице слышно. Малярия пришла вместе с войною. Озера заливали нефтью — это чтобы комарьё извести. В школе насильно давали противный зелёный акрихин. Но малярия не сдавалась. Притихнет, а сырым вечером вдруг ка-ак схватит!» (Л. А. Бураков. «Фантик от счастливого детства». Повесть).
* * *
За воспоминаниями о школьных походах на Урал листаю подборку фотографий об Оренбурге дальше. Цветные, художественные, исполненные на современной технике. Разве мы, мальчишки, могли мечтать о таком качестве? Мой первый фотоаппарат подарил мне дед. Это была плёночная «Вилия-авто», подобранная женской резинкой от волос, чтобы крышка самопроизвольно не открывалась. И резинка встаёт перед глазами, вырезанная из велосипедной камеры — неаккуратная, с пляшущими краями. Первая попытка самостоятельно проявить плёнку увенчалась полным фиаско. Весь негатив, самопроизвольным способом слетевший со спирали, попросту слипся в проявителе и фиксаже. Отец открыл бачок первым, посмотрел, вздохнул и изрёк: «Бракодел».
* * *
Мой дядька испытывал много насмешек в свой адрес, так как работал в советской милиции. Стандартные шутки про то, что в каждой семье не без урода, он вынудил себя научиться пропускать мимо ушей. Тучный, тяжёлый, дядька мог у всех на глазах поглотить огромный таз пельменей. Но при этой гастрономической страсти он просто люто и паталогически ненавидел лук. Бывало, когда хотелось, чтобы еды досталось вдоволь семье, мы нарочно сливали ему, что «бабушка втихаря сунула в фарш три луковицы». Подобного было достаточно, чтобы родственник к прекрасной еде не проявлял никакого интереса, а мы сами наедались от пуза.
В памяти возникает салон автомобиля «Победа». Сижу ребёнком на заднем диване машины и придерживаю руками две фляги с помоями. За рулём отец. Везём корм поросятам, которых завели у бабушки в частном дворе. Свиньи — животные смышлёные, прекрасно дрессируются. Весь околоток любил наших хрюшек, которые на бис с удовольствием исполняли весь собачий набор от «сидеть» до «апорт». Вот и возили мы нашим импровизированным циркачам корм из ближайшего детского сада — всё, чем привередничали тамошние дети.
Едем. Во флягах мерно плещется сносное пойло, ударяя кусками размокшего хлеба о стенки. Смотрим, наш дядька стоит у дороги — автобуса ждёт. Грех не подбросить. Садится на переднее сиденье возле отца, а я ему с ходу:
— А вы, наверное, помои есть не будете?
А он машинально:
— Почему?
— Да они с луком, — отвечаю.
Надо сказать, что отец едва удержал руль — нас обоих одинаково трясло от смеха.
* * *
В начале девяностых стало совсем плохо с реактивами для фотографий. Мы каким-то чудесным образом раздобыли телефон человека, способного продать трёхсотметровые бобины с военной фотоплёнкой. Скинулись, купили. Доставали с большим трудом порошки: фенидон и гидрохинон. На аптекарских весах по особым рецептам вывешивали зелья — готовили мягкие, контрастные проявители.
Зарядить с бобины кассеты на 36 кадров было особым мастерством. Полная темнота. Засветить разом всю плёнку — дело нехитрое, но смертельно нежелательное. По правую руку в ряд — катушки, бобина — на коленях, ножницы — под коленом. Всё на ощупь. Прильнёшь языком к краю ленты — прилипает к языку. Ага, понятно! Это сторона внутренняя — ракорд надо этой стороной ставить. Руками берёшь плёнку только за края перфорации, иначе отпечатаешь пальцы на изображениях. Режешь в темноте, потами исходишь.
И прятали друг от друга «кровянку», когда у коллег депрессии случались. «Красная кровяная соль» — это порошок, используемый для осветления негативов или отпечатков. Содержала цианистый калий. Поэтому иногда прятали от греха.
* * *
Как много может подарить хороший снимок: и радости, и сентиментальной грусти. Спасибо каждому, кто снимает. Спасибо тем, кто любит и дорожит фотографией!
* * *
«Оренбург — совсем европейский город, и притом премилый, даже красивый, — отмечал Владимир Кигн-Дедлов. — Лучшая его часть вся застроена приветливыми каменными домами в два и три этажа. Много казённых зданий. Два корпуса, институт, больницы, присутственные места таковы, что их не совестно было бы поместить и в Петербург… Громадные гостиные дворы, где самое настоящее купечество торгует какими угодно товарами: от подержанной мебели до шёлков и бархатов. Несколько типографий, местная газета, афиши, объявляющие о приезде оперной труппы, которая оказалась вполне приличной, — чего же вам ещё!.. Я сразу воспрял духом и принялся усиленно знакомиться с Оренбургом. Чем больше я знакомился с ним, тем больше он мне нравился. Азиатские его черты, которые до того наводили на меня уныние, теперь только прибавляли прелести и новизны».
Боль
Опять дождик. Старая плотинка, не успев просохнуть после вчерашнего ливня, впитывает новые струи. Чёртова слякоть! Хлюпанье под ногами раздражает слух. Вот обидно: вчера только прикрепил новые погоны на рубаху. Теперь их покорёжит от влаги, и они потеряют весь свой крутой вид.
— Пароль? — доносится из-за двери.
— Замена, сколько ног тебе выдернуть? — почти кричит в закрытую дверь Фикса.
Скрипя, металлическая калитка открывается.
— Как дела, замена?.. в целом?.. — переступив порог, спрашивает Фикса, умудряясь правой рукой сжимать трудовую Володину руку, а левой стряхивать воду с промокшей фуражки.
— Служу, — отвечает молодой и смеётся.
— Замена, я очень злой и голодный, — грубо заявляет дембель.
— Сейчас разогрею фламинго под ананасовым пюре…
— А я ещё промок! — почти кричит Фикса, приблизив своё лицо к лицу Вовы.
Последний, растерявшись, переминается с ноги на ногу. Старый мгновение наслаждается сконфуженностью молодого и, по-доброму рассмеявшись, добавляет:
— Служи…
* * *
Сержант, распевая что-то про «губ твоих холод», вваливается в бойлерную.
— Что, Фикса, скоро задница станет квадратной?
Сергей отрывает глаза от книжки.
— Толстый, ты меня достал.
Андрей хватает книгу и отгибает титульную страницу.
— «За-писки сле-дователя», — по слогам читает он. — Интересная?
— Дерьмо! — отвечает Фикса.
— А Хемингуэя прочёл?
— Угу.
— Тоже дерьмо?
— Конечно, только более высокохудожественное, — дембель опять опускает глаза в книгу.
— Я хотел поговорить с тобой. Ты замену свою совсем достал, Фикса.
— Злее будут.
— Дурак ты. Я вот сержант, а такого себе не позволяю. Ты заставлял Вовку выучить наизусть «Старика и море»?
— И что?.. Это же классика, баран. Нобелевская премия. Весь мир читает. Кому будет хуже, если замена этот текст будет наизусть знать?
— Уставы пусть лучше учит. Не забивай ему голову ерундой. Ты только лишнюю боль человеку причиняешь.
Фикса вскочил на ноги и заорал сержанту в лицо:
— Да что ты знаешь о боли? Ты же дальше своего носа не видишь. Тебя только тряпки интересуют, во что бы упрятать свой жирный мамон, когда на ДМБ пойдёшь. О чём ты вообще можешь знать?
* * *
Андрею стало плохо после ужина. Его лицо, и без того вечно красное, налилось каким-то багровым соком. Он свалился в форме на свою койку и застонал. Через час с трудом перебрался на табурет перед телевизором. Казарма молча смотрела на его муки не в силах облегчить страдания.
— Надо в госпиталь, — компетентно определил Фикса, — замена, кто свободен? Бегом в автопарк за машиной! Или сам дойдёшь, Андрей?
— Я сам не дойду, — процедил сержант. — Очень живот болит. Вот… А ты, жук упрямый, говорил, мол, что я не знаю боли.
— Это не боль, это неудобная тяжесть в брюхе. Не дрейфь, сейчас подгоним машину, отвезём, кишки тебе прочистят, и будешь бегать, как новенький. Только не подыхай раньше времени. И хватит тоску нагонять, ладно?
* * *
Сержанта взяли под руки и помогли спуститься к подъезду, где уже стоял, отплёвывая едкий дым, старый уазик комдива. На казарму снизошёл сон, но Фикса не мог найти себе места. Нет, это не было переживание за Андрея. Это была тоска по неосязаемому, нематериальному. Приступ, согнувший сержанта, вдруг неожиданно поразил старого — а жизнь-то хрупкая штука.
Фикса достал из тумбочки лист бумаги и стержень. Долго смотрел на белый прямоугольник, затем начал чертить фигурки. Неожиданно на листе появилась строчка, написанная неряшливыми, острыми буковками: «Сколько буду я пахнуть ваксой…» Далее прилепилась вторая строка, ещё более безобразная каллиграфически, третья, пятая…
Сколько буду я пахнуть ваксой, День живуч и похож на икоту, За окном неотмытой кляксой Продолженье всё той же субботы. Чёрным рядом стоят столбы, И безглазые щерят плафоны, Я иду по проспекту войны, А на плечи давят погоны…Светало. Фикса подошёл к окну, открыл старую скрипучую раму. Свежий ветер приятно дунул в лицо и позвал за собой.
Фикса не спеша, будто во сне, взгромоздился на подоконник и, оттолкнувшись ногами, вылетел вон. Он мог сразу полететь домой, но неожиданно решил не спешить. Сильный ветер сдувал дембеля в сторону леса, но солдат одним лишь усилием воли разворачивал тело в сторону стихии. Неожиданно ветер умолк, и Фикса почувствовал себя свободным. Он кружил над казармой, подобно мотыльку, стремящемуся загасить пламя электрической лампы. В глазах срочника горел металл, кожа плавно обрастала огромными шипами.
— Я птица! — орал безумец, и снова поднимался ветер. Его порыв срывал шифер с убогого строения. Здание медленно разваливалось по кирпичику.
Внезапно из хаоса пыли и почти материального рёва выпорхнул сержант. Его маленькие крылышки еле тянули тучное тело.
— Вот видишь: чем меньше боль, тем меньше крылья! — ревел Фикса.
— Ну зачем ты это устроил? Я так хотел выспаться.
— Сейчас не время! — голос старого утраивали молнии, он был великолепен в своей одержимости.
Сержант опять нырнул в хаос, но через минуту появился с чемоданом.
— Я, Серёжа, лечу домой. А ты плохо кончишь, ты всегда был идиотом.
Фикса совсем выбился из сил. Вены на шее вздулись.
Подул северный ветер, и солдат понял, что нужно решаться.
Турбодвигатель сердца взрывается от усилия воли — вперёд! В небе завертелась огромная бетономешалка. Фикса в битве со стихией теряет уши и голову, ноги и туловище. Сергея нет, осталась лишь арматура из крыльев, глотки и сердца. Он парит и видит, как тщетно пытается оторваться от земли его пурпурный от страха командир.
— А! — кричит глотка с крыльями. — Это ты говорил про боль? Я всё это устроил для тебя! Наслаждайся!
Фикса уже не видит, ибо у него нет глаз, но он чувствует…
Бункер
* * *
Это было в то время, когда «вау» и «упс» в России почти уже вытеснили «ого» и «ой». Цивилизация, разменявшая третье тысячелетие, поменявшая Пушкина на Донцову, придумала слова «зво́нят» и «ло́жут». И недалёк час, когда закопают последних, кто помнит наверняка, как это по-русски…
Отошедшее от либеральных ценностей, успокоенное и жующее, общество пропитывалось идеями жизни по кредитам, тупо стремясь к обыденной стабильности и благополучию.
* * *
— Да кто попрёт-то? Китайцы? — размахивал пивным стаканом слесарь Юрий. Он только что закончил рабочий день в автомастерской и перешёл через дорогу глотнуть пенного напитка. Худой, морщинистый — по его лицу, видимо, катались танки. Но глаза, почти детские, сохранили какой-то искристый цвет молодости, россыпь костров юности. А может, это сделал своё дело отблеск неоновой вывески на пивной.
За одним столиком со слесарем сидел директор мелкой рекламной фирмы и щёлкал фисташки, тщательно обсасывая солёные скорлупки. Директор был моложе, но макушку его уже тронула залысина. Дорогой костюм и галстук, итальянская сорочка и лакированные туфли очень не вязались с антуражем придорожного дешёвого кафе. Кареглазый, вдумчивый, он смотрел на Юрия, будто зритель в театре: отстранённо, но с интересом.
— Я тебя спрашиваю, Максим.
Слесарь привстал с пластикового стула и протянул свой стакан директору, для того чтобы чокнуться:
— Давай за Россию?
— Давай, — вяло ответил рекламист, поднимая бутылку.
— Дзинь, — озвучил удар кубков слесарь. — Никто на нас не замахнётся теперь. Россия, сам знаешь!
— Нет, — Максим оживился, — Юра, я же тебе об ощущениях своих говорю. Война скоро. Понимаешь? Вот, может, этот прекрасный летний вечер, когда мы с тобой пьём пиво, последний. А завтра — бух! И всё!
— Что? — испуганно переспросил слесарь.
— Всё, — Максим раскусил орех и тщательно прожевал ядрышко. Он продолжал следить за реакцией случайного собеседника. — Окопы, Юра. Взрывы. Что там ещё бывает? Ты сам-то никогда не воевал?
— Нет, — слесарь опешил.
— Ну а кино видел? — продолжал со спокойным лицом директор. Его, видимо, забавляло происходящее: он, молокосос, практически на мякине разводил взрослого дядьку. — Сердцем чувствую, Юра, придётся нам ещё повоевать, брат!
— С кем? — слесарь отставил в сторону недопитый стакан.
— Мало врагов, что ли? — поинтересовался Максим. — Чем лучше мы живём, тем больше всех раздражаем. Я-то, уж поверь, это знаю.
— Кого раздражаем? — захлопал глазами слесарь.
— А, — махнул рукой директор. — Мне пора, Юра!
— Стой, — схватил за руку собеседника слесарь. — Ты серьёзно? Делать-то что?
— Я серьёзно, — Максим взглянул на циферблат своих наручных часов. — Бункер копай, Юра, с едой. Голод будет. Скоро. Вот, возьми от меня часы в подарок. Классный ты мужик. Одно слово — Юра! Помни: времени осталось мало…
— Да с чего это мне твои часы? — слесарь ещё чаще заморгал, нервничая.
— Все эти цацки — мусор. Ничего не стоят. Носи, не стесняйся. Не Швейцария, конечно, но приличные. Малайзийские вроде…
В этот момент громко заиграла мелодия сотового. Максим достал из внутреннего кармана пиджака телефон: «Да, я. Кафе тут уличное, прямо с проспекта сворачивай на Ленина. Да. Жду».
Юра, открыв рот, наблюдал за случайным знакомым. Тот договорил, убрал телефон на место и пошёл, не оборачиваясь, к дороге. Ещё минута, и директора подобрал чёрный внедорожник с тонированными стёклами.
Юра посмотрел на подаренные часы. Он даже вспотел, и теперь старенькая рубашка неприятно прилипала к лопаткам: «Чёрт знает что такое! Война будет. Надо же».
* * *
Штыковая лопата врезалась в сухую глину и вырвала шмат, будто мысль о грядущей войне в юриной голове проделала глубокую рытвину.
— Чего, туалет копаешь? — через забор дачного участка спросил вечно пьяный сосед слесаря.
— Туалет, — коротко отрезал Юра, проклиная человеческое любопытство.
Штык, штык, ещё один. В рост ямка. Чем глубже копает герой, тем неуютнее и теснее кажется бункер слесарю. И опять лопата врезается в стенки. Всё просторнее погреб получается, шире, а слесарь, потный и грязный, как трактор, без устали продолжает копать.
Солнце садится. Становится темно. Завтра смена в автомастерской, полная мыслей и тревоги. У одного из клиентов заклинит коробку передач — ерунда. Юрий впервые в жизни сляпает кое-как. Не до клиентов. Тысяч пять пробежит и так.
К яме. Быстрее копать. Вот спасенье. Только Юра знает страшную правду, только он может себя уберечь. От войны. Малайзийские часы на руке давно начали отсчёт.
Яма уже шириной с «жигули». Два Юриных роста ниже поверхности грядок. Лестница, лопата, ведро в зубы. Копать!
«Всё! Если ещё сниму два штыка, достану воду, здесь она неглубоко. Достаточно. Теперь займусь укрепленьем стен. Нужен кирпич, цемент, арматура»…
Юра дома на кухне чертит схему бункера. Жена, не дождавшись безумца в постели, смотрит беззаботные сны про большую любовь.
«ПГС, — шепчет Юра и пишет, — три куба. Цемента 40 мешков…»
* * *
— Троит, мастер, на прошлой неделе клапана выставляли, — владелец машины машет руками. — Почему не тянет машина, Юрий?
— Да что же вы хотите от этого «унитаза»? — зло отвечает слесарь. — Вон, берите иномарку и не задавайте глупых вопросов. «Хаммер», к примеру. Копает великолепно!
— Вы что, — любитель теряет дыханье, — зажрались тут все? Я сейчас пойду жаловаться мастеру цеха!
— Да хоть Господу Богу, — Юрий посматривает на малайзийский циферблат. — До конца смены пятнадцать минут. Заезжайте завтра, если хотите.
* * *
Бункер накрыт монолитной бетонной подушкой. Люк с большими замками — по эксклюзивным чертежам. Лестница вниз. Там топчан и полки с провиантом. Бутилированная вода. Мука. Сахар. Соль. Консервы и спички. Два десятка автомобильных аккумуляторов. Провода. Верёвки. Инструмент. Газовая плитка и два потёртых баллона с газом. Тесно от барахла. Сыро.
«Как сделать нормальный воздухообмен? Вот незадача. И просмотр поверхности, как на подводной лодке. Нужно создать перископ».
* * *
— Я два дня назад делал задний мост у вас, Юрий. Помните меня?
— Да, — машет слесарь рукой. — Вас тут таких знаете сколько? И с мостами и без…
— Колесо заднее на дороге потерял. Это вы так поменяли подшипник полуоси справа?
— Слушайте, — Юра хватает автолюбителя за отворот рубахи, — откуда вы такие любознательные берётесь? Ездить учитесь — вот ответ.
— Да я вас… — клиент приседает и бьёт Юрия в нос. — Собака, лови!
Юра спокойно стирает под носом юшку и смотрит на часы: «Двадцать минут до конца смены». Поднимая глаза, он спокойно спрашивает:
— Я ещё что-то могу для вас сделать?
Но клиент этого уже не слышит. Он бежит прочь, обезумев.
* * *
Сегодня жена посетила дачу. Долго смотрела на полки и провиант в бункере. Её давно тяготила мысль, куда делся семейный автомобиль и почему муж стал ходить пешком. Если продал машину, то почему не сказал о деньгах? И теперь она поняла, где все вырученные средства. Поджав губы, на самой грани «разрыда» она дрожащим голосом выдавила только: «Дурак!»
* * *
— Клиенты жалуются, Юрий Петрович, — мастер, толстый трутень за компьютером, поднял глаза на работника. — Что творится с тобой, Юра? Ведь никогда не было проблем.
— Всё нормально, — уперев взгляд в пол, отвечает слесарь. Только руки, битые грязные пальцы снуют, выдавая тревогу.
— Последнее предупреждение, Юр… — снисходит начальник. — И то в силу того, что я тебя давно знаю. А так… Мы никого держать не будем.
«Десять минут до конца смены. Перископ. Как сделать перископ?».
* * *
— Послушай, — женщина нежно прикасается к морщинистой щеке супруга, — у моей подруги есть знакомый психолог. Тише! Не кипятись! Он мастер своего дела. Я договорилась.
— Какого чёрта тебе надо? — Юрий отталкивает жену, но ловит её через мгновение за локоть и прижимает к себе. — Со мной всё нормально. Пойми.
— Ты устал на работе, — не верит жена, — ты переутомился. Столько лет без отпуска пашешь. Это «синдром усталости», я читала об этом в журнале…
— Я не устал! — почти орёт ей в ухо супруг. — Не делай из меня идиота. Это всё пишут для тех, кому плохо, чтобы было ещё хуже.
* * *
— Юрий Петрович! — мастер чешет за ухом. — Как ты думаешь, зачем я тебя пригласил?
«Ну свинья вылетая, — думает Юрий. — Ещё хрюкни, боров».
— Не знаешь? — продолжает мастер спокойно.
— Не знаю, — опускает лицо вниз слесарь.
— Ты уволен! — боров вскакивает с кресла и вытягивает указательный палец в сторону двери. — Собирай свои инструменты и катись отсюда к чёрту! Расчёт получишь в начале недели!
— Да иди ты сам… — в сердцах выкрикивает Юрий и чертит рукой дугу от плеча. С запястья слетают малайзийские часы. Летят через кабинет. Попадают мастеру в брюхо…
* * *
Пожар в автомастерской собрал всю округу поглазеть на яркое шоу. Пожарные люди и пожарные машины, пожарные шланги, пожарные лестницы. И бельмом скорая, будто из другого фильма. Всё красное, а она, собака, белая.
Пламя. Тяжёлое. Резиновое. С чёрной копотью. Не спеша тянется в небо, образуя неуместное грозовое облако под палящими лучами лета.
— Юра, — женщина споткнулась и обронила с ноги правую туфлю. — Мастер, где Юра?
Боров зло хватает женщину за руку, наотмашь бросает ей в ладонь малайзийские часы:
— Юра твой поджёг мастерскую!
— Где он?.. — не верит женщина. — Ответьте, где он?
— Сгорел на работе.
* * *
Под обломком обгоревшей и рухнувшей стены пожарные раскопали живое тело слесаря. Выжить помог стоящий рядом автоподъёмник, который не позволил плите упасть на бетонный пол и придавить бедолагу. Пока обгоревший мусор оттаскивали в сторону, Юрий, лёжа на спине, любовался небом. В тот момент он неожиданно понял, что на руке нет малайзийских часов. И ещё, главное, — ему среди этой вонючей гари впервые в жизни дышалось легко…
Вова пришёл
Вот уже долгую минуту насекомое пыталось разбить запотевшее окно. С завидной упёртостью муха билась о стекло, стирая с его поверхности матовый налёт.
Владимир очнулся и посмотрел на часы. Одиннадцать. «Рано», — подумал коммерсант и снова закрыл глаза. «Стоп, — мелькнуло с некоторым опозданием в его голове, — не может быть. Наверное, часы встали. Впрочем, чёрт с ними». Спешить было некуда, и время не имело значения.
Вова снова забылся. Чёрный лаз уводил его в таинственное подземелье. Он озирался по сторонам и едва различал в темноте, как один грунт меняет другой. Причудливые хитросплетения корней, неразличимый, неведомый, едва сладковатый запах и прохлада.
Ему вдруг стало хорошо, движение вниз продолжалось.
Неожиданно проход стал расширяться, на стенах появились красные блики.
Владимир на мгновение замер, втянул полной грудью уже явственно сладкий воздух, ещё и ещё. Заинтригованный предвкушаемым чудом двинулся дальше.
В просторной зале с низким земляным потолком горел костёр, вокруг него плясала всякая нечисть.
— Вова пришёл, — весело закричал маленький чёрт и захлопал в свои мохнатые ладони. — Сейчас мы тебя сварим, дружок!
Владимир подпрыгнул от испуга на месте, но бежать не смог. Всё тело оцепенело, ноги прилипли к полу, а крик ужаса застрял в гортани. Перед тем как проснуться, он ещё мгновение видел щупальца и когти, тянувшиеся к его горлу.
«После таких снов становятся седыми», — подумал коммерсант, радуясь тому, что ужас всего-навсего приснился.
Настенные часы по-прежнему показывали одиннадцать, зелёная дрянь, упрямо жужжа, врезалась лбом в стекло.
— Убью, если не прекратишь! — несдержанно произнёс Владимир. Муха продолжала биться.
Коммерсант потянулся за газетой, но рука его отяжелела и рухнула вниз. «Лень», — подумал Вова и попытался занять свой мозг чем-то светлым. В памяти тут же всплыл образ жены. Владимир по-животному любил каждый сантиметр её тела, такого маленького, почти игрушечного. Вот она танцует перед ним, по-барски развалившимся в постели. Её халат соскальзывает с плеч, обнажая хрупкие руки, точёные ключицы. Если бы она не была такой дурой, что обнаруживалось, стоило ей открыть свой маленький красный ротик… Владимир пытается воссоздать запах её тела, но слышит лишь приторный вкус из недавнего сна. Какая дура! Коммерсант вспоминает свой коронный удар, от которого на ринге падали очень сильные парни, и жену, бегущую в ночной рубашке по улице. Утром он нашёл её по кровавому следу. У соседки. Домой она, правда, больше не вернулась. На часах одиннадцать. Навозница скачет по стеклу, с каждым разом ударяя его сильнее. Во рту у него всё такая же сладкая мерзость — на язык нагадили сотни мух.
«Я в этом месяце вышел на триста процентов прибыли», — думает Владимир. Он тут же представляет себя значимым человеком. На произведённых его фирмой диванах сидит весь город, мэр приезжает занимать денег, и Владимир лениво жмёт ему руку, не вставая со своего ложа.
Одиннадцать. Муха бьётся о стекло. Приторный запах щекочет нос и делает слюну вязкой.
Вова берёт со стола пульт и включает телевизор. На экране миловидная девушка зачитывает последние городские новости. «У неё, наверное, красивая грудь», — думает он, автоматически прикасаясь к ширинке. Он долгое время пытается раздеть диктора в своём воображении.
«… сегодня, — тем временем читает девушка, — в одиннадцать часов в своей квартире был убит»…
Вова вскакивает с дивана. В телевизоре показывают его изуродованное тело. Сладкий вкус переполняет его рот, он задыхается, понимая, что это запах свежего человеческого мяса, это запах его мозгов, забрызгавших обои в прихожей, это запах смеющейся ему в лицо старухи с косой… Дзинь! Оконное стекло разбивается вдребезги, и зелёная жужжащая мерзость, увёртываясь от тысячи сияющих осколков, улетает в небо…
Всё…
Всё, что происходило, только укрепляло его пессимизм. Говорят, пессимизм — самая мудрая позиция. Возможно. Но эта позиция не самая лёгкая.
Всё происходило так, как он и предполагал, — всё происходило плохо.
Ах, если бы пессимизм можно было продавать. Он переплюнул бы нефть и газ. Запас пессимизма бесконечен.
* * *
Они постучали в дверь за восемь часов до нового года. Они были за дверью повсюду — их было двое. Одна работала на половом фронте, другая контролировала чистоту этого фронта. Та, которая уборщица, начала первой:
— Вы в очередной раз затопили кабинет директора нашего института.
— Очень жаль, приношу свои извинения, — сказал он, собираясь закрыть дверь, ибо вопрос казался исчерпанным.
— Нет, позвольте, что значит жаль? — вмешалась вторая женщина. — Пойдёмте посмотрите, что вы натворили!
Он предпочитал не спорить с людьми — это занимало слишком много времени.
Напялив башмаки, вышел из квартиры и был доставлен на первый этаж.
На первом этаже сидел директор института.
— Вы в очередной раз затопили мой кабинет, — сказал директор института, указывая на мокрое пятно.
— Очень жаль, — повторил виновник потопа, разглядывая живописный угол комнаты. — Эти милые женщины мне уже об этом сказали. Приношу свои искренние извинения.
— Надеюсь, вы понимаете, что я могу доставить вам много неприятностей.
— Я очень не люблю угроз, — ответил виновник нарочито спокойно.
— Мы можем подать заявление в суд, — директор института оскалился.
— Сударь, это ваше конституционное право…
— Гм… А где, если не секрет, вы работаете? — поспешил поинтересоваться директор, очевидно привыкший разговаривать с теми, кто о Конституции понятия не имел.
— Я жизнеописатель.
— Очевидно, утопист, — съязвил директор института, поглядывая на затопленный угол кабинета.
— Возможно. Готовьте в таком случае ковчег, — ответил вяло виновник потопа. Он не любил спорить. Это требовало сил.
— Жизнеописатель, — продолжал смаковать смешное слово директор, усматривая в нём что-то недостойное.
— Да. Жизнеописатель, — совсем сник жизнеописатель, — Как я устал от председателей колхозов, вышедших из вахтёров. От острых умов и дурных манер. От этих кабинетов, которые были общественными туалетами. От самомнения надутых рыл.
Во взгляде директора института появилось изумление.
— Это вы про кого? — спросил он.
— Это я про жизнь, — ответил жизнеописатель. — Пойду я? Ага? Семь с половиной часов до нового года.
Виновник потопа резко поменял грудь со спиной и зашагал прочь. Чёрт возьми! «Вы затопили наш институт». Тьфу! Теперь кушайте меня заживо, пейте кровь, гады! Может, принести им ведро побелки? Так, чтобы хватило на следующий раз.
Пока жизнеописатель поднимался на второй этаж, степень раздражения его росла. В памяти всплывали козлости последних дней:
— Можно я возьму чайник до утра?
— Нет, мы наш чайник никому не даём.
— Это что, принцип?
— Конечно!
— А я думал, что принцип, это когда не убивают ближних.
Трогательная история сменялась другой, не менее раздражающей. Жизнеописатель поднялся на второй этаж совершенно красным. Ему хотелось кого-нибудь напинать по лицу, что-то сломать или стереть в порошок.
На втором этаже его взгляд упёрся в батарею, в излучинах которой наш герой хранил свою пепельницу — пустую кофейную банку. С банкой случилось страшное: банки не было.
— А! — заорал жизнеописатель, — третья пепельница за неделю! Это вы всё виноваты!
Он показал кулак в сторону первого этажа, где располагался институт.
Ещё несколько шагов в сторону своей двери добавили новую боль. У порога стоял мусорный пакет, аккуратно и своевременно выставленный женой для удаления.
Жизнеописатель схватил мешок:
— Что, гад? Хочешь, чтобы тебя вынесли, да? — он стал бить мусорный пакет по лицу, — Морда у тебя не треснет? А ты типа надёжный? Я ещё и не таких ломал.
Пакет лопнул. Картофельные очистки и прочая ерунда упали кучей к ногам.
— Жена, дай новый пакет быстро! — выкрикнул жизнеописатель, открыв дверь своей квартиры. — Да, веник и совок ещё.
Около десяти минут ушло на сбор объедков и витиеватые выражения, необходимые в таком деле.
Проходит ещё несколько минут. Пытаясь не переломать ноги на обледеневшей тропке, жизнеописатель всё-таки бьёт лёд своим мягким местом. Сидя на дорожке и потирая ушиб, виновник потопа продолжает некнижно выражаться.
Мусорные баки затарились перед новым годом не хуже обитателей жилищ. Пакет жизнеописателя, несколько раз падая поверх кучи, упорно скатывается вниз.
— Да чёрт с тобой, валяйся где хочешь! — кипит мужчина, уходя прочь.
Семь часов до нового года.
«Уважаемые жильцы! В связи с общей задолженностью по квартплате администрация уведомляет…»
Почему эта бумажка, приклеенная к двери подъезда, попалась нашему герою на глаза именно сегодня, неизвестно. Известно, что больше она никому на глаза не попадалась, ибо была жизнеописателем цинично уничтожена. Содрана, порвана и затоптана.
* * *
Придя домой, мужчина ждал очередных неприятностей, но был разочарован. Навстречу ему выбежал сын:
— Папа пришёл, — радостно заявил ребёнок с интонацией, которая присуща детям трёх лет.
— Сынок, — смог выдавить из себя умилённо виновник потопа.
Ребёнок забрался на руки жизнеописателя и обнял папу. Затем отстранился, нащупал православный крестик под бородой отца:
— Папа, а у тебя цеЛковь на шее?
— Церковь? — переспросил отец, едва сдерживая слёзы.
* * *
Новый год был спасён…
«Глаза через нос»
Утро было из тех, которые хотелось побыстрее забыть. Грязная слякоть от выпавшего вчера снега, запах гниющих листьев и болота. Как всегда, спешим на развод, увязая сапогами в дорожной жиже; курим, сбивая дыхание. От технической базы сорвались на бег, подгоняя молодых словами и тумаками. Последний поворот перед плацем, остановились и построились. Дальше бежать нужно строем и в ногу. Со стороны это выглядит красиво…
Командир уже раздавал ума офицерам, когда мы влились в общий строй. Он долго наблюдал за тем, как молодёжь заполняет шеренги. Затем, впрочем, как и всегда, скомандовал всем разойтись и построиться заново.
— Как мне надоел этот колхоз! — в сердцах добавил полковник.
Он любил называть свой полк колхозом, а солдат и офицеров — рабоче-крестьянской красной армией. Самое удивительное, что каждый раз после подобного командирского сравнения плац содрогался от смеха. У полковника были все основания полагать, что он обладает удивительно-самобытным чувством юмора. Впрочем, мужик он был хороший и, несмотря на свои преклонные годы, «свинцовые мерзости жизни», всегда мог понять и простить.
Совершенно другим человеком был начальник штаба Скрипин. Редкая сволочь, которая никогда даже не скрывала своей сути.
— Кто такой? — Скрипин наклоняется надо мной, и кажется, что через мгновение его большой кулак нарисует мне что-то под глазом.
— Рядовой Носов, товарищ полковник! Прибыл в вашу часть для дальнейшего прохождения воинской службы!
— Я тебе глаза через нос высосу! — орёт мне в лицо Скрипин. — Прибыл для прохождения… Очко унитазное драить прибыл! Понял меня, солдат?!
Полковник уходит, а из кабинета высовывается замполит Григорьев.
— Ну с крещением тебя, с боевым. Это наш начштаба. Серьёзный мужик, кремень просто. Это он ласково с тобой ещё…
Мну шапку в руках — что тут скажешь?
— Падай ко мне в кабинет, а то он назад ещё пойдёт, — говорит Григорьев, продолжая лукаво улыбаться. — Я тебя скоро с нашим Пикассо познакомлю. Это Мастер, вы подружитесь.
Через некоторое время в дверях появляется Пикассо, сменившийся с наряда. Ему около сорока, он похож на колобка. Лицо такое же круглое, как и всё туловище. На плечах замызганной афганки по четыре капитанские звёздочки.
— Где тут художник? — нараспев задаёт вопрос Мастер.
— Я, товарищ капитан, — вскакиваю и замираю, — рядовой Носов, товарищ капитан.
— Михаил Иванович я, — почти ласково говорит Пикассо и показывает жестом, чтобы я сел. — Понятие о композиции, цвете имеешь?
— Так точно! — отвечаю, вскочив с предложенного мне стула.
— Значит, сработаемся, — говорит Михаил Иванович и улыбается в свои жёлтые усы. — Ради Христа не прыгай, а? Как зовут-то тебя в миру?
— Дмитрием, товарищ капитан!
— А!.. Брат мой во Христе Димитрий значит? Очень, очень хорошо.
* * *
Нам отвели мастерскую в конце большого ангара, где ремонтировали двигатели тягачей. Мы поставили несколько железных столов, накрыли их «Красной звездой» и загрунтовали листы фанеры.
— Значит, для тебя это дембельский аккорд? — пятый раз переспрашивал Михаил Иванович.
— Да, пора домой, — отвечал я, и к горлу подступал комок. Не верилось, что скоро, совсем скоро я не буду просыпаться от этого раскатистого «Рота, подъём!».
Начали делать подмалёвки. Михаил Иванович вооружился большой кистью и небрежно нарисовал на каждом полотне по одинаковому овалу телесного цвета.
— Это будут лица.
Задача перед нами стояла тяжёлая — за неделю написать двенадцать портретов выдающихся полководцев. Процесс нашего художества неустанно контролировал Скрипин, неоднократно угрожая вырвать ноги, выдавить глаза и сгноить в болотах.
— Какая же дрянь этот Скрипин. Такие вообще не способны на созидание. Солдафон и дурак, правда, Михаил Иванович?
— Хватил, юноша. Да была бы у тебя хотя бы десятая часть его жены, ты бы умер от тоски.
— Он молод для подполковника. С командиром, наверное, мягок?
— Мы со Скрипиным одногодки…
— Вот так. Порядочные люди капитанами ходят, а мурло в полковники выбивается. Не армия, а бардак. Разве это правильно?
— Зачем Моцарту звания? Подумай сам. Я на Арбате сидел, в Киеве в трубе рисовал. Мир посмотрел, себя показал. А он всю жизнь среди комаров и болот. Не приведи Бог!
Моя пастозная живопись под кистью Михаила Ивановича преображается, на лице Кутузова появляется румянец, единственный глаз начинает блестеть. Всего несколько прикосновений тонкой кистью — и с полотна смотрит живой полководец. Я любуюсь танцем Пикассо над картиной. Его движения точны, палитра богата. Очередное прикосновение — и он проворно отбегает назад, прищурившись разглядывает холст.
— Вот, брат мой во Христе, каким талантом меня наградил Господь. Видишь? А Скрипина жалко. Он, может, и рад вот так, а не может.
* * *
Скрипин смотрит на двенадцать законченных портретов. Мы с Пикассо, затаив дыхание, наблюдаем за ним.
— Да, — говорит начштаб, и неясно, что он этим хочет выразить.
— Плохо? — спрашивает Михаил Иванович.
Скрипин молчит, но лицо его покрывается фиолетовыми пятнами. Рука подполковника опускается в кобуру. Первый выстрел приходится Пикассо между бровей, второй — в сердце. Я бросаюсь к медленно сползающему вниз Мастеру, но он уже мёртв. Чувствую, как спину мне обжигает что-то невообразимо тяжёлое. В глазах мутнеет. Тысячи Скрипиных дуют в стволы своих пистолетов и, ухмыляясь, прячут их в кобуру.
* * *
Осеннее утро. Екатеринбургский парк. Букинисты, художники, попрошайки. Зябко. Пытаюсь согреться порцией дешёвого, с квасным вкусом «Бархатного» пива. Вижу знакомый профиль. Ба! Да это Григорьев, замполит моего полка! Вот это встреча!
— Бывает же! — обрадовано восклицает командир.
Чокаемся, продолжаем общаться.
— Где же Пикассо теперь? Служит? — спрашиваю я. — Поди майора получил?
— Нет, капитан до сих пор, — улыбается замполит, — он же у нас ископаемое. Лет пятнадцать на одной должности. По-прежнему банчит портретами офицерских жён. Сто рублей — чёрно-белый, триста — цветной.
— А Скрипин всё «глаза высасывает»?
— В местной прессе недавно было… Не читал? — Григорьев убирает со лба несуществующий пот. — У нас в «колхозе» сержант пальбу устроил из автомата, из бойницы на складе у автопарка. Четверых срочников — насмерть. Вся дивизия на уши встала, оцепление выставили. БТР пригнали, перестрелка. В общем, сержант этот сам застрелился — последний патрон в рот…
— А Скрипин-то?..
— Его нашли позже. Говорят, ефрейтор, растерялся. Стрельба. Заметался. Скрипин его повалил на землю и телом своим прикрыл. Погиб, другими словами… К ордену его представили, в общем…
Да я два года топтал!
— Сивый, подъём! Старьё телевизор хочет посмотреть!
Сивый покидает койку и взбирается на подоконник.
— Давай, салага, новости посмотрим!
Молодой театрально дотрагивается правой рукой до кадыка.
— Президент Ельцин, — начинает пародировать новости солдат, — посетил с дружественным визитом Эфиопию, где провёл ряд деловых встреч…
Вскоре молодой окончательно теряет всю свою фантазию и замолкает. Тютиков пинает соседнюю койку.
— Эй, салага, иди, почини «ящик».
Разбуженный бросается за шваброй и через минуту колотит ей замолчавшего одногодку.
* * *
Вокзал будто сошёл с ума. Тютиков отвык от гражданской толпы. Глаза его бегали в разные стороны, и он чувствовал переполняющую душу радость. Дома! Оттоптал своё, теперь всё.
* * *
— А кто это там гуляет? — спросил дембель, когда мать несколько успокоилась и налила вернувшемуся в тарелку борща.
— Да это свадьба. Олеська замуж выскочила за твоего дружка Кольку.
Тютиков налился багрянцем. Леська была его первая любовь.
* * *
«Юноша, — начал менторским тоном человек в круглых очках и с крысиной мордочкой, — нам такие не нужны. У нас своих балбесов хватает. Вот если бы вы ремесло какое разумели — другое дело».
Шла вторая неделя, как Тютиков пытался устроиться на работу. Тяжёлые же нынче времена!
* * *
Поссорился с Бобом. Друг детства, гражданская его рожа, начал учить жизни. Кого! Его, самого Тютикова! Наквакались и давай спорить. Боб, не буди во мне зверя!
«Ты с собой казарму принёс. Да, не служил я в армии. Ну и что? Зато здесь пожил. Здесь не проще, чем за колючкой. Там тебе думать не надо, там командиры есть. А попробуй выплыть!»
Боб говорил увлечённо и сам не заметил, как довёл Тютикова. Последний решил вопрос по-военному — бац по носу дружка. Кровь, вопли и взаимные оскорбления.
* * *
Возвращался поздно. Из кустов какое-то «чувырло» вылезло.
— Мужик, хочешь за нос укушу? — алкоголик еле стоял на ногах, в лицо Тютикову ударил резкий запах перебродившей карамели. — Не уходи, парень. Давай выпьем.
— Иди к чёрту!
— Да я по-отцовски, свинья неблагодарная!
* * *
Тютиков совсем упал духом. На душе лежал камень. Что будет дальше? Зачем всё это?
* * *
Когда он открыл дверь, мать уже спала. Тихо прокрался в свою спальню и забрался на окно.
— Президент Ельцин, — крикнул в ночь Тютиков, — посетил с дружественным визитом Эфиопию…
Сколько можно нас доить?!
Оду пою вам, дальнобойщики! Трудяги! Герои пыльных направлений, нескончаемых дорог. Среди профессиональных водителей я, автолюбитель, владелец маленького переполненного неизлечимыми «сверчками» седана, уважаю только вас. Ни дерзких шашечников-таксистов, красноречиво водрузивших на крышах гребни, ни автобусников, объезжающих ряды по обочинам. Только вас, большегрузы, я считаю настоящей правдой наших дорог. Тех, кто на просторах матушки России всегда сдвинется в сторону, чтобы пропустить резвых малышей. Кто моргнёт левым поворотом, предостерегая от опасного обгона стремительную легковушку. Кто обязательно поблагодарит и поможет.
Спасибо вам за тысячи километров, которые я и такие, как я, проехали автостопом во времена студенческой юности. Вы просто выручили огромную часть страны по части высшего образования!
Вы, кто пережил рэкет девяностых, те, кого не успели закопать в придорожных посадках бритоголовые братки той эпохи.
Вы, кто продолжает калечиться на бездорожьях. В холоде под Питером сутками в нескончаемой пробке, на которую не хватает солярки.
Вы, кто истекает ручьями пота в портах Новороссийска, ожидая отправки зерна.
Вы, кто не спрашивает за свою судьбу, когда везёт гуманитарный груз братским народам.
* * *
— Солярка подорожала, запчасти подорожали в два раза, — рассказывают водители фуры Олег и Александр, приехавшие на пикет вдоль объездной дороги Оренбурга. — Транспортный налог каждый год увеличивается. Страховка растёт. Теперь ещё и за дороги придётся платить… Сколько можно нас доить?
— Получается, что сегодня вы выброшены на улицу без возможности что-то вообще зарабатывать?
— Мы купили эту машину, сами себе создали рабочие места, — продолжает Александр, — ни у кого и ничего не просили. А теперь нас просто лишили работы и средств к существованию. Никто не помог, чтобы купить транспорт. Я собрал все мыслимые и немыслимые сборы и поборы, страховки, утилизационные сборы. Плачу транспортный налог 44 тысячи в год. Плачу единый налог. Сколько можно с нас тянуть-то? Мы не просим помощи. Не мешайте! Дайте нам работать! Просто жить и зарабатывать на кусок хлеба. Больше ничего не прошу.
— Ходит слух, что кого-то из дальнобойщиков сейчас оштрафовали на 10 тысяч за то, что приехал на пикет.
— Нет, мы ничего не нарушили. Просто стоим на обочине. Инспектора всё понимают, вопросов не задают.
— Вы по «Платону» ещё не успели поездить, ведь его запустили только 15 ноября 2015 года. Что это за система, которая всех перепугала, но почему-то при этом её отменить нельзя?
— Эта система принята государством, — подключается к беседе напарник Олег, — там предполагается собирать большие деньги. Эти предполагаемые деньги сосчитали в бюджет. Естественно, они не хотят сейчас отменять этот «Платон». А нам-то как быть?
— Мы не можем так работать, — подтверждает тезис Александр. — Нам говорят: «Вы там регистрируйтесь и езжайте». Мы и так работаем на гране убытков. Я же объясняю — запчасти выросли запредельно.
— Я понимаю, у вас иномарка, под новый курс доллара любая железка золотая!
— Вот напротив стоит КамАЗ, — Александр указывает на фуру. — Они и на КамАЗ задрали запчасть. Может быть, не время сейчас вводить «Платон»? Вот мы сюда и приехали, чтобы нас услышали. Но нас никто не видит и не слышит.
— Мы сегодня смотрим новости, — дополняет Олег, — как будто нас нет. Всё хорошо.
— Нет, — не соглашаюсь я, — я же об акции прочитал, специально приехал поговорить.
— Мы тут с интернетом, — говорит Александр. — Ночью прошла информация, что наши представители ездили вечером к губернатору Юрию Бергу. Вернулись и решили, что будем стоять, пока каких-то решений не примут. Рассказали, что губернатор бумаг не подписал, президенту не позвонил.
— Он обещал поговорить с федеральным министром транспорта, — не соглашаюсь я.
— У нас веры мало, — продолжает Александр, — мы решили постоять. Это не конкретное решение, что он обещал.
— Если мы будем дома сидеть, — подключается Олег, — точно ничего не добьёмся.
— А как вы смогли так согласованно собраться?
— Сарафанное радио, как ещё, — отвечает Александр. — Профсоюза у нас нет. Созвонились. Мы же, водители, общаемся между собой. У нас один организатор — дорога. Есть рация, своя частота. В общем, по-цыгански, сарафанным радио.
— Едут мимо, — дополняет Олег, — спрашивают, чего стоим. Мы отвечаем, что протестуем против «Платона». «О, я с вами!». Присоединяются, останавливаются, у кого есть возможность.
— Акция вышла всероссийская, — говорю, — в средствах массовой информации подтверждают, что как минимум в 24 городах дальнобойщики протестуют.
— Мы много ездим, — кивает Олег. — Я звонил сейчас в Пермь, Челябинск. Те же самые акции и там.
— Мне вспоминается история с обязательной страховкой, которую вводили на невыгодных условиях, — говорю. — Помню протестную волну от «синих ведёрок».
— Нет, по обязательной страховке никто из дальнобойщиков против не был, — отвечает Александр. — Мы разумные люди.
— Другое дело, что дороговато, — продолжает Олег. — А механизм правильный. Это частники были недовольны. Но мы, профессионалы, понимали, что на дороге может происходить что угодно. Кто виноват — пойди, разберись. А машины восстанавливать каким-либо образом надо.
— Я успел на своей маленькой машинке проехать по дорогам, которые перегородили шлагбаумами. Под Воронежем штуки четыре платных участка на трассе «Дон», под Москвой заплатил, под Питером. Коммерсанты стригут купоны по рублю с легковушки за каждый километр. Ничего приятного в этих трассах я не ощутил, кроме того, что меня просто дурят в очередной раз. Поэтому и примчался сюда к вам для поддержки.
— Я считаю, что ситуация с «Платоном» касается экономики всей страны, — заключил Александр. — Перевозка потащит за собой увеличение цен на всё.
— Да, я понимаю, — киваю, — вся логистика строится на этом колесе. По большому счёту вырастет цена и хлеба, и масла, и всего остального. С железной дорогой уже обманулись, дотируя пассажирскую перевозку из баланса грузовой. Всё.
— По идее, правильно, — соглашается Олег, — ведь и к железной дороге мы же подвозим.
— Да, — кивает Александр, — поезд к каждому магазину не протянешь. И на картофельное поле, как и на арбузное, он не поедет. Так что наше мнение: законодатели опоздали с «Платоном» года на три. Надо было его вводить тогда, когда доллар стоил 29 рублей, запчасти были по карману, солярка была дешевле и ситуация была другая в стране. А сейчас уже не время всё это делать. Вот за этим мы сюда и приехали.
«День возмездия настал»
Михаил Иванович относился к тем мальчикам, которые вырастали непосредственно из «тюльпанов», всё детство терзающих скрипки под пристальными взорами репетиторов. Сначала эти эстеты осваивали несколько способов завязывания галстука, а затем уже делали первые детские шаги. Жизнь у мимоз проистекала гладко, но сопровождалась самобичеванием.
После окончания школы такие мальчики блестяще кончали институты и были в авангарде.
Первая сигарета и первая бутылка портвейна под бобинное треньканье «Пинк Флойда» давали им право считать себя взрослыми. Их память хранила кучу правдоподобных историй из студенческой молодости, а также несколько забавных запилов из Аполлинера для представительниц глупого пола.
Интеллигентная морда Михаила Ивановича выдавала эстетские манеры поведения, нередко приторные, но всё же милые. Подчёркнуто вежливый, он любил называть всех подряд на «вы» и никогда не вытирал сопливый палец о стену подъезда, в котором жил.
В холодное время, кутаясь в полы бесконечно длинного пальто, Михаил Иванович напоминал собой декабриста, идущего на каторгу. Его смешная кепка смотрелась на просветлённой голове не хуже цилиндра. Он шёл, олицетворяя собой эпоху. Шаг за шагом.
В один из дней, вышагивая к подъезду, Михаил Иванович ощутил в сердце тревогу. Что-то более конкретное, чем боль, за всё отечество разом, но всё же неосязаемое. Он остановился и огляделся по сторонам. В самом дальнем конце двора копошились в снегу какие-то невнятные фигуры. По тональности долетавшего до ушей Михаила Ивановича мата наш герой понял, что в дальнем конце двора копошатся дети.
— Люся! — громко крикнул Михаил Иванович, надеясь, что дочь всё-таки проводит время дома.
Люся в свои пять лет была умной девочкой, за что её часто колотили во дворе. Предпочитая книги уличным забавам, ребёнок слыл крайне закомплексованным и часто впадал в ступор. Поэтому мать стала нарочито часто выгонять Люсю во двор, жалея, что не отдала чадо в детский сад.
— Люся! — повторил Михаил Иванович на всякий случай. Он был из тех пап, которые считали, что дети могут вполне сносно гулять и на балконе собственных домов. Зачастую это лучший способ остаться живым.
В этот момент из детской толпы выпала маленькая фигура в ярко-серой шубейке.
— Папа! — Люся изо всех сил бросилась бежать к Михаилу Ивановичу. Она успела сделать всего два шага, но была подстрелена соседским мальчиком из неблагополучной семьи.
Стрелявшего сорванца звали Славиком. В свои восемь лет он был уже конченым негодяем: то и дело взрывал во дворе петарды, смачно сплёвывал сопли через зубы и великолепно владел стрельбой из рогатки.
На этот раз жертвой Славика оказалась Люся. Славкина шпонка со всей своей проволочной дури угодила бедной девочке в висок, вызвав незамедлительное покраснение оного.
Михаил Иванович охренел, подпрыгнул и с рёвом бросился догонять Славика. Он был из тех пап, которые понимали далеко не все приколы, особенно когда речь заходила об их детишках.
Великолепный интеллигент, догоняя сорванца, позабыл о своём имидже:
— Стой, негодяй, стой! — орал Михаил Иванович на бегу.
Опыт в конечном итоге победил молодость, и Славкино ухо оказалось в жаждущих мести руках Михаила Ивановича.
— Пусти! — заорал Славка, сжимая кулачки.
В этот момент одна из форточек дома напротив распахнулась, и в неё высунулась морда Славкиной мамаши:
— Эй, козёл очкастый, отпусти ребёнка! Ты что делаешь, ишак вонючий? — баба орала пронзительно и самозабвенно.
Михаил Иванович опешил:
— Ваш ребёнок только что чуть не выбил глаз моей дочери!
— Какой на хрен дочери? Я сейчас спущусь и такую дочь тебе покажу, сволочь!
— Ваш ребёнок — преступник. Видите, — Михаил Иванович выхватил рогатку из Славкиных рук и показал мамаше. — Видите? Только что попал из неё моей дочери в висок. Мог выбить глаз, понимаете?
Славка инстинктивно правильно выбрал момент, чтобы протяжно зареветь, выпустив из ноздрей все свои сопли. Зрелище было жалкое — плачущего ребёнка за ухо держал здоровый дядька с рогаткой в руке…
— Ай! — завопила мамаша. — Я вызываю милицию. Ми-ли-ция!!!
Михаил Иванович выпустил ухо из своих рук, подарив Славке свободу. Сорванец расценил это как слабость:
— Козёл! — сплюнув, процедило дитятко и с гоготом ринулось бежать прочь.
Михаил Иванович с досадой посмотрел на стремительно удаляющуюся Славкину спину: «Господи, что творится с миром?». Он подошёл к дочке и визуально изучил гематому. Маленькая ссадина вряд ли могла причинить серьёзные неприятности. Папа с облегчением вздохнул:
— Люсенька, пойдём домой?
Ребёнок безропотно согласился.
Отец и дочь по пути к подъезду попытались забыть об инциденте, но тут на их пути выросла необъятная фигура Славкиной мамаши:
— Я тебя, гад, уничтожу, — выпалила она и с размаху влепила Михаилу Ивановичу пощёчину.
Михаил Иванович столкнулся с таким произволом впервые, поэтому поступил глупо. Он испугался. Он очень испугался, тем более что всё это видела любимая дочь, которую он держал за руку.
— Да как вы смеете бить меня по лицу?
— Сю-сю-сю! — передразнила интеллигента мамаша.
Она была женщиной сложной судьбы. Рождённая вне брака, росшая без родительской любви, толстая, неуклюжая, полуграмотная девочка превратилась в редкостную стерву. Нелюбовь преследовала её по пятам, наступала на пятки. Кулинарный техникум, работа в совковой столовой — всё, что она видела хорошего, все радости и печали её жизни. Не найдя своей второй половины, она опылилась случайно после одной из бурных пьянок прямо на рабочем месте. Таким образом, через некоторое время появился на свет Славик.
* * *
Михаил Иванович проснулся в дурном расположении духа. Всю ночь Славина мамаша, одетая в кожаное нижнее бельё, наносила пощёчины бедному интеллигенту. Перед тем как проснуться, Михаил Иванович молил Господа о смерти.
Вяло позавтракав бутербродом с авокадо, наш герой выглянул в окно. У дома уже стояла машина — пора на работу.
Славина мамаша в этот самый момент тоже разглядела автомобиль с водителем у подъезда: «Ага, голубчик, сейчас я тебя встречу!». Женщина прилипла к глазку своей входной двери, ожидая Михаила Ивановича.
Последний не заставил долго ждать. Он крадучись бросил злобный взгляд на Славкину дверь и собирался уже проскочить мимо, но дверь открылась:
— Я этого так не оставлю, — зашипела мамаша.
Михаил Иванович прижался к стене:
— Оставьте меня в покое, — пролепетал он.
— Оставлю, — ехидно отвечала женщина. — Я тебе такой покой обеспечу. Обыкаешься, гад!
Михаил Иванович собрал силы в кулак и ринулся вниз.
— Беги, сволочь, беги! — орала вдогонку мамаша.
* * *
Вечер. Тот же подъезд. Михаил Иванович поднимается по ступенькам. В районе третьего этажа шаги его становятся бесшумными, взгляд настороженным. Однако конспирация не спасает, ибо его уже ждут по ту сторону дверного глазка. Ещё мгновение — и Славкина мамаша резко распахивает дверь:
— Я была у участкового, — заявляет она громко. За её спиной прячется, ехидно ухмыляясь, Славик.
Михаил Иванович теряет всяческое понимание действительности.
Мамаша же вытаскивает из-за спины ребёнка и задирает ему футболку. Спина мальчика испещрена синяками.
— Видишь, гад, какие побои? — продолжает мамаша. — Я участковому всё показала. Против тебя дело завели. Сидеть будешь, гад! Сидеть!
Михаил Иванович понял всё. Ему даже стало жалко Славика: вырасти при такой мамочке полноценным человеком было бы невозможно. Он понял, что эта толстая баба отыгрывается за все свои неудачи не только на Михаиле Ивановиче, но и на своём сыне.
— Неужели вы не понимаете, — попытался образумить бабу интеллигент, — что я к этим синякам не имею отношения? Зачем вам эта война? Неужели нет других дел? Оставьте меня! Довольно! Вы и так попили достаточно моей крови…
— Крови твоей попила? — мамаша буквально провизжала всё это, но Михаил Иванович уже бежал по ступенькам вверх к своей двери. Мысли в его голове перепутались, и он едва ли слышал последние скабрёзности в свой адрес.
* * *
— Пойми, я просто не знаю, что мне с ней сделать, — Михаил Иванович сжал шею рюмки так, что вино побелело.
— Не переживай, Миш, — жена Михаила Ивановича считала себя женщиной умной, но в данном случае ничего стоящего не приходило ей в голову.
— Я готов задушить её голыми руками, — продолжал супруг. — Просто я в шоке, понимаешь? Она неуправляемая… Дрянь!
— Не выражайся так грубо. Люся ещё не спит.
— Да… Может ведь уголовное дело возбудить. Как я докажу, что не трогал этого… выродка?
— У нас в стране никто не отменял презумпцию невиновности.
— Стыдно. Понимаешь, стыдно. Стыдно за то, что вляпался в такую историю.
— Никто не застрахован от таких историй. Не переживай ты так. На тебе ведь лица нет. Налить ещё вина?
— Я бессилен, понимаешь? — Михаил Иванович весь скривился. — Я бессилен перед этой блохой. Маленькой гнидой. Совершенно бессилен.
* * *
Следующее утро. Михаил Иванович знает: толстая баба начеку. Ждёт его у двери. Ждёт с помойным ведром, которое наденет ему на голову. Ждёт с ручной гранатой, которую сунет ему в ширинку. Ждёт и мечтает ущипнуть интеллигента побольнее.
Дверь распахивается, но это уже не удивляет Михаила Ивановича. Наш герой экспромтом рождает такую вещь, которая ранее просто не могла прийти в его просветлённую голову. Михаил Иванович делает лицо одержимо-безумным, поднимает руки с растопыренными пальцами к небу: «Альлон занфат де но патрие, ле жур де глуар этариве, — на этом месте Михаил Иванович начинает понижать голос и ещё больше замедляет речь. При этом чертит в воздухе кресты и звёзды. — Contre nous de la tyrannie, — Михаил Иванович начал пританцовывать и кружиться. — Лятандар санглян те левэ, — Михаил Иванович видел, как испуг в лице мамаши перерастает в животный страх и продолжал: — Маршон, маршон», — баба бледнела и краснела одновременно. Михаил Иванович наслаждался. На этой строке интеллигент вспомнил о бутылёчке с таблетками в своём кармане. Нужно ведь было придумать какую-то жирную точку всего импровизированного шоу. «Marchons, marchons, Qu' un sang impur», — наш герой засовывает руку в карман и открывает флакончик с таблетками. Взмах руки — таблетки вылетают прочь и рассыпаются по полу. Баба взвизгивает и захлопывает в ужасе дверь.
* * *
Вечер. Подъезд. Третий этаж. Михаил Иванович теряется в догадках: откроется ли опостылевшая дверь на сей раз?
Шаг. Ещё ступенька. Шаг…
«Нет, не откроется».
Дверь открывается.
Мамаша выскакивает в подъезд и бросается в ноги Михаила Ивановича:
— Сын, — сквозь слёзы стонет баба, — сын в больнице.
— Что? — не понимает интеллигент. — В какой больнице?
— Сними порчу, родной, — кричит, стоя на коленях, мамаша. — Сын попал под машину! При смерти сын! Прости дуру! Сними порчу!
Михаил Иванович садится на ступеньки и закрывает лицо руками. Он опять обескуражен. Проходит около пяти минут. Баба всхлипывает и бормочет что-то про порчу себе под нос:
— Я не наводил порчи, — почти шёпотом начинает Михаил Иванович.
— Ай! — вскрикивает баба, захлёбываясь в очередном приступе плача. — Прости дуру! Всю жизнь буду молиться за тебя! Прости дуру!
— Я не наводил порчи, — повторяет Михаил Иванович громче. — Это была Марсельеза. Гимн Франции, понимаете? Это первое, что пришло мне в голову.
Женщина не верит. Полуграмотная. Жалкая. Именно сейчас в ней просыпается Мать, готовая отдать жизнь за своё маленькое чадо.
Михаил Иванович отрывает холёный зад от ступенек:
— Альлон занфат де но патрие, ле жур де глуар этариве. Фу-фу-фу!
Женщина трепещет.
— Иди домой, — успокаивает интеллигент. — Поправится ребёнок.
* * *
Спустя шестнадцать минут после истории в подъезде ломаная линия кардиографа в больнице превращается в прямую…
«Ехали мы, ехали»
В этот день пределом самых дерзких наших мечтаний была Уфа. Я сидел на обочине трассы и рассматривал копошившихся в траве красных муравьёв, пока Виктор лениво вытягивал руку, пытаясь остановить какую-нибудь машину. До сессии оставалось четыре дня, и мы в любом случае рассчитывали успеть.
* * *
Кажется, было около восьми утра, когда Дрогидину повезло и он поймал первую попутку.
— Ден, всего пятнадцать километров подбросит, — выдал Витёк полученную от водителя информацию. — Поедем?
— Конечно, — сказал я, спешно собирая рюкзаки в охапку. — Главное — унести ноги подальше от Оренбурга.
Очень скоро водитель высадил нас из своей старой «копейки» и, свернув на просёлочную дорогу, упылил в сторону небольшого дачного массива. Теперь была моя очередь испытывать судьбу, и я с тоской встал у края дороги.
— Мы с тобой придурки, — заявил Виктор. — Это же надо было додуматься ехать в выходные. Сейчас на трассе ни одного дальнобойщика. Чую, застрянем мы надолго.
— Не каркай, — зло ответил я. — В прошлом году добрались и сейчас доберёмся.
Около двенадцати дня мы были километрах в пятидесяти от Оренбурга.
— Нет, — начинал уже сомневаться в удаче я, — не добраться нам сегодня до М-5 (трасса «Москва — Челябинск» — авт.). Надо было ехать поездом.
Однако тут же после этих моих размышлений нам несказанно повезло.
— Куда? — спрашивает водитель небольшого грузовичка.
— Да нам в Екатеринбург, — отвечаю я в надежде заинтриговать собеседника.
— Ну, садись, братва! До Уфы подброшу.
Мы закинули в кабину наши пожитки и с трудом разместились сами в небольшой кабине.
Виктор некоторое время несмело изучал спидометр, потом несмело спросил:
— Часам к семи будем в Уфе?
— Да, — рассеянно ответил водитель — к семи будем…
* * *
Через два часа монотонной езды, когда утомительные рассказы шофёра о своей семье изрядно надоели и захотелось послушать тишину, я заметил далеко впереди какое-то столпотворение на трассе.
— Смотрите, — сказал я, — авария.
Виктор, который усиленно притворялся спящим, дабы не участвовать в беседе, заёрзал и прилип к лобовому стеклу.
Через пятнадцать минут стало отчётливо видно, что трассу забаррикадировали голодные шахтёры с красными знамёнами.
— У меня полный кунг цветов, — причитал наш водитель, ударяя руками по автомобильной баранке. — Они же завянут, если я не привезу их сегодня.
— Коммуняки проклятые, — ругался Виктор, вытаскивая из кабины свой рюкзак. — Можно подумать, что мы получаем деньги вовремя! Тэтчер бы сюда с войсками!
Пешим ходом мы без труда перебрались через мост и очутились с другой стороны баррикад.
— Как же, — злился Дрогидин, почти по-отцовски чувствуя вину передо мной за столь сомнительное путешествие, — будем на М-5 к семи! Чёрта с два!
* * *
К полуночи мы оставили позади Уфу и прошагали по темноте километров десять, пытаясь всё же остановить попутку и переночевать в тёплой кабине.
Казалось, все башкирские комары разом решили отведать нашей кровушки, и я ещё никогда так изысканно и витиевато не перемывал косточки Богородице.
Вскоре силы совсем покинули нас, и мы решили приостановить наше бесполезное движение до утра.
Легли прямо на придорожном гальке, положив под головы рюкзаки. Сон всё не шёл.
— Наверное, около пяти градусов мороза, — предположил Виктор, перекатываясь на другой бок, — напрочь почки отморозил.
— Может ты умеешь спать стоя? — спросил я с издёвкой. Виктор встал и отряхнулся.
— Надо было взять водки из Оренбурга, — мечтательно изрёк он, содрогаясь от холода. — Пойдём до ближайшего кемпинга. Может, там торгуют этим хозяйством.
Алкоголь, однако, не помог согреться, но дал возможность на два часа забыться тяжёлой дрёмой. Снилась сухая, прыщавая преподавательница стилистики, которая пыталась столкнуть меня в большую мясорубку, где уже бился в предсмертной судороге окровавленный Дрогидин.
* * *
На рассвете спустился туман, и два силуэта, вечных, как сама природа, уныло брели навстречу красному солнцу.
— Вить, а утро-то великое какое!
Дрогидин поправил прядь длинных волос под хайратником и со знанием дела добавил:
— Да, блин!
* * *
До Миасса оставалось сто километров, и Виктор со свойственной для всех автостопщиков мечтательностью рисовал красивые картинки:
— Представь, Денис, что сейчас тормозит перед нами иномарка с длинноногой блондинкой за рулём.
— Да, — ёрничаю я, — а на заднем сидении два «быка» с автоматами и жаждой крови.
Тем не менее через полчаса около нас останавливается… белый «Мерседес».
Дрогидин очень долго беседует с водителем и наконец поворачивается ко мне:
— До Челябинска добросит за десять рублей. Поехали!
Я растерялся, ибо сумма, которую обозначил Виктор, была уже в те времена ничтожной. Однако, взглянув на номера, я понял, что за рулём иностранец.
Водитель оказался монголом, возвращавшимся домой из Германии на родину через Россию. В Берлине он приобрёл пять микроавтобусов и теперь перегоняет их со своими соплеменниками в Монголию для продажи.
Мы разговорились о жизни там и здесь, о зарплате, и, когда пересчитали наш ежемесячный доход на «зелёные», водитель чуть было не высадил нас за враньё.
Однако Виктор быстро урезонил шофёра простым доводом:
— Спроси кого хочешь, — говорит, — голодает и бедствует Россия, сам же видишь, какая нищета вокруг трассы.
Монгол посмотрел в боковое стекло своего роскошного авто и увидел девственные величественные российские горы, поросшие соснами-красавицами, увидел небо, в которое хотелось упасть, и задумчиво изрёк:
— Да, плохо… А ГАИ у вас какой злой!..
Мы быстро догнали колонну его микроавтобусов, которые почему-то пристали к обочине. Монгол вышел из машины и через несколько минут сообщил нам, что они на ремонте и дальше ехать не могут.
Виктор полез в кошелёк за деньгами.
— Нет, нет, — испугался наш забугорный друг. — Не надо деньга! Учись хорошо! Не надо деньга!
* * *
— Да не дрейфь, парни! — весело говорил мужичок, утопив педаль газа до самого пола. — Я в Афгане на такой же колымаге винты нарезал, до сих пор страшно вспомнить. Через полчаса будем в Миассе.
Мы с Виктором испуганно смотрели на стрелку прибора, которая легла на отметку 120 километров в час. В маленькое окошко сзади было видно, как нервно телепается наполненная доверху бочка с бензином. Я до сих пор удивляюсь, как не стал седым в этом бешеном КамАЗе, который, казалось, не подчинялся законам физики, а слушался лишь сатаны за рулём.
* * *
От Миасса плелись пешком в надежде найти воды. Километрах в пяти от города наткнулись на родник с чистейшей, но чуточку солоноватой водой. Наполнили пластиковую бутыль, смыли с лиц въевшуюся дорожную пыль.
* * *
Вторая ночь автостопа была не столь ужасной, нежели башкирская. До Екатеринбурга оставалось триста километров, и мы почувствовали, что скоро доберёмся. Обустроились в автобусной остановке и хорошо выспались на ребристой лавке.
* * *
Утром мы решили разделиться. Я отдал Витьке воду, ибо он всегда хотел пить и от этого обильно потел.
— До встречи в Екатеринбурге, — с грустью изрёк Дрогидин и пожал мою широкую ладонь.
— Удачи, друг! — расчувствовался я и отошёл от него подальше. Я вытянул руку и украдкой наблюдал, как Виктор то и дело прикладывал платок к мокрому лбу.
Сердце моё сжимали волнение и тоска.
* * *
В Екатеринбурге я очутился часа на два раньше Витьки и к его приезду успел снять номер и получить постельное бельё. Дрогидин явился с пивом и хорошим настроением.
— Ну и автостопчик! — заявил он, расставляя «Амстердам» на столе. — Это непременно надо обмыть.
* * *
Утром я проснулся поздно и обнаружил подле своего лица банку «Баварии». Папаша Дрогидин, как всегда, был заботлив, но самого Витьки почему-то не было. Я попытался встать, но увидел, что привязан за ногу к столу шнуром от электрического чайника.
Папаша вернулся через час в крайне косом состоянии и с неизменным пивом в руке.
— Я всё понимаю, Дрогидин, но зачем со шнуром баловаться?
— А это чтобы ты никуда не ушёл! — ответил Виктор и мило улыбнулся.
— Резонно, — заключил я и пожал плечами.
Зима побеждает
Глядя в окно я подумал, что, скорее всего, весны в этом году не случится. Так и будет вьюжить белая пыль, вонзая свой микроскопический абразив в наши раскрасневшиеся щёки. Так и будем мы гонять по подъезду из рук в руки подзарядные устройства, которые есть на балансе лишь некоторых мужичков в нашей десятиэтажке, чтобы поочерёдно восстанавливать свои замёрзшие автомобильные аккумуляторы. А сантехник с восьмого этажа по имени Андрей и кличке Бабай окажется прав в части тезиса: «Вот так-то, блин, я же говорил, что всё будет холодно!».
Вьюжит, вьюжит Моро Дедоз, наметая почти африканские барханы вокруг маленьких машинок у подъезда. И крёстным знамением осеняет нас почти трезвый вахтёр автостоянки, видя, как пробираемся вдоль его забора с лыжами в посадку. По обыкновению, нашу импровизированную лыжню постоянно портят люди без лыж, прокладывая тропинки в укатанном фарватере. А нынче нет, только шальная псина прошла по лыжне, время от времени меняя курс с левой борозды на правую. Останавливаюсь, жду, когда старшая дочь подъедет ближе и показываю:
— Смотри, собака шла по нашей лыжне. Какая-то с небольшим клиренсом. Видно, где пузом снега касалась.
— Такса, поди, — выдаёт дочь. — Будь аккуратнее, папа, вдруг она лыжниками питается.
* * *
Однажды в пьянящей молодости я нёс по Туркестанской двенадцатиструнную гитару к другу, чтобы спеть давно знакомый репертуар рок-н-ролла. Это было приблизительно в тот год, когда на этой же улице работник милиции задержал приверженца красного ретро из законодательного органа с кисломолочной фамилией. За это силовик был публично наказан, а патриот продолжил парение на статусной федеральной корке, пока не случился коллапс с квартирами в столице и его сердце на этой почве не перестало стучать. Но речь не об этом. Речь о заветах молодым: «Дети мои, послушайте главную заповедь отца вашего! Никогда не забывайте перчатки дома, когда несёте к другу зимой гитару без чехла!».
* * *
Я всю жизнь замерзал, с самых ранних лет, когда мир для меня был высок, а я любовался им с высоты своих советских санок. Вот отец везёт меня в ненавистный детский сад, обездвиженного, заплаканного, закутанного в мамин пуховых платок, из-под мотни которого торчат только два обезумевших карих глаза. Пахнет чем-то сладким, значит, сейчас услышу скрежет полозьев по асфальту — будем пересекать улицу Выставочную. В те годы на месте современной энергетической высотки на Аксакова стоял облупленный забор, из-за которого вечно текли умопомрачительные карамельные запахи. Позже с пацанами околотка мы твёрдо верили, что именно там делали всю газированную воду города. Но речь о зиме и холоде. Надо быстрее зажмуриться, потому что через мгновение позёмка вопьётся в то немногое, что осталось неспрятанным под бережные укрывала.
* * *
Зима всегда караулила и догоняла, проверяя частоту вибрации задубевшего туловища. Я до полусмерти замерзал в армии, где околосвердловские болота под барханами сугробов взращивали полуживых комаров. Насекомые залетали в казармы и досаждали духам, которые с тапками долгими зимними вечерами собирали тушки для отчёта перед достойными старослужащими воинами. И по утрам по команде, переполненной неказистым сарказмом: «Форма одежды — шинель в трусы! Быстрее, гоблины!», наш сержант по имени Андрей и кличке Большой, щедро награждавший пенделями своих сорок пятых кирзачей пролетавших мимо салаг, застраивал взвод с голыми торсами на плацу. Сейчас мы полетим очередную «трёшку», а Большой в тулупе будет бежать в арьергарде и бляхой своего ремня мотивировать отстающих. Одна надежда была на земляка Андрея по прозвищу Борщ, который изобретал иногда способы, при которых марш-броски отменяли. Так он однажды обескуражил Большого припадком с носовым кровотечением. Правда, чуть позже выяснилось, что молодой расковырял себе нос гвоздём, за что был подвергнут многоступенчатой критике со стороны опытной части казармы и долго потом лечил гематомы.
* * *
Я замерзал за забором пэвэошной части, куда забрался ребёнком в детстве. Прячась от постоянно снующих офицеров, я постигал тонкую грань между любознательностью и любопытством, ощущая, как задубели в промокших варежках пальцы рук. Будто в садовском возрасте, когда напарник по группе толкнул меня головой на угол стола и мне зашивали сечку на лбу. Вечером к нам в гости пришла бабушка с гостинцами, и все меня жалели, потчуя конфетами и деликатесами. А потом совершенно случайно кто-то из взрослых прищемил мне пальцы дверью. И пальцы ревели от боли, словно в них вонзили иглы, как теперь здесь, за забором воинской части. Позже, проходя мимо этого забора, я видел приспущенные флаги по Черненко, Андропову и считал, что это траур по тем бесконечным часам моего небоевого дежурства в сугробе у плаца.
* * *
Может быть, поэтому в недостижимом стремлении согреться я так лелеял свою бедовую «классику», с таким трудом выстраданную к тридцати годам. Но не тут-то было. Вот, упираясь телом в бампер, путаясь в полах пальто, в очередной раз толкаю четырехколёсного непролазного коня навстречу к солнцу. И, на коленях стоя, ковыряю под защитой картера сугроб. И пою гимны в унисон капающему в салон тосолу. Хлоп! Аккумулятор сел. Дёргаю ручку и ощущаю, как выскакивает из-под приборных пространств лопнувший трос-капот. Не машина — клумба баклажанная с цветом «мурена»! Цепляем через время моё ведро на трос, шеф на внедорожнике тянет меня по дороге. Запотевшие стёкла, в висках стучит, впереди бампер стоимостью как весь мой тарантас. Ситуация бодрит. Втыкаю вторую, слышу, что завёлся. А спидометр ползёт вверх. Вот уже третья, четвёртая. Сигналю, моргаю, кричу в открытое окно. Шеф останавливается и будто не собирался издеваться: «А я забыл, что ты у меня сзади болтаешься». И, пока я тёр окоченевшие пальцы, мимо проезжали сотрудники ДПС, которые таскали меня на поводке вчера, и сосед Андрей с шестого этажа по прозвищу Электрик, у которого мощный старый немец выручил меня позавчера.
* * *
Обновляем с дочерью лыжню, стараясь угадывать направление под рефренами перемётов. На гребнях не спешу, несколько раз подпрыгиваю на лыжах, чтобы плотнее умять наст. Круг, второй, третий. Вдруг понимаю, что не слышу сзади ребёнка. Оборачиваюсь. Дочь остановилась метрах в пятидесяти и что-то чертит лыжной палкой на снегу. Жду. Догоняет.
— Что написала-то? — спрашиваю.
— Вика, папа, зима, — отвечает.
— Актуально, — киваю. — Ну что, домой греться?
— Если ты замёрз, — бодрится ребёнок.
Возвращаемся. И видим, что на нашем пути трактор навалил сугроб размером с избушку. И вариант справа — лезть с лыжами через ограду, слева — через непролазный карагач. Вот тебе на! Хоть замерзай у подножия — нет пути. Долго пробираемся по кустам, рискуя порвать костюмы и куртки. Ура! Проехали. Хвала самодеятельному массовому спорту в окрестностях спальных районов! Вот и наш подъезд. Ландшафт изменился. Кое-где возвышаются снежные горы. Это жилконтора проснулась. У нашей машинки, вокруг которой я всё почистил в пять утра, так как в очередной раз мучился бессонницей, теперь красуется тракторный отвал. Да здравствует личная лопата в миллионный раз!
* * *
Зима побеждает. Кажется, что это теперь навсегда.
«Новое поколение»
В 1989 году моя бабушка, работавшая корректором в газете «Южный Урал», привела меня за руку в издательство, чтобы я попробовал работать внештатным художником в подростковой вкладке «Юниор» газеты «Новое поколение». Первое, что врезалось в память, когда открылись двери лифта 7 этажа, — это длинноволосая фигура, одетая в полосатую робу, которая пересекала в этот момент просторный холл, шлёпая по жёлтому паркету босыми ногами и что-то громко говоря очень низким голосом. Это была Васса Якушева — замечательный друг и соратник, однако смутившая меня, тогда ещё школьника, при первом знакомстве. Напротив лифта висел плакат с большим портретом Виктора Цоя, а под ним стояли журнальный столик и два больших уютных кресла.
* * *
Татьяна Максимовна Денисова, редактор газеты «Новое поколение», встретила нас с бабушкой в самом непринуждённом ключе. Она была добродушна и много улыбалась, не обращая внимания на мою угловатую застенчивость, повела в кабинет редактора вкладки «Юниор» Виктора Дрындина. Прямоугольная келья на самом деле была общей — в ней проживали одновременно, помимо тинейджеров, маститые журналисты Татьяна Скобелева и Булат Калмантаев, а может, и кто-то ещё. В тот достопамятный момент, однако, было пусто, но над жёлтой поверхностью составленных по центру столов у самого окна в глубине возвышалась чья-то попа.
— Витя, — смеясь, позвала Татьяна Максимовна, — это ты там прячешься?
Дрындин кряхтя распрямил торс, звучно ударившись головой о крышку стола:
— Да опять провода телефонные отошли, Татьяна Максимовна, — сказал главный идеолог подростков, потирая макушку.
— Вот, Витя, художника тебе привела, Дениса, — сказала редактор и кивнула бабушке, мол, надо освободить внука от опеки.
Дамы ушли, а мы с Виктором, которого я воспринял за гуру и называл учтиво на «вы», отправились в холл к Цою, чтобы обсудить первые редакционные задачи по рисункам. Дрындин в то время носил розовый женский свитер, но в остальном оставался тем, кто он есть и сейчас — прекрасным бесшабашным юношей, генерирующим талантливые идеи. Виктор как-то сразу ввинтил в меня своё очарование, растоптав дистанции. Он активно жестикулировал, радовался тому, о чём рассказывал, разжигал внутри жажду к сотворчеству. Дал задание нарисовать нескольких подростков за столом, которых снимает кинокамера на штативе.
Выполняя задание я отправился на ГТРК с блокнотом и карандашами, чтобы достоверно изобразить оборудование в студии. Через время были готовы четыре варианта рисунков тушью, и я пришёл к Виктору с чувством выполненного долга:
— Знаешь, Денис, — как-то занервничал редактор, — так получилось, что материал уже напечатали. Но ты нарисовал прекрасные рисунки. Просто великолепные. Они обязательно будут опубликованы, но когда-нибудь позже.
* * *
Позже, освоившись в подростковой редакции, я познакомился с другими юниорами тех лет: Алексеем Бразильским, урождённым Лялиным, Алексеем Абрамовым и поэтессой Юлией Шитовой. Было весело, и мы за посиделками осваивали азы журналистской профессии. Первый же настоящий дизайн в моей жизни случился именно тогда, когда к нам в кабинет пожаловал печатник. Дядька, не стесняясь в выражениях, очень бодро сообщил, что «он не нанимался…». Рабочий бросил на стол прямоугольные пластинки с моими рисунками, которые нужно было самим выпиливать по сложному контуру. Мы с Витей, спустившись в типографию, часа два кромсали напильниками эти художества, чтобы уместить сложный край в рамку горячего набора. Кассы со шрифтами, запах типографской краски, подземные переходы — всё это очаровывало, вытесняло из жизни что-либо менее головокружительное.
* * *
Писать в газету материалы стал не вдруг и не сразу. Всё началось с юмористического дневника, рассказа о поездке на всесоюзный слёт молодёжной прессы в Харькове, на котором мы побывали с Виктором Дрындиным и вторым художником «Юниора» Наталией Крятовой в 1990 году. Читал дневники вслух ради простой хохмы, но Виктор, вдоволь посмеявшись над комичностью описанных мною событий, сделал очень серьёзный вывод: «Надо тебе писать материалы в газету, Денис». Так всё и началось.
* * *
В 90-х вернулся из армии на работу в «Новое поколение» легенда и «золотой глаз» газеты Олег Рукавицын. Его лаборатория, переполненная запахами кофе и проявителей, стала излюбленным местом сбора закрытого клуба многочисленных друзей. Олег — душа «Нового поколения». Его истории про службу в Западной группе войск, его проникновенные стихи, любовь к музыке — всё это в геометрической прогрессии множило число его почитателей и сторонников:
«…Но здравствуй, мой друг, заходи обогреться, Раздавим наш холод слегка коньяком, Мы разные люди, куда уж тут деться, Но все мы когда-то поём об одном. Зима приближается, тихо петляя, Потом первый снег упадёт как-то вдруг, А мы так жестоки по свету гуляем, Укрывшись бронёю от частых разлук В леса, где душа моя снова воскреснет, Пройду, отложив все дела на потом, Вот только механик… Забывший о песне… Лежит на снегу с окровавленным ртом…»* * *
Был у «Нового поколения» и сын полка — Митяй Злотников. Компьютерный гений и сын депутата Государственной думы. Безудержно креативный Митяй под руководством компьютерных дел мастеров Юры Бучнева, Михаила Хныкина ставил новые технологии производства газеты на промышленные рельсы. Его сентенция про «загривок компьютерных технологий» долго жила в виде слогана полиграфических фирмы «ИнЭл», родившейся под крылом «Нового поколения». Кстати, в стенах газеты «Новое поколение» родилась и типография «ДиМур». Именно там Зинаида Мурашко, вооружённая массивным радиотелефоном, ковала первые победы для грядущего успеха своего полиграфического дела.
Запомнилась история о том, как Митька Злотников с помощью пожарного шланга пытался спуститься с крыши в закрытую компьютерную, чтобы всю ночь напролёт играть в виртуальные игрушки. Но окно, к несчастью, разбилось, а осколок едва не снёс дверь припаркованной во дворе «Волги» директора ИПК «Южный Урал» Геннадия Корженко. Все эти истории становились легендами редакции наравне с теми, что касались духов умерших журналистов, заселяющих здание на улице Свободина, 4, которые ночами скрипели половицами легендарной высотки.
* * *
Редакцию подростковой вкладки «Юниор», постоянно мешавшую взрослым коллегам работать, переселили в здание Российского союза молодёжи на Володарского, 5. Но долго прожить в новом пространстве детям не удалось. Приписав им ряд подвигов, в том числе связанных с осквернением росписью бюста святого Ильича, юных журналистов вернули обратно в лоно родной редакции газеты «Новое поколение». Юниоры стали собираться на лестнице, а чуть позже я выпросил у Татьяны Максимовны средства, для того чтобы выгородить в светлом крыле 7 этажа собственную комнату, перегородив коридор лёгкой стеной. На стену ушли выходные, я с удовольствием «замуровал» в ней несколько номеров газеты «Юниор», а поверхности расписал масляными красками. Комната получилась проходной — внутри была дверь кабинета Димы Урбановича и Ирины Котельниковой.
* * *
У Татьяны Максимовны был заместитель — Александр Иванович Аверьянов. Папа Саша принимал самое живое участие в лично моей профессиональной подготовке, за что я ему безмерно благодарен. Эта подготовка, как правило, носила непечатный характер, но всегда была однозначной по характеру, приводившему к самому чистому пониманию всех нюансов мастерства. Помню, что он всегда на летучках заключал общие прения своим компетентным заявлением в 22 слова. Олег Рукавицын однажды принялся рассказывать анекдот, который заканчивался фразой: «Кто будет мухлевать, получит по наглой рыжей морде». Рыжий Александр Иванович в тот раз смеялся громче остальных.
* * *
Олег Рукавицын готовил меня к армии, в которую я ушёл в 1995 году. Он не просто научил мотать портянки, применив в качестве пособия своё лабораторное полотенце. Он рассказал о способах, которые позволят там остаться живым.
* * *
Иногда всей редакцией мы смотрели кино. Я запомнил, как соратник Татьяны Максимовны по бизнесу Виталий Абдулин, впоследствии расстрелянный в селе Благословенка, давал нам на прокат свой телевизор со встроенным видеокассетным магнитофоном. Мы посмотрели «Список Шиндлера», делая иногда паузы для перекуров. Дима Урбанович, казалось, воспринимал контекст трепетнее других, но мы все были ошарашены глубиной и талантом Спилберга.
* * *
Моя служба в Вооружённых силах благополучно закончилась, и Татьяна Максимовна назначила вернувшегося домой героя ответственным секретарём «Нового поколения». В тот момент в редакции работала Евгения Павлова, которая умела в совершенстве не только рассказать о событии, но показать пространство, эпохальный смысл и первопричину предмета речи. «Возникает вопрос, — писала в 1997 году Евгения Ароновна, — да нормальные ли мы люди, братцы? Но не возникает ответа. Увы, мы разучились отвечать. За себя, за свою работу, за детей, за страну. А ведь именно она, ответственность — мысли, слов, дела — созидает в человеке человека. И этой неудобной, требовательной истины нам не обойти, каким бы разуникальным путём ни двигалась Россия к своему великому будущему…»
Я всегда вспоминал историю про редакционную летучку, когда сообщил Евгении Ароновне, что у нас несколько изменился дизайн первой полосы и нужно теперь писать 126 строк в колонку. Павлова кивнула и пообещала сдать текст к нужному часу. 126 строк требовали почти невозможной, филигранной точности от журналиста. Никаких современных удобств со статистикой в «Ворде» не было тогда и в помине — стандартная газетная строчка подразумевала 27 знаков, а гонорары размечались посредством специальной линейки-строкомера с нанесёнными шкалами «петита» и «нонпарели». И вот в обозначенный день я получаю искромётный текст от Евгении Ароновны, написанный вручную большими округлыми буквами, и сдаю его в набор. Ровно 126 строк — уникальная точность и в математическом, и в смысловом ключе, будто у Павловой внутри существовал какой-то специфический хронометр.
* * *
Не могу не посвятить несколько строк и Сергею Денисову — безгранично талантливому художнику «Нового поколения». Он обладал такой породой изложения смыслов, которую совершенно невозможно спутать с чем-то другим. Вытянутый за шиворот с улицы Советской, где у кукольного театра Сергей промышлял торговлей глиняных свистулек, наш изобразительный гений стал определять лицо «Нового поколения», наравне с гуру репортёрской фотографии Олегом Рукавицыным.
* * *
У меня появилась помощница — Люба Шапунова. Художник, любитель папирос, душевный человечек. Приходя на работу, я настойчиво звонил ей домой, дожидаясь, когда же она ответит. После звонка, у нас так было условлено, Люба должна была выходить на свой балкон и махать рукой. Её хрущёвку как раз было хорошо видно из окна нашего офиса. Только такая процедура гарантировала, что помощница не проспит весь день дома.
* * *
Наш компьютерный знаток Миша Хныкин, куривший только питерские папиросы, водружал пустые гильзы в полую макушку коричневой пепельницы-черепа и научал всех основам степенного жизневосприятия. Ирина Масленикова, наборщица текстов, работавшая на стёртой клавиатуре без букв, — человек, знавший каждую кнопку наощупь. Дизайнер Игорь Патутин — лицо с извечно воспалёнными глазами, автор словообразовательной цепочки про «выхухоль», ушедшей в народ. Радик Амиров, его сестра Райхана — талантливые люди, прекрасные журналисты. Человек-отдел — хрупкая красавица Ирина Котельникова, которая непостижимым образом знала всё. Прекрасные мастера, обожаемые Татьяна Юлаева, Наталия Веркашанцева. Множество людей и судеб объединяло явление — газета «Новое поколение».
Безудержно жалко, что всё это сегодня умещается только в глагол прошедшего времени «было». Думаю, что с гибелью «Нового поколения» мы не просто потеряли издание. Мы начали терять всю отрасль, её первостепенный замысел и значение, что, безусловно, уже сказалось на мировоззрении нации, её ментальных скрепах, активно разыскиваемых сегодня. Именно тогда к окончанию тысячелетия мы сделали первый печальный шаг «в бесконечные пропасти к недоступной весне…».
Папины сказки
Вика стоит у окна, положив свои маленькие ладошки на тёплую батарею.
— Папа, смотри какие большие снежинки. Здорово?
Отец обнимает дочь за плечи:
— Красиво. Завтра мы с тобой первыми протопчем тропинку. Встанем пораньше и пойдём в школу пешком. Хорошо?
Тик-так. Ночник едва освещает циферблат маленьких настольных часов.
— Уже десять, Виктория. Пора смотреть добрые сны, — отец откидывает одеяло детской кроватки и укладывает ребёнка в постель.
Снег за окном. Тик-так. Силуэты комнатных цветов. Тюль с райскими птицами.
— Интересно, а не зацветёт ли завтра наш эухарис?
Ребёнок поднимает голову с подушки и долго смотрит на окно.
— Может быть, — отвечает отец, поправляя одеяло дочери, — спи, малышка, иначе не сможем встать первыми. Снег очень красиво сверкает по утрам.
— Пап, а за мной сегодня гналась собака, — ребёнок явно рассчитывает на разговор, ибо в её карих глазах нет ни капли сна, — большой и ужасный пёс. Собака может съесть человека?
Дверь спальни открывается, впуская в комнату яркий свет и мамину голову в бигуди.
— Ребятки, спать пора.
— Мама похожа на ёжика, только яблока на голове не хватает.
Пока отец машет рукой, чтобы супруга им не мешала, дочь радуется своей шутке.
— Понимаешь, дорогая, — глава семьи делает нарочито серьёзный голос, — ребёнок интересуется, не едят ли собаки людей. Я не могу оставить этот важный вопрос без ответа.
— И тебе требуется помощь?.. — женщина несколько раз ударяет себя кончиками пальцев по лбу.
— Лучшая помощь…
— Да, я знаю — не мешать папе. И всё же, родной, ребёнку пора спать. Завтра у неё шесть уроков и музыка.
— Ладно-ладно, — ответил отец, — всего десять минут.
— И ещё минуточка, — добавляет Виктория, но уже невесело. Ей хочется смотреть на снег, стоя у окна, поливать бесчисленное количество раз эухарис и говорить с папой.
Дверь спальни закрывается, и слышно, как мама начинает застилать в соседней комнате постель. Тик-так. Силуэты комнатных цветов на окне. Тюль с райскими птицами, и слабый свет ночника.
— Я знаю, что собаки не едят людей, дочка. Собаки — очень преданные человеку существа. Более того, им иногда присущи такие высокие человеческие качества, о которых даже люди не всегда помнят. Например, сострадание. Я расскажу тебе историю, которая случилась очень давно. Мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. Твой дедушка, тогда ещё молодой, не седой, старался воспитать во мне, ребёнке, уважение и любовь к животным. Однажды мы пошли на прогулку, и он взял с собой Трезора. Это была немецкая овчарка, очень большая и страшная. Жил Трезор у соседа и всегда зло скалил зубы, когда видел меня поблизости. Он очень не любил детей за их баловство, да и мы частенько забрасывали его будку снежками и камнями.
— Ты так делал, папа? — Виктория посмотрела на отца с недоверием.
— Детству свойственна жестокость. Если бы наш эухарис мог говорить, то сказал бы, сколько листиков ты оторвала у него, пока была маленькой. Ты дёргала папу за усы, рвала книжки и ломала игрушки. Это нормально. Главное, теперь ты этого не делаешь, ты хорошая девочка с добрым сердцем.
Вика улыбнулась и задумалась.
Отец рассматривал свою дочь. Как он любил эту маленькую крошку, её густые волосы, большие глубокие глаза, это детское родное личико. Вот оно — главное дело жизни. Дело, которое делает нас, родителей, вечными. Вечными, потому что через десятки лет энный праправнук будет отвечать на подобный же детский вопрос. У правнука будут такие же, как у нашего героя, усы, его же голос, такие же толстые и торчащие вены на руках. Дитё, убаюкиваемое его историей, увидит Викины сны, ибо сны наши, подобно чертам лица, передаются из поколения в поколение.
— Что было дальше, папа?
— Мы пошли гулять, — мужчина трёт нос, пытаясь вспомнить детали. — Твой дед вёл Трезора на коротком поводке, чтобы тот не бросился на меня. Я шёл с другой стороны и видел злые собачьи глаза, которые пытаются улучить момент для броска в мою сторону. Я видел вздыбленную шерсть, голодную слюну на его громадных клыках. Я спросил отца, может ли собака полюбить меня. Он ответил, что главное — не показывать животному свой страх. Мы дошли до магазина, а я так и не мог сообразить, как можно не бояться такое чудище. Отец привязал Трезора к металлической трубе и ушёл покупать продукты. Было очень холодно, может, поэтому я, будто взбесившись, прыгал вокруг собаки и показывал ей язык. Мне было весело, я знал, что собака крепко привязана и не представляет для меня никакой опасности. Трезор не лаял, а просто смотрел в мою сторону с упрёком. Но тогда я не понимал этого. Вышло так, что твой, Вика, папа неожиданно поскользнулся и упал на трубу. Прямо высунутым языком на холодный металл… Язык в один миг примёрз, намертво приклеился к железяке. Я стоял беспомощный в полуметре от Трезора, пытаясь всё же вырваться. Сам себя поймал в ловушку… Пёс встал и оскалился. Было что-то злорадное в его глазах. Шаг, ещё шаг. Я заревел во весь голос. Сейчас Трезор будет меня есть.
Виктория зажмурилась, на её глазах выступили слёзы. Она вжалась в подушку и задрожала всем телом.
«Вот осёл, — промелькнуло в голове отца, — Рассказываю всякие гадости ребёнку на ночь».
— Вика, ты что? — горе-рассказчик постарался вложить в этот вопрос как можно больше весёлых ноток. — Всё закончилось хорошо. Трезор встал на задние лапы и лизнул меня в лицо. Понимаешь? Ему стало жалко трясущегося от страха ребёнка, он по-человечески сопереживал, по-собачьи искренне успокаивал меня. Я чувствовал его шершавый язык, тёплое дыхание.
Виктория заметно повеселела и даже убрала одеяло от лица.
— А как же язык, папа?
— Пришёл твой дед, увидел всё это безобразие и побежал в соседний дом за горячей водой. Забавно было видеть, как через некоторое время он появился из подъезда с дымящимся на морозе чайником в руках. С трудом, но язык мы отклеили. А с Трезором с тех пор мы стали большими друзьями и часто гуляли вдвоём.
Тик-так. На часах — одиннадцать. Силуэты комнатных цветов на окне. Из-за туч выглянула луна. В комнате стало светлее.
— Пап, теперь я хочу сказку про добрую собаку.
— Спи, малышка, спи. Папа пойдёт пока придумывать её. Сказку про добрых собак и добрых людей…
Виктория спит по-детски безмятежно, раскинув в разные стороны свои милые белые ручонки. Отец долго смотрит на луну, плывущую среди облаков.
Дочери снится Трезор — смелый лохматый «немец», бросивший вызов всему злу, существующему в её детском, сказочном мире.
«Как мы часто говорим неправду своим детям, — думает отец. — Ради чего? Ради того, чтобы ребёнок рос в сказке? Как же тяжело им, нашим детям, будет потом столкнуться со взрослой реальностью»…
Мужчина тяжело вздыхает, и взгляд его падает на шрамы. Левая рука будто надрезана белыми полосками — напоминанием о Трезоровых крепких клыках…
Педагогический сонет
Строка первая (вступительная)
Этого не должно было быть лет пять назад в посёлке Тоцкое, где я коротал время перед стрельбами на полигоне. Молодая мамаша колотила по щекам своё трёхлетнее чадо, подбирая ненормативно-звонкие словеса. Ребёнок не плакал, но в его глазах уже лежала эта фатальная российская грусть. Нам обоим было одинаково больно — мне и этому совершенно незнакомому малышу.
Чуть позже, сжимая рычаг горящего танка, я всё думал о его жизни и, поверьте, почти плакал.
Строка вторая (основополагающая)
Наверное, мы сделали вид, что забыли о главном — НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ ЛЮБВИ!
Гнусный Макаренко, изучив десятки томов литературы по психологии и педагогике, нашёл лишь один верный способ завоевать авторитет у воспитанников… и это была не любовь. Он ли зажёг тот факел, ведущий в пропасть, мне неизвестно. Но идём мы его дорогой. Ломаем и самоутверждаемся.
Строка третья (рационализаторская)
Вот если бы изобрести некий «любометр». Прикладываем его соискателю к сердцу: «Ага! Любви-то в вас, любезнейший, маловато. Нельзя вам пока потомством обзаводиться. Приходите, голубчик, через годик!» Может, тогда бы всё стало понятнее?
Строка четвёртая (скептическая)
Теперь мы прячем свою непригодность за технологии и методики. «Да у меня сто первый разряд по педагогике. Я пил кофе с Пиаже и Гальпериным, когда они спорили».
Строка пятая (обратноизощренная)
Другая родительская паранойя — жертвенность. «Сю-сю! Вот, дитятко, лучший кусочек. Скушай. Папочка так старался специально для тебя». Святой родитель счастлив. Дитё растёт добротно-эгоистичное и основательно загубленное.
Строка шестая (методологическая)
Самое лучше воспитание — отсутствие воспитания. Не трогайте, всё равно не умеете. Просто любите и оберегайте. Они ведь совершенно другие. Как бы мы ни силились мыслить по-детски, не получится.
— Сынок, ты давно это сломал?
— Да, пап, давно-о-о…
— Когда? В прошлом году?
— Нет, утром.
Другая, детская категория времени. Другой образ восприятия и мышления. «И только Самосвал знал, где Снегурка закапана, но он никому не сказал». Эта фраза, недавно брошенная сыном, ещё раз подтвердила моё безграничное уважение к детству.
Строка седьмая (поделочная)
Детское сознание совершеннее и богаче нашего. Есть ли смысл его ограничивать? Сначала мы заклеиваем дверцы шкафов скотчем, а потом удивляемся: а почему наш ребёнок никак не привыкнет помогать родителям по дому?
Пусть ломают вещи — вещи не стоят ровным счётом ничего. Это ведь хорошо, что они ломают: есть возможность достать с балкона рубанок и молоток.
Мы как-то сделали с детьми книжный шкаф почти до потолка. Пилили ДСП по очереди, сверлили дырки и закручивали шурупы. Это занятие одинаково захватило и сына, и дочек. С тех пор дети по-особенному уважительно относятся к дрели и шкафу, впрочем, как и ко многим другим предметам обихода.
Здесь мы вплотную подошли к идеям Б. Скиннера о положительных и отрицательных подкреплениях. Если сформулировать просто: создайте условия для позитивной деятельности своего чада. Ведь нам просто некогда выпиливать с ними шкафы, поэтому малыши крушат уже существующие.
У нас дома все стены заклеены детскими рисунками. И вот на исходе первая пятилетка творчества — пора делать ремонт и выделять под рисунки не все стены, а только одну. Эта стена обязательно должна быть!
Строка восьмая (книжная)
Мы читаем детям на ночь. Чаще этим занимается мама, пока я пытаюсь посадить горящий самолёт и успеть до закрытия молочного магазина.
Читаем сказки по две — три главы. Малыши с удовольствием ждут продолжения. Перед тем как начать чтение, вспоминаем, на чём остановились в прошлый раз. С удовольствием слушали «Волшебные приключения Нильса», «Мальчик-Звезда», «Приключения Буратино», «Три толстяка», «Озма из страны Оз».
Иногда дети долго не засыпают, устраивая баталии. Мы стараемся не очень в этом их ограничивать. Хотя рычаги корректировки их поведения мы сохраняем: баба Яга (иногда баба Йогурт), совы, которые «не спят, капризных стерегут ребят», Туча Гора, Туша-Кутуша, крошка Вили-Винки «ходит и глядит», Тутти-Грути и другие герои воображаемого населения нашей квартиры и окрестностей. Эти персонажи существуют не для устрашения. Они просто не любят беспорядка, могут быть строгими и взыскательными.
Строка девятая (прогулочная)
Я не люблю улицу и не понимаю прогулок с утра и до обеда. Улица — потенциальный источник опасности. Понимаю, что в этом вопросе со мной можно поспорить. Если есть возможность, уезжаем подальше. Бывали на морях, реках, в лесах и полях. Ловили рыбу пятиметровой телескопичкой. Разводили костры и пекли картошку.
Сын первый раз в жизни воспользовался самолётом в трёхмесячном возрасте. Но я не считаю, что такого рода достижения необходимы каждой семье. Да и море, скорее, бесполезное излишество. Тем более в столь малом возрасте. Южный климат требует серьёзной адаптации.
В нашем варианте ежегодные вылазки на море продиктованы желанием видеться с бабушкой и дедом. Замечательно, что дети набираются впечатлений, это благо. Бегают счастливые под виноградными арками и играют в футбол грецкими орехами. А в Оренбурге скучают по морю и ждут лета с нетерпением, скучают, скорее, по летней воле.
Строка десятая (равноправная)
Хочется сохранить с детьми общение на равных. Иногда приходится делать над собой усилие. Две недели я почти ежедневно предлагал сыну подстричься. Тщетно: он решительно игнорировал мои предложения. Но не посажен ещё тот огород, который бы мы не обошли. Начал ровнять чёлки дочкам. Сыну тут же затея стрижки показалась увлекательной. Половину причёски вытерпел сносно, вторую — кое-как. Усидчивость — не мужской конёк.
Мы стараемся детям давать возможность решать вопросы самим. Вот В. Леви даже пропорцию некую вывел: «…примерно в 1/3 случаев уступайте своему маленькому упрямцу…». Чем-то напоминает рецепт из поваренной книги. Но иногда приходится ребёнка ставить перед фактом: «Есть такое слово „НАДО“».
Строка одиннадцатая (детсадовская)
В одной из телепередач прозвучала мысль, что «детский сад — это место, где дети могут побыть в безопасности, большего требовать от сада не нужно». Я бы не исповедовал такого однобокого подхода. Здесь дети приобретают значительно больше навыков и умений, чем можно предположить. В садике работают талантливые специалисты: педагоги, логопеды, музработники. Я благодарен их творческому потенциалу, несоизмеримому бюджетному окладу. Значимо то, что сад даёт возможность посмотреть на своего ребёнка со стороны. Мы ведь все эгоистично любим в детях себя. Сад в какой-то мере воспитывает и родителей, позволяет посмотреть на малыша объективнее.
Да, хочется, чтобы именно наши дети учили главные роли к утренникам. Хочется, чтобы они не конфликтовали с окружающим миром. Чем раньше придёт этот навык, тем лучше. Сад — наш союзник. И во всех оценках мы отталкиваемся именно от этого умозаключения.
Строка двенадцатая (медицинская)
Лучший «друг» ребёнка — доктор. Он всегда знает, каким сильнодействующим антибиотиком расшатать малышу иммунитет.
Поначалу мы даже (Господи, прости!) следовали их чуткому руководству.
Хотели бы просто не болеть. Но закаливание — дело не одного дня. Маршируем в холодных ванночках, стараемся выдерживать витаминные рационы и укрепляем иммунитет…
Строка тринадцатая (чесночная)
Чеснок — не наше ноу-хау. В каждой группе на информационных стендах висят листочки с рекомендациями «Профилактика гриппа». Чёрным по белому советуется использовать чесночные бусы и оксолиновую мазь. Мы взяли на вооружение эту простую идею, но в одной из групп столкнулись с неожиданным противодействием. Да, запах чеснока не очень-то приятен, но он реально помогает не цеплять всякую заразу. Давайте водрузим, друзья, чеснок на наши знамёна!
Строка четырнадцатая (возвышенная)
Скоро растает эта надоевшая жижа под ногами и рябины у сада выпустят свежую зелень. Это нечто закономерное, но неожиданно приятное. Как ДЕТСТВО.
Всё происходит так, как должно. Именно так.
Через час наши малыши проснутся, и наступит утро. Мы шумно соберёмся и пойдём в наш садик навстречу новому дню.
Всё будет хорошо.
Плохой солдат
Капитан резво соскочил со своего стула и бросился к телефону.
— Алло! Кто-кто? А! У нас тут солдатика нужно посадить на гауптвахту… Что? Записку об аресте подготовим позже. А пока пришлите патруль, пусть его отведут в задержку. Немедленно, слышите?
* * *
Патруль в лице молодого прапорщика пожаловал минут через десять.
— Где у вас тут провинившийся? Кого сажать?
Капитан пальцем указал на меня:
— Вот этого сажайте.
Я встал, не торопясь накинул шинель и небрежно стал нахлобучивать шапку, затем окинул всё таким взглядом, будто шёл не на «губу», а на виселицу.
Прапорщик терпеливо ждал, очевидно зная, что в этот момент лучше не лезть под руку.
* * *
Начальник патруля с интересом изучал свои записи. Затем поднял глаза от талмуда и, обращаясь к прапорщику, весело заметил:
— Ага! План по задержанию выполнили! Поработали на славу!
Прапорщик тоже улыбнулся, а затем доложил, что привёл меня. Майор первый раз кинул взгляд в мою сторону.
— Провинился, да?
— Так точно, товарищ майор, провинился.
— А что натворил?
— Плохой я солдат, товарищ майор. Не соответствую военной доктрине РФ.
— О-о, — присвистнул майор. — Так что же в журнале задержек записать, за что тебя посадили?
— Да что хотите, товарищ майор. Можете записать, что голова у меня не из дерева, запишите, что думаю чаще, чем раз в сутки…
— Э-э, солдат! Запишу, что не выполнял требования Устава.
— Вот-вот, я всегда знал, что майоры — башковитый народ.
— Ладно, не умничай. Снимай ремень, шапку, выкладывай всё содержимое карманов. Живее, у меня есть другие дела.
Я быстро стянул ремень с шинели, брючный — из штанов, снял галстук, шапку, часы, вытащил военный билет. Наверное, только я мог в этой дивизии прийти в задержку в парадной форме. Прапорщик учтиво отпер дверь клетки.
— Вот здесь, солдат, ты будешь сидеть!
— Спасибо, товарищ прапорщик! А я-то, дубина, думаю, зачем же вы открыли мне эту каморку.
Прапор взял меня за плечо и подтолкнул. Да я и сам понял, что здесь команды лучше выполнять молча.
* * *
В камере не было пусто. На единственной скамейке восседал солдатик, усиленно изображая, будто меня не замечает. Он смотрел в пустоту, и его большое, вскипевшее мельчайшими пупырышками лицо сохраняло совершенно единообразное выражение.
Я знал, что первый момент знакомства всегда определяет дальнейшее отношение и поэтому решил показать, что я не молодой воин, а как раз наоборот — очень бурый и сильный. Я, не торопясь, расстёгивая на ходу рубашку, сделал шаг вперёд и со всего размаха плюхнулся на скамейку. Мой сосед продолжал сидеть подобно каменному изваянию. Я стал нагло в упор рассматривать его. Солдатик моргнул несколько раз глазками. Это весьма определённо дало понять мне, что он нервничает, и тогда я начал:
— Да не бойся, братец, не буду я тебя бить. Расслабься! — сосед удивлённо измерил меня глазами. Я резко выпрямился и протянул ему руку:
— Дима меня зовут!
Солдат повернулся ко мне и, ещё раз хлопнув глазами, произнёс:
— Коля.
Я как можно увереннее сжал его руку и успел заметить наколку на его пальцах — «Таня».
— Невеста? — спросил я, указывая на наколку.
— Да так… — стушевался Коля.
— Давно служишь? — продолжил я свой расспрос.
— Я дембель. — ответил Николай и с гордостью, испытующе посмотрел на меня. Я понял, что если промолчу, то положение моё полетит к чёрту. А врать о том, что я тоже дембель не хотелось. И тогда я извернулся совсем по-другому:
— Ой, Колян! Среди вашего призыва столько уродов. Я ещё никогда не видел таких дембелей.
Солдатик опять стушевался, так как моя реплика относилась в равной мере и к нему.
— Да, ладно… — произнёс он через некоторое время. Я стал рассматривать камеру. Собственно, сидел в ней уже второй раз. В августе прошлого года залетал сюда за нечищеные сапоги. Тогда меня вытащили через два часа после задержания. Теперь, чувствуется, так легко не отделаться.
Камера маленькая, по периметру два на два метра, метра три в высоту, одно маленькое окошечко у потолка зарешёчено стальными прутьями, над окном — круглосуточно горящий фонарь. Стены покрыты цементом, который образовал такой неприятный пещерный рельеф, что становилось жутковато. Цементные наплывы окрашены извёсткой, поэтому солдаты после задержки долго отмывают от формы белые пятна.
Дембель встал со скамейки и подошёл к двери.
— Семь часов пятнадцать минут, — произнёс он. — Вон, видишь в щёлку видно настенные часы.
Я развалился на скамейке, подложив под голову аккуратно свёрнутый китель.
— Коля, спокойной ночи! Делать нечего, буду спать.
— Давай, Дима, покурим, — предложил дембель, так как он уже сутки сидел и спать ему не хотелось.
— Я бросил курить.
— Чёрт! А у меня и спичек нет.
Я развернул китель и стал рыться в карманах. За подкладкой завалялось несколько спичек.
— Ладно, Коля, выручу тебя. Держи.
Дембель достал из внутреннего кармашка мятую папироску, кусочек чиркаша и стал громко кашлять, при этом зажигая спичку, так, чтобы из-за кашля её не было слышно. Дело в том, что в задержке курить строго запрещено, а сутки сидеть без перекуров просто невыносимо. Поэтому солдатики, зная, что попадут сюда, прячут сигареты в одежде, разрывают спичечную коробку и отдельно складывают в кармашки формы спички и чиркаш. При таком хранении спички обнаружить трудно.
В камере воцарилось молчание. Коля сидел на корточках, нервно вытягивал дым из папиросы и очень осторожно выпускал его через нос, при этом часто оборачиваясь, он заглядывал в щель между косяком и металлической дверью. Дембель волновался, как бы начальник патруля не учуял, что в камере кто-то закурил. Я пытался уснуть, то и дело поправляя свёрнутый китель под головой, разглядывал стены, пробовал вспомнить что-нибудь приятное, но тщетно — сон не приходил. Дембель докурил папироску до половины, оторвал обслюнявленный кончик и протянул её мне.
— Покури! Я по твоим глазам вижу, что хочешь.
Я сел и взял протянутый мне чинарик. Сделал это скорее подсознательно и спохватился только тогда, когда в мою изголодавшуюся по табачному дыму глотку влетело несколько затяжек. Тут же по телу моему побежали мурашки, в голове помутнело, и меня повело вбок. Тем не менее я встал, шатаясь приблизился к стенке, раздавил папиросу ногой и, аккуратно свернув её пополам, засунул в дырочку между наплывами цемента.
Время остановилось. Безумная клетка была придумана очень мудро: даже поспать в ней нельзя было по-человечески. Меня неожиданно начали доставать стены, казалось, они с каждой минутой сдвигаются, уменьшая размеры камеры. В голову лезли самые неприятные мысли. Зачем всё это? Дело даже не в армии, её я пройду рано или поздно. Как же страшен этот вопрос — «А зачем? Что толку?» Вон сколько тех, кто ничего не добился ни своим трудом, ни талантом. Утром подобными весь транспорт забит, они едут завинчивать гаечки, вытачивать болваночки, чертить, писать. На головах у них пушистые кепочки, и лица у них в морщинках. А в каждой морщинке по трупу нереализованной надежды. И я буду таким же?
* * *
Начальник патруля встал из-за своей стойки.
— Ну что, «задержка», кушать будем? Сегодня ели вообще или нет?
Дембель прилип носом к двери:
— Никак нет, товарищ майор, не ели. А кушать очень хочется.
Мне неожиданно стало противно от того, что вот сейчас меня поведут без ремня на шинели через весь городок в столовую.
— Товарищ майор! — заявил я. — Если еду не доставят в мои апартаменты, я объявлю голодовку.
— Это кто там такой умный? Голодовку захотел? Да хоть сдохни там без еды, мне плевать, веришь?
Коля резко повернулся ко мне и грозно зашипел:
— Молчи, дурак! Ведь сейчас правда на пайку не поведут.
Я плюхнулся на скамейку и опять ушёл в свои дурацкие размышлизмы.
Из-за двери доносился голос прапорщика, который рассказывал очень забавную историю: «А я, мужики, всё Ару вспоминаю с нашей роты. Тупой был боец. До безобразия. Но здоровый гад — природа не обидела. Я как-то дежурным по части заступил. Вызываю его к себе и топор прошу в автопарк отнести. Ещё его подгоняю: быстрей беги, топорик во как нужен. Он подорвался, схватил топор со щита и бегом в автопарк. А я со спокойной рожей звоню туда дежурному и говорю, что у Ары крыша поехала. Сижу и серьёзно рассказываю, что, мол, в столовой стекло пожарным топором разбил, ГАЗику командирскому капот в двух местах продырявил, а сейчас в автопарк побежал с топором. Дежурным по парку, мужики, Семёныч стоял, ну этот, с батальона старший прапор. Ты его должен помнить, Вовка. Он „Жигули“ в прошлом году из оврага вытащил в одиночку. Ну и вот… Семёныч мне-то поверил. Приготовил двухметровую дубину и ждёт Ару, а тот дурачок действительно с топором бежит. Семёныч, не долго думая, выскакивает со своей палкой и… хряк! У Ары, бедолаги, искры из всех щелей посыпались. Шишка на башке не проходила целый месяц, пилотка сваливалась».
Дружный офицерский смех потряс караулку.
Дембель подглядывал за офицерами, затем резко обернулся и очень зло изрёк:
— Ну ты посмотри, какая сука! Солдатика разыграл. Шакалы, поубивал бы их!
Мне тоже стало неприятно. Захотелось как-то отыграться на майоре и прапорщиках. Но ничего подходящего не нашлось.
Я встал и постучал в дверь.
— Товарищ майор, я в туалет хочу, очень-очень.
— Ну вот, своди вас на ужин, так покоя не будет. Одни проблемы с вами.
Через некоторое время дверной засов всё-таки открыли.
— Кому?
Я просунулся в приоткрытую дверь и дыхнул свежего воздуха. Надо же, как это оказывается приятно — дышать.
Майор кивнул прапорщику весельчаку, чтобы тот проводил меня. Вот это честь мне оказали: целого прапора ради моей нужды выделили!
— Товарищ прапорщик, вы представляете, бумагу в этом месяце не приобрёл. Прямо напасть какая-то! Вы не выручите меня листочком? Пожалуйста, товарищ прапорщик!
Конвоир потупил взор, очевидно соображая, стоит ли ради меня стараться. Мой искренне просящий вид, чувствуется, его убедил, что стоит. Прапорщик полез в карман и вытащил маленький блокнотик:
— Всё для вас делаем…
Затем «спонсор» щедро оторвал от блокнота листик формата сторублёвой купюры и небрежно протянул мне. Я принял подачку и слащаво, пытаясь скрыть иронию, произнёс: «Спасибо, товарищ прапорщик, выручили! Очень вам признателен. Правда, большое спасибо!»
Затем я резко обернулся и скрылся за туалетной дверью. Здесь висело старое облезлое зеркало, и я от нечего делать стал разглядывать своё лицо и корчить рожи. Тут я услышал удаляющиеся шаги. Не выдержал конвоир, ушёл. Как же я теперь один смогу до камеры дойти? Стараюсь не скрипеть, открываю дверь и пробираюсь к маленькому окошку разводящего, стучу. Дверку открывает мой старый дружок Нефёд.
— Привет! — обрадовался он. — А ты что тут делаешь?
— Тише ты! — цыкнул я. — Дай нам в задержку сигарет и спичек, а то я там с ума сойду.
Нефёдов порылся в карманах и выудил початую пачку «Бонда» и зажигалку.
— Спасибо, Нефёд! — сказал я и прикрыл окошко, затем, смачно смяв листик, который дал прапорщик, выкинул его в урну и побрёл обратно.
* * *
Утром я подорвался очень рано. Стрелка настенных часов едва доползла до пяти, и я долго наблюдал через трещину в двери, как секунда за секундой приближается мой ДМБ.
* * *
Ближе к восьми утра дверь нашей камеры отворилась, на пороге показался майор.
— Так, мужики, доброволец нужен.
Дембель вскочил с полной готовностью на лице. Он, наверное, подумал, что его на пироги приглашают.
Через минуту я из своей камеры услышал, как стучит металлическое ведро. Ну Коля перед дембелем решил в комендатуре полы помыть. В армии работа дураков любит. Впрочем, зачем я так? Он ведь не меньше меня ЧЕЛОВЕК.
Через час после возвращения Коли я опять провернул трюк с туалетом. Дверку в окошке, соединяющую задержку и гауптвахту, открыл Нефёд.
— Привет, — я вытащил и протянул ему зажигалку.
— Что, тебе больше не нужна?
— Да я надеюсь, что нет. Судя по всему, меня в части простили. А то бы давно уже к тебе наверх подняли. Скоро, наверное, и из задержки отпустят. Спасибо тебе, Нефёд! — я протянул свою руку в окошко.
— За что спасибо?
— За то, — ответил я, — что не пожалел для меня.
— Да брось… Что за чепуху ты несёшь?
— Я прав, нужно уметь ценить доброе…
* * *
Весеннее светило плавило бетонные плиты плаца. По ним, гулко топая, шествовал рядовой, а над его головой, весело переливаясь на солнце цветом хаки, кружили в весеннем вальсе военные вертолёты.
Почувствуй Бога собой
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Измайловская».
Пш-ш-ш! Двери бьют запоздавшего пассажира по плечам. Будто напугавшись, отскакивают и в следующее мгновение повторяют попытку закрыться. Тело в эту секунду уже успевает переместиться внутрь полупустого вагона. Оно успело! Ликует. Чего бы это ни стоило, успело… сесть именно в эту электричку. Оно боролось, будто на карте стояли его жизнь и благополучие. Оно, невзирая на сотню других тел, раздвинуло двери, воровато озираясь, заняло сидячее положение и достало из сумки кроссворд.
Как часто мы желаем достичь того, чего достигать не нужно. Успеть именно в этот вагон, на мгновение остановив то, чего останавливать вовсе не стоит, — ход истории.
Если бы тело село в следующую электричку, его бы не успел раздавить зазевавшийся вагоновожатый. Через пятнадцать минут история завладеет мясом, жалким, нашинкованным, которое забавно будет краснеть вокруг колёс напуганного трамвая.
Но тело не знает сути, спокойно вписывает глупые буквы в дурацкие квадратики. Оно не ведает, что в каждом сантиметре ребуса молоком выписано: «Жуй, быдло, и чувствуй себя умницей. Самоутверждайся в своих же глазах!»
Вагон раскачивается и скрипит. Безумно люблю метро за его почти демонический лик. Завораживают запах, прохлада, ритм, движение… Звук, подчиняясь дьявольской науке, отскакивает от стенок туннеля и спешит повиснуть в вагоне, в самом его математическом центре. Барабанные перепонки раздуваются и воспалёнными каплями текут из ушных раковин.
У-у-у! Чёрная полоса сменяется чёрной, за окном с надписью «Не прислоняться» извиваются змеи. Каждая жила состава напряжена, тужится, корчится, ещё миг… Пфи! Поезд вырывается на простор, и звук, потерявший преграду, убегает из вагона наружу.
— Дорогие пассажиры. Простите, что обращаюсь к вам за помощью, — нищенка с дитём на руках пытается скорчить лицо ещё хлеще, чем оно есть. Хлеще некуда, просто комикс художника с маниакальным синдромом.
Михаил Иванович откладывает кроссворд и вздыхает. «Сейчас скажет, что она не местная. Кошелёк вытащили, билеты украли, мужа убили, брата сварили, сестру съели», — думает уставший герой.
— Сами мы не местные, — продолжает женщина и медленно, с протянутой рукой движется в сторону Михаила Ивановича. Ноги её поцарапаны и кровоточат, юбка блестит от грязи и норовит запутаться в ссадинах икр, кофта с широким вырезом обнажает большую часть груди, чёрные волосы растерзанными змеями струятся по смуглому лицу. Дитё производит впечатление нечеловеческого существа, очень чёрный пальчик облизывает не менее грязным языком. Убогая пытается увидеть глаза каждого пассажира, долгое мгновение стоит над сидящим. Её глаза безмолвно кричат: «Дайте, пожалуйста доллар!» Редкая копейка, звеня, попадает в её оттопыренный карман.
— Что, нечисть, жрать захотелось?
Прячут глазки тела-пассажирчики, ближе к лицам подносят дешёвые романы. Запах грязного тела щекочет им ноздри, кажется, что он впитывается в поры. Тела нервничают.
— Денег давайте, сытые сволочи. Расселись тут…
Нищенка последовательна, никуда не спешит. Впереди холодная московская ночь в подворотне Сиреневого бульвара. Сверлит острыми глазками публику (может, где-то что-то плохо лежит), передвигается, как на охоте, мягко.
Михаил Иванович тем временем закипает. Розовые кулачки обнаруживают присутствие вен. Теплокровные мы да мягкотелые. Поберёг бы себя старичок, ведь через пятнадцать минут одну трамвайную рельсу перейти нужно.
Нет же, бунтует дух, переполнена чаша.
— Развелось вас тут! — выплёскивает негодование Михаил Иванович. — Я всю жизнь в болотах службу нёс, чтобы теперь вас, дармоедов, кормить! Пошла вон отсюда!
Старик поднимает смешной кулачок и машет им в воздухе. Жёлтые усики на круглом лице встают дыбом и шевелятся.
Нищенка на секунду теряет контроль, но тут же ориентируется и бросается на пенсионера, сопровождая нападение самыми скверными эпитетами.
Вагон медленно подъезжает к открытому перрону.
— Станция «Измайловская». Уважаемые пассажиры, выходя из вагона, не забывайте…
Михаил Иванович и нищенка с ребёнком в руках, ощетинившись, пляшут, брызгая слюнями.
— А! — бросается в наступление мужчина.
— Ш-ш-ш! — скалится женщина, отступая.
— А! — кричит ребёнок.
На улице глубокий вечер. В парке за забором метро гуляют влюблённые пары, слышится пьяная речь. Большая Луна над лесом томится в скорбном ожидании утра.
Ветер приносит в вагон метро прохладу и сырость.
Баталия продолжается. Раскрасневшийся Михаил Иванович, обидевшись за всех славян разом, пытается как можно глубже воткнуть нож оскорблений в несчастную грязную оборванку. Но нищенка, вопреки убеждению о всеобщей женской слабости, давно обросла чешуёй, и даже дитё на руках не мешает её обороне.
Офицер запаса, уважаемый всеми своими родственниками пенсионер, раздосадованный, почти побеждённый морально, хватает женщину за кофту и резким толчком выдворяет вон. Тут же ворота вагона слипаются, отрезая возможность конфликту продолжаться.
Публика внутри начинает хлопать в ладоши: «Так и надо этим попрошайкам!»
Тело, жалкое, потное, чувствует, как под его ногами растёт пьедестал. Михаил Иванович через четыре минуты будет раздавлен, теперь же высоко поднимает холёный подбородок. Он святой в глазах пассажиров. Жаль, что за подобную святость сложно наказать в уголовном порядке.
У-у-у! Электричка с грохотом въезжает в туннель.
Тело поворачивается к окну с надписью «Не прислоняться». Михаил Иванович смотрит на своё отражение в стекле и видит Бога…
Открой рот, я хочу убедиться, что у тебя есть язык
Учредитель сидел на кресле и курил. Его холёное лицо несло на себе тяжесть только что выпитой банки пива: «Проходи, редактор, садись. Сейчас я буду засовывать жало в твоё творчество. Я тебе, быдло, напомню, кто здесь заказывает рок-н-ролл…»
Учредитель берёт полными пальцами гранки свежего номера. Кажется, что уже в этот момент листы становятся грязными.
* * *
Девяносто восьмой год… Оренбург. С коллегой журналистом тащим по ступеням завёрнутый в штору компьютер. В газете сменился собственник. Кабинеты редакции того и гляди опечатают. Журналисты в спешке уничтожают всё мало-мальски ценное — все черновики, записи, информацию на жёстких дисках. Спешим утащить из офиса личный компьютер моего коллеги.
— Так, — охрана перед выходом тщательно изучает разрешение на вынос объёмистого тюка. — Макулатуру, значит, выносите? Тут в бумаге макулатура значится.
— Да-да, макулатуру, — отвечаем, и в этот момент на пол громко падает компьютерная мышка.
Один из охранников подмигивает:
— Вот она ваша гласность, борзописцы! Идите, ребята, с Богом!
* * *
Учредитель не спеша перелистывает страницы газеты: «Нет, вы недостаточно меня облизываете. Чаще надо облизывать, и… с чувством, что ли…»
Смотрю на его лицо, в эти надменные очки: «Сколько лет ты пьёшь мою кровь? Десять, двадцать?»
* * *
Двухтысячный год. Москва. Третью неделю вызваниваю высокопоставленного чиновника на предмет интервью. Наконец, ленивая в доску секретарша делает одолжение и соединяет меня со своим шефом:
— Ну всегда, когда я с похмелья болею, пресса атакует. У меня своих средств массовой информации достаточно, чтобы с вами ещё разговаривать. Впрочем, напишите текст интервью сами, я потом внесу коррективы, и вы опубликуете…
* * *
Учредитель наконец доходит до последней страницы газеты. В моём сердце, которое вывернуто наизнанку, несколько десятков ножей.
— Слабо, очень слабо, — делает заключение владелец. Давай-ка свою душу, я сейчас ей пообедаю.
* * *
Кто сказал, что мы рождены для счастья? Мы временные редактора чужих газет. Мы читатели, потребляющие всю эту лажу. Мы обычные, честные люди…
* * *
— Открой-ка рот! Ого! Да у тебя там язык. Смотри, никому его больше не показывай!
Столица требует интима
Лето только начиналось, но даже самый сильный дождь уже не мог отмыть воздух от пыли. Солнце, потея, цеплялось за выжженную степь и корчилось от осознания собственной жаркой силы. Одинокий пепельно-грязный карагач, на грех выросший среди мертви, не находил в себе силы шевелить ветвями, и листья его сжимались в узкие трубки.
Даша пятый раз за свою короткую жизнь смотрела в окно, но раскинувшийся перед её детскими глазами пейзаж не разжигал любопытства, а казался серым и скучным.
Тихо стукали мамины спицы, отсчитывая улетающие навсегда секунды дарьиного детства, и потрёпанная кукла одним целым глазом смотрела с антресолей на семейство, будто по-человечески прочувствовала повисшую в воздухе тоску.
Со стуком спиц шли годы, но за окном на задних лапах по-прежнему стоял суслик и любовался всё тем же пожухлым карагачом.
Где-то далеко жизнь имела обыкновение меняться. Там за горизонтом росли настоящие полевые цветы, в туманной дымке оптом рождались принцы на белых авто с красными номерами. Здесь же один-единственный жених на весь околоток опять терзал свою пьяную пятиструнку и срывающимся голосом вторил скрипу несмазанной своей телеги.
Даша собиралась скоро, ибо боялась, что не сможет уйти. Её давно влекла столица, она шла воевать за своё счастье.
Быстро пожелтели деревья, на мостовых выступила изморозь. Дарья стояла под мигающим жёлтым светофором и пыталась продать мамино колечко. Очень хотелось есть, но решительно не на что было позволить себе такую роскошь.
— Ну, купите кольцо, — канючила она, обращаясь к проходящему мимо парню. — Настоящее серебро, я не обманываю.
Юноша, видно устав от такого напора, полез в кошелёк, засунул банкноту Дарье в блузку.
— Смотри не пропивай! — назидательно пригрозил он и, не взяв побрякушки, скрылся в подворотне.
Счастливая девочка спешит в общагу к подруге, нагибаясь по пути за большим и аппетитным окурком. Ей нравится ночь, этот таинственный полумрак арок, мостов, этот дёшево сверкающий неон. Она почти счастлива и с трепетом сжимает в кармане хрустящие деньги.
Подруга опять не открыла дверь, и Даша осталась дремать на койке у вахтёра. Он очень интересный парень и знает много поэтических слов. Его рука нежно поднимается от дарьиного колена, а губы нашёптывают что-то из Канта. Что же поделать, столице нужен интим. Дарья в блаженном полузабытьи сгибает сильными пальцами дужку железной кровати. Пальцы её были сконструированы для коровьего вымени, длинные, цепкие, они теперь совсем не востребованы.
Утром у девушки последний экзамен. Перед тем как уснуть, она представляет себе грузную фигуру председателя комиссии. Улыбка озаряет дарьино лицо, ибо очень хочется ей завязать его галстук на своей милой ножке.
Спустя три дня она уже лезет в квартиру к учёному мужу по водосточной трубе, приводя в восторг престарелых завсегдатаев дворовых скамеек. Вот и балкон, обескураженный педагог, краснея, пытается что-то объяснить другой институтке, которая пришла часом раньше.
Очередная ночь сменяется дождливым утром. Мокрый рассвет рдеет над серой новостройкой, гасит тусклые звёзды и яркие вывески. Выброшенный на обочину жизни, я просыпаюсь в кювете от шелеста шагов и вижу, как тысячи Даш с надеждой бредут за своим долгожданным счастьем…
«Товарищ капитан, у меня сессия… с понедельника»
Часть первая
Вчера сдали первый экзамен. Рассуждали об Аграновском и Кише. Пили пиво и кофе. Курили и пели. К часу потекли на свежий воздух. К утру находили себя у отопительных батарей.
* * *
Солдат проснулся рано. Рядом валялись книги и шпроты. Стакан с водой прилип к крышке стола. Перевёрнутое варенье распространяло по комнате запах дома и тепла. Эстеты дрыхли вповалку.
— Сегодня парко-хозяйственный день, — заявил воин, тормоша за плечо сладко спящего Макса. — Ты моешь посуду, мы с Тараканычем займёмся остальным.
* * *
Макс был в состоянии крайнего возбуждения. Его маленькое кривое лицо по обыкновению розового цвета сейчас вобрало в себя всю гамму пурпурных оттенков. Раскосые глаза рассыпали вокруг искры, тонкие злые губы обнажали маленькие прокуренные зубы.
— Да какого чёрта ты здесь солдафонить начал! — кричал он, и в этой фразе сливалось воедино всё присущее его натуре пренебрежение к окружающим.
Тараканов, вечно воспринимающий действительность через завесу сна, почёсывал мятый затылок и кивал головой.
— Зачем со своими законами в чужой монастырь? — дополнял он вскипающего Макса.
Часть вторая
День, окончательно изрезанный суетой, спешил покинуть Свободный. На посёлок прессом неуклонно ложилась ночь. Скрашивая убогость облезлых домов, она заглядывала в окна и шумела последним альбомом «Агаты Кристи», который весь вечер гонял у себя дома упившийся в зюзю старший прапорщик запаса. Город-тюрьма с ироничным названием Свободный прожил и выплюнул ещё один день и медленно, со столичной важностью приготовился ко сну. Редкий гражданский, словно перебежками, пересекал улицу, и она опять приобретала своё безлюдное состояние.
В местной прокуратуре служили четверо солдат срочной службы. Один из них — водитель, который с утра уходил в автопарк, а вечером возвращался уставший, пахнущий бензином и мазутом. Трое других срочников работали в конторе, в любое время суток готовые выехать на место происшествия и помочь следователю выполнить необходимые процедуры.
В этот вечер шеф задержался на работе дольше обычного.
— Разрешите, товарищ капитан? — солдат просунулся в дверь начальника.
— Входи! — несколько нервно и недовольно заявил старший помощник военного прокурора.
— Товарищ капитан, у меня большая проблема, — рядовой, явно нервничая, осёкся.
— Ну, быстрее! — не сдержался командир.
— Товарищ капитан! У меня сессия с понедельника. Я бы очень хотел… мне нужно на ней появиться.
Капитан открыл верхний ящик своего стола и, покопавшись, отыскал среди прочих бумаг тоненькую брошюрку «Закон о статусе военнослужащего». Через несколько секунд солдату пришлось терпеливо прослушать выдержку из этой книги. Суть в том, что сессию солдат срочной службы сдавать не имеет права.
— Товарищ капитан! Мне нужно сдать эту сессию. Образование — это главное, я не так долго собираюсь жить, чтобы терять время. Я прошу от вас человеческого понимания, — солдат выпалил это на одном дыхании и сделал вздох, чтобы сказать ещё что-то, но неожиданно понял, что козырей у него больше нет.
Капитан вскипел окончательно:
— Какого понимания ты требуешь от старшего помощника военного прокурора?
Оба собеседника замерли, и каждый из них оценил уникальность только что произнесённой фразы.
— Ладно, — смягчился капитан. — В понедельник поедешь к себе в полк и решишь вопрос с командиром. Больше я не хочу разговаривать на эту тему.
* * *
Отношения с командиром у нашего героя сложились хорошие. Около полугода назад, когда полковник пришёл в прокуратуру и ожидал своей очереди у кабинета следователя, солдат предложил офицеру чай. В этом не было ни подхалимства, ни заискивания — так было принято в конторе. Правила гостеприимства. Тем более на улице стояла зима со свойственным этому времени года морозом.
— С удовольствием, а если положишь сахар, то я вообще буду очень рад.
— Да и к чаю найдём что-нибудь вкусное, — ответил солдат.
— Нет, — удручённо заметил полковник, — к чаю не надо ничего. Я не могу прийти домой сытым: жена не поймёт, подумает, что был у любовницы.
— Некоторым жёнам было бы полезно знать, — совершенно непринуждённо заявил солдат, — что их мужья нужны ещё кому-то.
Юноша не знал, насколько точно он попал в цель. У полковника действительно семейные дела не клеились, и он изумился прозорливости и остроте ума солдата.
— Яйца курицу… — после длительной паузы выдал офицер. — Но очень мудро. В каком полку служишь?
— В вашем, товарищ полковник, в вашем…
* * *
Расстояние от прокуратуры до полка было солидным, и солдат искренне проклинал себя за то, что опоздал на военный «бэмс», возивший офицеров на площадку. Рядовой шёл, гулко топая по бетонным плитам, впереди маячила призрачная перспектива оказаться на воле.
* * *
— Товарищ полковник! Здравия желаю! Разрешите?
— Входи! — командир полка сидел за столом и изучал какие-то бумаги.
— Товарищ полковник, у меня личный вопрос. Я хотел бы взять отпуск по семейным обстоятельствам или что-то вроде. У меня сессия…
— Так, солдат, кругом! Наклони голову. Где кантик, почему не стрижен? Ликвидируешь недостатки внешнего вида, тогда и разговаривать будем!
* * *
— Да, причёска у тебя будет не студенческая. Без лесенок такими ножницами не подстрижёшь.
— Ерунда! Кромсай побольше. Ты же знаешь, что хороший солдат — лысый солдат. Так во всяком случае полагает наш комполка.
В зеркале отражалась наполовину выстриженная голова — два больших глаза, впалые щёки, и будто не было более ничего на лице. «Как там мои однокурсники? — думал мальчишка. — Поди жизнь у них интересная. Вот бы сейчас мне к ним попасть. Даже не верится, что получится».
* * *
Утренняя электричка. К стеклу прижимается юноша и смотрит в окно. В серой, холодной раме, однако, видятся лишь застиранный пуховик, старые джинсы, парадные армейские башмаки…
Трактат о музыке
Прежде чем войти в контекст повествования, автор считает необходимым определить ряд постулатов, которые он воспринимает как данность.
Постулат № 1. Автор считает детство самой мудрой ипостасью человека, когда ещё не разорвана связь с космосом — золотое время личности, самое творческое и интересное. Руководствуясь этим умозаключением, автор старается не испортить, не навредить, не уничтожить.
Постулат № 2. Автор считает справедливой теорию превосходства генов над воспитанием. Автор видит сны своих предков, а дети автора смотрят сны автора. В этом глубокая теория вечности — от праотцов к потомкам. Именно поэтому автор считает основной задачей воспитания наглядную демонстрацию многообразия мира и объяснения общепринятых правил игры, полную несостоятельность приобретения качеств, которые не дала природа.
Постулат № 3. Автор подозревает, что есть какие-то различия между музыкой, живописью и словом, но не умеет видеть этих различий. Именно поэтому автор не состоятелен в определении, где кончилось слово, а началась музыка. Автор считает, что нет особого смысла в проведении чёткой грани между этими понятиями. Всё это умение чувствовать, воспринимать и видеть.
Постулат № 4. Автор подвергает сомнению практику и теории массовой музыкализации детей и приобщения их к музыкальному эстетизму. Автор считает, что в тонкой сфере искусства возможен только сугубо индивидуальный подход к каждому ребёнку. Нет ничего преступного в «мальчиках-зайчиках», выстроенных в ряд на детском утреннике, которые открывают рты под Шаинского. Но к музыке это торжество тщеславия — детского и взрослого — не имеет никакого отношения.
Постулат № 5. Автор считает, что к одной и той же цели нет одинаковых путей. Поэтому всю технологическую теорию по воспитанию автор подвергает сомнению. Теоретики «от» и «для» образования — «ловцы снов», которые веками пытаются описывать волос, если брать образ Милорада Павича. Есть главная составляющая воспитания — любовь. А всё остальное — вторично и индивидуально.
Постулат № 6. Автор считает уголовным преступлением всякую модернизацию образования в России, ибо подобные ротации ничего общего не имеют с модернизацией образования. Это глобальная трата государевых денег под благовидным предлогом. Модернизация образования в России возможна только через прямую поддержку креативного мастера у рабочего «Петроффа», минуя жирную прослойку местечкового аппарата.
* * *
О, музыка! Что может описать её воздействие на наши души? Как охарактеризовать ту вибрацию, которая возникает под рёбрами при первых звуках чего-то стоящего? Где эта категория стоящего? В наличии этой самой вибрации под рёбрами?
Почему мой ребёнок ещё до рождения успокаивается под звуки «Времён года» Вивальди? Почему, родившись, представляя мир ещё в перевёрнутой форме, прекрасно внимает звукам корявой, но искренней папиной колыбельной? Может, как раз благодаря этим напевам, на невербальном уровне мы вели тот глубокий диалог, который сложно облачить в слова.
Музыка. Что это: механическое воздействие звуковых колебаний на желудочки сердца или что-то большее? И почему одно и то же заставляет вибрировать и меня, и этого иностранца по правую руку. Он даже перестал улыбаться своим отбелённым ртом, полным жвачки.
На сцене своя жизнь, такая «другая», далёкая, ненастоящая. И язык родной для Верди. А вроде как и понятно всё. Без глупого надстрочника над сценой.
Я трепетал, глядя на работу греческого дирижёра. А позже в подсобной, пока помреж варила какао в замызганной кастрюле для вечерней «Кофейной кантаты» Теодора Курентзиса, звезда, одарённый юноша грек рассказывал мне о своей доброте. Его в попытке произвести впечатление на малознакомого правдоруба несло на сентиментальные темы про билеты, которые он бесплатно оставляет в кассе для студентов музыкальных вузов Москвы. Я мало имею терпения, даже перед угрозой обострения отношений с Грецией, и пресекаю его ломаный русский:
— Теодор, ты только что убил на моих глазах всё доброе в своём поступке.
Вот почему я, любя музыку, часто презираю музыкантов. Или, ценя веру, не ценю её служителей. Без огульного обобщения, но в подавляющем большинстве.
* * *
Я не стараюсь преподнести глубинные азы ни в одном из искусств своим малышам или поставить им профессионально голоса. Мне не нужно специально ориентировать их на творческие профессии. Хотя, если они предпочтут таковые, не встану «на пути у высоких чувств». Я лишь пытаюсь привить им слух, вкус, научить отделять зёрна от плевел. Я, как умею, помогаю понимать, помогаю чувствовать, даю возможность трогать и экспериментировать.
* * *
Нижний Тагил не был добр ко мне с первой ночи знакомства, когда нас полупьяных высыпали на плац перед зияющими дырами полукруглых окон казарм. Скоро, через день — два, кончилось всё, чем можно было дымить. Восемьдесят голодных духов жадно втягивали ноздрями дым сигареты сержанта:
— Кто играет на гитаре? — старослужащий был мелким на рост, но крупным бычью. Он только что снял с кого-то новые сапоги. Свою рухлядь приспособил взамен. Мы смотрели на него, как овцы на мясника. И тут меня кто-то сдал: «Он играет».
— Что играешь? — поинтересовался сержант.
Я перечислил.
— Научишь? — он хлопнул меня по плечу.
Ему никак не удавалось поймать ритм этого пресловутого боя правой руки. Я показал ему всё медленно, быстро, фрагментами и целиком. Он злился, я трепетал. Он пробовал ещё. Гитара звенела убитой медью и треснутой декой. Я злился.
«Ты что, тупой?» Всё на квинтах, раз, два, три. Ещё пробуй. Грани стёрлись: дух, старый — какая разница. «Ладно, — наконец спохватился сержант, — завтра продолжим. Я без тебя прорепетирую. Возьми сигарет. Спасибо».
Так у меня в неведомом Тагиле появился сильный покровитель, почти бог, который всегда благодарит десятком папирос. Мы их курили по очереди, как травку, человек по шесть — десять. И в тот момент мой навык игры на инструменте был самым важным, который можно было иметь для благополучия.
* * *
Хочу ли я снабдить детей всеми возможными апгрейдами для жизнестойкости? Теперь, когда я увидел эту мысль на листе, склоняюсь к позитивному ответу. Но специального прицела нет — сынок, дочки, учитесь, пригодится. Нет. Моя позиция шире утилитарного и пошлого «полезно».
* * *
— Папа, можно я запишусь на музыку? — голос дочери, преломлённый через соты, отягощённый шумом школьной рекреации.
— Да, конечно. Запишись.
Для ребёнка существенно важно решить этот вопрос именно сейчас. По телефону. На пике эмоционального порыва. Она прибила меня этим вопросом, не подозревая этого.
— Слышишь, дочка, запишись!
Четверо грузчиков тянут старую «Пензу» на седьмой этаж. Уже почти ночь. Соседи ликуют — первый клавишный инструмент в подъезде. Это так интригует.
Дети не могут дождаться, пока мы вытрем пыль. Бряцают в шесть рук. Мне тоже хочется понажимать, но места просто нет. Так и стоял с тряпкой в руках. Ждал.
* * *
Я не пытаюсь разрешать детям всё. Запрещаю, к примеру, бить по клавишам, проходя мимо инструмента.
— Сынок, ты должен уважать то, что делают твои пальцы! Подкати к пианино стул, сядь, локотки в стороны. И играй. В противном случае закрой крышку.
Дети свободно распоряжаются папиными гитарами — пробуют бренчать и на шести, и на двенадцати струнах. Иногда я кого-то из них усаживал на колено, и мы били по струнам двумя правыми руками. Получалось интересно. Тем более что вещный опыт, опыт прикосновения — важная составляющая глобального опыта.
Теперь мы восстановили нашу старую балалайку. Мастер заклеил треснувшую деку, мы расписали инструмент заново — нарисовали Бременских музыкантов, Фунтика, героев мультфильма «Контакт» с этой божественной мелодией, которая очень нравится моим детям. Покрыли балалайку лаком. Теперь у малышей есть инструмент, который легко держать по-взрослому. Пусть, играя, учатся зажимать струны левой рукой, как мама с папой.
* * *
У наших детей есть своё пространство — комната, большой стол для рисования с тремя обособленными рабочими местами, свои ящики в этом столе, свои стулья на колёсах, свои детские компакт-диски для прослушивания в машине, свои кассеты и диски с мультиками. Мы с мамой втискиваемся в оставшееся пространство с большой скромностью и тактом.
Я всегда стараюсь узнать мнение детей: ставить ли детский диск в машине или можно послушать папину взрослую музыку. Радио. Единственное условие — дети должны договориться между собой. Бывает, что мы поём хором, когда надоедает слушать. Едем и поём.
По утрам мы спешим в школу в центре города, и гимн в исполнении Носкова на одной из радиостанций стал для нас некой точкой измерения времени. Вчера нас гимн застал у «Инвертора», сегодня — у больницы Пирогова, а позавчера в восемь утра мы только вели младших в сад и едва успели в школу. Ребёнок может сориентироваться во времени. Сопоставить время и расстояние, вчера и сегодня. Неожиданно дочь попросила поставить гимн России после школы. Я намотал на ус просьбу и записал ей целый диск с гимнами. Носков, Долина, Лещенко, хор мальчиков-девочек… Не предполагал, что получится так уместно. Слова одни и те же, мелодия одна, а гимны разные. Звучат по-разному. Поговорили с детьми на эту тему.
Позже ребёнок заинтересовался разными направлениями музыки. Что такое «попса» и «рок»? Почему папа не воспринимает «попсу»? Мы стали вслушиваться в слова. Вместе. Мне удалось обозначить тему глагольных рифм — качественной и некачественной рифмы, тему образов, сравнений и аллегорий. Через музыку мы вышли на азы стихосложения, причём по инициативе ребёнка.
Я не хочу вырастить неформалов с грязными волосами и цепями, не желаю видеть одуванчиков — правильных и пригожих. Но рассказать о многом, о большем — мой долг.
* * *
Дети любят устраивать концерты для родителей. По-серьёзному долго репетируют. Это нечто на стыке театра, концерта и балагана — очень забавно. Главное — не забывать хлопать в ладоши и поощрять.
Мы пытаемся бывать на концертах. Слышать живой звук. Не знаю, отложится ли это у моих детей, как у меня: я всю жизнь помню концерт Рихтера, дрезденского квартета, питерских скрипок. Думаю, что понять или полюбить классику, слушая её на магнитофоне, бесполезно. Я могу включить любимого Рахманинова, но это не принесёт никакого эффекта.
Проверено и другое — жалкая попытка Диснея облачить классическую музыку в современную огранку. Ни диск «Фантазия», ни «Создай мою музыку» в нашей семье не пошли. Детям не интересно смотреть на рисованные кривлянья Мауса под музыку Баха.
А вот, не ожидал, балет «Щелкунчик» на новогодние праздники с антрепризой Деда Мороза — «от» и «до», на одном дыхании. Младшая дочь сидела на моих коленях, чтобы видеть сцену, и я чувствовал, как она содрогается в кульминационных моментах.
* * *
Не знаю, что будет завтра. Какие новые моменты и нюансы откроются. Родители растут вместе с детьми. Что придёт ещё в наши головы, неизвестно. Но одно ясно точно: мы будем слушать музыку…
Три пятьдесят
— Очередной читатель! — радостно заявил Хрост, возглавлявший отдел информации в моей газете. Сергей Саныч Хрост был маленького роста, когда-то давно служил на военном корабле, затем попал под трамвай и лишился одной ноги. Вследствие этого трагического события он сменил род деятельности и заделался журналистом. Его коньком стали ироничные тексты в рубрике «Уголок зануды». Он был хорошим человеком, и с ним всегда было интересно раздавить литр-другой, а на следующий день испытывать похожие впечатления за столиком в кафе неподалёку.
— Читатель пришёл! — повторил Сергей Саныч, будто я не слышал. — Уделишь время?
— Пусть проходит… — кисло ответил я, предвкушая очередные неприятные разборки.
В дверях появился высокий человек с белой головой. Было что-то благородное в его облике и костюме. Мне хватило доли секунды, чтобы разглядеть, как нервно трясутся кисти его рук. В последнем номере мы давали разгон продавцам, которые не успевают продать молоко свежим. «Молочник, не иначе», — подумал я. В одной руке посетитель держал весьма потрёпанную газету — наш предыдущий номер.
— Присаживайтесь! — я встал и пододвинул посетителю стул.
— Я не собираюсь… — вздрогнул незнакомец и нахмурился.
— Лариса, — перебиваю посетителя, — сделайте нам, пожалуйста, две чашечки кофе! Вы пьёте кофе, сударь?
— В вашей газетёночке, — пропустив мой вопрос мимо ушей, приступил к делу читатель, — вот здесь, на третьей странице, написано, что молоко нашего завода кислое.
— Уважаемый! Начнём с того, что у меня не «газетёночка». У меня газетище! — делаю вид, что очень оскорбился на такое пренебрежительное отношение к изданию. — Я же не назвал ваше молоко молочьишком.
— Хорошо, — споткнувшись о мои умозаключения, продолжает посетитель. — Ваша газета написала…
— Если наша газета написала, значит, так оно и есть.
Входит «прелесть какая дурочка» Лариса. Она одновременно мать-одиночка и секретарь-самоучка. Но кофе готовит быстро, а об остальном я её никогда не спрашивал.
— Лара, где входящие и почта?
В целом мне плевать и на входящие, и на почту. Просто надо было показать посетителю, что у меня и без него куча дел. Лара прошелестела что-то в ответ, как всегда обнажив свои ряды зубов, и удалилась.
— Кадры, кадры, — тоскливо продолжил я, — как сложно теперь найти толкового секретаря…
— Да, — согласился собеседник, — Я тоже мучаюсь…
Тут я понял, что выиграл поединок. Даже как-то грустно стало: слишком легко получилось. Сломал дедушке хребет. Грелся дедушка, читая газету, грелся, разыскивая адрес редакции, грелся, пробираясь к нам, преодолевая дорожные заторы, грелся в приёмной, ожидая аудиенции, а теперь разом остыл. Не обвиняет он теперь газету, а сочувствует её руководителю. Ещё парочка минут, и будет дедушка окончательно мой.
— Так вот, сударь, — закрепляю успех, продолжая вести собеседника нужным руслом, — если моя газета написала, что молоко кислое, значит, так оно и есть. Моя газета никогда не врёт, знаете ли, не те нынче времена. А вот кто виноват в том, что сотни пенсионеров и простых тружеников покупают некачественный продукт, это совершенно интересный вопрос, о котором стоит поговорить подробнее. Я полагаю, что виноват спекулянт! Вы согласны со мной? Давайте называть вещи своими именами…
Я намеренно использую советские штампы и обороты в лексике — все, которые вспоминаю. Для моего собеседника это родной язык, то, что убаюкивает его внимание…
Через пять минут Лара приглашает ко мне рекламного редактора, и он предметно договаривается с посетителем о раскрутке продукции молочного завода. Дедушку переполняет чувство гордости: его поняли, поддержали и предоставили совершенно невообразимые рекламные скидки.
Рекламный редактор пришлёт завтра к дедушке в офис девочку из своего отдела, которая будет одета в брючный костюм вопреки молодёжной моде. Девочка очарует дедушку фразой, что покупает молоко только его фирмы, а также своей скромностью, заберёт несколько пачек банкнот и ещё полиэтиленовый пакетик с йогуртом лично для неё.
А сейчас я жму дедушкину руку, заглядывая в его глаза.
— Очень рад, очень… Как-то даже странно. Работаю уже три месяца в вашем городе, а до сих пор не имел счастья познакомиться, Иван Филиппович!
— Да? Вы не здешний? То-то я смотрю, не тот полёт. Масштаб больше!
— Да, пригласили, знаете ли, поднять вот этот проект газеты. Не справляются на местах. Теории не хватает с практикой.
— Вы москвич, наверное?
— В самом хорошем смысле слова. Нас часто недолюбливают за излишний гонор.
— Нет, вы не такой! Был очень рад, очень рад познакомиться! Жду завтра вашего представителя у себя.
— Непременно будет.
Рекламный директор тоже сияет от удовольствия. Тоже жмёт руку и провожает дедушку до двери.
— Ух, молодец, лихо ты его обработал.
Улыбка мгновенно покидает моё лицо.
— Я никого не обрабатывал. Вы! Вы подготовили рекламные листовки? Я вчера просил…
Директор начинает часто моргать своими синими глазами. Он недавно круто обломался с карьерой в Питере и вернулся назад участвовать в проекте новой городской газеты. Я периодически уничтожал в нём апломб второй столицы, чтобы не расслаблялся.
— Вы просили подготовить к пятнице вроде бы…
— К хренятнице, — шепчу ему на ухо, — подготовьте к хренятнице, пожалуйста. Кто ещё не знает, чем заняться, господа?
Редакционный творческий шумок затихает. Лишь слышен стук клавиш «целеронов» и хлопанье ресниц директора по рекламе.
* * *
Я знал, что нельзя привыкать к креслу. Оно в любой момент может оказаться пороховой бочкой. Лучше всего об этом не думать. Складывается так жизнь, и хрен с ней! Сидишь — сиди. Упал — не беда. Вставай, отряхивайся и иди снова.
* * *
У меня замечательный водитель. Это старый дед, который всю жизнь проработал рабочим на комбинате. Я к нему привязан, как к родному. Мне приятно, если он соглашается подняться ко мне на четвёртый этаж и отведать только что приготовленного борща. Ему нравится, как я готовлю. Секрет же моей кухни прост: я не жалею мяса.
Дед чаще всех получает зарплату, ибо никогда её не выпрашивает. Он мудр, но очень слаб сердцем. Мне стыдно, что я редко заезжал к нему в больницу, когда он лежал с инфарктом.
Я приучил его к баночному пиву и бросил, разорвав контракт с учредителем моей газеты. Бросил деда, укатив работать в Оренбург.
* * *
Нельзя привыкать к креслу. Секретарши, водители, прочая другая ерунда. Затягивает всё это и входит в область повседневного. Только сначала кажется, что ты кого-то поимел, навязал рекламу, убедил не обращаться в суд. Смотришь, а поимели-то тебя. И дело вовсе не в том, что твоя секретарша становится делопроизводителем с тройным окладом, а рекламный менеджер — директором Советского Союза. Дело в том, что ты становишься никем, морозишь ноги в ожидании рейсового автобуса где-то у чёрта на куличках. И в кармане твоего дорогого пальто…
* * *
В кармане моего пальто было только три с половиной рубля. Я стоял на остановке полтора часа, не решаясь залезть в автобус. В голове крутилось это унизительное:
— Господин кондуктор! У меня не хватает на проезд пятидесяти копеек. Можно я доеду до Степного посёлка за меньшую сумму?
— Нет, — отвечает кондуктор. — Дармоеды, много вас таких выродков.
Может, прямо здесь порезать себе вены? Все удивятся: умер в ожидании транспорта. Жизнь кончена, чёрт возьми! Вот она кара за все прегрешения!
Неожиданно улавливаю какое-то движение под скамейкой автобусной остановки. Тут же до носа добегает неприятный запах тления. Из-под скамейки вылезает нечто пьяное и вонючее:
— Мужик, дай рубль, на одеколон не хватает!
— Возьми три пятьдесят… — ссыпаю мелочь в грязную ладонь и иду прочь…
Я его съел
Женщина оказалась весьма бойкой. Она втиснула в купе свою необъятную сумку и, сообразив в тот же миг, что у неё верхняя плацкарта, обратилась к сидящему на нижней полке студенту:
— Так что, молодой человек, вопрос с обменом местами можно считать решённым?
Юноша развёл руками:
— Я вижу, сударыня, что выбирать мне не приходится.
Он повернулся к стене и вытащил из сетки свою зубную щётку и мыло. Попутчица была уже в годах, но её круглое лицо, кое-где тронутое морщинами, хранило в себе признаки былой красоты. Она прикрыла дверь купе и, глядя в зеркало, привычным жестом стала поправлять крашеные чёрные кудри:
— Боже, какой ужас! — трепетала она. — Вся причёска сбилась от этого дурацкого ветра.
Студент, уткнувшийся в это время в книгу с пёстрой обложкой, не обнаружил к погоде никакого интереса, и женщине пришлось искать другую тему.
— А вы, скорее всего, дальше меня едете? — вкрадчиво спросила она.
— Может, и дальше, — скучно ответил юноша.
Увидев, что последняя попытка разговорить угрюмого парнишку провалилась, женщина пошла на решительный шаг. Хищно вытянувшись, дама стремительно протянула руку:
— Марья Васильевна, — отчеканила она, произнося каждый звук по-учительски — внятно и громко.
Юноша прилетал и учтиво пожал предложенную ладонь.
— А я Дмитрий… — он смутился, потупил взор. — Просто Дмитрий.
— По делам едете? — настойчиво поинтересовалась попутчица.
— С сессии, — ответил студент и перелистнул страницу.
В дверь купе постучали:
— Простите, одиннадцатое…
— О! — перебила стоящую в проёме женщину Марья Васильевна. — Ещё один наш попутчик. Заходите, не стесняйтесь!
Незнакомка втащила сумку и с трудом опустила её в рундук. За нею вошёл мальчик лет десяти и окинул купе шаловливыми детскими глазами.
— Кто это у нас тут? — нараспев спросила Марья Васильевна, склонившись над пареньком.
Мальчик смутился от огромного количества ласки, которую тётя умудрилась вложить в отдельно взятый вопрос. Он боязливо прижался к маме.
— Ты что же, сынок? — спросила, улыбаясь, та. — Скажи-ка, как твоё имя?
— Женя, — пробубнил себе под нос мальчишка.
— А, Женечка! — воскликнула Марья Васильевна с такой радостью, будто она выиграла в лотерею автомобиль. — А маму твою как зовут?
— Аня, — с большей смелостью ответил Евгений.
Что-то зашипело под вагоном, поезд дёрнулся, перрон поплыл мимо засиженного мухами окна. Молодая мама взялась за пакеты, раскладывая на столе дорожную снедь, Марья Васильевна продолжала допрашивать ребёнка, студент листал книгу.
Дверь купе опять побеспокоили, но уже не робко, а по-хозяйски развязно. Она скрипнула и покорно откатилась влево. На пороге обозначилась фигура в проводницкой рубахе. Если бы эта вагонная братия соблюдала диету, то пассажирам можно было бы провозить более тридцати шести килограммов ручной клади. Теперь же проводнице пришлось боком протиснуться в дверной проём, и она сразу же заполнила собой купе:
— Билеты! — процедила железнодорожная дама сквозь зубы, приведя в движение свои подбородки…
Попутчицы быстро нашли общий язык. Анна была так мило глупа, что Марья Васильевна могла говорить что угодно, и всё это в равной степени воспринималось с восторгом. У молодой мамы была отрадная черта — она умела слушать. Марья Васильевна просветила новую подругу по текущим событиям в Кремле, заодно рассказала о кулинарных рецептах, объяснила, почему Россия многие годы не может выбраться из кризиса. Анна впитывала информацию и кивала. Евгений забрался на верхнюю полку и высунул голову в окно. Мама забыла о нём, и мальчишке было по-настоящему хорошо. Дмитрий радовался тоже, потому что его оставили в покое и он мог вполне уйти в цветной книжный мир.
Темнело. Поезд делал небольшую передышку у маленькой станции, сохранившей колорит прошлого века. Женщины третий раз ужинали, громко звеня плошками и чашками. Женя пытался очистить апельсин, распространяя по купе аромат благородного фрукта. Марья Васильевна кромсала мягкий от жары сыр и рассказывала о своих заграничных поездках. Впрочем, любой другой человек, кроме Анны, мог бы поднять её на смех: судя по её рассказам, говорливая дама вряд ли когда-либо выезжала дальше Украины или Казахстана. Однако молодая женщина слушала всё с тем же покорным вниманием и трепетом.
Студент отложил книгу и уставился в окно. По перрону гордо вышагивал дембель в парадной форме. Погоны его были обшиты белой ниткой, на груди болтался неуставной аксельбант, китель звенел кучей пёстрых значков. Хотелось крикнуть ему вслед что-нибудь едкое, спросить, из каких войск выпускают в таких петушиных нарядах. Дмитрий захлебнулся в собственных чувствах и вспомнил свой ДМБ. Тогда поезд увозил его от проблем, но привёз в ещё более сложную жизнь.
Снизу дополз запах сыра Марьи Васильевны. Она продолжала трапезу, умудряясь при этом рассказывать об индийской моде и качестве тамошних тканей. Дмитрию вспомнился первый месяц службы. Две недели подряд солдат пичкали тухлой капустой. Женщина в «афганке» на глазах у всего строя кормила своего пуделя пончиками в сахарной пудре. Прапорщица возглавляла кухню и часто не могла сама осилить то, что привозила себе к чаю. Восемьдесят новобранцев в унисон чавканью собаки глотали слюни. Восемьдесят человек желали стать этой белой породистой дворняжкой. Восемьдесят человек ждали, когда им позволят стать людьми…
Из окна пахнуло ночной прохладой, поезд летел, будто освежившись после жаркого дня. Марья Васильевна, удовлетворённая беседой и быстро пролетевшими часами, спала. Анне снились Китай и Индия, куда она определённо решила съездить с мужем следующим летом. Евгений зарылся в куцую подушку и тоже грезил — о своих взрослых временах.
Дмитрий бесшумно рухнул вниз и вцепился в оставленный на столе сыр. Он тихо рычал, глотая его вместе с обёрткой, давился, а по подбородку текла жадная слюна…
Хочется света, но нет его вовсе
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли…
Откровение Иоанна Богослова. (20; 7)Тёмный грот. Я иду по влажным камням в надежде найти выход. Но сбитые в кровь ноги перестают слушаться, а скользкая плесень на булыжниках не способствует быстрому ходу. Неожиданно жалкий свет моего факела вырывает из серой стены какую-то надпись. Напрягаю уставшие глаза. Полустёртые буквы сливаются в слово «понедельник».
Вижу: юноша в костюме за тысячу баксов с ценником вместо медали тащит за волосы слепую старуху. Впрочем, та тоже не промах. Плюётся с чувством в разные стороны, надеясь попасть на столь аккуратный костюмчик. Сотовое сердце юнца не терпит обиды. Он не хочет залезть в автобус последним.
Вижу свой дом. У калитки злой пёс по кличке Пеня подавился моим пустым портмоне и ищет услады для бурно текущей из пасти слюны.
За поворотом вторник. Факел изрядно потрёпан, но продолжает коптить, освещая дорогу. Выхода по-прежнему нет из тёмного грота, и не видно даже намёка на оный.
Девочка лет восьми тычет палкой в раздавленный белым «Пежо» труп несчастной синицы. Смех разносит по улице её маленький ротик.
Дальше среда, но силы уже на исходе. Вижу на площади шоу и сотни различных плакатов.
Здесь же от голода умер старый Учитель, и оказался он втоптанным в белые плиты. С ним и погибла великая тайна науки. Но никто не заметил, все ждали шамана и бубен. Ритм — это жизнь, и неважно, откуда он льётся.
Вот и четверг, по-прежнему чёрные стены вокруг. Хочется света, но нет его вовсе. Мир исчерпал батарею на этот момент. Хочется быть оптимистом в свои небольшие годы, но кажется это самым наивным и сложным.
Где же ты, птица, что в сердце вонзаешь надежду? Может, тебя подкупили те кони, что держатся стаей? Их не прельщает убогость и серость темницы. Им безразлично, что место их в стойле. Все повылазили в хаосе этом из дырок. Это хозяева мрака, их тени повсюду. Вот они шествуют важно к священному месту. Путь их отмечен смердящею лентой лепёшек. Боязно встретиться с сим табуном на тёмной дороге. Меры их коротки, зубы остры, а копыта вмиг превращаются в когти при встрече с добычей.
В пятницу понял, что выход всегда существует. Вера людская спасала веками народы. Чувствую, гаснет мой факел и мрак наступает с львиным оскалом. Ноги работать совсем отказались, ползу. Запах кадила доносится с каждой секундой яснее. Вижу священника с очень недоброй улыбкой.
— Что тебе, сын? — вопрошает он, нагибаясь.
— Веры, отец! Мой факел погас, я погибну!
— Веры? Прости, я с детства был атеистом.
Р.S. «И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах сообразно делам своим»…
Я вернусь…
Электронное табло часов показывает полночь. Плащ, изрядно вымокший, прилипает к пустому желудку. Дорога к дому, тебя там ждут: «Мам! Я хочу есть и спать». Тарелка горячего супа, в которой отражается люстра. Веки отяжелели.
Сон поможет мне встать завтра на ноги и уйти. Уйти в день: «Моя дорога ведёт к Солнцу!» Я путник…
Мама, корвалол стал твоим повседневным блюдом. Твой сын идёт к свету, прости, если сможешь. Он забыл, когда последний раз помогал тебе. Приходя домой, разувался в зале, чтобы не шлёпать по коридору босиком. Он не помнит, когда последний раз заглядывал в учебники. Зачем?
— Мама! Я ищу себя.
Слёзы скоро проделают бороздки на твоих щеках. Дождь разбил сердце. Знай, сын ищет свой путь. Он вернётся с запахом ночи и на все твои вопросы будет отвечать односложными предложениями. Не ругай его. Он создан Богом. Он не от мира сего. Он ищет себя… Сон поставит его на ноги, чтобы завтра он продолжил путь. Сын живёт так, а твоя участь…
Я врал тебе. Помнишь, сказал, что в кино задержался? Нет! Я лгал. А синяк под глазом — это не комары покусали. Если бы ты знала всё… Мама! Ты всегда думаешь о сыне лучше, чем он есть на самом деле. Я… чадо.
Вернусь сегодня позже обычного. Приготовься…
В моей лестнице не хватает всего лишь ступеньки, чтобы доползти до Солнца, но я добьюсь своего.
Не плачь. Я вернусь.
Хроника пикирующего времени
Вместо автобиографии
— Ты у меня кто? — в гневе вопрошал отец, перекладывая ремень в другую руку.
Я знал, что не узнаю свой голос, если попытаюсь сказать это сокровенное слово «мужик».
Девяностый
— Ты в группе риска, — говорил капитан, тыкая в меня, рядового, пальцем. — Ты, как он, так же будешь валяться в своей прихожей с дырявой головой. Нельзя давать волю эмоциям, солдат!
Впрочем, офицера интересовало другое. Он нервно смотрел на часы, уже практически поедая тот плов, который утром пообещала ему жена.
Два часа назад вернувшийся из школы четырнадцатилетний ребёнок увидел в коридоре лежащего на полу отца. Подумав, что последний опять перебрал лишнего, шкет повесил на привычный гвоздик ключи и включил свет.
В два ноль пять мальчишка уже бежал по центральной улице, и в глазах его не было ни капли рассудка.
Полтора часа назад несколько человек в форме аккуратно поднимались по лестничным пролётам, изучая красные отпечатки детских ног на пыльных ступенях.
Скоро приедет эксперт и брезгливо будет вертеть тело, описывая важные, по его мнению, моменты и нюансы.
— Смотри, смотри, — скажет мне плотно пообедавший капитан, — это тебя научит понимать, что такое жизнь.
Восемьдесят девятый
Заместитель редактора газеты «Новое поколение» Александр Иванович Аверьянов традиционно попросил «двадцать два слова по газете». Я заранее спрятал глаза, и уши мои налились свинцом.
— Как обычно, Денис Евгеньевич занимается ерундой. Я более не намерен… Что это за тема?.. Нужно больше. Как это понимать? — увлекается замредактора оценкой моего творчества.
Полчаса спустя лучший друг, фотокорреспондент Олег Рукавицын, успокаивая, произносит до боли знакомое:
— Ну ты кто, Ден?
— Я мужик, — говорю, и что-то внутри крепнет.
Девяносто восьмой
— Нет, журналистика тебе очень быстро надоест, — убеждала мама, разглядывая мои рисунки в только что вышедшей книге уже известного нам Александра Ивановича, в прошлом замредактора «Нового поколения», а ныне редактора газеты «Оренбургская неделя». — У тебя другой путь. Когда ты в последний раз брал в руки кисточку? Забыл? Да! Забыл! Живопись, понимаешь, это вечное. Ты ведь с таким удовольствием бегал в художку. Вспомни. С этой журналистикой ты деградируешь, превращаешься в загнанную собаку. А живопись… И дедушке было бы приятно видеть, что его дело подхватил внук. Ещё плова?
— Нет, хватит. Ты случайно не помнишь, куда я дел свой диктофон?
Девяносто девятый
— По итогам года лучшим в области стал фотокорреспондент областной газеты «Оренбуржье» Денис Рябцев…
Я не чую ног. Надо встать и получить грамоту. Краснею и заставляю себя пробираться через ряд кресел, но двигаюсь скорее рефлекторно.
Подарили цветок гвоздики, конверт с деньгами. Возвращаюсь на своё место и жду оклика, что подразумевался другой Денис Рябцев, а не я.
Девяносто третий
— Ты что, — почти кипел Виктор Дрындин, к тому моменту будучи отчисленным из-за русского языка. — Уральская школа журналистики самая классная. Москве и не снилось. А твоё «Новое поколение» только радо будет. Поступишь, и тебя сразу переведут на полную ставку.
Ещё два года назад я называл Витьку на «вы». Его мнение, редактора областной газеты для подростков, было чем-то значимым и весомым.
— Чёрт с тобой, Дрындин, — сказал я, окончательно определив для себя план на оставшуюся жизнь. — Свердловск, так Свердловск.
Две тысячи второй
Москва. Пробка. Корю себя за то, что не пошёл до метро пешком. Каждая минута опоздания на работу будет стоить мне десяти рублей. Рядом дама в стареньком лисьем полушубке. Троллейбус трясёт, и она то и дело прикасается ко мне плечом. На моём чёрном пальто остаётся куча рыжих волос, вылезших из её дохи. Ругаюсь про себя. В метро выясняется, что месяц закончился и надо продлить проездную карточку. Очередь к кассе невообразимо длинна. Все так же, как и я, спешат. «Курская», бегу, путаясь в полах пальто. За две минуты пробегаю пятьсот метров от метро до работы. Так в Москве спешат на работу редакторы цветных журналов…
Восемьдесят первый
— Что? — кипела Петрова. — Времени нет выучить Present? До каких пор ты будешь оставаться шалопаем? Значит, писать стишки в газету время есть, а учиться нет? Вон отсюда!
Француженка вытянула тонкий палец в сторону двери. Как и большинство учителей, она любила меня, но это не мешало ей каждый урок устраивать мне переменки. В коридоре натыкаюсь на классную даму.
— Опять? — спрашивает она въедчиво. — Интересно, за что на этот раз?
— За стихотворение в «Пионерской правде», — не краснея отвечаю я.
Девяносто седьмой
— Теперь я выскажу «двадцать два слова по газете», — повторяю слова Александра Ивановича, которого по праву считаю своим учителем. Первая моя летучка в должности ответственного секретаря газеты «Новое поколение».
Вижу, что старые коллеги притихли. После моей краткой речи одна из недовольных назначением корреспонденток пишет заявление об уходе по собственному желанию.
— А я с тобой, — поддерживает меня Рукавицын.
Девяносто первый
«Сжигая мосты за собой», — напеваю себе под нос.
Подходит сержант. С нескрываемым любопытством оглядывает меня с ног до головы. Он ещё не знает, что я дембель, но что-то подсказывает ему: «Веди себя осторожно». Не знает он также, что неделю назад, когда я отгладил уже «гражданку» на ДМБ, следователь случайно прочитал лежавший в моей тумбочке рассказ о прокурорской службе и тут же решил вместо дома отправить неблагодарного солдата в полк.
— Кто ты? — спрашивает сержант.
— Тебе по уставу или как придётся? — отвечаю вопросом на вопрос.
Тяну время, давая ему как следует заглянуть мне в глаза, и сквозь зубы, небрежно кидаю:
— Я русский солдат.
Две тысячи второй
— Я в столице. Давай встретимся на «Измайловской» через час.
Павел Борисович появляется в метро, а я никак не могу поверить, что вижу его здесь, в Москве. Обнимаемся, как братья, искренне, разглядываем друг друга. Едем на Арбат покупать сыну Павла майку с Гарри Поттером. Располагаемся в небольшом китайском ресторанчике на старом Арбате. Выясняется, что в наличии есть только саке с названием «Гжелка».
Смеёмся над официанткой с китайским именем Катя.
Я неуклюже пытаюсь овладеть палочками, но закинуть кусочки мяса со сливой себе в рот никак не получается. Прошу принести вилку и нож. Именно в этом ресторанчике как-то запросто принимается решение согласиться на предложение Павла и поехать работать в Магнитогорск главным редактором газеты «Диалог». До сих пор не знаю, почему предпочёл Магнитогорск Москве. Главное — пока не жалею.
Девяносто десятый
В храме людно. Стою я со строительной каской в руках. Рядом я номер два, но уже с мастихином, следом третий я с балалайкой. До горизонта фигуры, до края земного. И бегу энный я вдоль этого ряда, не помня, где же я настоящий.
— Грешил? — спрашивает Он, заглядывая в душу.
— Каюсь, — отвечаю, кивая.




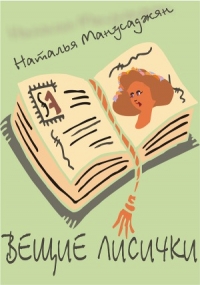



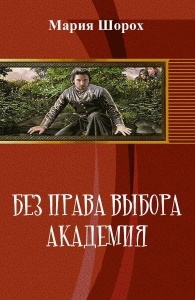

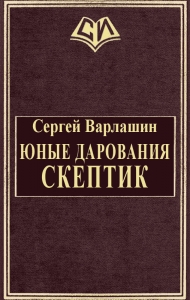


![Пробирка номер восемь [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/613930/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «В сторону света», Денис Рябцев
Всего 0 комментариев