Фараоново племя Ника Батхен
Рассказы и сказки
Благодарность за книгу
Благодарю за «Фараоново племя»
Вадима Нестерова — за проект «Сбор-ник»
Анну Бурденко — за идею выпуска электронной книги, веру в проект и всевозможную поддержку.
Мишу Нешера — за поддержку, страховку и вовремя протянутую руку помощи.
Далию Мееровну Трускиновскую — за поддержку, рекламу и дружеские советы.
Бет форевер — за самый крупный взнос, поддержку и понимание.
Грэй Ангела — за очень существенный взнос и интересное предложение.
Даркмейстера — за очень существенный взнос и помощь в последний момент.
Рузанну Ефимову — за очень существенный взнос и проявленное терпение.
ДаддиКэта — за очень существенный взнос.
Женю Баранову — за очень существенный взнос и неиссякаемый оптимизм.
ОКЗ — за очень существенный взнос.
Эоласа — за очень существенный взнос.
Лесю — за очень существенный взнос.
Куковлева — за очень существенный взнос и понимание.
И всех-всех-всех, кто помог этой книге стать явью!
От автора
Чтобы начать что-то делать, всегда важно понимать — зачем. Для кого строится дом и сажается дерево, играет музыка, выкладывается желтыми кирпичами удивительная дорога. Ради каких сокровищ сейчас приходится вкалывать до седьмого пота, портить лопатой руки, чувствовать спиной взгляды — не всегда восхищенные, будем честны…
Я пришла в проект «Сбор-ник», чтобы быть услышанной. Поделиться своими рассказами, наблюдениями, подсмотренными и подслушанными историями — даже самые фантастические из моих рассказов имеют под собой реальные сюжеты. Впрочем, вся моя жизнь — альбом фотографий, цветных и черно-белых, резких и мягких. Это короткая проза кадров, а не кинопленка романа.
Я сама влюблена в жанр рассказа. К сожалению, эта чудесная литературная форма, требующая особого писательского мастерства, не в чести у издателей. И мне хотелось бы поддержать этот жанр, не дать ему умереть. Роман — это медленное высвобождение одной истории, погружение в глубину. Сборник рассказов — это перебирание четок, в которых каждая бусина уникальна по цвету и форме. Это смягчение пресловутого клипового мышления, возврат к пространству текста, но не протяженного, а быстрого, ненавязчивого, как прогулка по городу с опытным экскурсоводом.
Мои рассказы, даже самые легкие с виду — гипертекст, кружево центона, в каждом спрятаны аллюзии и цитаты, исторические события и маршруты по городам и весям. Каждый рецепт можно приготовить, каждый путь повторить. Каждую тень прошлого — попытаться отыскать и понять, это не так сложно, как кажется. Ведь народ, который забыл о своем прошлом, рискует упустить будущее.
Я предлагаю вам путешествие тропами фараонова племени — хотите узнать, куда? Открывайте страницу!
Предисловие
…На перекрестьях странных путей ткань реальности хрупка и ветха, как цыганский платок. Можно пройти вдоль нитей, окунуться в пестрое кружево или провалиться в голодную тьму, там, где ещё недавно колыхалась надежная с виду тропа. Нет законов, нет правил, мертвые говорят с живыми, живые прощают мертвых, память строит песочные замки и рушит карточные дворцы. Фараоново племя бредет по чужим дорогам, узнавая родню по глазам, чувствуя по шагам. Им знакомы негромкие голоса и фигуры, не оставляющие теней, они делятся последним куском хлеба и бросают в пыль красное золото — на удачу. Узнай — может и ты сродни…
Фараоново племя
Антон Горянин был неудачливый человек. Точнее невезучий фотограф.
Ему пришлось стать фотографом когда отец безнадежно слег. Без выставок не вступишь в Союз Художников, а без корочки в кармане не удержишь за собой мастерскую. Антон жил на Зеленина, в бывшем доме герцога Лейхтенбергского, в огромной застекленной мансарде среди мольбертов, гипсовых бюстов и прочего хлама, оставшегося от отца и, скорее всего от деда. Оба писали вождей, заводские пейзажи и голых женщин в свободное время, оба были фанатиками искусства. У Антона же с красками с юности не срослось. Зато с первой же «мыльницы», сменянной за бутылку у пьянчужки пошли приличные кадры — оказалось, что у него к сорока годам прорезался верный глаз и то чувство композиции, которое сродни абсолютному слуху у музыкантов. Отец, уже лежа в диспансере на Березовой, успел порадоваться серии из двенадцати отражений — Антону захотелось снять город через мокрый асфальт, лужи и стекла витрин. Но на выставку — даже с поддержкой друзей отца, которой надо было пользоваться, пока держалась добрая память о старом Горянине, — не хватало.
«Мыльницу» на похоронах кто-то случайно спихнул со стола и раздавил по пьяни. Почесав в затылке, Антон выгреб заначку — он работал охранником в супермаркете, получая ровно столько, чтобы жить самому и подкидывать копеечку двум детишкам от двух давно уже бывших жен — и пошел в «комок» на Ветеранов. Там работал старый приятель по кое-каким делам, он уступил по дешевке капризный «Пентакс». Радостный Антон всюду таскал аппарат, осваивая работу с выдержкой, резкостью и глубиной кадра. На барахолке он купил учебник времен перестройки и в свободное время, ворча под нос, изучал тонкости ремесла. Потом камеру срезали в метро — ехал после работы, уснул от усталости, а когда услышал «Чкаловская», оказалось, что сумки нет. Сам дурак, что тут скажешь.
Месяц на крупах с чаем — и маленький «Кэнон», серебристый, приятно тяжелый поселился в пояснике. Он был маловат для больших рук Антона, но зато «стрелял» метко. Получалось играть со светом, щелкать лестничные проемы и спирали перил в те минуты, когда рассветное солнце пробивается из окон… но и это счастье оказалось недолгим. Съёмка на пляже у Петропавловки, пыль в объектив, попытка закрыть зум пальцами и прощай хрупкий механизм. Антон задумался, не запить ли с горя — он крепко завязал после второго развода, но сейчас ему было обидно. Вместо этого продал последний дедов фарфор и завел себе новенькую «зеркалку» в блестящей коробке, с гарантийным талоном и длиннющей инструкцией. Жизни шикарной технике было пять недель и три дня. Пришел на набережную поснимать чаек, перегнулся через парапет, рванул ветер — и горе-фотограф упустил камеру прямиком об гранит. Хоть плачь!
Подсчитав, сколько денег ухлопано за полгода, Антон было собрался завязать с фотографией, но пожив с пустыми руками пару недель, отчаянно заскучал. Как назло — то парили в апрельском, отмытом до ясной голубизны, небе, белые голуби, то на белой стене плясали силуэты играющих в мяч детей, то типичная питерская старуха, приподнимаясь на цыпочки развешивала бельё — огромные, колышущиеся под ветром простыни. Бродить по улицам становилось невыносимо, с тоски Антон решил освободить от хлама вторую комнатушку в мастерской. Теоретически её можно было бы сдать. Практически оправдались надежды — Антон смутно помнил, что отец как-то пробовал фотографировать, но забросил. А «Киев» не продал, хотя в своё время камера была роскошью.
Проявка пленки вручную и перевод кадра на мокрую бумагу оказались сродни детскому волшебству, когда из ничего вдруг создается чудо. Пару десятков самых удачных снимков Антон загнал в паспарту и развесил по стенам. Копии сложил в папку, отнес старым друзьям отца, его работу сдержанно похвалили. Со вступлением в Союз надо было поторопиться, из жилконторы уже приходили какие-то юркие типы с подозрительными глазами, тыкали пальцами в потеки на потолке и обещали признать мансарду аварийной. Немудрено — квартиры в старинном доме стоили бешеных денег.
«Киев» остался в речном трамвайчике. Заболтался с попутчиком, старым фотографом из Екатеринбурга — тот приехал повидать родню, а заодно поснимать мосты и каналы, вместе вышли, заглянули в кафе хлопнуть по маленькому двойному. После кофе Антон потянулся за сигаретами — и вспомнил, что оставил кофр на забрызганной скамейке. На отцовской камере его сорвало с резьбы — пил три дня, забил на работу, в клочки изорвал фотографии. Остановился неожиданно быстро — позвонил сын, напомнил, что в воскресенье он обещал поснимать их спектакль в школе. Дети в подвале играли в Шекспира…
На руках оставалось немного денег — немного, с учетом, что из супермаркета Антон вылетел и совершенно не представлял, как скоро отыщет новое место. Старый приятель мог бы уступить кое-что в кредит, но за этот кредит непременно пришлось бы расплачиваться ответной услугой, а год условно у него уже был. Оставалась Уделка и призрачная надежда на удачу. Антон завел будильник и выбрался на барахолку к восьми, чтобы успеть обойти перекупщиков, снимающих сливки с немудрящих товаров. К виду длинных, неопрятных, милосердно прикрытых утренним туманом рядов, он давно привык. Продавцы разложили свои сокровища на газетках, рогожах, заляпанном полиэтилене, а то и прямо на подсохшей майской грязи. Картины, корзины, картонка — настоящая шляпная картонка из тонкой фанеры с пожелтевшей этикеткой «Мадам Шапелъ», бронзовая дверная ручка, фарфоровая пастушка, старые ковбойские сапоги, чугунный утюжок, собачий ошейник с шипами. А вот и дядя Петя с волшебным столиком! Оглядев с десяток камер разной степени ветхости, Антон скис — все было или плохо или дорого или плохо и дорого одновременно. Он побрел вдоль рядов, вглядываясь в разношерстное барахло. Коллекция ржавых крестов, касок и прочих трофеев «черных копателей» вызвала отвращение — он не любил ни фашистов ни грабителей могил. Антон перешел в другой ряд, ближний к путям, дошел до последней кучки — жалких пуговиц, ниток и мотков шерсти, под присмотром дряблой старухи. Грязный чехол от «Зенита» лежал чуть поодаль, словно стесняясь соседства. Взглядом спросив разрешения, Антон взял его в руки и раскрыл. Там лежала видавшая виды камера, с исцарапанным зернисто-серым корпусом и округлыми формами. Надпись Leica серебрилась по верхней крышке, объектив выглядел пыльным но целым, затвор ходил мягко — хороший пленочный аппарат, даром, что очень старый. Сделав незаинтересованное лицо, Антон осведомился, сколько бабка желает за эту рухлядь, кое-как годную на запчасти. Ушлая старуха заверила, что эта прекрасная камера работает как швейцарские часы, сосед-покойник делал с ней выдающиеся портреты, а если всяким хочется рухляди, вон она, рухлядь со всех четырех сторон грудится, иди да выбирай, а честных людей не хули и от товара не отпугивай, ирод. Сошлись на полутора тысячах.
Дома Антон тщательно протер стекло, аккуратно заправил в камеру пленку и пару раз щелкнул классический натюрморт, сохранившийся на столе от вчерашней попойки — пустую бутылку, граненый стакан и селедочный хвост на газете, в пятне мягкого света, золотом столбе пыли. Его удивила покорность техники, словно бы он не нажимал на кнопку аппарата, а отдавал команды собаке. Впрочем, звезд с неба он не ожидал.
Школьный спектакль оказался жалкой подделкой под «Ромео и Джульетту» в постановке учительницы литературы, которой не давали покоя голливудские лавры. Долговязые десятиклассники в современных костюмах выдавали зубодробительные диалоги, младшие путались под ногами, изображая слуг и создавая фон. Его Пашка к вящей гордости матери был шестеркой у Монтекки и смешно затевал драку с бандитами Капулетти. На взгляд Антона пацан с годами все больше становился похож на прадеда. И играл неумело, но искренне. А вот света на съёмку могло и не хватить. И смотрелся он со своей пленочной дурой жалко, по сравнению с мощными цифровыми камерами у других папаш и мамаш. О чем не преминула сообщить Ленка — пять лет, как развелись, а она все не унималась. Ну да бог с ней. Антон хотел после спектакля отвести сына в кафе поесть мороженого, но перспектива провести лишний час со сварливой бабой его не устроила. Ограничился сторублевкой, тихонько сунутой в карман куртки, и дружеским хлопком по плечу — наш человек!
С пленкой он возился долго и тщательно — хотелось порадовать сына, а заодно доказать, что папка не лыком шит. Получилось неплохо — удачный кадр с дракой на сцене, четкие портреты, хороший финал, когда детки во главе с похожей на пожилую козу учительницей вышли кланяться. И последний кадр — неизвестно откуда взявшееся, обрамленное бахромчатым платком, морщинистое лицо старухи со скорбным взглядом продолговатых глаз. Антон слегка удивился, но решил, что случайно щелкнул портрет с декорации или школьной стены — больше неоткуда.
Неделю он не брался за камеру — подвернулась халтура сторожем на парковке и из неё надо было выжать все что возможно. Потом из Минска как снег на голову свалилась Хелли, старая боевая подруга тех славных времен, когда Антон звался Туаном и просиживал штаны на подоконниках странных кафе и ступенях не менее странных лестниц. Двое суток были вычеркнуты из числа ночей жизни, как сказала бы Шахерезада. Потом, осмелев, он уговорил Хелли сняться голой — если лицо выдавало в ней женщину, много и вкусно пожившую, то маленькая дерзкая грудь и плоский живот смотрелись не хуже чем у двадцатилетних. Вдохновленный, он ожидал чудес от фотографии — но оказалось, что женская красота в его исполнении обернулась банальными сиськами. Только один кадр лег хорошо — проступающий мягкий контур груди с девическим заостренным кончиком и похожей на мушку родинкой у ареолы. Никаких пятнышек на груди боевой подруги отродясь не было, и соски у неё оттопыривались как кнопки. На всякий случай он показал снимок Хелли — нет, грудь не её и она понятия не имеет, какая герла засветилась на фотке.
Интереса ради, Антон прошелся по городу, щелкая, что подвернется под руку. На пленке оказалось ещё два кадра, снятых не им — зимний пейзаж какого-то провинциального городишки и невеселая лошадь со звездочкой на лбу. Мистика какая-то — осталось только отыскать этой чертовщине разумное объяснение. Вдумчиво и обстоятельно Антон начал эксперименты. Для начала распечатал по нескольку кадров с трех пленок, добавил «лишние» и показал одному полузнакомому спившемуся репортеру. Тот безошибочно разделил карточки на две кучки, отметив чужие весомым «профи». У него же Антон одолжил «Зенит» и отснял кое-как три пленки — все в норме. А на «Лейке» — снова чужой кадр, заросший щетиной мужик в обнимку с толстым павлином. Неизвестные снимки с непредсказуемым сюжетом появлялись по одному-два на каждой пленке, вне зависимости от того, где и кого Антон снимал. Самое обидное — карточки были на порядок мощнее тех, что он делал сам. Не то чтобы Антон фотографировал плохо — нет, он знал, что результат есть и рост мастерства идет. Но его снимки по сравнению с чужими были все равно, что производственные зарисовки отца по сравнению с монументальными полотнами деда. Теперь Антон понял, почему заслуженный деятель искусств РСФСР Павел Антонович Горянин не любил народного художника Антона Павловича Горянина, в особенности когда их картины пытались сравнивать.
Антон задумался, можно ли заставить «Лейку» снимать самостоятельно — все бывшие у него цифровики работали с таймером. Но здесь фокус не прошел. А вот снимки чистой стены дали забавные результаты. Тридцать шесть кадров. Цыганская кибитка, рядом с которой детишки играют с белыми голубями. Табор во всей красе, свадебное застолье, накрытое прямо на земле, блюда с какой-то снедью, исходящей белесым паром. Совсем юная, застенчивая невеста в кружевном платье, подчеркивающем её смуглую кожу. Сидящий у тележного колеса бородатый старик с хитрющими глазами и большой трубкой в скрюченных пальцах. Мальчишки на лошадях резвятся в реке, контровой свет подчеркивает силуэты. И двенадцать кадров серии — остролицая, тонкая девочка-мать в египетском наряде — высоком венчике, прозрачной тунике с бусами и длинным поясом, и дитя — упитанный мальчик, то играющий на руках, то мирно спящий в корзине. «Младенец Моисей и принцесса, дочь фараона» — подумал Антон. Снимки притягивали взгляд неожиданной глубиной, темной горечью, статичные позы женщины копировали фигуры фресок. Это было искусство. Вот только чьё?
В задумчивости Антон распечатал снимки и отнес к старику Осиповцеву — художнику-портретисту, другу отца. Тот пришел в полный восторг, попросил оставить карточки, чтобы показать кое-кому. С замиранием сердца Антон ждал результатов. Ему уже пришло извещение, и вопрос с союзом художников следовало решать как можно скорее. Через неделю дребезжащий голос в трубке обрадовал Тошеньку, что первая выставка ему будет. В районном клубе, где детишки играют на фортепьяно и в шахматы, а их мамы учатся танцевать беллиданс и тверк. Мало, но лучше чем ничего. Добряк Осиповцев постарался, и на открытии была публика — человек десять. Одному из них, неприятно гибкому парню в чересчур обтягивающих штанах фотографии страшно понравились. Все ходил, прищурясь, разглядывал, потом представился Стасиком и попросил снимки в электронке. В компьютерах Антон разбирался плохо, поэтому после недолгих колебаний поехали к Стасику домой, сканировать фотографии. Новый знакомый оказался безобидным фотоманьяком — тем же вечером он похвастался своими карточками, отражающими его пристрастие к БДСМ, шибари и мужской натуре. Но в съёмке он понимал, и Антон заинтересовал его именно как фотограф.
На следующий день Стасик позвонил ему ближе к вечеру и застенчиво сказал, что отправил кое-что на конкурсы — показалось, что работы могут иметь успех. Дело не стоило внимания, но в конце июля ошарашенный Антон узнал, что, оказывается, взял гран-при сразу на двух. Лошадь со звездочкой выиграла на лондонском конкурсе живой природы, цыган с трубкой пришелся по вкусу мастерам жанровой фотографии. В общей сложности три с мелочью тысячи евро и предложение устроить выставку на Пушкинской. Таких денег у Антона не было никогда в жизни. Первое что он сделал — купил хороший велосипед Пашке. Потом вызвонил недовольную Милку, отвел в торговый центр, дал двадцать тысяч, сказал «Выбирай, что хочешь» и насладился выражением лица дочери. Отдал ей должное — девка сперва спросила «Па, откуда деньги» и только потом с писком бросилась тратить их на пеструю ерунду. Стасик получил бутылку отменного виски и новый кофр, хотя и отмахивался от подарков — ему был важен принцип. Себе Антон на пробу взял электронную «мыльничку», которая в тот же день отстегнулась от карабина и потерялась вместе с чехлом — похоже, никаким другим аппаратам у него не жилось.
Когда они со Стасиком отбирали снимки для выставки, Антону пришлось осознать весьма неприятную вещь — ни один из его собственных снимков в экспозицию не вошел. И даже особого внимания не привлек. Отражение девочки в витрине магазина игрушек и прыгающую через солнце собаку Стасик повертел в руках и отложил, остальное и рассматривать не стал. А вот над египетской серией долго ахал, спрашивал с завистью, откуда модель и концепция? Насупленный Антон кое-как отбрехался. Он старательно гнал от себя мысль, что продает не свою работу, убеждал себя, что иначе эти карточки бы не увидели свет, оправдывался суровой необходимостью и счастливыми глазами детей. Но отрыжка совести портила ему жизнь.
На выставке он держался мрачно и отчужденно. Стасик прыгал вокруг и отвечал на вопросы, изображая из себя пиар-менеджера восходящей звезды фотографии. Они обсудили этот вопрос утром — небольшой процент с гонораров и толика славы, ничего больше. Антон был даже рад — он чувствовал себя неуютно среди шикарных снобов и невыносимых зануд. Со следующего дня он обложился книгами по фотографии и начал зубрить матчасть. Учился искать сюжеты и темы, нарабатывал тот особенный, чуткий взгляд на вещи, который, по мнению авторов разнообразных талмудов, надлежало иметь любому фотографу. Вспоминал, что и как объяснял ученикам отец, и как натаскивал бородатых оболтусов и шустрых девиц грозный дед. Как отец жаловался на цензуру, не дающую воплотить лучшие замыслы, а дед зыркал на него из-под кустистых бровей и ворчал «А ты не халтурь! Взялся писать, так пиши от души».
Идею серии про питерского кота подсказала умница Милка — после неожиданного подарка, она стала относиться к папаше с толикой уважения. Нагруженный колбасой, штативом и длиннофокусным объективом, купленным на барахолке у дяди Пети, Антон неделю мотался следом за полосатым Матросом, некоронованным королем двора. Выслеживал его на подоконнике в рамке облезлой рамы, на широких ступенях с протоптанными ямками, лакающего под водосточной трубой свежую воду, спящего на капоте дряхлой «Победы», перед хорошей дракой, с дохлой крысой в зубах, и снова у лужи, в которой отражаются луна и силуэт крыши. Придирчивый Стасик покрутил длинным носом, потыкал пальцами, но признал «годно». И это «годно» для Антона было куда важнее третьей премии — серия «Принцесса Египта» вышла в лидеры Национальной фотографии, и дело пахло нешуточной славой. Стасик искренне удивлялся, почему Антон так равнодушен к популярности и деньгам, но списывал это на придурь творческой личности.
Новые кадры в «Лейке» продолжали появляться с той же периодичностью — один-два на пленку. В основном портреты цыган, детей и каких-то бродяг, изредка — небо с птицами и заснеженные пейзажи. Распечатывать их Антон перестал — складывал пленки в баночку и хранил до лучших времен. Его раздражало неброское совершенство чужих работ, для него все ещё недостижимое. Словно в пику этим работам, Антон перестал работать с людьми, впиваясь, как голодающий в хлеб, в отношения черных веток и белого неба, тонких трещин на штукатурке и грубого кирпича, перьев чайки и перистых облаков на гладком стекле воды. Он фотографировал как одержимый, забывая порой есть и спать, исхудав так, что одежда на нем висела. Он бился в соотношение света и тени, искал границы, карауля нужный луч у садовой решетки или блик на волне. Его мир сделался черно-белым и умещался в рамочке видоискателя, даже во сне Антон фотографировал — жадно, словно боясь не успеть. Суетливый Стасик звонил время от времени, рассказывал, что и куда ушло, благодарил — вслед за Антоном к нему повалили клиенты, уверенные, что с помощью такого крутого менеджера добьются успеха не хуже. Иногда приходилось встречаться, подписывать контракты — в американский журнал, в австрийский альбом, в наш «Национальный обозреватель» — там платили немного, но зато фотографии разошлись по стране. Вопрос с Союзом художников разрешился благоприятно, суд должен был быть к зиме, но у Антона оказались на руках нужные документы, и он надеялся, что мансарду получится отстоять.
Незнакомого кучерявого, седеющего уже мужика с золотой цепью на бычьей шее он нашел у дверей квартиры, когда вернулся с очередной охоты на закатные крыши.
— Ты снимал мою дочь? — без обиняков спросил незнакомец.
Антон покачал головой.
— Врешь, — мужик достал из-за пазухи мятый журнал и раскрыл его на обороте. — Вот моя дочь, вот твое лицо и твое имя. Откуда ты её знаешь?
— От верблюда. То есть от «Лейки», — огрызнулся Антон, мужик ему не понравился.
— Тише шути, да. И не таких шутников вертели, — рявкнул незнакомец. — По-хорошему объясни, а не базлай зря.
— По-плохому, дядя, я бы с тобой вообще не разговаривал, — Антон демонстративно ссутулился и подтянул к корпусу руки, готовясь в случае чего закатить гостю в челюсть. — Драться будем или сбавишь обороты?
В руке мужика тяжело сверкнул нож. Ладонь Антона скользнула под куртку — спортивный пистолет, который он по старой памяти таскал с собой, выглядел вполне настоящим. С минуту мужчины молчали скрестив взгляды. Антон сдался первым:
— У тебя дочка что ли пропала? Так бы сразу и сказал.
Мужик тряхнул головой:
— Нет. То есть да, пропадала, но вернулась давно уже. На твоей фотографии ей пятнадцать, а сейчас двадцать семь и последние десять лет она из дома дальше рынка не ходит.
— Так в чем беда? — удивился Антон.
— Она вышла замуж за моего друга. Потом ушла от него. Потом я узнал, что друга… умер он раньше времени. А пока жив был — сам фотками баловался. Я в Питер, понимаешь, по своим делам ездил, документы на дом выправлял, захотел газету взять в поезд, увидал в киоске журнал — а там моя Розка красуется. Ну я и узнал, что да где. Вот, приехал…
— Я твою Розу никогда не снимал. И с другом твоим, уж прости, не знаком. И откуда фотографии берутся — тоже не знаю, — Антон увидел, как лицо мужика свирепеет. — Сейчас все тебе покажу, только перо спрячь.
Мысль прибрать оружие оказалась на редкость здравой. Увидав «Лейку», мужик тотчас признал её и первым делом решил, что к Антону камера попала не просто так. Пришлось объяснять — где словом, а где и попридержать малеха. И даже после того как Антон сунул ему под нос пленки, мужик успокоился не сразу. Но присмирел в итоге, сел разглядывать фотографии:
— Это бабушка Земфира, гадала верно и лепешки пекла объеденье. Это Димитрий Вишня хороший цыган, богатый. Вот Патрина — до сих пор в теле, а тогда красивее в таборе не было, и я у неё на свадьбе плясал. Это Васька-Мато, глупый пьяница. А это я молодой, вот гляди! В чернокудром, худом, ослепительно улыбающемся парне лет двадцати с небольшим было сложно угадать нынешнего матерого мужика.
…Лекса-фотограф всегда был наособицу. Малышом переболел скарлатиной, с тех пор стал глуховат и не брался ни танцевать, ни петь, ни драться. Мальчишки его, бывало, шпыняли, мол, трус, а он молчал. В нем другая смелость сидела. Мы с ним и побратались, считай, когда Лекса меня от собаки спас, злющий пес прибежал в табор, думали бешеный. Я удрать не успел, мелкий был ещё, споткнулся о камень, упал — и реветь. Как сейчас помню — больно и не подняться. А Лекса выскочил с палкой и как огреет пса по хребтине — раз, другой, пока взрослые не подбежали. И мы с ним стали дружить. Он бродить любил — поднимется куда на холм или в лес уйдет по тропинке, потом встанет на ровном месте — смотри, брат Михай, красота-то какая. И в школу ходил своей охотой — нас было за партами не удержать, а это сидел, слушал, записывал все и такое спрашивал, что и учителя ответа не знали. И смотрел на всех — долго, пристально. Бабки-цыганки болтали, Лекса глазливый и глаз у него недобрый. Мать плакала — а ему ништо.
Камеру эту ему мой батя в тот же год на именины подарил, он её ещё с войны принес вместе с гармошкой и бритвами — как сейчас помню, острее ножей были, и ручки перламутром отделаны. И Лекса с подарком носился, как с писаной торбой. Наши-то никто не умели фоткать, так он в Токсово ездил, в ателье, там у одного днями толокся, бачки мыл и полы выметал, лишь бы чему научиться. Четыре класса окончил — стал в русскую школу ходить, сам своей охотой. Мать с дядьями его женить пробовали — ни в какую, уперся, мол девушек ему не надо. Ему девятнадцатый год пошел, когда он из табора уходить собрался в город, мол, учиться дальше хочу — в солдаты-то его из-за глухоты не взяли. Мне тогда шестнадцать стукнуло, Гиля моя старшего сына уже носила.
Я Лексу пробовал увещевать, что пропадет он без табора. А он мне начал сказки рассказывать — про цыганскую жену фараона, который за Моисеем через море бежал, как её волной смыло, и на дне морском она родила сына взамен первенца, что бог отнял. Вырос сын — парень как парень, только плавает ловко и ноги в чешуе, как у рыбы. Пришел к отцу-фараону, а там новая жена уже детей наплодила. А она ведьма была, взяла да и прокляла цыганского сына, чтоб ему всю жизнь по земле ходить и двух ночей на одном месте не спать. Египтяне все колдуны да ведьмы, даром что ли на них бог ящериц и мух посылал? Цыганский сын проснулся в фараоновом дворце, посмотрел на каменный потолок, взял коня из отцовой конюшни да и ушел кочевать. От него пошли все цыгане, поэтому и гадают так ловко и ворожат, что в предках у них египтяне. Я сперва не понял, к чему он клонит. Лекса говорит: что вот женюсь я, детей напложу, буду всю жизнь на стройках калымить или в мастерской возиться, вино пить, на свадьбах гулять, постарею и в землю лягу. А как передо мною море расступается — не увижу. И ничего после меня в таборе не останется. Я тогда молодой был, его не понял. А Лекса ушел в Питере жить, учился там, в ателье работал, потом в газете, в девяностые комнатушку себе раздобыл, мать раз-два в год навещал, и наших заодно фоткал. Бывало, приедет и день-деньской с этим самым аппаратом по табору скачет, словно мальчишка. Большие люди его звали свадьбы в церкви снимать, крещения, праздники — нет, не шел.
Много лет минуло, мои старики, дай им бог долгой памяти, умерли, я дом заново отстроил, машину купил, трех сыновей женил, дочь замуж выдал. У меня уже первые внуки народились. И младшая дочка, Роза, подросла, невестой сделалась. Хорошая была девка, своенравная, но хорошая, с города много носила, постирать-приготовить умела, танцевала как артистка. Любил я её крепко, потому и не торопил с замужеством. Как исполнилось ей пятнадцать, сговорил за Петю Волшанинова, племянника старого Волшанинова, того самого, у которого денег больше чем вшей на старухе. Уже и ресторан выбрали и платье купили. А тут возвращаюсь я домой из Токсово, иду по улице, а ко мне Гиля в слезах — убежала Роза. Я к девчонкам, её подружкам — не может быть, чтобы не проболталась. Оказалось, сманил её Раджа из городских. Парню двадцать второй год шел, он в Питере нехорошими делами промышлял. Заезжал к дружкам, увидал девку, наболтал ей красивых баек и сговорился украсть. Ну что — дело молодое. По доброй воле не видать бы ему моей дочери, а теперь ничего не попишешь. Хорошо Волшаниновы не особо потратились, повинился я, Петьке магнитофон подарил новый, и сел ждать, когда молодые к отцу на поклон придут. Неделю жду, месяц, три месяца — нету их.
Я в город смотался, спрашиваю — никто не знает, где Раджа. Говорят, наворотил дел, на дно лег. А про мою Розку — так и вовсе ни слова. Я по цыганской почте пустил, что девчонка пропала. Спустя месяц женщины сказали, что видел её кто-то на улице — одета как городская, в короткой юбке, с русским мужиком под руку. Я взбеленился тогда — думал, если загуляла, найду убью. Спросил, где её видели, поехал туда с сыновьями, стали по улицам ходить смотреть. И на третий день увидал — выходит Роза из магазина, на каблучках, с сумочкой, за ней мужик в костюме. Я его хвать за плечо, повернул — а это Лекса. Седой стал, хмурый, очки нацепил — не узнать. Розка моя стоит белее мела, только ресницы дрожат. Лекса смотрит на неё, на меня — и говорит: раз нашел, так прости нас, отец. Бах мне в ноги при всем честном народе. У меня сперва кровь взыграла, что старый ворон мой цветок уволок. А потом — выдохнул. Старый не молодой, крепче любить будет. И с дурными делами не повязан. И друг как-никак… Простил я их. Через неделю в таборе свадьбу сыграли. И тогда уже я неладное заподозрил — ни он ни она счастливы не были. Розка-то понятно, опозоренной замуж идти несладко. Так и Лекса сидел тихо, на невесту лишнего не смотрел, танцевать не плясал и пил мало. Ну да их дело. Через семь месяцев телеграмму прислали, что Розка первенца родила, Дуфуней назвали в честь деда. Ну, тэ дэл о Дэвэл э бахт. Съездил, подарочков внуку привез, складный пацанчик вышел. Комнатушка у них была в коммуналке на Лиговке, в высоком старинном доме, на последнем этаже. Большая пустая комната, шкаф, кровать, стол, фотографии по стенам. И все. Неуютно, холодно в доме — я Розке попенял, что мужа не обихаживает, она окрысилась. С год я у них не бывал — раз не зовут батьку, значит все ладно. Потом в декабре, под Новый год Розка с сыном вернулась. «Ушла я от него, отец, что хочешь делай — не вернусь». Я её спрашивал — может бил он тебя? Может деньгами попрекал? Розка то молчала, то плакала. Я подождал-подождал, потом к Лексе поехал — чем ему моя дочка не угодила? Поднялся в квартиру — а там все опечатано. Убили вашего Лексу, говорит соседка, как есть убили. Я вернулся, дочке сказал, что овдовела она, сделал вид, что разгневался за все и посадил дом вести, матери помогать, за сыном смотреть, за племянниками. Трепать не стал, а сам думал дурное — Розка девка горячая была, вся в меня, вдруг не поладили, вдруг зарезала она мужа.…
— А поговорить с дочкой ещё раз не пробовал? Говорят, помогает, — наконец перебил сбивчивый рассказ гостя Антон. — У меня своя дочка растет, я тебя… Михай, правильно? хорошо понимаю, Мало ли где оступилась, мало ли как дело было — своя кровь, спасать надо. Кто кроме родни поможет?
— Никто, — подтвердил Михай.
— Ты другое скажи — я ведь правильно понял, что у Лексы сын остался? Даня?
— Дуфуня — поправил Михай.
— И «Лейка» в смысле камера эта принадлежала Лексе? И фотографии, которые я показывал, делал он? — спросил Антон.
— Ну да.
— Тогда твой внук — наследник. Фотографии денег стоят и немалых. Я на них заработать успел — разобраться хотел, что да откуда, а оно завертелось. Тысяч пять…
— Не базлай из-за грошей, — Михай покачал головой.
— Пять тысяч евро — гроши? — удивился Антон.
Настала очередь Михая озадаченно хлопать глазами, он задумался, потом махнул рукой:
— Твои лавэ. Плюнь и забудь…
Сошлись на половине, плюс что все новые гонорары за работы Лексы переходят к его семье. По-хорошему надо был отдать и «Лейку», но когда Антон взял в руки камеру, его вдруг охватила беспричинная дикая ярость на врага, вора, хищника пробующего отнять достояние. Даже руки задрожали от злобы, пальцы сжались, целя вцепиться в подставленную шею и придушить на месте. Чуткий Михай это тотчас заметил, Антон отговорился нездоровьем, старой мигренью. Выставил гостя из дома под предлогом сходить в Сбербанк. Снял наличность, вручил, пообещал навестить, завезти фотографии, глянул вслед — как спокойно, тяжело ставя ноги, идет по улице грузный мужик. И вернулся домой, понимая, что, в общем легко отделался.
Если б скандал выплыл наружу — Антону бы до конца дней не видать ни публикаций, ни выставок. Плагиат серьёзное обвинение, тем паче, если не на пустом месте. Сколько себя ни оправдывай, правда-то вот она — на чужом добре поднялся Антон Горянин, знал бы дед-покойник — руки бы больше не подал. А все проклятая камера и чертов цыган, чтоб ему пусто… Вернуть все и забыть к такой-то матери, тоже мне сокровище драгоценное выискалось. Новое наживем, и не с такого дерьма начинали. Страшно захотелось выпить. Антон представил, как глоток ледяной водки обжигает язык и нёбо, наполняя рот сладкой слюной, как становится тепло на душе, и сплюнул. Один стаканчик, другой — и готов новый запой. А за ним ещё и ещё — не за тем переламывался, чтобы по новой себя в бутылку спускать. Раз сорвался и хватит.
Он выключил телефон и закрыл его в ящике стола, туда же от греха убрал «Лейку» собрал бэг, с ближайшей почты позвонил Хелли — и по трассе сорвался в Минск. Уже стоя на обочине шоссе подумал, что не выходил так в дорогу лет восемь, постарел видать, да не до конца. Октябрь оказался неожиданно добрым — мягкая ночь и пронизанный утренним светом лесок, блесткий иней на ещё зеленой траве, рыжих листьях, ослепительно красных ягодах. И с попутчиками везло — брали быстро, болтали мало, попсу не слушали и вопросов лишних не задавали. Дорога омолодила Антона, помогла отбросить ненужное, собраться с мыслями. Тот цыган здорово сказал — зачем жить, если ни разу не видел, как перед тобой расступается море? Полжизни он уже оттрубил, кабы не больше, дом отцовский за собой вроде бы удержал, сын растет, и даже яблони в свое время сажал у Ленки на даче. Долги, почитай, отданы, дела сделаны — а что дальше? Рассвет, белый пунктир шоссе и лес по обочинам — ничем не хуже наступающих волн. И пощёчина ускользающего момента в радужное стекло объектива. Да, пусть будет так. …Когда наступают тяжелые времена, мать Мария приходит ко мне, прошептать слова мудрости — пусть будет так.
Минск встретил Антона листопадами и дождями, чистенькими кафешками и желтыми огоньками добрых окон. По сравнению с Питером здесь всегда было спокойнее, проще, и в то же время особенная тоска звучала в воздухе — не туманная, невская, а пронзительная и светлая, как журавлиные клики. И названия мягким пухом ласкали слух — проспект Незалежности, Немига, Замковая улица, улица Короля. И у хлеба был другой вкус — пресный и нежный. Умница Хелли не лезла в душу — кормила его завтраками и ужинами, оставляла ключи, по ночам спала рядом, горячая и знакомая до последней морщинки на усталых щеках. Жаль, что не срослось в своё время, а сейчас уже поздно что-то менять… Недели хватило, Антон вернулся домой спокойным, на этот раз поездом — захотелось плацкартной тесноты, стука колес и пыльного чая в граненом стакане. В почтовом ящике дома ждали счета и рекламный мусор, звонить звонили дети, пять смсок от Стасика и никаких проблем.
Антон решил напечатать все снимки безвестного Лексы, сложить в альбом, и вместе с «Лейкой» вернуть в табор — пусть у цыган голова болит. Всего было около сотни кадров, считая те, которые он не распечатывал. Насчет самих пленок он долго думал, но в итоге решил оставить себе — на всякий случай. А заодно попробовать вытащить из фотоаппарата оставшиеся кадры — интересно же поглядеть, до каких высот добрался этот Лекса? Десятка катушек пленки должно хватить.
Как и в прошлый раз, Антон сел перед гладкой белой стеной и начал щелкать. Отсняв одну пленку, аккуратно вытаскивал её, прятал в коробочку, заправлял следующую и продолжал. Потом началась возня с проявкой, промывкой и просушкой, резко пахнущими растворителями и проточной чуть теплой водой. Пять пленок оказались потрачены зря — на них не было ничего, кроме белой стены. На шестой один-единственный кадр — искаженное в яростном крике лицо мужчины, пистолет в его руке и темная полоса пули, вылетевшей из ствола. На седьмой все тридцать шесть кадров занимала давешняя цыганка Роза, точней основным героем снимков был её живот — сперва нежно округлившийся, потом тугой, натянутый, со сгладившимся пупком и бугорками от пяток или локтей плода. Восьмую заполняли портреты младенца — от новорожденного, до годовалого. Мальчик спал, просыпался, сосал грудь, грыз яблоко, улыбался, рыдал, задумывался о чем-то своем. Антона поразило, как верно Лекса зафиксировал момент осмысления, появления разума на лице человеческого детеныша. Девятую пленку занимал жанр — цыганский табор промышляет у вокзала, лица прохожих, то ошарашенные, то гневные, черные волосы в белых снежинках, босые ноги в стылой каше, усталая старуха опирается о парапет, смотрит на гладкую воду канала. И последняя пленка оказалась довольно странной, фотограф снимал перекрестки — решетки, дороги, провода, троллейбусные рога. Он видимо находил что-то своё в этих соотношениях, но для Антона логика и художественная ценность кадров остались непонятны. Чуть подумав, вместо альбома он сложил фотографии в папки из-под фотобумаги — надо будет, пусть сами сортируют, как им нужно. В последний раз протер камеру, полюбовавшись округлыми формами, уложил в кофр, вздохнул — расставаться действительно будет жаль, но голодная ярость вроде ушла.
Ехать надо было в Пери, маленькую деревушку за Токсово. Антон поздно сообразил, что не знает ни адреса ни телефона Михая, но, подумав, решил, что наверняка в таборе укажут и дом и улицу. Ехать решил утром, чтобы к вечеру вернуться в город. Ночью спал плохо, одолевали кошмары, в которых приходилось то прятаться от фашистов с овчарками, то спать в стогу, в душном колючем сене, то идти босиком по снегу, то драться с хрипящим от ярости парнем, прижиматься лицом к его синтетической, скользкой от пота белой рубашке, больно царапать щеку о пуговицу, думать, что сейчас убьют — и все кончится. Поутру на город лег первый снег — цепочки черных следов покрывали узорами тонкое, тающее полотно асфальта. Антон не удержался — заправил пленку в «Лейку» и поработал сверху, снимая из распахнутого окна причудливые узоры человеческих троп. Потом оставил коробочку в ванной, запер двери, поехал на вокзал и вскоре уже сидел в неопрятной, полупустой электричке. Вагонные сквозняки пробирали до костей, проникали под тонкую куртку, студили ноги, словно Антон шел босиком по снегу.
Короткая поездка грозила обернуться большой простудой, и как на грех ни одно кафе на станции не работало. Когда Антон дошел до вороньей слободки, скученных разномастных домов и домишек, в которых обретался табор с чадами и домочадцами, его уже капитально знобило. Так что шумное гостеприимство цыган пришлось как нельзя кстати. Узнав, что чужак пришел в гости к старому Михаю, его довели до дверей приземистой старой избы и вручили с рук на руке хозяйке Гиле, о которой Антон уже был наслышан. Морщинистая, полнотелая, сияющая золотозубой улыбкой, разодетая в цветастое платье, пушистую кофту и вязаные «копытца» женщина выглядела такой славной, что рядом сразу становилось теплее. Ему тут же налили горячего, очень крепкого чая, предложили сластей и вареной картошки, так вкусно пахнущей маслом, чесноком и мятой зеленью, что Антон просто не смог отказаться. Пока он утолял голод, вокруг сновали любопытные дети — не меньше десятка бойких, пестро одетых пацанят и девчушек, показывались в дверях молодые цыганки в красных и розовых платьях, с лентами в волосах. Мужчин видно не было — «на работе», махнула рукой Гиля. «Ты поешь, отдохни, придет Михай».
Красавицу Розу Антон сперва не признал, а потом вздохнул про себя, что с людьми делает время. В тощей фигуре, иссохшем смуглом лице, кое-как прибранных, тронутых серебром волосах, не было ничего от прежней, застенчивой прелести девушки — только распахнутые глаза и упрямый, неулыбчивый рот. Когда Гиля подозвала её, Роза встала рядом с матерью, теребя тонкими пальцами концы платка. На вежливые вопросы отвечала односложно — да, нет, хорошо. Решив расшевелить эту куклу, Антон сперва достал деньги, триста долларов очередной премии. В глазах старой Гили блеснула радость — несмотря на ковры на полу и роскошную посуду в серванте, зажиточным дом не выглядел. Роза осталась безразличной. И на фотографии сперва глянула искоса, мазнула по карточкам быстрым взглядом и снова уперлась в стенку. Когда Гиля, поминутно ахая, стала разглядывать снимки и называть имена, вздрогнула. Вгляделась в лица, наклонилась к столу, взяла пачку карточек, раскидала как карты — и начала медленно рвать в клочки свои портреты, один за другим. Всплеснув руками, Гиля бросилась её оттаскивать, начался шумный переполох со слезами и криками. Потом Роза внезапно утихла, села, взглянула блестящими глазами на мать:
— Думаешь, я не знаю? Сколько лет вы с дадо гадали — убила я своего мужа? За что, почему убила?! А его пальцем не тронула. Ненавидела — да, зубы сводило, как ненавидела. И ты бы мама ненавидела и любая бы с ним на яд изошла. А слова поперек не скажешь — спас меня Лекса, и от смерти спас и от того, что хуже смерти. И сына своим назвал, и вы людям в глаза смотреть можете, что честь сберегли. А что у меня жизни нет, и не будет, то моё дело. Когда в мужья мне Петьку прыщавого засватали — я вам слова никому не сказала, что иду за сопливого пацана, на год меня моложе. Зато род хороший и денег у семьи вдоволь. Все замуж выходят и я не хуже других…
А потом Раджа пришел — и сказал, что я лучше других! Что я красавица небывалая и голос у меня звонкий и ноги быстрые и танцую я лучше всех девушек и любить буду жарче всех. Что такая должна одеваться модно и на машине ездить и детей любимому мужу рожать — мужу, не мальчишке негодному. Сказал — бежим со мной, все у тебя будет, а отцу потом в ноги кинемся, он простит. Он хорош был, Раджа, — высокий, сильный, глаза горят, губы сладкие, обнимет — косточки тают. Я и побежала. Он счастливый тогда был, всех друзей в ресторан позвал и цыган и гаджё своих, платье мне купил красивое, кольцо золотое. Два месяца мы с ним душа в душу жили, от счастья хмелели. В клубы, в рестораны ходили с его друзьями, я для них танцевала, все хлопали, красавицей звали. Наряды Раджа мне покупал, серьги принес с камнями. Любил сильно, работать не заставлял, гадать не велел. Я нарадоваться не могла — дома в строгости жила, а тут воля. Вот только к отцу Раджа все не ехал — то одно дело находилось, то другое. Я видела, он сердится, когда я спрашиваю, не торопила его. А потом вдруг Раджа посреди ночи примчался в квартиру, где мы жили, сказал, беда у него, гонятся, убить хотят. Как сейчас помню — я стою в рубашке, не знаю за что хвататься, а он вещи в сумку скидывает, меня неодетую вниз тащит, и мы с ним по улицам мчимся на его красной машине, только ветер свистит.
Приехали в незнакомый район, в высокий такой дом, там квартира большая, грязнющая. Народу полно, мужчины злые, женщины одеты как шалавы — юбки короткие, ноги наружу. Раджа вызвал хозяина — Памиром его звали, руки в наколках, смотрит из-под бровей так, что сердце в пятки проваливается. Говорит, так и так, брат, база нужна. Тот даже не посмотрел — кивнул на комнатушку — живите, мол. И стали мы жить, только плохо. Меня сразу по дому пошли гонять — там помой, то постирай, там сготовь. И орали, если что плохо делала. Мой Раджа злиться стал, денег нет — куда трачу, плачу — кончай скулить. Я молчала — бьёт, значит любит, муж он мне. Пожили так две недели, Раджа уходил днем, мне не велел отлучаться даже за едой, сидела как сова в клетке. А потом ушел — сказал, машину продавать — и не вернулся. Я два дня у себя сидела ревела. Потом Памир пришёл, улыбается, а у самого глаза злые. «Задолжал твой Раджа по-крупному важным людям, и мне тоже задолжал, а потом в бега пустился. Звонил мне, клялся вашим цыганским богом, что вернется, привезет лавэ. Так что я тебя, красавица, пока не гоню — живи. Говори, если что нужно, Памир поможет».
Я дернулась туда-сюда — а куда мне податься? К отцу без мужа вернуться — всю семью опозорить. И как Раджа меня найдет? Стала жить. Новые платья соседкам толкнула за гроши, чтобы было на что хлеба и чая купить, есть всё время хотела — нутро выворачивалось. Я же дура, не понимала, что понесла. День живу, два живу, пять, десять. Памир пришел — так и так, Раджа не возвращается, плати за него проценты. Я достала серьги, кольцо золотое, ещё цепочка у меня была — отдала ему, сколько было. Ещё неделя прошла — нет от мужа вестей. Снова Памир проклятый объявился. Запер дверь в комнату, встал и давай объяснять — что Раджи нет, а я ему жена. А раз жена — то буду долг отрабатывать, натурой. Сперва с ним, а потом работать пойду. Даром что ли Раджа такую красавицу в залог оставил? Я опешила «Как в залог»? Очень просто — вместо машины, на которой уехал деньги искать. Я на Памира посмотрела — а он толстый, поганый, прыщавая рожа лоснится и зубы гнилые — лучше сдохнуть, чем под такого лечь. Ну я и схитрила — сказала, что Памира всегда хотела, что он сильный и настоящий мужик, зачем ему меня другим отдавать, его, красивого, холить и любить буду. Поцеловала в вонючий рот, дала за грудь потискать, потом попросилась до ванной сбегать, чтобы принять его чистой. Взяла полотенце там, мыло, вышла за дверь — и бегом наружу. Там чердак был, я не вниз полезла а вверх, в щель забилась и сидела полночи, пока он со своими баро-дромэскиро во дворе и по улице меня искал.
На рассвете уже прокралась до первого этажа, выскочила из подъезда и давай дёру. Холодно было страсть, а я в домашнем, в тапочках на босу ногу. На помойке кофту нашла старую, завернулась в неё и пошла себе куда дэвлале-дад приведет. В первый раз в жизни я так богу молилась. Потом в голове встало— правду ведь говорил Памир, бросил меня Раджа на произвол судьбы, как чужую. Хоть в реке топись. Гляжу — выбрела к набережной. Иду дальше, замерзла уже совсем. И вдруг слышу «Здравствуй, Роза». Старый, тощий мужик меня зовет — стоит со штативом, что-то там щелкает. Я к нему — а это дядька Лекса, друг дадо, он к нам в дом приезжал. Подбежала я к нему, обняла за шею и давай плакать. Он меня в свою куртку закутал — и домой. Спрашивать ни о чем не стал, понял, что убежала. У него комнатушка одна была, он мне кровать уступил, сам на пол перебрался. Одежек кое-каких купил в сэконде, деньги стал на хозяйство давать. Об одном просил — чтобы я к его технике близко не подходила, не трогала ничего и его самого не отвлекала, когда работает. Я обжилась потихоньку — скучно, конечно, зато не обижает никто и дядька Лекса мне не чужой. Потихоньку он меня уговорил позировать — и одетой и неодетой. Я старалась, думала ему нравится. Плакала иногда, как Раджу вспоминала, как он меня любил, а потом вспоминала, как бросил — и уходили слезы.
Там и дадо нас отыскал. Я как увидела, что Лекса в ноги перед отцом валится, прямо в грязь, у меня сердце замерло. Решила, что полюбил меня старый, вправду решил жениться. На порченой, на непраздной — вот как любит. Мы вернулись, я ему, дура, все это и рассказала, благодарила ещё за любовь, обещала что стану хорошей женой, рассказала, что жду ребенка. Думала осчастливить — а он на меня смотрит этак с прищуром, как из-за своей камеры и спрашивает «Что за глупости тебе в голову взбрели, деточка? Живи у меня, сколько нужно, я тебя не гоню, но никаких ЗАГСов. А цыганская свадьба это видимость, фикция вроде моих фотографий». Засмеялся ещё — в первый раз видела, как он смеется. И так мне стыдно стало — умирать буду, не забуду. Ладно, сжала я зубы, замолчала. Ради ребенка, ради себя, ради чести. Свадьбу сыграли, зажили кое-как. Я старалась, думала стерпится-слюбится — видела же, что нравлюсь ему, что глаза у Лексы блестят, как на меня смотрит, и снимал он меня все время — прогулки забросил, только вокруг меня и ходил.
Пришло мое время, родила я Дуфуню, легко родила, бахт а девлалэ. Лекса чин-по-чину отвез меня в родильное, встретил на выписке, цветы принес, люльку сладил. Дуфунька плакал ночами много, я думала, Лекса сердиться будет, а ему ништо, он глуховат. Помогал мне с ребенком, будто вправду родной отец, купали его вместе, гуляли. Я ленты в косы вплетала, блузки вышитые носила, как девушка, надеялась — оттает Лекса, привыкнет ко мне — так-то он хороший муж был, незлой, не жадный. А он только щелкал своей клятой камерой, да печатал снимки. И не на меня уже смотрел — на Дуфуню, как тот спит, как играет, как на ножки встает. Со мной почитай и разговаривать перестал. Я не выдержала однажды — в постель к нему ночью залезла голой — ужели выгонит, жена ведь? Не взял. Сказал «никогда больше так не делай», поутру встал как ни в чем не бывало — и айда на улицу с камерой. Я молчала. Долго молчала, Дуфуньке уже второй год пошел. Он однажды бежал по комнате, бац и споткнулся. Растянулся на полу, руки-ноги ушиб, ревет. Я бегом поднимать — а Лекса стоит и щёлкает, то так зайдет, то этак. Думала, убью его, размахнулась ударить, а он меня перехватил и снова «никогда больше так не делай». И всё — как отрезало и благодарность мою и почтение к старшему. Что ж ты за мужик, если смотришь, как перед тобой дитя плачет?! Каюсь, я тогда прокляла его вместе с камерой, само с языка сорвалось. Помирились потом, но ненадолго.
Жили мы с Лексой наособицу от других, я не знала, что Раджа вернулся. Оказалось, он год сидел, потом лавэ собирал, с долгами считался, такими вещами промышлял, что и вслух не скажешь. А потом и обо мне вспомнил. Я тогда ещё хороша была, годы красоту не выпили. И он, видать, любил меня… или озлился, что его бабу чужой увел. Подкараулил на улице, когда я с Дуфунькой гуляла, на машине подъехал с цветами, нарядный в белом костюме. А я перед ним стою в своих тряпках заношенных не знаю, куда глаза девать. Он меня на руки подхватил, целует, у меня сердце бьётся, в глазах мутится от радости. И тут Дуфуня голос подал — не понравилось ему, видать, что мамку чужой тискает. Только хотела я порадовать Раджу, что уберегла его сына, как он цыкнул на маленького, а потом сказал — мне сказал! — что прижитого выблядка я могу хоть отцу возвращать, хоть своим, он, так и быть, простит, что не дождалась. У меня в голове и прояснилось моментом. Сказала я Радже, что у меня уже есть муж, тот кто меня по закону брал у отца, и моё дитя сыном зовет, и на гаджё, что из меня шалаву сделать хотели за чужие долги, не оставляет. Он взбеленился, орать стал как грешник на сковородке, обещал, что убьет и меня и Лексу и Дуфуню. Я послушала-послушала, плюнула ему под ноги, взяла Дуфуню и пошла себе в дом — хорошо у нас код на двери стоял.
Дома плакать легла. Дуфуня жалел меня, гладил по голове. Лекса вернулся — тоже ко мне, воды принес, спрашивает в чем дело. А я реву не унимаюсь. Пока слезы не кончились, убивалась, а как высохли глаза, встала и сказала — прости, Лекса, ухожу я с Дуфуней, не могу больше. Холодно мне в доме, говорю, Лекса, и с тобой холодно. Захоти он меня удержать, обними ласково — осталась бы. А он не стал. Зато собраться помог, спрашивал не проводить ли до Пери, благодарил долго, что терпела его капризы. Хотел лавэ дать — я не взяла. Ничего не взяла, кроме детских вещей, связала узел и уехала с Дуфуней домой. В тесноте да не в обиде, и Радже до меня не достать. Дадо потом сказал, что убили Лексу — а я по нем даже не плакала. Вспоминаю, как старик меня не взял, как смотрел сквозь меня — и яд к горлу. А убить его Раджа убил, больше некому.
— Этот? — у Антона в руках была карточка с кричащим мужчиной и пистолетом.
— Он! — выдохнула Роза.
— Он, паскудник! — плачущим голосом подтвердила Гиля. — Дуфуня в него пошел и лицом и статью, я-то все видела, но молчала. И ведь своими руками его, гицеля, тогда к Лексе отправила. Пришел, холера матери его в глотку, платком шелковым поклонился — где, мол, Гиля, дочка твоя живет, слово у меня для неё ласковое! Чтоб его на том платке и повесили, ирода!
— Может, и повесили, — сказала Роза и утерла лицо концом платка. — О Радже десять лет как никто ничего не слышал. И хорошо. А Дуфуня лицом в отца, а душа у него другая. Добрый он парень, смышленый, честный, мать любит. Дед ему новый телефон подарил с фотокамерой, бегает теперь фоткает всех. Показать?
Пожав плечами, Антон согласился посмотреть мутные фотки в заляпанном семейном альбоме. Самое удивительное, что нюх у мальчишки бесспорно был и выражения лиц он снимал беспощадно. Значит «Лейка» попадет в хорошие руки. Отдавать камеру женщинам Антон не стал — вытащил вместе с кофром, в пакете, попросил передать Михаю, как тот вернется. Он боялся, что снова накроет страхом потери и глупой жадностью — нет, обошлось. Дожидаться старого цыгана Антон не захотел. Поблагодарил женщин за гостеприимство, пообещал заходить ещё и с облегчением захлопнул за собой дверь. По пути к электричке он почувствовал, что на душе стало легче. Если мальчишка не сын Лексы, а Роза — не жена, то и вины на нем, Антоне, особой нет. Главное, что фотографии увидели свет, не канули в лету со смертью фотографа… дурацкой смертью, чего уж там. Из-за бабы, причем даже не своей бабы. Антон задумался, нельзя ли будет впоследствии сделать выставку Лексы под его, Лексы, именем и как это со Славиком провернуть. Народу в вагоне оказалось намного больше, к тому же Антону повезло сесть у самой печки, поэтому обратный путь оказался даже приятным. Грела мысль об оставленной в ванной пленке — проявить её, распечатать и можно собирать выставку — уже свою.
На вокзале он задержался у газетных лотков полюбоваться на номер «Обозревателя» — толковый журнал, и фотографы на него мощные пашут и репортажи честные. Поснимать что ли табор, продать им свою фотоисторию? В задумчивости Антон купил духовитую арабскую шаурму, сжевал её у метро, попробовал представить контекст — яркие ковры, чумазые дети, улыбчивые старухи, белые чайки и белые голуби над развалюхами… невесту там снять можно. Чистую-чистую, в белом платье. От «Чкаловской» захотелось пройтись пешком, по перетоптанным в кашу остаткам утреннего снега, утрясти в голове сюжет будущей серии. А дома — не было.
Точнее фасад стоял, и даже мозаика кое-где проступала под копотью, а вот мансарда зияла распахнутыми выгоревшими окнами. Антон взбежал по лестнице и обнаружил полный погром в мастерской. Обе комнаты выгорели до потолка, ванна зияла остовом чугунной ванны, кухня относительно прочего уцелела, но и там царила разруха. Погибли — выгорели или пострадали от воды — картины, мольберты, книги, одежда, мебель. И фотографии. Пленки, негативы, распечатанные снимки — все до последнего. Даже утренний рулончик со снежными тропами превратился в кусочек угля. «Пропал калабуховский дом» некстати пришло в голову. До утра Антон так и просидел в кухне, на единственной уцелевшей табуретке. Он перебирал в памяти погоревшую жизнь — пропитанную солнцем утреннюю тишину мастерской, в которой работал дед, шумную компанию отцовских товарищей, молчаливую бледную маму с огромными пышно-соломенными волосами и холодными пальцами, громкие пьянки после удачных выставок, дочку соседей Лизку, с которой он в первый раз целовался, все смерти — от дедовой до отцовой. Он провожал шершавые пространства картин, мягкое дерево полок, щеголеватый залом шотландского берета, выеденное серебро чайной ложки, старые книги — по корешкам, по страницам. Тени шли чередой, исчезая в провале окна.
Наутро в квартиру вошли — бессовестно, по-хозяйски. На глазах у онемевшего Антона шустрые парни осматривали повреждения, измеряли размеры окон и дверных проемов. Потом встали с двух сторон и начали ненавязчиво объяснять, что помещение это для проживания уже непригодно, его давно признали аварийным. Потому есть два варианта — решить вопрос по-хорошему и по-плохому. По-хорошему — это в кратчайшие сроки переехать по договору обмена в однокомнатную на Лесной. Третий этаж, вода, газ, вид на парк и все удобства. По-плохому — дожидаетесь решения суда и пополняете ряды бомжей. Есть вопросы? Удержавшись от естественного желания выяснить, чьи кулаки крепче, Антон попросил день на размышления. И позвонил Стасику. Надо отдать должное — тот повел себя как настоящий друг. Приютил, помог перевезти немногое уцелевшее, отыскал неплохого юриста и сам ему заплатил. А ещё выдал погорельцу свою старую камеру — потертый, но вполне рабочий «сапожок» 300Д. Антон ушел в съемку, как в водку, и начал давать результат. Снимки потеряли расхлябанную прозрачность, рыхлые композиции, ненужные провалы в тенях, стали резче, собраннее и информативнее. При этом пошли эмоции — Стасик смотрел и кивал, ворча, что такую красоту нынче никто не купит. Чернухи мало, романтики ещё меньше, для концептуального кадра чересчур просто. Но моща, моща…
Через месяц Антон стал владельцем обшарпанной, вдрызг убитой квартиры из одной тесной комнаты и одной заселенной тараканами кухни. Стасик хотел помочь ещё и с ремонтом, но встретил сопротивление. Антон сам обживал новый дом, подлаживал его под себя. Когда схлынуло первое горе потери, он задумался, что пожар был не случаен. Вот только кто поджег мансарду — претенденты на жильё в центре города или безобидный рулончик пленки из металлического бачка? Все оригиналы карточек Лексы пропали, в том числе из журналов, остались только копии в плохом разрешении. Может это и к лучшему — из глаз долой, из сердца вон, не получилось на чужих лыжах в рай въехать, и слава богу. Собственные Антоновы снимки потихоньку выводили фотографа в ряды профи, хотя успех черно-белых городских серий и сравниться не мог с «Принцессой Египта». Самолюбивый Антон понимал, что без цыганской камеры, он шел бы наверх годами, и неизвестно, что кончилось бы раньше — ресурс таланта или его терпение.
Вдохновленный успехами отца Пашка попробовал поснимать вместе с ним — не без успеха. Антон передарил ему 300дшку, а сам обзавелся неплохой «Сонькой». После пожара камеры перестали уходить из рук. Из Милки неожиданно вышла неплохая модель, ей шли балтийские ветра и осенние парки. Антон снимал её долго, пока снова не увлекся голубями и чайками — фотографа как магнитом тянули прозрачные на солнечном свету перья, яркие клювы, вечное чудо полета, отталкивания от воздуха. Птицы привели его к звездам из окон дворов-колодцев и отражениям в бутылках. От бутылок Антон перешел к тайной жизни манекенов и их витрин. Потом его вдруг заинтересовали следы на снегу — кошачьи, голубиные, детские, натоптанные тропы и случайные цепочки. В ракурсе сверху возникали узоры, схожие с пустынными птицами Наско. В ближних планах удавалось собирать маленькие трагедии, бытовые драмы и скабрезные анекдоты городских улиц.
Когда картинка, подсмотренная через рамку сложенных пальцев, со щелчком запиралась в электронную память камеры, Антон ощущал себя фараоном, повелителем смутного времени. И перед ним расступалось море…
Были города Августа
Шли дожди. Тяжелые, как свинец, грозовые и хлесткие, нежные и занудливые, словно больные младенцы, переливчатые предвестники радуги — капризы стихий всех мастей и характеров заполонили город. Я приехала сильно под вечер и, пробираясь к проспекту, успела промочить ноги, прыгая через вертлявые струйки в клочках тополиного пуха. От вокзала до дома Алешки было, пожалуй, кварталов пять.
Алешка — закадычная моя соперница и подруга — укатила рожать в «дореформенную» провинцию и позвала меня отдохнуть с месяцок, а попутно составить компанию в трудном промысле чадодейства. Я согласилась и вот, Москва осталась за левым плечом вольной Волги, а я с толстой сумкой и рюкзачком топаю по синему треснутому асфальту, временами проваливаясь в допотопные провинциальные лужи.
Город кажется очень строгим и старым для такого заброшенного малютки. Решетки балконов в стиле модерн, классические портики на фасадах, элегантные арабески, особнячок барокко — попадаются здания чуть не двухвековой давности. И особую пряную прелесть со щепоткой якобы морской соли в воздухе городу придают пирамидальные тополя в медленных тихих сумерках.
Подмигнул фонарем перекресток с мокрой табличкой «Улица Шубина» — поворот направо до угла улицы Шуберта и на второй этаж дома с башенками — не спутать. Я прошла по поребрику между двумя ручьями, спрыгнула на тротуар, подняв фонтан брызг. Голубая роскошная ель, которую я задела, задрожала ветвями, оскорбленная таким панибратством. Впереди отблеснул новый дорожный знак «Улица Шуберта». Интересно, а нет ли здесь улицы Мандельштама? И куда свернуть дальше? Я огляделась вокруг… и вздрогнула. Сердце неловко дернулось, руки похолодели.
Никогда и ни с чем не спутаю этот красный фасад с грязно-серыми дорическими колоннами.
Вот захламленный питерский двор, вот раздвоенный тополь, рядом с ним грузный пень в шелухе окурков. Вот окно, открытое круглый год, вот тяжелая дверь парадной, коридорчик на пять шагов, поворот и кольцо ротонды и витая железная лестница в две площадки и потресканный купол над головой. Запах сырости, табака, штукатурки, надежды, сладковатый шальной душок юной дури.
Сколько лет мы ходили сюда, целовались, читали стихи, дрочили беспомощные гитары, обещали, клялись и верили, как положено детям в шестнадцать лет. Здесь таился наш дом, наш секрет, страшноватая, но такая чудесная сказка.
Я коснулась двери, влажной, будто ладонь подростка, оттолкнула, вошла. Гулкая тишина — каждый шаг отдается под куполом, решетчатые ступени, семь слоев надписей по зеленым стенам. Говорят, хиппи были здесь с шестидесятых, до того жил сам Жданов, еще раньше — процветал великосветский бордель, куда, случалось, забегал сам Распутин… Наверное, это легенда, одна из легенд Ротонды — как цитата из Данте, написанная углем по кольцу потолочного купола. «Оставь надежду…» — я ее никогда не теряла.
А в закутке глухой левой площадки есть портрет с обещанием «Ленинград, я вернусь». Перед «вечным» отъездом в Израиль я рыдала здесь на коленях случайного мальчика, а четыре года спустя прежней Ротонды уже не осталось. Я поднялась по ступенькам, разбирая знакомые надписи, прикоснулась к глухой стене, щелкнула зажигалкой…
— Не стоит, девочка. При свете ты разглядишь только свою ошибку — не знаю, кем тебе кажется этот дом…
Шепотливый, негромкий голос опоздал — я уже зажгла газ и увидела тусклый подъезд двухэтажного домика с тухлой лампчкой на длинном шнуре. А говорил со мной невысокий и очень пожилой человек в темном строгом костюме с орденскими планками по обоим бортам пиджака.
— Откуда вы знаете, что нельзя зажигать огонь? Почему я должна что-то видеть? — от удивления я даже не поздоровалась.
Человек засветился беззубой, младенчески чистой улыбкой.
— Видеть ты не должна — в городе Августе слишком многие только смотрят. Но увидела — иначе зачем бы стала трогать руками стены. Тот дом умер?
— Можно сказать и так, — я прищурилась, пытаясь разглядеть лицо собеседника, обожгла палец и уронила зажигалку. Звук падения хлюпнул, добив иллюзию. Из окошка пахнуло фонарным светом, стали видны деревянные, вытертые ступеньки. Человек осторожно оперся о подоконник и достал из кармана сложенный лист бумаги.
— Смотри. По плану Август должен стоять километров на двадцать к северу — здесь в центре города карстовые пещеры и вообще ничего нельзя строить. Понимаешь?
— Не очень, — я и вправду пребывала в полнейшем недоумении.
— Конечно, вы же все атеисты и матерьялисты, — человек усмехнулся и погрозил кулаком кому-то невидимому, — Ты умеешь лепить домики из песка?
Я молча кивнула.
— А из пепла и битого кирпича? Из оплавленного, пересохшего хлебной коркой камня, из осколков витражей венецианского стекла, из угольков дубового паркета — заново? Огонь ест все — тело и дерево равно пища. Но человек остается — детьми и письмами, фотографиями, проклятьями ли — на земле. Дома же рушатся безвозвратно вместе с памятью стен и окон, свиной шкуркой обоев, теплыми запахами жилья. Понимаешь? Я сумел уцелеть в той войне, потому, что хотел строить домики из песка…
…Началось все со слепоты. После смерти матери он — тогда восьмилетний мальчишка — от горя потерял зрение. Полгода, пока петербургские эскулапы ломали голову над природой столь странного недуга, на прогулках он ощупывал стены зданий, стволы деревьев и решетки подвальных окон. Мир шероховатого, плоского, снежного, мраморного и чугунного заворожил настолько, что по выздоровлении мальчик занялся сперва лепкой, после же — архитектурой. Тени Растрелли и Монферана бродили в бледных снах белых ночей, пока юношам его лет снились жадные балерины и похотливые горничные.
Он уехал в Италию, дабы набраться опыта у великих и уже в Капуе узнал, что пришла революция. Он хотел быть полезным своей стране, потому вернулся с дипломом и чемоданом, полным проектов улиц и городов будущего. В двадцать пятом-двадцать седьмом годах в Ленинграде он построил два дома-коммуны — для писателей и политкаторжан. В тридцатом по нелепому обвинению сел и пять лет провел в трудовых лагерях. В тридцать пятом, осенью — вышел.
Очень хотелось жить, паче того, строить и возвышать. Но случайный, голодный брак бросил в глушь Зауралья, где он — потомственный дворянин и талантливый архитектор — при свете лампочки Ильича разводил бухгалтерию для зверосовхоза. Потому, наверное, уцелел.
После была война.
В июле 41 он пошел добровольцем на фронт, был отправлен сперва в Москву, потом в Сталинградский котел, и, наконец, «Пол-Европы прошагали, Пол-Земли» — через Польшу в Германию. И везде он видел убитые города с развороченными мостовыми. Остов синагоги в Кракове и там же кости костела; скелет дома Павлова в Сталинграде, прах Дрездена, руины траурного рейхстага.
За живое брали беспомощные, непристойные мелочи — осколки фарфоровой чашки, пружинистое нутро венского стула, забытая кукла с идиотски-голубыми глазами и огромным бантом из тюля, филигранный фонарь у входа в разваленную пивную. Шальное, как институтка на первом балу, кружевное весеннее небо сияло, обещая новую жизнь уцелевшим. И забвение тем, кто не дожил.
Кавалер двух орденов, победитель, солдат, герой, он возвращался на родину в пульмановском, вонючем и тесном вагоне. Поезд тискало и качало, в теплушках пели, хвалились трофеями, плакали и снова пели. Он почти не слезал с верхней полки — хотелось думать, а не говорить и пить. Время жизни катилось к пятидесяти, все, что можно, было уже пройдено, все, что дорого — давно потеряно. И каждую ночь снились дома, кварталы и перекрестки, которых больше не будет. Он набрасывал чертежи пальцем на запотелом стекле, а соседи считали его помешанным. В подсумке дремали трофеи — коллекция довоенных открыток с видами умерших улиц.
Вместо снулой глуши он вернулся в Москву и пошел в Горпроект. Повезло встретить «бывшего» сотоварища по гимназии. Повезло получить предписание на работу — в глубь степей возводить городок для нефтяников. Первый тур чертежей был стандартен — скворечники с крышами и балконцами, два дворца в стиле «ампир», бегемотья туша больницы и далее… Наверху дали старт и он прибыл на место.
Чаша желтых холмов и ковыльная степь кругом. Жаркий ветер, заунывно тоскующий по упругости конских грив. Запах высохшего навоза. Тростниковая флейта в желтых высохших пальцах старика башкира. Музыка вверх — как дым в раскаленном воздухе. Черно-влажные гулкие рты пещер. И гусиный пух облаков.
Он сравнил — вот Джерусалем середины прошлого века, руины Старого города — и пустил в работу первые чертежи. Угрюмые немцы истово — как свое — возводили кварталы приземленных домов с черепичной, огнистой крышей, круглыми окнами чердаков и «двух одинаковых не нашлось бы меж ними», а он уже рисовал на газетной бумаге больницу — фасад дрезденской Оперы…
Первые переселенцы прибыли через год в новенькие квартиры, пахнущие мелом и деревом. Улицы — сплошь в стародавних липах — замелькали гирляндами простынь и свежих пеленок. Заработали магазины, кафе, Госстрах. Город закипел сразу — как чугунный котелок на костре. Но тайком горожане шептались, что, будто находили чужие следы в домах, и незнакомую речь по ночам доносил ветер. Дальше — больше.
Люди в странной одежде выходили из лондонских скверов и садились в пражский трамвайчик на углу Венеции и Нагасаки. За одним и тем же углом можно было увидеть кавярню сестер Несвицких или бар Ханумы-хатун. В городском саду каждый вечер играл оркестр и «Дунайские волны» качались в объятиях нежных скрипок. А однажды под вечер по улице Ленина, говорят, прокатилась карета с царскими вензелями. Правда, это, наверное, уже врут…
Годы шли, город рос. Появились уже кварталы: «немецкий», «минский», «арбатский», улицы Харбина и Петербурга, римские и египетские дома… Архитектор работал без устали, иногда сверяясь с журналами, чаще по памяти. «Отработанные» открытки он вешал на стену в своем кабинете и любовался ими в обеденный перерыв. Иногда он задумывался — а что будет, когда коллекция кончится? Но в обтрепанной по краям пачке оставалось еще много «посткардов».
Поселенцы спокойно свыклись с листопадом нового Вавилона. Многоголосье и разнонаправленность улиц потихоньку меняли их в романтических космополитов, благо нефтяникам даже в те времена было позволено многое. Впрочем, больше молчали — слишком дивны и редки были чудные книги из библиотек города Августа, слишком сладок и прян аромат кофе по-венски, чересчур головокружительно вальсова жизнь посреди страны победительных маршей. Уже и свадьбы игрались и первых младенцев с левантийски тяжелыми веками или узкими глазками айнов несли из готического роддома. Прошлое обрастало нежно-розовой плотью — как свежая кожа затягивает ожог.
А закончилось все банально. Свежеприбывший горожанин — скопцеватый польский еврей — опознал в новых зданиях силуэты варшавского и краковского костелов, о синагоге не говоря, и тотчас же сообщил куда следует. Архитектора вызвали, допросили, попросили остаться, допросили еще раз… Шел 1952 год.
Город Август охватила тревога — сначала смутная и невнятная, после плотная, будто дым от лесного пожара. В очередях шептались, что слышали пушки, разрывы бомб, вой пикирующих бомбардировщиков. Место пражских трамваев заняли танки и броневые колесницы монголов, от деревьев к парадным перебегали хмурые автоматчики. Бессчетные стаи ворон кружились в прозрачном небе, а подвальные крысы ушли из города. Улицы опустели — подселенцы предпочитали отсиживаться в своих крепостях, забивая тоску свистом радио.
В ночь с субботы на воскресенье всех жильцов охватила паника. С самых сумерек начались перестрелки, запахло гарью, порохом и разваленным мясом. Мостовые тряслись в лихорадке, ставни хлопали, двери скрипели и ныли. Исход начался чуть за полночь — на машинах и мотоциклах, с тележками и пешком все живые пустились прочь.
Многие после не могли вспомнить: зачем, почему поднялись, куда бежали, как очнулись в степи на рассвете. Кое-кто — вспоминать не хотел. Но все поняли, когда архитектор умер — контуры города на холмах заколебались и осыпались, будто песок под струей воды. Говорили, что его расстреляли, но после узнали — ушел сам, в камере, во сне. А обломками здания накрыло уже тело. Там теперь парк — перестраивать побоялись.
— А все остальное — осталось? — спросила я, пересаживаясь. Ноги затекли, будто на желтой занозистой лестнице я сидела не один час.
— Город не сносили, и он не рушился. Какие-то здания уцелели, какие-то обрели «истинный» облик советских домиков сталинского фасона, что-то безвозвратно перестроили. Старики предпочитают помалкивать, молодежь ничего не знает. Дети догадываются, но с возрастом перестают верить в собственные игрушки…
— Значит, вы говорить не боитесь?
— В моем возрасте ничего не боятся, девочка — старик улыбнулся еще раз, — А теперь прости — один из моих друзей пришел погрустить о Берлине, в который — в отличие от тебя — так и не смог вернуться.
Под ногами заскрипели ступеньки, хлопнула дверь подъезда. Из лестничного окна молочным туманом клубилось утро. Я поддернула рюкзачок и вышла на улицу. Захотелось отыскать солнце, но марь затянула небо вглухую. Искомый дом с башенками виднелся на углу следующей улицы — я вспомнила, что улица Шуберта идет подковой вокруг квартала. Полосатая кошка на тротуаре сонно мыла пыльный, пушистый хвост. Прокатился пустой автобус.
Город похожий на Минск и Питер одновременно дремал за моей спиной, город, вылитый Иерусалим спускался с холма Нерештау, город Август улыбался будущему рассвету. И на флаге у входа в мэрию мне почудилось Белое Древо и семь звезд в венце Короля…
Сказка о найденном времени
Максиму Качёлкину, с благодарностью
…Началось все банально до невозможного — по улице шел человек. По обычной, узенькой и сырой улочке Замоскворечья — из тех улочек, обрамленных двухэтажными купеческими усадьбами, что прячут в себе совершенно другой, неспешный и милый город, — шел обычный, невысокий, слегка сутулый пожилой человек. Лет шестидесяти с небольшим наверное, седобородый, в больших очках, одетый в потрепанную джинсу, с плетеной авоськой в руках, из которой выглядывало горлышко ностальгической бутылки кефира, осененное зеленой фольгой. Человек шел, не торопясь, как ходят люди после работы, огибал лужи, щурился близоруко на толстые фонари… Вот он поскользнулся на мокрой глине, поднял голову, чтобы полюбоваться роскошным тополем — влажные, свежие листья в электрическом свете дают удивительно сочный зеленый тон, вот двинулся дальше… Обычный человек, как вам кажется… Но!
Не последнее место в его жизни сыграло имя — ну подумайте сами, какая судьба ждет в России человека, записанного в свидетельстве о рождении, как Аркадий Яковлевич Вайншток. Тем более, если отца звали Яков Гедальевич, а маму — Лариса Ивановна, и к пятому пункту она относилась разве только фамилией мужа.
Проще говоря, наш герой был «шлемазл» — чудак, лишенный дара удачи, обычно спасающего блаженных… С детства одержимый желанием рисовать, запечатлеть окружающий мир на покорном холсте, он слишком поздно понял, что сил, подобающих для мечты, — просто нет. Малюя афиши в кинотеатрах, оформляя клубы и детские садики, он ждал чуда — и жизнь прошла.
Семья давно кончилась — жена умерла, дети выросли. Единственной его крупной выставки никто не заметил. Звери, да и женщины в мастерской не прижились, друзей не осталось. Коллеги (для поддержания бренной плоти наш герой переквалифицировался в уличные портретисты) в основном пили — а его тянуло блевать с третьей рюмки. Итак, он остался один. Слишком умный, чтобы полагать себя непризнанным гением, слишком наивный, чтобы просто плюнуть на жизнь, слишком неудачник, чтобы разочаровываться…
Что осталось — мокрая улица, темный подъезд, пятый этаж без лифта, но с окнами во всю стену — как и следует в мастерской, бутылка кефира на после ужина и невеселые мысли о том, чего уже никогда не будет… Аркадий Яковлевич не торопясь, но и не останавливаясь — слава богу, он еще не в том возрасте, чтобы отдыхиваться на каждой площадке, поднялся наверх по лестнице. Чуть помедлил у обшарпанной кожаной двери, нащупывая ключи по всем карманам. Вошел, снял ботинки, пристроил кефир в холодильник, сел в любимое мягкое кресло, когда-то обитое красным плюшем, огляделся вокруг… Два мольберта с чистыми холстами по углам, засохшая палитра — под слоем пыли не различить, что за краски на ней мешали. Гипсовая Венера прячется за горшком с засохшим алоэ, смотрит меланхолически… Дура. Жалкие афишки по стенам, книжный шкаф — с грудой альбомов и умных книг — когда его открывали в последний раз? Куча грязной посуды на кособоком столе, серые оконные стекла — все плохо, приятель. Чаю, что ли выпить для поддержания настроения?
Аркадий Яковлевич проследовал на кухню — за новым поводом для расстройства. Чая не было. В заварочнике цвел пенициллин, на дне жестянки сиротливо стыл тараканий трупик, пакетный «Липтон» — подарок заботливой дочери — выпили по случаю дня рождения. И, в довершение несчастий, шум за окнами заверил Аркадия Яковлевича, что на улице начался ливень. Ну что за невезенье! Аркадий Яковлевич задумчиво почесал бороду — а не повод ли это? Да, пожалуй. Он разделся, посидел минутку потирая колени — суставы как всегда являли собой барометр. Набросил халат, подвернул рукава, поплевал на руки… И пошел разбирать кладовку. Покойная жена была запаслива — неудачную зиму девяносто четвертого года Аркадий Яковлевич пережил исключительно благодаря древней гречке и окаменевшему варенью, а чай, между прочим, вообще не портится. Возможных складов в мастерской было три, но обе антресоли себя давно исчерпали. Что день грядущий мне готовит? Пачка старых журналов — перечитать на досуге, что ли; мешок килограмма на два засохшей кураги — в компот пригодится; коробка «ленинградской» акварели — ровесница дочки, судя по упаковке; ботинки, почти не поношенные — еще жена выбирала; а это что? Господи, вот так находка! Кукла. Марионетка — старичок в облезлом балахоне с круглой и лысой как яйцо головой… Давным-давно дедушка Гедальи доставал ее по большим праздникам, чтобы порадовать внука маленьким представлением. Тогда еще Аркаша — толстый мальчик в очках — с замиранием сердца следил за игрушкой, умевшей танцевать и разговаривать и даже подмигивать левым глазом… Господи!.. Покачнувшаяся коробка задела одну из палок марионетки и кукла подмигнула ему — задорно и нагло. Аркадий Яковлевич отправился в ванную за валидолом.
Потом он трое суток просидел дома, неопытными руками выкраивая новый балахон для старой куклы, заделывая трещины, подрисовывая улыбку и пытаясь разобраться в механизме палок, проволок и рычажков. Получилось. Он — впервые за несколько лет — навел порядок в мастерской, вычистил углы, собрал паутину. Из старой простыни сделал ширму. И долго стоял перед зеркалом, заставляя куклу двигаться — шевелить руками, пританцовывать на месте, разевать беззубый рот. Старичок выглядел живым, ехидным и добрым одновременно, мудрецом, впавшим в детство на потеху толпе. Похожим на дедушку и… на самого Аркадия Яковлевича — будто в зеркале отражались два брата. Ну и дела. Аркадий Яковлевич задумался, машинально двигая куклу, всмотрелся в мутное стекло пристальнее… А что, если?
Через месяц аттракцион «Кукла-художник» стал самым популярным на Арбате. Важные иностранцы с фотоаппаратами на круглых брюшках и шумные провинциальные туристы, солидные новые русские и суетливые мамаши с детьми, любопытные хиппи и невообразимые панки, короче все, те кто составляет визитную карточку страны Арбат, толпились кругом, вставая на цыпочки и вытягивая шеи. Кукла оглядывалась по сторонам, пританцовывала, постукивая по мостовой маленькими башмачками, подмигивала, призывно махала рукой, улыбалась застенчиво, даже кланялась… Если смельчак находился — буквально в несколько минут кукла чертила его портрет — скупыми, емкими штрихами. Публика аплодировала — и обаятельной марионетке и искусному кукловоду-художнику — шаржи были удачны. Сам Аркадий Яковлевич тоже был счастлив — особенно радовали его очарованные детские мордашки, с радостным изумлением глазевшие на игрушку — как и он сам когда-то. К тому же зарабатывал он, не в пример прошлому, столько, что наконец-то смог позволить себе курить трубку и пить по вечерам кофе. Аркадий Яковлевич пополнел, стал лучше выглядеть — дочка, навестив его в июле, решила даже, что у папы удачный роман. Так прошло лето…
А потом наступил обычный сентябрьский понедельник… Народу было немного — похолодало. Толстая мамаша с украинским прононсом заказала портрет своей дочери — необыкновенно обаятельной семилетней дурнушки — кареглазой, пухлощекой, с зубками набекрень и невесомой тучкой кудряшек над маленькой головой. Девочка сидела смирно, серьезно смотрела перед собой — ведь «дядя кукла» попросил не шалить, но искорки смеха прятались под пушистыми ресницами — вспыхнут мгновенно, только выпусти их на волю. Аркадий Яковлевич рисовал почти машинально — за долгие годы изготовление портретов доведено было до автоматизма. Здесь завиток, тени под глазами чуть глубже, родинка у виска… Готово! Он бросил последний взгляд на лист бумаги — и обомлел. Уличный портрет, жалкий набросок, сбитый за пять минут — был лучшим из сотворенного им за жизнь. С шероховатого ватмана смотрела живая семилетняя девочка с искорками смеха из-под ресниц. Заказчица наверное сочла его сумасшедшим — Аркадий Яковлевич буквально вырвал из рук женщины портрет, подхватил куклу под мышку и побежал, вернее полетел домой… Господи, за что мне такое счастье, чем порадовал тебя Господи?! Получилось!!! По лестнице — вприпрыжку, плевать на занывшее сердце, плевать на ноющие руки — к холсту. Аквамарин, краплак, кобальт, осенний запах льняного масла, липкий от старости стерженек кисти… Только бы удалось!
…«Скорая» уехала в полшестого утра. Аркадий Яковлевич лежал на продавленной кушетке, всхлипывая бессильно сквозь зубы. Черта с два! Бодливой корове бог крыльев не дал. Раздавленные ампулы лежали кучкой на блюдце с отбитым краем, мерзко пахло аптекой. Мольберт задрал к потолку тощие лапы, брошенная в сердцах палитра отпечаталась на стекле книжного шкафа. Кукла уныло висела на гвоздике, приоткрыв левый глаз. Со стола безмятежно улыбалась девочка — несколько четких штрихов — ведь смог же?! Единожды за жизнь получилось — и на том спасибо. Вышло по-настоящему — абсолютный, камертоновый вкус к живописи — единственный талант Аркадия Яковлевича, не могли отрицать даже злейшие враги и завистники. Ох, горе-злосчастье… Как говорил дедушка: «Где взять мазл, если ты шлемазл?» Аркадий Яковлевич прислушался к затихающей под левой лопаткой боли, сплюнул в блюдце — после нитроглицерина во рту остается отвратительно горький привкус, завернулся в несвежее одеяло и уснул. И увидел во сне свою картину — ту о которой всегда мечтал.
…Осенний уголок старого сада, дождь и солнце одновременно. Узенькая дорожка, уходящая в заросли, кружевная беседка, затянутая плющом. Мощные узловатые стволы деревьев, арки крон. И яблоки, яблоки повсюду — желтеющие на ветках, укрытые в траве, падающие и как бы пойманные в падении солнечные мячики. И девочка-подросток, прижавшись к стволу, смотрит с улыбкой на яблочный дождь… В рисунке крон и ветвей кажутся звери и птицы, с неба будто ангелы смотрят — и все это вместе, не пестрое, не разрозненное, но живое! И нарисовано им…
Неделю Аркадий Яковлевич провел дома, в постели — непростительно молодой врач «Скорой помощи» прописал полный покой. Приезжала дочка с фруктами и жалобами на мужа. Заходил сосед с бутылкой кагора — его, мол, даже детям дают для укрепления здоровья. В самом деле, после сладкого вина на душе полегчало. Через неделю Аркадий Яковлевич снова вышел на Арбат.
Теперь он рисовал медленнее, вдумчиво вглядываясь в каждый росчерк карандаша, каждый жест своей марионетки… А вечером, не в силах понять происшедшего, впервые в жизни напился в хлам. Ночевал у каких-то знакомых, черт его знает где и с кем спал… На шестьдесят втором году жизни он все-таки стал художником!
Он вернулся домой пешком, перебирая улицы как фотографии. Поднялся по знакомой лестнице, с первого раза вытащил нужный ключ. Достал с антресолей свой первый мольберт. Выбрал холст, проверил грунтовку, налил масла в крышечку из-под кофе, отыскал в ящике любимую кисть… И закрепил ее в деревянной руке куклы.
Жизнь его наполнилась до краев, как последний теплый сентябрьский день наполняется солнцем. С утра он рисовал на Арбате — не ради денег, нет. Аркадию Яковлевичу было радостно видеть, как на бумаге отражаются люди — самые разные — лучше, чем они есть. И ему платили улыбками — щедро и без обмана. После работы Аркадий Яковлевич заходил ненадолго в маленькое кафе у метро — его там уже знали и без слов подавали на стол маленький двойной кофе. Потом домой — к картине. Уже проступали контуры деревьев и строчка садовой дорожки, у ствола вырисовывался тоненький силуэт. И работы оставалось — дай бог, на месяц. Аркадий Яковлевич не торопился, лелея в душе каждую веточку будущего сада. Разговаривал с марионеткой, как говорят с зеркалом, выверяя на словах каждый штрих, каждое пятно цвета. Старая кукла в ответ щурилась пристально, подмигивая временами от сквозняков — будто действительно понимала. Ошибки быть не могло — картина оживала на глазах. Он позвонил дочке и сказал — приезжай к ноябрю. Дни летели как листья с яблони, легко и незаметно…
Дочь приехала раньше. В первых числах октября, после похорон. Аркадий Яковлевич скончался, как умирают хорошие люди — почти мгновенно. Вышел за вечерним кефиром, почувствовал себя нехорошо, сел на скамеечку во дворе… Врачи сказали — инфаркт. Похороны были тихими, поминки справили по-семейному. Сын от наследства отказался. Квартира со всем содержимым досталась дочери. Следовало навести порядок, отобрать мелочевку на память, выкинуть мусор — горе горем, а деньги деньгами. Цены на недвижимость падают, значит квартиру надо продать как можно скорее. Дочь открыла двери своим ключом. Всплакнула в прихожей, прижавшись щекой к старому отцовскому пальто. Вошла в мастерскую, ахнула. Огромные окна были распахнуты настежь и дождь испортил все, что можно было погубить. Книги, сваленные на подоконнике, покоробились, афиши по стенам превратились в невнятные кляксы… А в дальнем углу, островком среди моря разрухи, стоял прикрытый тряпкой мольберт. Дочь вспомнила — отец звонил две недели назад, говорил, что пишет картину, закончит к зиме… Не успел. Господи, всю жизнь протратил на эти проклятые кляксы — и кому кроме нас они нужны?! Она вздохнула, со злостью рванула тряпку — и замерла, всматриваясь в чудо.
С полотна в затхлый сумрак заброшенной комнаты, торжествуя, шагнул яблочный сад ее детства — она помнила каждое дерево, каждую трещинку в коре. Шел дождь и солнце играло на пестрых листьях, разбрасывая улыбки бликов. С неба глядели ангелы, из ветвей — совы и лисы. И сама она — тринадцатилетняя — смеялась, протянув руки навстречу прекрасным яблокам… Радость моя! Сколько лет мне лететь, тосковать ни о ком, сколько зим зимовать, не заметив ни дня, столько снов тебе слать по земле босиком, столько жизней прожить, ожидая меня…
Что было дальше — вы уже знаете. И, даже, если и не были в Третьяковке, то наверняка читали статьи в газетах — о «художнике одной картины». Зрители в восторге, искусствоведы в недоумении, коллеги просто шокированы. Хотя попытки отрицать авторство покойного мэтра пресекаются быстро. Перекупщики обшарили всю Москву в поисках работ господина Вайнштока — и, естественно, не нашли ни одной, способной сравниться с «Садом».
А куклу с тех пор никто не видел. Впрочем, и не искали…
Борцы
…Это будет война без пpавил, без начала и бесконечная. Это будет та еще полночь, смеpч, не тpонувший сонных листов. (с) Тикки ШельенИстория эта, как многие другие истории, началась в поезде. Я ехала в N-ск, на финал «Серебряного пера». Роман о приключениях маленькой половецкой княжны в суровом мире приглянулся высокому жюри и теперь вместе с девятью другими везунчиками мне светило работать писателем на фестивале, гвозде программы большой книжной ярмарки. Победителя ждал гонорар, пятитысячный тираж в твердой обложке и, собственно, серебряное перо — элегантная ручка в черненом корпусе. Оставался сущий пустяк — вообразить себя актрисой, выступить перед почтеннейшей публикой, доказывая, что именно мой роман — гениальное творчество всех времен и народов. Честно сказать, шансов было немного, но в N-ске я не была давно, а номер в гостинице оплачивало издательство.
Ехала я плацкартом, питая плебейскую страсть к шумным вагонам, забитым разнообразным людом. В купе, как правило, попадаются или чересчур чопорные или слишком разговорчивые соседи, и деваться от них некуда. А плацкарт всегда оставляет простор для наблюдений, мелких деталей, драгоценных любому уважающему себя писателю. Точеные ноги, невесомые щиколотки и страшные, стертые пальцы красавицы балерины, концлагерный номер наколотый на руке старухи, беззащитная улыбка мальчика-дауна, его невнятное «здастуйте» всякий раз, как мимо полки проходит чужой. Мимолетный роман — смазливый комми обихаживает пестро крашенную зрелую фею, ненароком пробегая ладонью по загорелому плечику, подливая в паршивый кофе дешевый коньяк. Бригада животноводов-узбеков переезжает из области в область под водительством золотозубой хатун — она решает по телефону цену будущего контракта, диктует условия — и тут же бежит за чаем для своих закутанных в халаты мужчин.
В этот раз мне почти повезло. Треть вагона занимала харьковская команда по самбо — широкоплечие, бритоголовые, наделенные тяжеловесной грацией украинские Геркулесы. Я любовалась тугими икрами и упругими ягодицами, мясистыми затылками и могучими прессами, шутливой возней молодых здоровых мужчин. При иных обстоятельствах это соседство могло бы быть не слишком приятным, но у резвого стада был суровый вожак. Их тренер, одышливый, полный, пожилой мужчина в неуклюжем советском костюме, с медалью на лацкане, держал своих «мальчиков», словно свору собак на тугих поводках. Видно было, что июльская жара и душный воздух вагона не идут ему впрок, но он сидел, не меняясь в лице. И командовал — спокойным, раскатистым и при этом негромким голосом — заправить постели, разуться, сменить рубашки, достать провизию, убрать пиво и чтоб я его больше не видел. Здоровенные «мальчики» порхали вокруг него, как не всякий сын хлопочет вокруг отца — подносили воду, платок — утереть пот со лба, подставляли к усталым ногам тапочки — и всё это без унизительного подобострастия. Похоже, парни действительно любили своего тренера.
Я лежала на боковушке, укрытая простыней, делала вид, что читаю пестрый журнал, и искоса наблюдала. Пережевывая неизменных жареных курочек, аппетитно хрустя огурцами и пахучим зеленым луком «мальчики» обсуждали соревнования. Медлительный Санек, красуясь синяками на волосатых предплечьях, все вздыхал, что проведи он бросок через ногу вместо захвата, привез бы «золото» вместо «серебра». Совсем юный, улыбчивый богатырь Гриня, наоборот шумно радовался «бронзе» — как я поняла, он вез первую серьёзную награду. Крутоплечий Илья жался в угол, подпирая унылую физиономию здоровенной ладонью — похоже, ему не повезло. Тренер поддакивал, скупо хвалил, недоверчиво щурился, иногда двигал руками, показывая «так надо». Он походил на старого медведя, уже потерявшего мощь, но ещё грозного опытом многих выигранных боев. Интересно, когда он в последний раз выходил на ринг? Или татами — как у них называется эта площадка. Я присмотрелась внимательней — и увидела распухшие губы и следы захвата на запястьях тренера, различила желтеющий кровоподтек на скуле и неловко вытянутую ногу. Если я правильно вижу, синяку два-три дня. Интересно, откуда… я вслушалась в разговор.
— А тебе, Костя, этот клоун тоже предлагал деньги? — настороженно спросил тренер.
— Не, Николай Иваныч, я ж за сто кило тяну, а в ём и семидесяти не будет, — ответил розовощекий Костя, явно гордясь.
— В Шалашкине тоже сто было — и взял, — буркнул смуглый парнишка с верхней полки. — Я ещё когда говорил — берет, змей бесстыжий, а долю судье отстегивает…
Коротким взглядом тренер прервал щекотливую тему:
— Станешь судьёй, тогда и будешь других судить. А пока молод ещё болтать.
— Полюбасу ничего больше не возьмет тот Шалашкин, — встрял в разговор ещё один смуглый, узкоглазый борец с грузным торсом восточного пехлевана. — Доигрался он в Мончегорске, на «Белом медведе». Слил бой, шел по улице злющий, сцепился с местными гопами. Одному руку выдернул, другого башкой об асфальт уложил — и готово превышение обороны. Скучает теперь на нарах.
— Помню я того клоуна, — угрюмо пробормотал Санек. — Всю жизнь буду помнить. Он Данилу Щуренка порвал. Мы с Данилой дружили, даром, что тот за Львов выступал. Дело было на Киевском чемпионате в две тыщи восьмом ещё. Я тогда первый раз на взрослый ковер вышел. И в раздевалке ко мне Даня подходит, смеется — мол, прицепился какой-то богатый чудик, три штуки баксов сулил, чтобы под него лег. Я, — говорит, — сперва отшучивался, потом послал подальше. Тот взбеленился, глаза бешеные стали — ну, я его и поприжал малех. Мы посмеялись, а потом этот гад против Даньки на ковер встал. Минуты не прошло — свалил его болевым. Данька руку поднял, что сдается — а гад его жах и плечо из сустава напрочь. Врачи год бились, не починили.
— Я тоже слыхал, — свесился с полки парнишка. — Клоун этот к армянину подкатывал… как его бишь?
— Сароян? Петросян? — спросил тренер.
— Петросян. Смешной такой, всегда с крестом на шее выходил драться. Говорили, чемпионом Украины станет. И тут проиграл бой бог весть какому ботану — болтали, тот взятку дал, чтобы не в свой вес пойти, а выше, и армянину тоже деньги совал зазря. А вышел на ковер — отмутузил громилу Петросяна, как пацана из Жмеринки. Все ахнули, судью потом коньяком отпаивали. А Петросян из самбо ушел. В семинарию вроде подался, а сперва вообще в монастырь хотел.
— Теперь понял? — тренер тронул за плечо хмурого Илью. — Понял, олух царя небесного, почему я тебя с соревнования снял?
— Нет, — отстранился Илья, по-детски дрогнув обиженным ртом. — Не понял, и понимать не хочу.
Мосластые кулаки тренера сжались, казалось, он вот-вот шарахнет по столику — нет. Медленно взял воды, глотнул, поставил на место маленькую бутылочку, тщательно прикрутил крышку.
— А ты все же попробуй понять, дружок — чай не боксёр, чтобы в голову есть. Коломийца Петра, донецкого мастера, помнишь?
Понурый Илья кивнул. Тренер продолжил:
— Коломиец — взял деньги, овдовел, спился. Иванов Юрка — взял, под машину попал. Шабанов — не взял, проиграл бой, покалечил колено. Олег Липинский — чемпион Харькова, богатырь — проиграл, получил гематому в мозгу, умер. Он у меня учился, Олег, ещё мальчишкой. Я за этим клоуном давно следил, да все никак он мне под руку не попадался. Так что скажи богу спасибо, что ты ко мне сразу пришел. И я скажу, а как доедем — в Лавру схожу.
— Это к нему «скорая» приезжала, Николай Иваныч? — догадался Илья.
— Нет, — поморщился тренер. — Ко мне. Ему врач как мертвому припарки… Да что вы, как маленькие?
На лицах спортсменов проступила одна и та же громкая мысль. Но тренер от неё отмахнулся.
— Не убивал я клоуна. Он сам умер. По правилам. Знаете, что говорят японцы?
— Что именно? — осторожно спросил молчавший до сих пор Гриня.
— Что учитель в ответе за своих учеников. Я клоуна поутру ещё в клубе приметил — щуплый, рыжий, волосы до плеч, глаза яркие-яркие, зрачки широкие, взгляд плывет. Подумал ещё — наркоман. А потом Илья подошел и пальцем ткнул — вот, мол, покупает победу неопознанный гражданин. Ну, я дождался, пока отборочный тур прошел, подобрался к нему в коридоре — и вызвал. Раз, мол, мой ученик, нынче не готов к бою, так, простите великодушно, я за него. Рыжий аж побелел. А я ему улыбаюсь — вопросы? Нет вопросов, по правилам, говорит, биться будем. Условились на девять вечера, благо ключи от зала достать невелика проблема. Посудить я с Кондратьевым Михал Юричем договорился — он калач тертый и приятельствуем мы давно. Пообедать сходил, вас, дураков, проведать, размялся, попрыгал — и никак вникнуть не мог, что не так. Понял, только когда мы с клоуном на ковер вышли. От живого человека всегда пахнет. Табаком, потом, одеждой, одеколоном каким ни есть. Бывает, куртка за день так пропитается, что хоть соль соскребай и разит от неё за версту, и стирка не помогает. А от клоуна вообще ничем не пахло.
Под пристальными взглядами учеников тренер снова глотнул воды, отер со лба испарину и продолжил:
— Гонга не было. Михал Юрич в ладоши хлопнул, мы поздоровкались, разошлись — и тотчас я почуял: зал полон. Знаете этот шорох дыхания, вздохов, шарканья ног, шороха глупых бумажек, шипения газировки, убегающей прочь из бутылки? Я спиной чувствовал взгляды, обернулся даже — а вокруг ни души. Михал Юрич тоже, смотрю, озирается, протирает глаза, как сонный, потом говорит: бой. И тут клоун меня по лбу щелкнул, сволочь такая — обозначил, какой он быстрый. И пошел лупить в голову с обеих рук. Я ухожу, а перебивать не пробую — вижу, удар у него как копытом у лошади, того ему и надо, чтобы кости перешибить. Но по правилам. Все — по правилам.
Я раскрылся, он, как муха на сало, вперед полетел — и тут я ему подсечку-то и закатил. И сам сверху на спину норовлю. Он-то шустрый, да легкий, а мои девяносто кило поди скинь. Давлю его к ковру со всех сил, аж нога скользит — я босиком вышел. И вдруг — встает клоун. Со мной на спине встает. Ррраз — и уже я на ковре лежу, дурак дураком, а рыжий у меня на груди сидит и плюхами угощает. Словно куски льда в морду вколачивает. В глазах у меня потемнело, ещё чуть-чуть и сознание потеряю. И тут Михал Юрич как ангел над нами рисуется — все, расходимся товарищи, первая схватка закончена. Победа в схватке присуждается… кому её присудить-то? «Мне!» — смеется рыжий. Смех у него неприятный, как ножом по стеклу. «А по имени-отчеству вас как?» «А неважно». И ускакал в свой угол.
Во второй схватке я ещё осторожней пошел плясать. Учитесь, пока я жив — самое главное в бою силы беречь, чтобы одним ударом их выложить. Особенно если немного сил-то… Сделал круг рыжий и с места меня ногой — жах под ребра. Я ему ногу перехватил, чтобы бросить, он выворачиваться пошел. Спиной чувствую — зал орет, свистит, хлопает, аж кипит от восторга. Глядь — а рыжий свой сустав рвет, словно боли не чует, колено выкрутил как кузнечик — ушел. И тут же меня через спину бросил, сам навалился, болевой на руку норовит закатить. Я в захват «треугольником», ногами шею ему охватил, душу. А ему хоть бы хны — даже щеки не покраснели. Лезет и лезет, сволочь, глазами блестит, улыбается сладенько — так бы и вбил гада. Понимаю, что злит он меня специально. Выхожу из захвата, бросаю его, держу — и тут снова Михал Юрич над нами. «Один-два-три…». Чувствую, рыжий уходит — и тут у него куртка развязывается. Все, вторая схватка кончилась. Стою в углу, вдохи считаю, чувствую — колени трясутся, руки свинцом налиты, дыхалку перехватило, во рту кровищи полно — словно целый день дрался. Не взять мне клоуна силой, никак не взять. И такая меня горечь одолела — этот поганец, этот хихикающий убивец надо мной, Николаем Подгорным, куражится будет, что меня взял и учеников моих взял, как щенков. И судачить пойдут, вот как ты, дружок, давеча, мол, победу купил клоун, за баксы продался старик Подгорный. Хоть стреляйся потом… Дай-ка выпить, сынок! Знаю, у тебя есть.
Смущенный донельзя Санек достал откуда-то из большой сумки маленькую, прячущуюся в ладони фляжку. Тренер сделал большой глоток, охнул и вытер рот.
— Смачно. Перцу переложил, с медом поскупился, а так дюже смачно.
— А дальше что было, Николай Иваныч? Кто победил? — подал голос Гриня.
— Дед Пихто, — ухмыльнулся тренер. — Стариков надо слушать, да и своим умом жить. Вспомнил я, что мой учитель, Симон Бурячек — а он в свое время у Харлампиева поучиться успел, рассказывал. Мол, когда фашисты Киев взяли, жил там одесский борец Ефим Дуконя — и наших и ненаших, всех клал, что на арене что на стадионе. И решили фашисты вроде как матч устроить. Взяли своего Ганса, мастера по французской борьбе, взяли Ефима, жителей в цирк нагнали. И сказали — мол, покалечишь, красная сволочь, нашего бойца, уронишь его — расстреляем. А Ефим не из тех был, кого напугать можно. Вышел он бороться — и давай так бой вертеть, что Ганс об свои же приемы падал, сам себя, получается, оземь бросал. Раз упал на спину, два упал, три упал, на четвертый раз за ковер выкатился и назад идти отказался. Делать нечего, присудили Ефиму победу.
— А потом? — спросил Гриня.
— Суп с котом. Расстреляли. Слышу: «бой» кричит Михал Юрич. Выхожу так неспешно. А рыжий скачет, захват проводит, меня за шею взять хочет. Ну я и подмогнул — пригнулся (спина-то широкая), довел движение — он и вылетел с ковра, как миленький. Сам себе поражение сляпал. По правилам, спрашиваю? Все тебе, гражданин дорогой по правилам? Будешь ещё людям деньги совать, к моим ученикам подкатываться — с землей смешаю! А он молчит. И зал молчит, как опустел. Глянул я — а клоун белый, как смерть стал, глаза раскрыл и не дышит. Испугаться не успел — вонь пошла. Чуял кто, как лежалая падаль пахнет? Оно и было, только раз в двадцать сильнее. Я-то не евший был, а Михал Юрич успел поужинать, ему хуже пришлось — стравил ужин и бац в партер отдохнуть. Там где клоун лежал, туча мух собралась вдруг, тело червями вскипело. Я «Отче наш» вспоминаю, а у самого зуб на зуб не попадает. Черви схлынули, косточки проступили, череп показался, чистенький, словно сахарный. Ухмыльнулся в последний раз, челюстью клацнул — и рассыпался прахом. Тут у меня сердце-то и захолонуло. Думал, инфаркт. Обошлось. Врач укол в пятую точку поставил, велел не нервничать — и конец. Теперь всё поняли?
Тренер обвел взглядом примолкших «мальчиков», кто-то смотрел на учителя с восторгом, кто-то недоверчиво хмурился, кто-то прятал глаза.
— Добро. Кому охота гадайте — в самом деле оно было или я вам, дружочки, сказку на ночь решил рассказать. Вроде байки от Миямото Мусаси — жил когда-то такой японец, горазд болтать был. Эх, вы, мальчишки… Спать всем!
Не обращая внимания на шушуканье парней, тренер отлучился в конец вагона, вернулся в спортивных штанах и белой футболке, принял три разных таблетки, запивая каждую коротким глотком воды, лег и спустя пару минут захрапел — тяжело, с присвистом. Кто-то из «мальчиков» — кажется Илья — бережно поправил на старике одеяло.
Я отвернулась к окну, прокручивая в памяти услышанное. Байка выглядела занятно, стоило запомнить её, записать, а потом и собрать рассказ. Пусть читатель гадает — был ли на самом деле рыжий клоун, умер ли он или не жил никогда. Закрутить бы финал… не успев додумать, я задремала почти мгновенно — мерный стук вагонных колес, наконец, допел колыбельную.
Видимо поэтому проспала и окончательно открыла глаза, когда поезд медленно тормозя подъезжал к перрону. Команда самбистов уже толпилась у выхода, могучий Шурик нес сумку тренера, Илья и ещё один парень поддерживали его самого. Остального я не отследила, лихорадочно запихивая в рюкзак пожитки.
Первое ощущение от суетливой вокзальной площади — сытный запах, словно врезаешься носом в душистый, час назад испеченный пирог. Я обожала увесистые плюшки и посыпанные мукой паляницы, которые продавали сдобные бабоньки в киоске у вокзального рыночка. И е не удержалась, как голодная девочка вонзила зубы в хрустящую корку. Приметы дороги хранились в памяти, словно колода заигранных карт, на которых выучена каждая черточка — круглая площадь, маленький мостик, а за ним совсем рядом — уже цветущий Ботанический сад. Удержаться от удовольствия полюбоваться отмытой до блеска утренней зеленью и набрякшими, грузными стволами старых каштанов, я не смогла. И с полчаса перечерчивала шагами дорожки, вспоминая, как ходила здесь за руку с чудным юношей, как нежны были его губы и настойчивы пальцы… молодость, молодость. Завершив обход наших тропинок, я собралась было на Бульвар и в окрестные улочки — снять шляпу перед бронзовым памятником, насладиться пышным модерном фасадов. Но увы — настырный звонок мобильного напомнил, что в четыре начинается фестиваль. Меня ждала маленькая гостиница. Не теряя времени, я заселилась в номер, пахнущий свежими простынями, сполоснулась с дороги, бросила вещи в голодные двери шкафа, и, уже завязывая шнурки, услышала стук в дверь.
Незнакомый, рыжекудрый мужчина в клетчатом костюме и желтых носках, бесстыже маячащих над штиблетами не стал тратить время на реверансы.
— Анжелика, вас так зовут?
— Да, — согласилась я, хотя так меня не называли с детства.
Рыжекудрый склонился в нарочитом поклоне, норовя поцеловать мне ручку. Я увернулась. Он преувеличенно широко улыбнулся.
— Позвольте отрекомендоваться — писатель Сушкин. У меня к вам, прекрасная Анжелика, одно пустячное дельце. Понимаете, мне чертовски необходимо серебряное перо. В смысле первое место конкурса.
— Вы шутите? — раздраженно поинтересовалась я. — К сожалению, не смешно.
Выразительная физиономия рыжего скривилась.
— Что вы! Я человек состоятельный и готов заплатить за него любые деньги. Любые разумные деньги, конечно же. Постарайтесь выступить скромно, без особых изысков — и вашему гонорару позавидуют даже в Москве. Устроит?
Словно из воздуха в пальцах клетчатого возникла упругая пачка зеленых бумажек, украшенных брюзгливой физиономией Франклина.
— Не отвечайте сразу, мадемуазель! Все знают — в литературных играх не существует правил, все места давно куплены, проданы и подсужены. Я всего лишь хочу подстраховаться от возможных проблем, а заодно дам заработать приличному человеку. Встретимся вечером, дорогая моя! Адью!
Дверь захлопнулась. Я выругалась, витиевато и зло. Так меня не оскорбляли с тех пор, как мне было семнадцать и Лешка Японец, наглый гаденыш, обозвал меня шлюхой. Он отделался чашкой кофе в физиономию. Этот клетчатый клоун определенно заслужил большего. Я задумалась, не позвонить ли в издательство, рассказать о причудах товарища конкурсанта. Даже набрала номер, но, услышав гудок «занято» не стала перезванивать. Зерно истины в словах рыжего визитера определенно было — премии в нашем ремесле присуждались самым парадоксальным образом, и ни малейших иллюзий по поводу никто кроме наивных новичков не испытывал. Случалось, и покупали призы и проталкивали своих, и валили перспективные вещи. Ходила байка, как один ушлый автор получил «цацку» потому, что поставил всему фестивалю пару ящиков коньяка. Почему бы и мне не заработать деньжаток, раз они сами пришли в руки? Наверняка все уже решено, и имя победителя изящной гравировкой украшает серебряное перышко. …Мы подпишем союз и айда в стремена и ещё чуток погрешим…
Я смачно плюнула в пепельницу, заботливо выставленную на тумбочке и вместо оплаченного обеда осталась в номере — перестраивать выступление заново. Даже если победы мне не видать, я устрою этим ленивым сычам Монти Пайтонов со святым Граалем подмышкой — черта с два кто из них рискнул бы выставлять на посмешище свой драгоценный текст, гениальную, трепетную не-тле-ноч-ку. А я привыкла — опыт аскера и уличного актерства не стереть приличным костюмом и не купить за серебряное перо. …Значит не шутят оне. Тогда я немножечко пошучу.
Препарирую текст, как вивисектор — стальную крысу. Разложу беззащитную тушку на атомы. Вытащу со страничек наружу всех блох и поштучно швырну их в зрителей. Вывернусь вон из кожи, чтобы партер поднялся и хлопал стоя. Я хочу победить. И сумею.
Вместо скромного черного платья я выбрала красное кружевное с яростным декольте. Вместо удобных ботинок — острые как ножи шпильки. Села на пол, сделала кувырок через голову, хорошенечко потянулась, оттягивая носки. И напоследок распустила волосы — густо-медную, закрученную в пружинки тяжелую гриву. Кого бы ни рассчитывал встретить этот клоун, вряд ли он ожидал шута.
Поиграем, коллега?
Огонь!
— Стреляй! Стреляй, Андреич! Уйдет ведь фриц! — хриплый голос ведомого поднял Кожухова с койки, бросил в пот. Ладони дернуло болью, словно под ними снова был раскаленный металл пулемета… лучше б так, в самолете на два шага от смерти, но вместе. Чтобы Илюха опять был жив. Но юркий «МиГ» с двумя звездами на фюзеляже рухнул в поле под Бельцами, а товарищ старший лейтенант Плоткин не успел раскрыть парашют.
Или не сумел — Кожухов видел, как друга мотнуло в воздухе, приложив головой о хвостовую лопасть. Клятый «мессер» уходил к Пруту оскорбительно медленно, но патроны кончились, и топлива оставалось впритык. Скрипя зубами, сплевывая проклятия, Кожухов развернул «МиГ» на базу. Он доложил командиру, сам написал письмо матери, выпил с парнями за упокой души — и которую ночь подряд просыпался с криком. Тоска томила угрюмого летчика, разъедала душу, как кислота.
— Приснилось что, Костя? — сосед справа, молодой лейтенант Марцинкевич приподнялся на локте, чиркнул зажигалкой, освещая казарму. — Может водички дать?
— Пустое, — пробормотал Кожухов. — Не поможет. Душно что-то, я на воздух.
Он поднялся, и как был, босиком, в подштанниках и нательной рубахе, вышел вон, глотнуть сладкой, густой как кисель молдавской ночи. Где-то неподалеку был сад, пахло яблоками — и мирный, доверчивый этот запах совершенно не подходил к острой вони железа и керосина. Кожухов подумал, что в Москве только-только поспели вишни. В тридцать девятом, когда Тася носила Юленьку, она до самых родов просила вишен — а их было не достать ни за какие деньги. Потом она трудно кормила, доктор запретил ей красные ягоды. Бедняжка Тася так ждала лета, Кожухов в шутку обещал ей, что скупит весь рынок — и ушел на фронт раньше, чем созрели новые ягоды. Левушка родился уже без него, в эвакуации, в деревенской избе. Он знал сына только по фотографии и письмам испуганной жены — ей, коренной москвичке был дик крестьянский быт. И помочь нечем — Кожухов оформил жене аттестат, раз в два месяца собирал деньги, но от одной мысли, что она, такая хрупкая и беззащитная, рубит дрова, таскает мешки с мукой и плачет оттого, что по ночам волки бродят по темным улицам деревушки, у него опускались руки. У Илюхи жены не было, только мать и сестра в Калуге, но друг воевал с непонятной яростью, словно один мстил за всех убитых. «А они наших женщин щадят?» — кричал он в столовой и грохал по столу кулаком. «Детей жгут, стариков вешают ни за что — пусть подохнут, суки проклятые!». Сам Кожухов воевал спокойно, так же спокойно, как до войны готовил курсантов в авиашколе. И до недавнего времени не ощущал гнева — может быть потому, что потери проходили мимо…
— Не нравишься ты мне, приятель! — настырный Марцинкевич прикрыл дверь казармы и остановился рядом с товарищем, неторопливо скручивая цигарку. — Которую ночь не спишь, орёшь. С лица спал, глаза ввалились, от еды нос воротишь.
— Ну уж… — неопределенно буркнул Кожухов.
— Сам видел — идешь из столовой и то котлету Кучеру кинешь, то косточку с мясом, а он, дурень собачий, радуется, — Марцинкевич затянулся и выпустил изо рта белесое колечко дыма.
— А тебе-то, Адам, что за дело — сплю я или не сплю? К девкам своим в душу заглядывай, а меня не трожь, — огрызнулся Кожухов.
Выстрел попал в цель, Марцинкевич поморщился. Статный зеленоглазый поляк как магнитом притягивал женщин — подавальщиц, парашютоукладчиц, связисток — и немало страдал от их ревности и любви.
— Мне-то всё равно. А вот эскадрилье худо придется, если ты с недосыпу или со злости носом в землю влетишь. Сколько у нас «стариков» осталось? Ты да я, Мубаракшин, Гавриш и Петро Кожедуб. И майор. Остальные мальчишки, зелень. Погибнут раньше, чем научатся воевать. Ты о них хоть подумал, Печорин недобитый?
Гнев поднялся мутной водой и тотчас схлынул. Кожухов отвернулся к стене, сжал тяжелые кулаки.
— Тошно мне. Как Илюху убили — места себе найти не могу. Так бы и мстил фрицам, живьём бы на куски изорвал. Думаю — поднять бы машину повыше, и об вагоны её на станции в Яссах, чтобы кровью умылись гады, за Плоткина за нашего.
— Тааак, — задумчиво протянул Марцинкевич. — Плохо дело. Хотя… есть одно средство. Скажи, ты ведь вчера второй «мессер» уговорил?
— Уговоришь его, как же, — ухмыльнулся Кожухов. — Он в пике вошел — а выйти — вот досада какая — не получилось.
Марцинкевич повернул голову, прислушиваясь к далеким раскатам взрыва, потом как-то странно оценивающе взглянул на Кожухова.
— Айда со мной к замполиту, получишь фронтовые сто грамм.
— Непьющий я, Адам, — покачал головой Кожухов и зевнул. До рассвета оставалось часа полтора, сон вернулся и властно напоминал о себе.
— Знаю, Костя, что ты непьющий. Но без ста грамм не обойтись — тоска сожрет заживо. А у нас летчиков первое дело, чтобы душа летала. Оденься и пошли.
В казарме было жарко от человеческого дыхания. Товарищи спали тихо, Кожухову тоже захотелось завернуться в колючее серое одеяло, но он натянул форму и вернулся к лейтенанту. Тот, не глядя, махнул рукой, шагнул в ночь. Зябко поводя плечами Кожухов двинулся следом, мимо взлетного поля, на котором угадывались самолеты, грузные, словно выброшенные на берег киты. Колыхались над головами звезды, похожие на белые косточки красных вишен, шуршал и хлопал брезент, щебетали сонные птицы, какая-то парочка со смехом возилась в кустах. Девичий голос показался знакомым — кучерявая, смешливая щебетунья из столовой аэродрома, то ли Марыля, то ли Марьяна. Почему-то Кожухову стало неприятно.
Плосколицый, безусый «особист» встретил поздних гостей хмуро. Он вообще был нелюдимом, ничьей дружбы не искал и к нему особо никто не тянулся — опасались и не без причины. Слишком легко могла решиться судьба от пары-тройки не к месту сказанных слов. Впрочем, доносчиков в эскадрильях не водилось, да и сам «особист» сволочью не был, не давил парней зря. Так… щурился из-под очков, словно в душу смотрел. На молодцеватое «Здравия желаю, товарищ капитан» он вяло махнул рукой — мол, вольно. Сел на койке, почесал потную грудь — ждал, что скажут бравые летчики, зачем подняли.
— Докладываю, товарищ капитан, — вытянулся Марцинкевич, — старшему лейтенанту Кожухову полагаются фронтовые сто грамм. «Мессер» сбил, напарника потерял. Лучший истребитель в эскадрилье, комсомолец, герой, наградной лист на него ушел в дивизию. Надо, товарищ капитан.
— Надо так надо, — безразлично согласился особист, зевнул и полез под койку. Достал бутылку без этикетки, взял со стола стаканчик, наметил ногтем невидимую риску и налил водку — подозрительно мутную, с резким и сложным запахом.
— Садитесь, товарищ лейтенант. Пейте залпом, не закусывайте. Затем закрывайте глаза.
Удивленный Кожухов хотел было спросить «зачем», но не стал — куда больше его волновал вопрос, сможет ли он выпить столько в один присест. Привычки к спиртному ему и на гражданке порой не хватало. Виновато глянув на Марцинкевича, он присел на колченогую табуретку, глубоко вдохнул и одним глотком выпил обжигающую рот жидкость. От едкого вкуса его чуть не стошнило, Кожухов поперхнулся, зажмурился и закашлялся.
— Не в то горло попало? — участливая рука похлопала его по спине, возвращая дыхание. — Смешной ты, Котя. Котеночек мой!
Раскрасневшееся, ласковое лицо Таси возникло перед Кожуховым. Он сидел в своей комнате на Столешниковом, за накрытым по-праздничному столом. Ветчина, икра, утка с яблоками, малосольные огурчики, мандарины, вишневый компот в графине. В углу стыдливо поблескивала украшениями старорежимная ёлочка. Кудрявая Юленька в пышном розовом платьице мурлыкала на диване, нянчила куклу, шепеляво уговаривая её сказать «ма-ма». Упрямый Левушка пробовал встать на ножки в кроватке, плюхался, но не плакал, только хмурил дедовские, широкие брови, надувал губешки и снова поднимался, цепляясь за прутья. Старый Буран одышливо хрипел под столом, стукал по полу тяжелым хвостом, Кожухов чувствовал ногой его теплую спину. Тихонько играл патефон.
— Хочешь знать, что я тебе подарю, — улыбнулась жена.
— Нет, — покачал головой Кожухов. — До полуночи — не хочу, и тебе не скажу, пусть сюрприз будет.
— Умираю от любопытства, — призналась Тася и милым жестом поправила волосы. — А ещё гадаю, — каким он будет, сорок четвертый год. Так хочется в августе к морю, в Ялту, с тобой вдвоем… Осенью Левушка пойдет в ясли, а я вернусь в библиотеку, начну работать. Буду вести кружок юных читателей, заседать в комсомольской ячейке, запаздывать с ужином, ты станешь сердиться, разлюбишь меня и бросишь!
— Что ты за ерунду несешь? — отставив бокал шампанского, Кожухов встал со стула, подхватил жену и закружил по комнате, покрывая поцелуями. — Милая, дорогая, лучшая в мире моя Тасенька, я тебя никогда не брошу!
Растрепавшаяся жена смеялась, отмахивалась «дети же смотрят». И правда, Юленька с Левушкой тут же подали голос. Кожухов подхватил их обоих, устроил «веселую карусель», потом плюхнулся на диван, щекоча малышей за бока, обнимая их горячие, доверчивые тельца. За тонкой стенкой выстрелило шампанское, загудели веселые голоса соседей. На улице падал медленный снег, засыпая белой солью московские переулки. Это был его дом, средоточие жизни, за которое стоило умирать. И убивать…
— Очнитесь, товарищ старший лейтенант! Приказываю — очнитесь! — Кожухов почувствовал тяжелый удар по лицу и вскинулся. Где-то далеко гудели моторы, ухали зенитки — шла ночная атака. Невозмутимый «особист» хлопнул его по плечу и подтолкнул к двери:
— Приступайте к несению службы!
— Есть! — козырнул Кожухов и вышел, нарочито чеканя шаг.
Марцинкевич скользнул за ним:
— Полегчало? Секретная разработка, брат! Только к летчикам поступает, чтобы злее фашистов били.
— А почему всем не выдают? — вяло удивился Кожухов.
— За особые заслуги положено, — подмигнул Марцинкевич. — Отличишься в бою — вот тебе, боец, премиальные. Не отличишься — простую водку хлестай, глаза заливай, чтобы белого света не видеть.
— Ясно, — кивнул Кожухов. Хотя ничего ясного в этой истории не было. Ещё несколько минут назад он был дома, обнимал жену, играл с детьми — и вот перед ним жаркая молдавская ночь, сонные часовые и взлетное поле аэродрома. Но помогло — по крайней мере, он воочию вспомнил, ради чего воевал, и ради чего ему стоило вернуться живым.
Утро принесло неприятности, неожиданные и досадные. Подвел механик — не проверил движок. Злой, невыспавшийся Кожухов поднял «МиГ» в тренировочный полет и в сорока метрах над землей мотор заглох. Чудом удалось развернуться и спланировать на поле. Машина уцелела, сам Кожухов сильно ударился лицом о приборную доску, вышиб зуб, но в остальном не пострадал. Он сидел в кабине, не поднимая стекло, видел, как бегут к самолету товарищи, как спешит, подскакивая на кочках, машина с красным крестом. Его трясло от близости смерти — первый раз за четыре года войны и семь лет полетов он проскользнул на волосок от гибели. И ощущение это странным образом разделило жизнь на «до» и «после» — сильней, чем начало войны, сильней, чем первый убитый друг. Да, он, Костя Кожухов может стать кучей кровавого мяса в любой момент. Значит жить надо так, чтобы ни единого дня не жалеть о прожитом. Чтобы у старого дома остался шанс устоять, чтобы дети наряжали елку в маленькой комнате и прятали подарки для мамы — надо летать выше…
Через три дня новый механик вывел на фюзеляже кожуховского «МиГа» третью звездочку, через неделю — четвертую. Через две — они с Марцинкевичем начали летать вместе. Лейтенант пошел к Кожухову в ведомые и оказался прекрасным напарником — чутким, смелым, рассудительным и удачливым. Они слетались буквально за один день, выписывая в ошеломленном небе «бочки» и петли. И когда в штабе округа заподозрили, что немецкие войска готовят контрнаступление, форсировав Прут, майор Матвеев не сомневался, кого отправить в разведку. Фотокамеру в отсек за кабиной — и вперед, соколы!
Их с Марцинкевичем вызвали прямо с киносеанса. Сигнала тревоги не было, значит, дело серьёзное. На миг летчика охватила тревога — вдруг пришла похоронка. Кожухов помнил — капитану Окатьеву товарищ майор лично передавал письмо, оповещающее, «ваш сын, рядовой Михаил Окатьев погиб смертью храбрых в боях за Киев». Жена капитана с двумя младшими дочерьми пропала без вести в первые дни войны, сын оставался последним, и добряк Матвеев хотел смягчить удар. По счастью все оказалось проще.
— Вот здесь, товарищи летчики, — кривой палец майора провел по карте черту — транспортный узел, станция, движение поездов идет постоянно. Вот здесь, за деревней, фальшивые огневые точки. Вот в этом лесочке наш разведчик засек замаскированные танки. А за этим болотом по непроверенным сведениям тщательно спрятан аэродром.
— Проверить, Степан Степаныч? — хохотнул Марцинкевич и надавил большим пальцем на мятый квадрат, словно раздавливая клопа.
— Поверить на слово. Тщательно всё заснять, отметить на карте, привезти фотографии местности. В драки не лезть — ещё успеете навоеваться. Самое главное — вернуться живыми и доставить данные. Всё ясно? — коренастый майор снизу вверх посмотрел на высоких, подтянутых летчиков. — Документы перед полетом сдать, чтобы вас не опознали, если…
— Обойдемся без «если», товарищ майор, — веско сказал Кожухов. — Справимся. На войне всегда помирает слабый. А мы вернемся. Вот только просьба у меня есть. Фронтовые сто грамм с собой взять можно? Мало ли, ранят, собьют, хоть на дом посмотрю напоследок.
— «Особисту» скажу, пусть выдаст, — нехотя согласился майор и добавил короткую непечатную фразу. — Вернетесь с данными, по медали каждому будет. Марш!
Вылет назначили на четыре утра, самое тихое время. Новый механик, кривоногий казах — Кожухов никак не мог запомнить его заковыристую фамилию — сквозь зевоту пожелал им удачи. Заклокотал мотор, самолет вздрогнул, подчиняясь податливым рычагам. Счастливый Кожухов улыбнулся — миг взлета, отрыва от тверди, до сих пор оставался для него чудом. Он мечтал о небе с того дня, как мальчишкой впервые увидел неуклюжий летательный аппарат. И всякий раз как пересечения крыш, дорог, рек и гор превращались в огромный клетчатый плат, простертый под крылом железной птицы, он вспоминал «Сбылось!». От полноты чувств Кожухов заложил петлю, Марцинкевич последовал за ним, как приклеенный. Будь это в августе сорокового, где-нибудь на московском аэродроме, как бы хорошо вышло покрутить фигуры высшего пилотажа в черном, прохладном, как речная вода, небе…
Линию фронта они миновали легко. Темь стояла глухая, шли по приборам, Кожухов бегло сверялся с картой. Земля внизу казалась одинаково безразличной к войне и миру, словно большое животное со смоляной лоснящейся спиной. Ровный рокот моторов навевал неудержимую дрему, чтобы не клевать носом Кожухов отламывал крохотные кусочки от большого ломтя пористого шоколада и сосал их, смакуя на языке горьковатый вкус. Он думал о Тасе, от которой уже две недели не было писем, о новенькой летной куртке, о глупой ссоре с капитаном Кравцовым, который спаивал молодых и бахвалился, что с похмелья садился за штурвал как ни в чем не бывало. О неподвижном взгляде убитого немца — молодой, рыжеватый парень просто лежал навзничь посреди поля, как будто заснул, раскинув руки среди ромашек. Летчику захотелось пить, рука потянулась к фляжке — и вдруг ослепительный свет резанул по глазам. Прожектор… второй, третий. Следом ударили зенитки. Самолет ощутимо тряхнуло. Не задумавшись, Кожухов резким толчком толкнул штурвал от себя, заложил петлю и снова выскользнул в непроглядную темень. Ведомый ушел в другую сторону. Что-то бухнуло совсем рядом. Кожухов оглянулся — Марцинкевич горел, яркое пламя билось под правым крылом, ползло по фюзеляжу, подбираясь к хвосту. Испугаться за напарника он не успел — с ловкостью конькобежца дымящийся самолет скользнул в пике, накренился и сбил огонь. «Ай да Адам!» с гордостью подумал Кожухов.
Судя по карте, машины шли в районе транспортного узла, над Яссами. «Фальшивая» огневая точка оказалась более чем настоящей, хотя и торчала не совсем там, где указали разведчики. Осталось разобраться с аэропортом. Хорошо было бы угостить фрицев парой-тройкой веселых бомб, но, увы… в следующий раз, подадим вам, герр фашист, ранний завтрак. Кожухов оглянулся назад — ведомый не отставал пока, летел ровно — но надолго ли его «на одном крыле» хватит? Время шло к рассвету, темень вокруг кабины сменилась серым туманом, ещё немного и рейд из опасного превратится в самоубийственный. Недовольный собой Кожухов собрался приказать «на базу», но Марцинкевич не стал дожидаться. Неожиданно он обогнал ведущего, и в пике ушел вниз, к земле. Взревел мотор. «Неужели потерял управление?» — встревожился Кожухов, снижая высоту. Он ждал взрыва. Но вместо столба огня перед ним расстилалась болотистая луговина, поросшая мелким осинником. Марцинкевич на бреющем прошелся над деревцами, заложил круг, другой, покачал крыльями — словно куропатка, которая притворяется раненой, отманивая лису от гнезда. И вот, маскировочная сетка полетела в сторону и три «фокке-вульфа» рванулись вверх за лакомой добычей — одиноким русским самолетом. Хитрец Марцинкевич таки раздразнил их. «Волга-Волга, я Звезда» — закричал Кожухов в передатчик. «Волга-Волга, аэродром в квадрате четыре, как слышите, прием!». И, едва дождавшись неразборчивого «Я Волга» изо всех сил надавил на рычаг.
Первой же очередью он задел бензобак ближайшего «фокке-вульфа» и с удовольствием проследил, как дымящаяся машина вписалась в пруд. Двое остальных попытались взять его в клещи, пули чиркнули по стеклу кабины, пробили крылья, но не повредили машину. Кожухов недолго думая ушел вверх, в молочную глубину облаков. Он ждал преследования, но второй «фокке-вульф» вдруг чихнул мотором и замер, а затем начал падать. От самолета отделилась темная фигурка, вздрогнул купол парашюта. Немцы часто сбивали выпрыгнувших русских пилотов, наши тоже, случалось, давали очередь. Кожухов брезговал.
Третий «фокке-вульф» ушел вверх. Кожухов ждал, что противник попробует сесть к нему на хвост — зря. Немецкий ас отследил, что самолет Марцинкевича медленней и не настолько маневрен, и тут же сцепился с ним. Хорошо было бы в свою очередь попортить ловкачу крылья, но проклятый рычаг вдруг заклинило. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы справиться с управлением. Когда машина легла на курс, последний «фокке-вульф» уже уходил вниз, припадая на крыло — охоту драться фрицу, похоже, отбило. Аппарат Марцинкевича тоже вильнул, но выровнялся. Всё. Задание выполнено. Кожухов дернул рычаг на себя и увел самолет высоко в облака, туда, где медленно просыпалось большое солнце. Ведомый скользнул за ним.
Обратный путь показался намного дольше — словно время, собранное в пружину, растянулось и повисло, выскользнув из часов. В голове Кожухова вертелась идиотская «Рио-Рита» из давешнего фильма, он против воли насвистывал «па-рам, па-ра-ра-рам, парам-парам-парам, па-ра-ра-рам», спохватывался, замолкал и начинал снова. Линия фронта была уже близко. Сонный Прут колыхался внизу, патрули крутились у переправы, куда-то ползла колонна неуклюжих грузовиков. Кожухов опасался зениток, но им повезло и в этот раз — прячась в белобоких облаках, они проскользнули высоко над позициями противника. Дальше были свои. Оставались считанные километры до аэродрома — но Марцинкевич не дотянул. Самолет неуклюже приземлился на заброшенное картофельное поле, ткнулся в землю и затих. Не тратя время на раздумья, Кожухов сел чуть поодаль, открыл кабину, и, прихватив перевязочный пакет, поспешил к напарнику.
Лейтенант сумел поднять стекло кабины, но выбраться сам уже не смог. На красивых губах пузырилась розовая пена, лицо осунулось, стало белым, точно фарфоровое. Кожухов подхватил напарника, вытащил, положил на траву, осмотрел. Пулевое ранение в голень, ссадина на виске, кровь на гимнастерке… вот оно. Небольшое аккуратное отверстие в правой стороне груди. Похоже, осколок в легком, и бинты тут особенно не помогут. Госпиталь нужен, врачи, операция. Не дотянет…
— Плохи мои дела, Костя? — неожиданно спросил Марцинкевич, и открыл глаза.
— Не дрейфь, старик, — попробовал улыбнуться Кожухов. — Бывало и хуже. Помнишь, как Федор горел? Приземлился, сапоги с кожей срезали, лица не было, за него и выпить успели. И ничего, очухался, подлечили как новенького, до сих пор летает.
— Плохи. Мои. Дела, — повторил Марцинкевич и раскашлялся, страшно, со свистом.
— Да, — помедлив, согласился Кожухов. — Плохи, но выжить можешь. Сейчас засуну тебя в кабину и айда в госпиталь.
Марцинкевич поморщился:
— Знаешь, с детства врачей не любил. Если пора помирать — лучше здесь, под солнцем.
— Погоди ты себя хоронить, — неуверенно произнес Кожухов. В глубине души он согласился с другом — лучше встретить смерть посреди поля, под стрекот кузнечиков, щебет птиц и грохот далеких взрывов, чем ловить последние глотки воздуха на госпитальной койке, в окружении стонов, крови, гноя и неистребимого запаха дезинфекции. Но с другой стороны в госпитале у друга был шанс. А здесь — нет.
У Марцинкевича случился новый приступ кашля. Лейтенант застонал, вцепившись пальцами в мокрую гимнастерку, сплюнул кровь и попросил:
— Попить бы…
Кожухов сунул руку в карман — вместо привычной большой фляги там лежала маленькая, увесистая. Та самая.
— Сто фронтовых грамм есть. Хочешь? Заодно вспомнишь, зачем за жизнь зубами цепляться.
Утерев губы ладонью, бледный Марцинкевич приподнялся и просипел:
— Убери!!! Не хочу. Нечего мне вспоминать и возвращаться некуда.
— Как это — некуда? — удивился было Кожухов и отпрянул, увидев как страшно изменилось лицо друга, как сжались бледные кулаки и задрожали губы.
— Так это. Ад у меня за спиной. И не спрашивай, — выдохнул Марцинкевич, закашлялся и обмяк.
И вправду — с «гражданки» никто не писал красавцу поляку, он единственный равнодушно ожидал почтальона, ничего не рассказывал о родне и не мечтал, что станет делать когда война кончится, уходя от разговоров под любыми предлогами. Может детдомовский? Или погибли все? Или… живо вспомнился черный автомобиль, шаги по лестнице и беспомощная фигура соседа-инженера, в криво застёгнутом пиджаке. Останемся живы, долетим — разберемся! Кожухов подхватил тяжелое, неуклюжее тело друга и поволок к машине. Кое-как загрузив Адама в кабину, он запустил мотор. Самолет тяжело взлетел, и едва набрав высоту, Кожухов дал скорость. Может быть повезет…
Он довез друга живым. Марцинкевич умер спустя два дня в медсанбате, не узнав, что представлен к награде. Судьба Кожухова сложилась благополучно — он дошел до Германии, сбил ещё пять машин, был дважды ранен, оба раза почти легко. День победы он встретил в Дрездене, в переполненном госпитале — плакал вместе со всеми, целовал медсестер, танцевал вприсядку, кряхтя от боли в заживающих ребрах, обнимался, счастливо бранился. И ещё несколько дней засыпал и просыпался с улыбкой, веря и не веря — впереди ждала новая, мирная жизнь. …Победная открытка из Дрездена с белокурой фройляйн и размытыми тусклыми строчками на пожелтевшем картоне до сих пор хранилась у жены в ящике письменного стола.
В августе сорок пятого Кожухов демобилизовался, вернулся в Москву к жене и детям. Вместо ДОСААФ, по боевому знакомству, он устроился в Аэрофлот, стал летать по стране, изучая на практике рельефы местности и чудные нравы казалось бы одинаковых советских людей. Дом круглился полною чашей — телевизор, холодильник, добротная мебель, заграничные костюмчики детям, хорошие туфли жене и мутоновую шубку ей же. В пятьдесят пятом они получили квартиру. Раз в году всей семьёй ездили в Крым, раз в году Кожухов в одиночку летал в санаторий в Друскининкай, вдали от бдительного ока супруги хорошо выпить и погулять вдоль моря, слушая монотонный шепот прибоя.
В день Победы в Москве собиралась почти вся бывшая эскадрилья — вспомнить войну, помянуть боевых товарищей. Один-два однополчанина оставались потом погостить на недельку, бегали по магазинам, ходили в театры, по вечерам пили водку и пели военные песни, не замечая неодобрительных взглядов угрюмой хозяйки дома. Пару раз Кожухов ездил в Арзни к Сарояну, один раз выбрался в Харьков навестить Кожедуба, один раз летал в Иркутск на похороны Окатьева. Марцинкевича он вспоминал редко.
Дети росли хорошими, послушными, аккуратными. Белокурая душечка Юля носила пятерки, танцевала в ансамбле Дворца Пионеров, ездила на гастроли, мечтала стать актрисой, но, провалившись в ГИТИС, проявила благоразумие и подалась в Институт Культуры. Гордясь красотой дочери Кожухов охотно тратил деньги на пестрые платья, элегантные пальто и через знакомую стюардессу доставал девочке тоненькие чулки в пестрых упаковках. Лобастый, упрямый Левка рос маменькиным сынком, не доверяя отцу и опасаясь его. С матерью он секретничал, по малолетству ластился и обнимался, к нему не подходил никогда. Когда находилось время, Кожухов пробовал возиться с мальчишкой, строить модели аэропланов, гонять в футбол — но раз за разом складывалось ощущение — сын отсиживает повинность, как урок в школе. Со временем занятия сошли на нет. К семнадцати годам Левка превратился в колючего, язвительного подростка, которого интересовала лишь музыка — новомодный, пронзительный, режущий уши джаз. В институт он не поступил, к весне намечалась армия. Устав от независимости и изысканной грубости сына, Тася вздыхала — может форма его исправит.
Жена старела. Красиво, с достоинством, удерживая позиции батальонами баночек с кремами, пудрами, присыпками и другими дамскими штучками, одеваясь по моде, неброско и элегантно… Но шея уже сдалась и морщинки около губ залегли глубоко и седину раз в две недели приходилось закрашивать у парикмахера. Впрочем, все женщины, побывавшие в эвакуации, старились рано. Кожухов помнил, сколько пришлось перенести Тасеньке и жалел её, стараясь не замечать признаки возраста и перемены в характере. Он видел, что увядающий блеск красоты затмевает жене глаза, что успехи любимой районной библиотеки и заседания общества книголюбов ей стали важнее дома, но не упрекал — ему ли с его полетами обижаться на супругу за невнимание? Дважды в год по традиции Кожухов водил Тасю в театр, в день свадьбы заказывал столик в «Метрополе», дарил цветы. И все.
У него оставалось небо. Могучая, послушная машина, по мановению рук уходящая в высоту, острая радость скольжения — прочь от тверди. Бесконечные облака, гул ветра, рокот моторов, пестрые сети маршрутов — Кожухов не уставал любоваться живым лоскутным одеялом земли и громадным, бесплотным воздушным пространством. От немыслимой высоты — тысячи метров вниз, за хрупкой тоненькой перегородкой дна — всякий раз покалывало под ложечкой. Он срастался с машиной, почти воочию чувствуя, как по жилам течет бензин, ребра держат борта, а мускулы двигают лопастями моторов. Кожухов ощущал себя властелином, хозяином жизни сотен людей, доверившихся ему в тот миг, когда они поднялись на борт. Только он мог доставить этот груз из точки А в точку Б, минуя облачность и зоны турбулентности, не давая крыльям обледенеть, а приборам сбиться с курса. И когда после объявления «наш самолет успешно приземлился в аэропорту…» пассажиры поднимали радостный гомон, он гордился собой. Первые мирные годы Кожухов скучал по фигурам высшего пилотажа, потом привык.
Время текло неспешно и ровно, как полет по знакомой трассе. Жена работала, задерживалась допоздна в библиотеке, приносила почетные грамоты в рамочках, со дня на день ожидал места заведующей. Дочь училась, плясала, беспечно болтала по телефону о чем-то, звонко смеясь в трубку. От неё пахло красивой жизнью. Сын хамил, огрызался и сидел у себя в комнате. Лето сменялось осенью, осень — зимой. Двенадцатого апреля 1960 года, Кожухов проходил очередной медосмотр. И узнал, что летать ему больше не светит — сердце, сосуды, сбоит давление — возраст, знаете ли, кто вам только летать разрешил? Коньяк не помог, стыдливый намек на благодарность тем паче. Не сдержавшись, Кожухов накричал на молодого врача, тот брезгливо поправил очки и попросил приберечь при себе все эти фронтовые штучки. Оставались кой-какие старые связи — но мудрый как слон терапевт Вениамин Ефимович, пользовавший ещё родителей Кожухова, развел руками — сердце сдает. Отдых, дорогой мой, профильный санаторий, а лучше в клинику на пару недель — обследуетесь, подлечитесь, потом и поговорить можно будет. Самое скверное было в том, что до пенсии Кожухову оставалось ещё полгода стажа. Сочувственная кадровичка пообещала поискать варианты, начальник аэропорта предложил перейти в наземную службу и работать ещё пять лет. Но в любом случае это значило — небо закрыто. Максимум — ехать в колхоз, садиться на «кукурузник», опрыскивать поля химией — в глубинке не так много хороших летчиков на здоровье могут закрыть глаза. Но Тася на это никогда в жизни не согласится. И Юля учится.
…Всю неделю Кожухов возвращался домой поздно и навеселе — беганье по кабинетам, бумажная волокита и разговоры с «нужными» людьми не привели ни к чему. Эта пятница не была исключением. Впереди ждали долгие, бессмысленные выходные. Соблазн маленькой тихой рюмочной в двух кварталах от дома оказался непреодолим — битый час Кожухов проторчал за столиком, смакуя мерзкую водку, иссохший бутерброд с жестким ломтиком сыра и скверные мысли. Тася с порога, учуяв запах, презрительно фыркнула «опять выпил» демонстративно навела полную сервировку и удалилась к соседке с третьего этажа, обсуждать выкройки летних платьев. Милашка Юля, наоборот, прибежала ластиться. Она щебетала, щелкала его по брюшку, целовала в шершавые щеки, мешая сосредоточиться на действительно вкусной еде — готовила жена все же прекрасно. Вырез платья дочери казался слишком глубоким, аромат духов чересчур сладким для барышни, и в прелестных голубеньких глазках читалась спешка. Ей нужны были деньги. Мрачный Кожухов велел Юлечке принести кошелек из кармана пиджака, отсчитал две красненькие бумажки, покорно снес взрыв благодарностей и вернулся к биточкам в соусе. Перспектива объяснять семье, что отныне придется сильно урезать расходы, его не радовала. По коридору простучали звонкие каблучки, хлопнула входная дверь. И тут же из комнаты сына раздалась резкая, взвизгивающая мелодия — сколько раз просил делать тише! Из-за стены пищали и ныли трубы, ухала туба, истерически стучал барабан. Мяукающий женский голос начал песню. На немецком языке. Это было уже чересчур.
Разъяренный Кожухов пинком распахнул дверь в комнату сына. Тот валялся на кровати одетый, в нелепых брюках дудочкой и рубашке в сиреневый «огурец». На тумбочке новенький, им, Кожуховым, собственноручно купленный проигрыватель накручивал пластинку с пестрой этикеткой.
— Пааа, ну что опять, — капризно протянул Левка.
Ничтоже сумняшеся, Кожухов аккуратно остановил иглу, поставил головку в держатель, снял пластинку и с хрустом сломал её об колено.
Левка вскочил как ужаленный:
— Па, ты что с ума сошел?! Это Серегин пласт, ему отчим из ГДР привез, он мне на день послушать дал! Я с ним теперь не рассчитаюсь!!!
Бледный Кожухов наступил на обломки пластинки, сверху вниз глядя на сына:
— Пока я жив, Лёва, в этом доме немецких песен не будет. Я не для того воевал, и друзья мои не для того гибли, чтобы мой сын фашистскую музыку слушал.
Сын вскинулся, злые слезы брызнули из глаз, кулаки сжались:
— Ты совсем дурак, да? Это из ГДР ансамбль, говорят тебе, из ГДР!
— Как ты с отцом разговариваешь?! — рявкнул Кожухов.
— Как хочу, так и разговариваю. Достал ты со своей войной! Думаешь, раз фашистов стрелял, так на всё право имеешь? Ты хоть раз спросил у матери, как мы жили, пока ты на фронте шоколад жрал?
— Что?! — опешил Кожухов.
— У Шурки Ляпина брат служил, он рассказывал, летчики зыкински в войну гуляли, как сыр в масле катались, ели-пили и с девками шлялись. А мама буряк перебирала буртами, дрова на себе возила, председатель колхоза её лапал, и она позволяла, чтобы трудодни засчитали. А когда я болел, она все золото продала, чтобы мне сульфидин купить и молоко каждый день давать. А тебе сказала, что украли в эвакуации. Ты не знал ничего, конечно, ты же летал, как герой. А я слышал, как они с бабой Людой на даче говорили, думали я сплю, я маленький, не пойму ничего. Плевал я на то, что ты воевал, слышишь! Плевал!!!
Побледневший Кожухов ударил сына по мокрой от слез щеке. От толчка Левка упал на постель, скорчился, заплакал, как маленький, бормоча околесицу. Его было страшно жаль, как трехлетнего пухлого малыша, который расшиб о порог коленку и ищет папу, чтобы утешиться. Но ядовитые слова сына отгородили его, замкнули. Словно чужой мальчишка рыдал в его доме… какой мальчишка, на год старше уже погибали на фронте, скривился Кожухов, пнул обломки пластинки и вышел, хлопнув дверью. В буфете, он точно помнил, стояла чекушка дешевой водки на случай визита сантехника или слесаря.
Заветная полка оказалась пуста — не иначе, предусмотрительная жена перепрятала заначку. Наивная… В среднем, запертом ящике стола, там же где ордена и медали дожидалась своего часа миниатюрная бутылочка армянского коньяка — давний подарок Сарояна. Налив благородный напиток в пузатую старую рюмку, Кожухов залпом сглотнул, наслаждаясь спасительным, мутным теплом. Он надеялся, что уснет, и дурные мысли отложатся на утро нового дня. К сожалению коньяка не хватило, алкоголь оглушил Кожухова, но оставил сознание ясным. Скрипучие ходики пробили десять. Жена все не возвращалась, дочь тоже, сын заперся у себя и назло отцу крутил записи толстого хриплого негра с еврейской фамилией. На всякий случай — бывают же чудеса — Кожухов тщательно осмотрел все три ящика стола. В первом, в бумагах оказалась неожиданная заначка в десять свернутых трубкой бумажек. Во втором, увы, не было ничего интересного. В третьем, за трофейными золотыми часами, губной гармошкой и сломанным фотоаппаратом, до которого никак не доходили руки, обнаружилась маленькая и тусклая, армейская по виду фляжка, в которой что-то тяжело булькало. С усилием отвинтив крышечку, Кожухов ощутил смутно знакомый, сложный и резкий запах. Сто фронтовых грамм. И судя по аромату, спирт из этой микстуры точно не выветрился. Не задумываясь, Кожухов одним долгим глотком опустошил фляжку, зажевал мерзкий вкус ломтиком лимона, опустился в любимое кресло и медленно закрыл глаза.
…Он сидел в кабине легкого «МиГа», до отказа отжав рычаг. Стылый воздух врывался сквозь дырку в стекле кабины, мотор чихал, масло кончилось. Царапина на щеке больно ныла, ноги затекли, голова кружилась от яростного куража битвы. Впереди были враги — простые и ясные, немцы, фашисты. В облака изо всех сил улепетывал на простреленных крыльях перепуганный «фокке-вульф». И знакомый, картавый голос Илюхи Плоткина надрывался в наушниках:
— Стреляй! Стреляй, Андреич! Уйдет ведь фриц!!!
Тряпочная сказка
Платье было великолепно. Белоснежное, новенькое, «с иголочки», с пышной юбкой, украшенной брабантскими кружевами, с тугим лифом, расшитым золотом, с ажурными рукавами. Ничего прекраснее просто нельзя было вообразить. Немножко чванясь, платье думало про себя, что и принцесса, пожалуй, не постеснялась бы пойти к алтарю в таком наряде. Оно висело в огромном, пахнущем нафталином шкафу, между траурным роброном черного атласа и лиловой кокетливой амазонкой. Позади были примерки, возня портних, иголочки и булавочки, счастливый смех милой невесты и восторги её подруг. Сегодня утром, только лишь рассветет, платье достанут из шкафа и впервые наденут по-настоящему. Они поедут венчаться в собор Сен-Жерве, через весь Париж. Будет музыка и цветы и горсти белого риса — только бы не испачкаться! А потом — бал, чудный бал…
— Зря мечтаешь! — фыркнул черный роброн и насмешливо колыхнул юбкой. — Свадебные наряды как бабочки — утром надел, вечером снял. И больше оно никому не нужно. Тебя отнесут на чердак, дорогуша, на пыльный гадкий чердак. И голодные крысы вмиг объедят всю твою красоту, и кружева и золото. Останется только тряпка, да тряпка! Так и знай!!
— Фи, как некуртуазно! — брезгливо дернула плечиком амазонка. — И не стыдно пугать новенькое! Его ещё могут перекрасить в милый цвет, хотя бы бедра испуганной нимфы или пепла увядшей розы. Или пустить на подушки в гостиной — белые пуфики это так стильно!
— Может оно и к лучшему, — пробурчал из глубины ветхий синий капот. — Чем дряхлеть потихоньку на вешалке, пугаться детей и моли, дрожать из-за каждого пятнышка — раз и съели.
— Как вам не стыдно! — вмешалось, наконец, величавое бальное платье, отделанное жемчугами. — Что за низкие вкусы, что за вульгарные манеры — можно подумать мы живем не у светской дамы самого высокого происхождения, а в дешевом гардеробе певички из Фоли-Бержер! Прекратите немедленно!
Свадебное платье так и обвисло. Вся радость испарилась, красота померкла, даже вышивка золотом потускнела. Представились крысы — оно видело их у портнихи — мерзкие крысы с усатыми мордочками и скверными, голыми хвостами, шлепающими по половицам. Вот они, цепляясь проворными лапками, поднимаются по подолу, въедаются в кружева, перегрызают нити… Платье ахнуло и промолчало до самого рассвета, не слушая увещеваний.
Едва солнце наполнило комнату, двери шкафа с грохотом распахнулись. Свадебное платье грубо сорвали с вешалки, вытащили наружу и стали топтать ногами, не жалея ни вышивок ни кружев. Красавица невеста визжала, что никогда не любила этого оборванца, пусть господь пошлет ему импотенцию, чуму и холеру, пусть у него выпадут все зубы и останется лишь один — для боли, пусть очередь его кредиторов протянется от бульвара Капуцинок до Сен-Жермен и у каждого в руке будет большая палка! Дружным хором причитали мать и сестры покинутой, бранился отец, рыдали слуги. Казалось, хаос продлится вечно. Наконец невесту успокоили и увели обедать, а опозоренный наряд затолкали в шкаф, чтобы вечером снова безжалостно вытащить.
Кое-как свернутое его понесли вверх, по узкой и темной лестнице. Зловеще скрипнула дверь, запахло пылью и плесенью. Платье бросили на старинный резной стул с вытертым сиденьем, не позаботившись даже поднять с пола белый подол. Скрежетнул засов. Всё.
Платье не умело плакать, и не в силах было сопротивляться. Что оно может — ломать рукава, шуршать бантами, волноваться легкими кружевами? Судьба его решена, жизнь кончена. Оставалось дождаться крыс. Часы тянулись томительно долго, с улицы доносился шум экипажей, крики разносчиков, перебранка прислуги. Наконец, настал вечер. Загорелись тусклые фонари, заспешили в театры нарядные дамы и прифранченные кавалеры. Подумать только — бал бы уже начался… А оно прозябает здесь, среди старой мебели, рухляди и тряпья.
— Что, не нравится? — раздался пронзительный голосок.
Ах! Крыса! Перепуганное платье изо всех сил скомкалось на стуле, подобрав повыше юбки и кружева.
— Время уносит все; длинный ряд годов умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу, как говаривал старик Платон. Вы, случайно, не читали Платона? А я вот, знаете ли, водил близкое знакомство — корешок переплета, правда, был жестковат…
Читать платье не умело, и разговаривать не хотело. Но философствующему крысу это не помешало — устроившись поудобней на расшитой подушке для ног, он продолжил вещать, в задумчивости покусывая собственный хвост.
— Кажется, я нашел достойного собеседника. Платон мне друг, но и истина порой обходится не дороже сырной корочки в сытый день. Да не пугайтесь так, не дрожите вашими глупыми бантами! Пока мне интересно беседовать, никто вас не съест, даже лапкой не тронет!
Страх ослаб, а затем и совсем исчез. Под неумолчный писк серого ценителя античной мудрости платье тихонечко задремало. Так и пошло — дни тянулись за днями, недели за неделями, на чердаке становилось то теплее, то холоднее, изредка с чердака капало и тогда прибегали служанки с тазами, иногда снизу заносили очередную ненужную рухлядь. Однажды платье увидело и вредный черный роброн, но разговаривать с ним не стало. Время шло, крыс старел, толстел и хромал, потом его место занял столь же просветленный сын, затем внук — тот любил поваляться на пыльном кружеве, декламируя волнительные рондели…
А потом появились поденщицы в белых косынках и аккуратных передниках. Окна раскрыли настежь, старые вещи стали вытаскивать прочь — дом продали, рухлядь отправили на помойку. К пыльной ткани несчастного платья впервые за много лет прикоснулись теплые руки.
— Мари, Жанетт, поглядите какая прелесть! И оно ведь никому не нужно, правда? Позвольте, я его заберу!
Платье бережно упаковали в серый мешок и понесли по улице. Новый дом оказался куда скромнее — в шкафу вместо бархата и атласа тихо висели льняные юбки, шерсть и сукно. Благородный наряд вызвал у них совершенно детский восторг и платье приободрилось. Его долго стирали в трех водах, срезали пышные банты и половину кружев, заузили юбки и немного расставили корсаж. А затем, затем…
Маленькая церковь в предместье, конечно, не шла ни в какое сравнение с роскошью Сен-Жерве. Но все же это была настоящая свадьба! Горели свечи, пели мальчики, кюре читал положенные молитвы и рядом с платьем красовался восхитительный черный костюм. А потом на ступеньках подружки осыпали невесту и жениха розовыми лепестками. И вечером они танцевали в кафе, кружились без остановки, задевая юбками мокрый пол. А ночью, осторожно расстегнутое, оно упало на пол рядом с черным костюмом — вот что такое счастье!
Платье думало, что на этом его судьба завершилась. Но вышло совсем по-другому. Его аккуратно отчистили, сложили в сундук, напичкав мешочками с нафталином. А затем стали доставать каждый год, в день свадьбы. Когда хозяйка Фантина ждала ребенка, она только раскладывала его на постели и улыбалась, когда беременность завершалась — наряжалась и целый вечер танцевала с мужем на кухне. Она любила своего Жана и свадебное платье тоже любила. И хозяйским дочерям нравилось разглядывать золотое шитьё, гладить банты и кружева, а когда мама не видит — примерять на себя чудный наряд. Наконец, старшая из них, Адель, выросла — и в один прекрасный день платье снова взялись перекраивать, ушивать и удлинять.
И снова гремела музыкой свадьба, кружились юбки, ахали подружки невесты, и тихонько вздыхала мать. Молодожены уехали в путешествие, вместе с ними платье повидало Прованс, прогуливалось по улочкам тихого городка со смешным названием Динь-ле-Бен и вернулось назад, благоухающее лавандой. Новая хозяйка перекрасила платье, придав белизне оттенок топленого молока и надевала его на праздники — случалось и по десять раз в год. В шкафу к старинному наряду относились с почтением, уважительно приседали и спрашивали совета. Единственная дочь хозяйки, Полетта, как и её мать когда-то забиралась в гардероб, чтобы посидеть там тихонько, прижавшись к нежной душистой ткани.
В свой черед и эта девушка собралась замуж, сияющая и гордая с веночком из флер-д-оранжа в пышных кудрях. Счастливый жених на руках снес невесту со ступеней церкви, а потом, вечером, в нетерпении вырвал две застежки из ослабевшей ткани. Платье вздрогнуло — не столько от обиды, сколько от дурного предчувствия. Оно не ошиблось — пришла болезнь. После рождения дочки Полетта начала чахнуть и в считанные недели истаяла. Супруг погоревал в меру — и женился на другой, шумной, крикливой тетке. Вещи прежней хозяйки скопом отправились на чердак, там же в крохотной мансарде разместили и падчерицу с няней. Скупая хозяйка считала каждый сантим, приходилось выкручиваться. Спасали золотые нянины руки. Пышные юбки пошли на подгузники и пеленки для малышки Жюли, из кружев сшили чепчики и царапки. А расшитый корсаж, пуговки и подкладка пригодились совсем для другого. Всякой девочке нужны игрушки, мягкие и понимающие друзья — чтобы было кому поплакаться, утыкаясь в тряпочное плечо мокрой от слез щекой, кого обнять, укладываясь в постель.
Так платье стало куклой. Сперва было до невозможности удивительно — у меня руки, ноги, глаза и чепчик? Меня одевают и раздевают, катают в колясочке? Мне говорят?
— Дорогая мадемуазель кукла, скушай ложечку кашки за папу, ложечку за няню, ложечку за кота Фелисьена, две ложечки за мамА на небесах. А за тетю Клодетту пусть свиньи едят знаешь что?
Шаловливая девчонка разражалась хохотом, няня укоряла её, а потом смеялась вместе с нею. И кукла улыбалась про себя тряпочной блеклой улыбкой. Она полюбила ласковую Жюли, ей нравилось служить игрушкой, унимать дурные сны, выслушивать детские горести и обиды. А когда на чердак приходили крысы, злые крысы с усатыми мордами, кукла грозила им тряпочным кулачком и бормотала плохие слова, которым научилась от няни. В правой ноге она прятала большую цыганскую иглу — пусть только подойдут, скверные твари, враз уколю! И крысы слушались, уходили грызть свечку, хрустеть хлебными корками, копошиться в углах.
Девочка потихоньку росла, скудная жизнь ей нисколечко не вредила. Разыскав на чердаке старинную азбуку, няня стала учить воспитанницу читать — и, конечно же, кукла училась вместе с ней. До Платона они не дошли, но кое-как разобрать сказку Шарля Перро, песенку матушки Гусыни или стих из псалма могли обе. Их жизнь переменилась в один момент. Отец застал мадам Клодетту с лакеем, выгнал её из дома, три дня пил, а, протрезвев, вспомнил, что у него есть дочь. Жюли перевели вниз, накупили ей новых платьев, книжек с картинками, удивительных фарфоровых барышень, умеющих открывать и закрывать глаза и пищать «ма-ма». Даже няне достался теплый платок и бутылочка монастырского бальзама, исцеляющего все болезни. У куклы было время подумать о превратностях судьбы днем, когда Жюли училась или играла с новыми любимицами. Однако в постель брали именно её, тряпочную подружку. И на прогулку носили её, сколько бы ни ворчал отец.
У Жюли было доброе сердце и щедрая душа. Увидев в переулке маленькую калеку в поношенном платьице, которую на руках вынесла из подвала бледная мать, девочка не только вывернула свой кошелек и отдала беднякам все, что там было, но и подарила несчастной самое дорогое, что у неё оставалось — куклу.
Новый дом оказался самым скверным местом из всех, что видела кукла, и когда-то доводилось видать платью. Сырость, грязь, вонь, тараканы, крысы, два оборванных сопливых мальчугана, играющих с мусором на полу и молчаливая Луиза, еле способная поднять руку. В новой хозяйке едва теплилась жизнь, она неохотно ела жидкий суп, которым пичкала её мать, безразлично относилась к недолгим прогулкам, тычкам и щипкам младших братьев. Но при попытке отнять новую игрушку, вцеплялась в тряпку тонкими пальцами и начинала заунывно, страшно кричать. В кукле шевельнулось новое чувство — когда она была платьем, то думала только о себе, о своих прихотях и восторгах. А теперь училась жалеть.
Когда мать уходила из подвала искать работу, а мальчишки выкатывались во двор, возиться в лужах с такими же оборванцами, кукла тесно прижималась к Луизе, утешая и успокаивая её. Она тихонько пела все песни, которые успела выучить, рассказывала сказки Перро, приукрашивая их, как могла. Она заплетала девочке волосы, растирала холодные ноги, разминала ладошки. Однажды с кровати больной, прямо из рук вывалился апельсин — редкое лакомство, пожертвованное доброй соседкой. Поднатужившись, кукла упала с постели, смешно переваливаясь на шатких тряпочных ножках, прошла в угол и сумела докатить потерю назад, до края кровати. Потом посмотрела строго:
— Я смогла. Значит, и ты сможешь.
С того дня Луиза стала тренироваться — когда никто не видел, сползала с кровати, подымалась, цепляясь за спинку, приседала, как младенец, и снова вставала. Потихоньку она научилась ползать по стенке до низенького подвального окна, чтобы подышать воздухом, научилась сама заплетать себе волосы и часами тормошить непослушные пятки. Девочка заулыбалась, начала лучше кушать, разговаривать с матерью, пересказывать братьям сказки, услышанные от куклы. В один прекрасный день домой вернулся отец — его считали погибшим, а он попал в плен в Эльзасе два года просидел в лагере, потом нанялся матросом, чтобы подзаработать. И вот, с полным кошельком, на своих двоих явился к милой жене, дочке и сыновьям. Увидев пышную бороду отца, услышав его громовой хохот, девочка встала с постели и сама, ногами пошла навстречу. Как все обрадовались — и кукла тоже.
Луиза выросла — люди быстро меняются. Годы, проведенные в неподвижности, обострили неженский разум, научили терпению. С детской игрушкой она не расставалась — фантазии о говорящей кукле с годами стали казаться болезнью, но нежность сохранилась. Нищая замарашка сама поступила в Сорбонну, стала заниматься наукой, прослыла старой девой. Наконец вышла замуж за товарища по лаборатории, длинноносого шутника Лазара. Принаряженная кукла в фате ехала на крыше авто и улыбалась — довелось ещё разок повидать свадьбу.
В свой черед у хозяйки появились близнецы — мальчик и девочка. Дом круглился довольством, не переводились гости, голодные и веселые, не утихали споры и разговоры. По воскресеньям хозяин садился за пианино, хозяйка подпевала ему звонким голосом, а кукла любовалась ими с почетной полки. Но потихоньку тревога вкралась в беседы — приближалась война.
Когда боши вошли в Париж, хозяин исчез из города. Детей не выпускали из дома, Луиза рассчитала няню и делала все сама — не дай бог, кто узнает, почему у малышей рыжие, кудрявые волосы, длинные носики и зеленые внимательные глаза. По вечерам, когда все засыпали, она часто плакала, обнимая старую куклу. Как-то вечером в дом явился старый кюре — он долго шептался с матерью, уговаривая её. Потом малышей разбудили, наспех одели и увели прочь. Кукла их больше не видела.
Вместо близнецов в доме появилась Эмма, белокурая девочка с ледяными, безжалостными глазами. Она говорила «да, мадам», «нет, мадам», покорно вышивала платочки и чистила картошку, шла в постель ровно в восемь, никогда не играла и не смеялась. На куклу она посматривала, но не так, как смотрели дети. Потом как-то подставила табурет, бесцеремонно сдернула игрушку за ногу, и, не слушая протестов хозяйки, ножницами распорола тряпичный живот. В ватное нутро вложили свернутые письма, рану кое-как зашили суровыми нитками, поверх натянули крохотные панталоны и комбинацию, набросили новое платье, сделанное из хозяйкиного шелкового шарфа.
Хозяйка надела пальто и черную шляпу, взяла за руку воспитанницу. Та ухватила куклу. И они окунулись в дождь, петляли по сумрачным улицам, ныряли в арки, миновали мосты и перекрестки. Дважды мимо проходили патрули, но мать с дочерью и игрушкой не вызывали у них тревоги. Наконец, поднявшись по узкой лесенке, они отыскали нужное жилище. Девочка постучала три раза: здесь день рожденья Сюзанны?
— Вы с подарками? — отозвались из-за двери.
— Да, раздобыли конфеты для именинницы.
Конфетами оказались патроны. Кукле снова вспороли живот, достали письма и вложили карту с какими-то метками — за ней наутро придет боец из бригады Сопротивления. Девочку потрепали по голове, та молча стерпела ласку. Хозяйке дали хлеба и мокрый кусок мяса. Они вернулись домой.
Наутро к ним постучались гости — двое мужчин, заросших и жутко голодных. Луиза опустошила запасы, Эмма молча прислуживала за столом. Из живота куклы вытащили карту и засунули туда упакованное в конверт донесение. Девочка тем же вечером отнесла его в сырную лавочку и передала толстяку-хозяину, получив взамен схему аэродрома. Через два дня кукла попала в церковь — за какими-то списками. Ткань понемногу ветшала, переставала держать нитки. Но кукла терпела — она не очень понимала, что такое война, но люди с лающей речью ей не нравились, стрельба пугала и слезы хозяйки тоже не радовали. Надо так надо. Смерть от старости все же лучше бесславной гибели на чердаке, в зубах отвратительных грызунов!
Теплым июльским вечером они снова собрались навестить квартиру под самой крышей. Эмма постучала три раза: здесь день рожденья Сюзанны?
— Вы с тортом? — отозвался знакомый голос.
— Беги! — закричала Луиза и выхватила маленький пистолет. Она успела выстрелить дважды, потом ударила автоматная очередь. Но это задержало преследователей. Кубарем скатившись с лестницы, Эмма выскочила из подворотни и скрылась в соседнем дворе. Кто лучше детей Парижа знает хитросплетение улиц и улочек, подъездов и черных ходов, потайных лестниц и мостиков между домами? Не один бош не угонится за уличным воробышком, пусть попробует! Ну, лови!
Проворной Эмме удалось укрыться на чердаке заброшенного доходного дома. Она осторожно достала из куклы донесение, трижды прочла его вслух, запоминая намертво, и разодрала надвое. Исписанную половину она измельчила, изжевала и проглотила. А на чистой угольком написала записку: Эмма Югель, тринадцать лет, умирает, но не сдается. Да здравствует Франция! Если найдете мои слова — передайте отцу, что он может гордиться дочерью.
Свернутую записку девочка спрятала в многострадальный, залатанный живот куклы, поправила той панталоны и платьице. Потом посадила тряпочную посланницу на какой-то ящик, прикрыла дверь чердака и сбежала вниз. Кукла долго ждала возвращения Эммы, но так и не дождалась — дни сменялись ночами, лето зимой, зима весной, но двери больше не открывались. По счастью крысы здесь не водились — лишь пауки плели пыльные сети, приманивая зеленых осенних мух. Иногда за стенами грохотали выстрелы, рвались гранаты. Потом Париж наполнился шумом и гомоном, восторженными песнями и залихватской бранью. Из чердачного окошка кукле был виден салют — небо словно бы расцвело пестрыми, удивительными цветами. Это было последнее яркое воспоминание.
На чердак никто никогда не заходил, по лестнице не поднимался и дверьми не стучал. Новой весной голуби свили гнездо под крышей и кукла умиленно наблюдала как гадкие розовые создания, подрастая, превращались в красивых белых и пестрых птиц. Но однажды они улетели и не вернулись назад. Кукла осталась совсем одна. Она все время дремала, вспоминая долгую жизнь — выходки баловницы Жюли, ловкие руки Фантины, свою первую неудачу и первую чудную свадьбу. «Время уносит все; длинный ряд годов умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу» — как говаривал старый философ. Разум утихал в ней, как потихоньку гаснет фитиль в оскудевшей масляной лампе. Ещё немного — и придет темнота, тело станет кучкой ветхих лоскутов, а душа удалится… Кукла не знала, есть ли у неё душа, и старалась об этом не думать. Будь что будет, главное что не крысы!
Когда стены и пол задрожали, поднимая клубы пыли, кукла решила, что она попросту умирает. Но это всего лишь погибал её мир, темный сырой приют. Огромное чугунное ядро било в стену, обращая в развалины ветхое строение, падали камни, дребезжали и осыпались стекла, Дом вздрогнул натруженным старым телом, словно слон, сраженный масайскими копьями, тяжко вздохнул и рухнул. Кукла рухнула вместе с ним. Её выбросило из выбитого окна прямо на мостовую, под ослепительно яркое солнце, в разноцветный городской шум. В паре мест треснули, расползаясь, швы, из надрывов полезла сырая вата. «Это конец» успела подумать кукла.
Её подняли чьи-то сухие холодные ручки в вязаных митенках.
— Боже, какое чудо. Настоящий шедевр, игрушка ручной работы. Вот так чепчик! А личико, личико нарисованное — словно красавица спит и все понимает! Не бойся, малышка, тебе ничего не грозит.
Маленькая остроносая старушка осторожно уложила куклу на сгиб локтя, словно младенца, и поспешила по улице. Экспонат сильно пострадал от ненадлежащего хранения, надлежало заняться экстренной реставрацией. Кукла сама по себе молодая — судя по фасону чепчика, нарисованным румянам и ручкам без пальцев, нулевые — двадцатые годы. Но парча и кружева старше, гораздо старше. Интересно, что за мастер её работал?
Удивленная кукла успела разглядеть золотые буквы «Musee», подивиться мраморной лестнице с полированными перилами и парадной бронзовой люстре. Потом её отнесли в маленькую аккуратную комнатку и положили на застекленный стол. Бойкая старушка включила свет, разложила рядом с собой целую кучу таинственных и, чего уж греха таить, страшноватых инструментов. Митенки она сменила на резиновые перчатки, на морщинистой ручке кукла заметила синий номер, похожий на те, которыми хозяйки метят бельё. Осторожно орудуя пинцетами, старушка освободила куклу от платья и чепчика, внимательно осмотрела надрывы, задумалась вслух — поменять ли набивку или достаточно её просушить? Затем железным инструментом подцепила ветхие панталончики и ахнула, увидев дыру в животе — игрушка испорчена. Не безнадежно, но серьёзно, существенно. А что это там у нас? Ловкий пинцет подхватил обрывок бумаги и развернул его. Старушка поднесла к глазам лупу. Эмма Югель… Да здравствует Франция! …передайте отцу, что… гордиться дочерью. Две слезинки скатились с набрякших век, старушка поспешно подхватила их мягкой салфеткой, чтобы не повредить экспонат.
Для куклы началась новая, удивительная и интересная жизнь. Две портнихи, ахая и болтая, ловко сменили набивку, шелковой тонкой нитью заштопали усталую ткань, так что стало не разглядеть швов. Чепчик оставили прежний, а вот платье пошили новое, из зеленого пышного бархата. На грудь прикололи интересную брошь, похожую на остроконечный крест. И в одном из огромных залов поставили целую витрину, освещенную яркими лампами, положив рядом с куклой полустершееся письмо.
Тысячи тысяч людей теперь проходили мимо, любовались и хвалили её, восхищались отважным подвигом. Что тут отважного — просто валяться на чердаке, потихоньку отсыревая? Но наблюдать оказалось преинтересно — посетители все время менялись, а вместе с ними менялись моды. Изредка в музей приходили свадьбы, невесты волочили по паркету длинные шлейфы нарядных платьев — каждый год новых фасонов. Иногда, словно, чувствуя, что кукла соскучилась, приходила старушка-директор, со своей веселой веснушчатой внучкой и тихонько, чтобы никто не видел, разрешала им поиграть. Кукла шептала на ухо новой подружке старые сказки, девочка смеялась, думая, что ей чудится. А потом — снова витрина, подушечка и крепежи.
Иногда, холодными и долгими ночами по музею бродили крысы. Робко жались к огромным стенам, сновали из угла в угол, прячась в тенях, не рискуя выйти на середину огромного зала. Сонная кукла смотрела на них сверху вниз — как шлепают голые хвосты, как моргают яркие глазки-бусинки. Она больше не боялась ни грызунов, ни чердаков, ни ночей. Подумаешь, глупость — крысы!
Прибывающий поезд
В парке играла музыка. Вальс «Голубой Дунай», медь и золото духового оркестра. День был жарким для августа, музыканты тонули в поту и мечтали о свежем пиве. На площадке кружились пары — элегантные офицеры в серой полевой форме и черных с молниями мундирах «СС», с ними — красотки польки, белокурые и белокожие. Развевались цветами пышные юбки, скользили тупоносые туфли, ловко двигались начищенные сапоги. Пахло булочками и кофе. Вместе с волнами музыки соблазнительный аромат поднимался над парком и улетал дальше — за витые прутья ограды, вдоль по улочкам старой Варшавы. Обыватели поднимали носы, прислушивались и принюхивались — и веселье и запах кавы стали редкостью к четвертому году войны. Город все еще сохранял европейскую аккуратность помноженную на прославленный польский гонор — ясновельможная пани с прямой спиной, в залатанном но все еще пышном платье. Поезда штурмовали вокзалы, от писем ломилась почта, вовсю торговали подвальчики и лавчонки и блестящие магазины. За деньги можно было приобрести почти все.
В этот солнечный день люди вышли на улицы — даже у войны иногда нужно брать выходной. Молодые мамаши прогуливали младенцев — время не ждет, дети не спрашивают, рождаться им или нет. Старики грели кости на лавочках вдоль бульваров. Сновали задастые домохозяйки с авоськами и кошелками. Из пакетов выглядывали то вялый хвост сельдерея, то морщинистые куриные ноги, то горлышко бутыли, плотно обвязанное тряпицей. Семьи хотели есть — такова жизнь. Мужчины — самые смелые даже в полинялых мундирах — собирались по трое-четверо, чинно курили и ругали новый порядок. Блестя винтовками, обходили кварталы неспешные патрули. Под ногами у взрослых вертелись маленькие продавцы леденцов и дешевых, бог весть из чего скрученных сигарет. Кто назойливо, кто застенчиво, они предлагали прохожим немудрящий товар. Солнце играло в продолговатых окнах старых кварталов, рассыпалось цветными искрами от витражей в костелах, заискивая, отблескивало от белокурых и рыжих волос.
Перекрывая городской шум, на улице Ставки звенели детские голоса. Запевала — чернявый крепыш в матроске и коротких штанишках — выводил залихватский походный марш. Ему вторило с полсотни мальчишек и девчонок — улыбчивых и задорных. Жаркий август разукрасил румянцем их щеки — в военное время дети бледны. Слитно шлепали по брусчатке ботинки на пуговках и плетеные сандалеты. Громогласно отбивал такт маленький барабанщик. Дети шли ровным строем по росту, по четверо в ряд, не всегда попадали в ногу, но очень старались. Над колонной реяло знамя, впереди шел учитель — позади воспитатели или родители. С белой крыши костела ветер бросил в них вальсом — музыка к музыке, праздник к празднику. Такая прогулка — через весь город, мимо витрин и нарядных прохожих, мимо каштанов с их шипастыми шариками плодов и коричневыми гладкими ядрышками, мимо радужных брызг фонтанов, мимо уютных двориков и скамеек с гнутыми спинками, мимо тощих бродячих псов и шикарных автомобилей…
Глаза ребятни блестели, они крутили по сторонам разномастными, стрижеными головами и махали зевакам. Малышей давно взяли на руки, даже учитель нес светлокудрую девочку в синем ситцевом платье. Люди оглядывались на веселый отряд, самые черствые лица теплели — как славно маршируют птенцы. В цирк, в кино или в летний лагерь за город — будто и нет войны вовсе. То один то другой голос подхватывал нехитрую мелодию песни, женщины улыбались сквозь невольные слезы — не всякий день детям хватает на хлеб, а тут веселье. Приподнимали шляпы редкие извозчики, рассыпались в разные стороны стаи пестрых уличных голубей, звенели вслед колокольчики с дверей лавочек, хлопали тяжелые ставни. Пани Варшава бросала под ноги детям первую сухую листву, касалась мягких волос невесомыми пальцами ветра, отблескивала в глаза закрытыми наглухо окнами. Медлительное, горячее солнце ползло по безоблачной синеве неба Польши — кто прикажет солнцу остановиться?
Дорога пошла под уклон, до круглой площади и перронов многолюдного Гданьского вокзала. Оставалась одна узкая, тихая и тенистая улочка. Окна в узорных решетках, ящики с розовыми цветами на подоконниках, дикий плющ как плащом одел стены простого кирпичного дома. Где-то в квартире играет простуженный патефон.
…Будешь ты стоять у этих стен Во мгле стоять, стоять и ждать Меня, Лили Марлен…Тает в городской суете бархатный голос немецкой дивы. Из подвальной кухарни тянет кнеликами и луком, от свежевскопанной клумбы пахнет мокрой землей, от извозчичьей клячи — живой настоящей лошадью. Скрипит и качается вывеска «Дамский портной», имя на вывеске сбито. По знаку учителя дети начинают новую песню. Маленький запевала бьет об ветер сухие, как глина, слова полумертвого языка. Зеленое знамя с горделивым щитом Давида вплывает на площадь Умшлагеплац.
* * *
…Прочитанный лист лег в желтую папку. В пальцах сама собой оказалась сигарета — двадцатая с утра? Двадцать пятая? Пепельница была полна неаккуратных окурков. Начало истории представлялось как смена планов: камера наезжает на лица по очереди — вот девочка Франка, вот маленький Андрусь, а вот и сам Старый Доктор. И перед ними навытяжку стоят полицаи, сволочь людская, все повидавшие убийцы. И целый поезд живых людей, которые вскоре станут мылом и пеплом. Фотография: деревянный, серый вагон, колонна детей, все подстриженные, аккуратно одетые, смирные. Воспитательница с мертвым лицом. У девчушки в руках толстощекая кукла.
…Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте, пожалуйста, я очень прошу вас, не забудьте Петра Залевского, бывшего гренадера, инвалида войны, служившего сторожем у нас в «Доме сирот» и убитого польскими полицаями во дворе осенью 1941 года…
Глоток дыма колючим песком прошелся по легким, кашель схватил за глотку. Воздуха! Распахнуть ставни настежь, скорей!
За окном кипит жизнью московский двор. Грузный интеллигент заводит старенькую «Победу». Принаряженные старушки пасут в песочнице внуков. Ссорится парочка, у него длинные неопрятные волосы, у нее пронзительный голос. Мужики забивают «козла», под столом припрятана бутылка портвейна — подальше от чересчур любопытных жен. У кого-то играет радио: «…И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева…» Слава богу. Слава богу, вы спите крепко. Не стучит колесами поезд в измученной голове, не видится, как одно за одним исчезают лица в черной пасти вагона.
Телефонный звонок сдернул назад, в уют благополучного дома. В трубке сладкий, упитанный баритон, знакомая речь, вкрадчивое предупреждение.
Через пять минут разговора пришлось глотать очередную таблетку. Упаковку в ведро, под крышку, чтобы жена не заметила — и так достаточно поводов для беспокойства. Ах, у тебя больное сердце. А у кого здоровое, черт побери?
Назад к столу. Мелодия бьется в ушах — как вложить в непокорные струны голос маленькой девочки? Или проще сказать? Или спросить — зачем тебе это надо, старый аид? Пустые хлопоты, бесполезные споры, мол жид крещеный, что вор прощенный. Ужели премией обнесли, ужели веселых песенок не хватает, ужели мало терпели, о чём пелось? Пепел Клааса стучит в твое сердце, поэтому жрешь валидол горстями и дышишь, как больной слон. О жене бы подумал, о матери на старости лет. А в голове — поезд. И поет мой рожок о дереве, на котором я вздерну вас… В-з-д-е-р-н-у в-а-с и щелчком по клавише пишмашинки — жирный восклицательный знак.
* * *
…Все чинно. Вызывают по кварталам. По группам. Аптеку. Переплетную мастерскую. Персонал госпиталя. Детский дом для военных сирот. Тише дети, может быть, мы поедем за город завтра. Да, все хотят пить, я знаю. Пани Стефания, нам хватит напоить младших? Осторожно, не стоит жадничать. Нам предстоит долгий и трудный путь, к нему надо готовиться, придется терпеть. Зато потом мы все отправимся в чудесный сад, где растут цветы, течет прохладный ручей и разрешают сколько угодно играть и прыгать. Да, Натя, яблони там тоже растут. На лугу можно поставить палатки, как в летнем лагере, а в ручье — пускать кораблики. Не бойся, Юся, леденцов хватит на всех. Бог любит сирот и не допустит, чтобы одной славной девочке не хватило конфеты. Будьте стойкими, маленькие солдаты, оставьте слезы трусишкам. Конечно, Франка, ложись, можно поспать. Проснешься — и сил прибавится, ты же знаешь — дети растут во сне. Да, Хаим, за нами придет Азраил, ангел смерти. А иначе в этот сад не попасть.
Солнце лупило по Умшлагеплац как пулеметчик по наступающей армии. Лай собак, отрывистые команды охраны, детский плач, проклятия и молитвы слились в сплошной монотонный гул. Не выдерживая жары, люди падали в обморок, кого-то забили прикладами на месте за попытку к сопротивлению или к бегству, кто-то не дождался места в вагоне и умер сам. Надрывались охрипшие переводчики, неистово бранились элегантные немецкие офицеры, рвали друг у друга списки с именами и датами. Пожилой мужчина в светлом летнем костюме из последних сил доказывал угрюмому лейтенанту, что он не еврей, а поляк и в облаву попал случайно. Стильно одетый цивильный немец, потрясая бумагой с печатями, требовал, чтобы из поезда немедленно высадили трех особо ценных работников с его фабрики. Офицер в потном френче слушал и качал головой — учтено, посчитано, поздно. У молодой женщины внезапно начались роды, ее с причитаниями окружили старухи. Безразличный ко всему окружающему раввин в рваном талесе раскачивался, нараспев читая кадиш. Его седая борода была испачкана кровью. Стефания внезапно потеряла сознание — похоже, перегрелась на солнце. Ее оттащили к стене — там была хоть какая-то тень — и подложили под голову куклу Франки. Дети начали уставать.
— Давайте поиграем в города — кто знает больше. Начинай, Антось!
— Честнохов!
— Франка, ты.
— Вена!
— Юся?
— А… Антверпен.
— Молодец! Эстер?
— Нью-Йорк.
— Умница, Эстер, у тебя хорошая память. Йозеф?
— Краков.
— Натя?
— Варшава. Пан Корчак, а мы вернемся в Варшаву?
Девочка серьезно взглянула на учителя. Хилая, хрупкая, малокровная, слишком маленькая для своих восьми лет. Пышные кудри — она единственная умудрилась сохранить волосы — окружали, будто нимб, бледное личико с ввалившимися глазами.
— Вернемся, Натя.
— Честно-честно?
Пан Корчак не отвел взгляд:
— Когда-нибудь обязательно мы все вернемся в Варшаву. Дождем, ветром, пылью, человеческой памятью… Это я обещаю.
* * *
…Поезд качнуло. Чай выплеснулся на столик, залил газету, закапал на пол. Пассажир с нижней полки даже не отодвинулся. Не старый еще, грузный, лысоватый мужчина, лицо усталое, под глазами мешки, руки слегка дрожат — пьет, наверное. Одет дорого, в заграничное, а вещей всего-ничего — инструмент в кожаном кофре да сумка. Часы красивые, золотые… Приличный мужчина — редкость в плацкартном вагоне до Питера. Чуть подумав, проводница Тамарка натянула на лицо профессиональную благожелательную гримасу:
— Желаете еще чая?
Мужчина повернулся навстречу. И изменился мгновенно — небрежная величавость движений, внимательный блеск выпуклых черных глаз, чуть заметная под усами улыбка, ироническая и властная.
— Спасибо, красавица, не откажусь.
…И голос чудный, густой, как сливки. Не иначе, артист. Тамарка зарделась:
— Ну уж, прямо сразу красавица. Пятнадцать копеек. Сейчас подам. Или еще что-нибудь?
На игривую интонацию пассажир не обратил внимания, но вопрос понял верно:
— Мать родная! Спасительница! Вот столько, — и приложил два пальца к блестящему боку подстаканника.
Ловко повернувшись на каблуках, Тамарка поспешила в купе — выполнять заказ интересного пассажира. Попутно она не преминула мазнуть по узким губам помадой и поправить пергидрольные кудри — хороша, все еще хороша.
Оставшись один, пассажир снял с лица парадное выражение и прижался лбом к холодному оконному стеклу. Попутчики давно спали на своих полках, сосед снизу вонял несвежими носками, соседка сверху полчаса ссорилась со своим толстым мужем, прежде чем угомониться и захрапеть. Наступила долгожданная тишина — стук колес, монотонное движение поезда и никаких шумных мыслей. За окном проплывали расчищенные поля в серых клочках не сошедшего снега, редкие домики с темными окнами, длинные перелески… Путь, знакомый как будто до каждого полустанка, до каждого хмурого проводника и скудных станционных буфетов.
Смешно подумать — этой страны у него больше не будет. Чужой человек поселится в его московской квартире, станет ходить в его булочную и здороваться с продавщицами, из его распахнутого окна смотреть в пыльный дворик, где играл его сын. Друзья будут собираться в старых компаниях, слушать его записи под заливное и коньячок и вспоминать хорошего человека. Сперва часто, потом все реже — как это случалось с другими. Уехать то же, что умереть, а о мертвом не говорят ничего — чтобы не отыскать себе неприятностей. А молчальники вышли в начальники, потому, что молчание — золото… Захотелось курить. Врачи давно запрещали… Черт с ними! Не умру от одной сигареты.
Пассажир тяжело поднялся и вышел в тамбур. Щелкнул зажигалкой, закашлялся, улыбнулся — табачный дым разгонял тоску. Чушь какая! Другой бы на его месте сожалел о родне, о друзьях и любимых женщинах. Но от них будут письма, звонки, фотографии. Может и свидеться доведется — Земля круглая. А вот как прожить без исхоженных переулков, без трамвайчика «Аннушка», без запаха белого замоскворецкого калача, без тяжелого вкуса московской воды, без унылого скрипа подъездной двери? Каково на старости лет оказаться деревом, выдранным с корнем из почвы? От острого приступа тоски захотелось шарахнуть кулаком в стекло. Знал ведь. Знал да не думал. И предлагали ведь простую штучку, сущую малость — покаяться, извиниться, признать. «Вы могли бы остаться». Пассажир шепотом выругался, затушил окурок и вернулся в вагон.
Проводница Тамарка уже ждала его. Чистый, собственноручно вытертый стакан, в нем вкусно пахнущий коньяком чай и безупречно свежий ломтик лимона.
Парадная улыбка на лице мужчины вдруг сменилась гримасой боли. Он тяжело сел, рванул ворот рубашки, нашарил в нагрудном кармане флакончик с лекарством, уронил его… Проворная Тамарка наклонилась поднять, поддела крышку наманикюренным ноготком и протянула пассажиру спасительную таблетку:
— Вам плохо? Вызвать врача?
Бледный мужчина хватал воздух губами и ничего не отвечал. Неприкаянным бабьим чутьем Тамарка поняла, что человеку действительно плохо и не только из-за сердечного приступа. Она села рядом и обняла мужчину за плечи. Пассажир дрожал мелкой дрожью загнанного животного, красивые руки беспомощно шарили по сиденью. Тамарка вложила свою ладонь в ищущие пальцы и чуть не взвыла — с такой силой мужчина сжал ее кисть. Текли минуты, поезд отстукивал километры, двое одиноких людей сидели рядом, держась друг за друга и не было в мире опоры вернее, чем эти случайно сплетенные руки.
* * *
…Со вздохом Януш Корчак закрыл дневник. Полгода жизни в паре десятков страниц, исписанных мелким почерком. Карандашик припрятать — когда еще получится достать новый. Красноватое от пыльного воздуха солнце склонялось к вечеру. Толпа на площади почти рассосалась. Появилась нелепая надежда — вдруг удастся продержаться до завтра. На ночь им, наверное, разрешат вернуться в гетто — за это время хоть несколько детей можно попробовать спрятать — в развалинах или у друзей-поляков. Довести их через весь город тоже задача — младшие устали и почти не могут идти, взрослые тоже измучены. Но это не страшно — лишь бы протянуть еще…
— «Дом сирот»! Занимайте ваши места в вагоне! — переводчик, молодой еще парень, с желтой звездой на рукаве, прятал глаза, как мог. Рядом с ним красовался молодой офицер. Вот она, арийская аккуратность — в жаркий день на грязной работе он умудрился сохранить безупречно белый воротничок.
Януш Корчак поднялся первым:
— Дети, стройтесь, мы все-таки едем за город. Андрусь, выше знамя. Юся, не хнычь, ты смелая девочка. Не вешать нос, сомкнуть ряды. Хаим, ингеле, запевай!
И, подхватив на руки неходячую Натю, учитель первым шагнул вперед, к длинному, страшному, серому поезду. Дети с песней пошли за ним. Высокий, чистый тенор мальчишки расчищал «Дому сирот» дорогу. «Фараон, слышишь?! Отпусти народ мой!» И десятки других голосов вторили «Отпусти!» Офицеры расступались, солдаты опускали нагайки и оттягивали за ошейники овчарок. Площадь стихла. Жертвы и палачи вместе смотрели, как идут Януш Корчак и его дети.
Вот и вагон, дверь распахнута. Какие неудобные ступени, будто не для людей придумали. Учитель стал возле входа, чтобы подсадить и помочь подняться. Красавец офицер протянул длинный список. Сорванным голосом переводчик начал называть имена:
— Рабухина Франка, семь лет.
— Я, — откликнулась рыжая девочка с куклой. Подсадить ее в вагон было совсем легко.
— Бруштейн Андрусь, одиннадцать лет.
— Здесь, — крепкий и ловкий, как обезьяна парнишка запрыгнул сам и втащил за собой зеленое знамя.
— Финкельман Хаим, тринадцать лет.
— Я, — чернявый крепыш оборвал песню и легко вскочил на подножку.
— Гольдовская Натя, восемь лет…
Один за одним поднимались в вагон дети. Вот и кончился список. Последней вошла Стефания. Учитель собрался подняться сам. Вдруг холеная рука с полированными ногтями опустилась ему на плечо.
— Подождите, пан Корчак! — у аккуратного, по-арийски голубоглазого офицера было смущенное, даже виноватое лицо. Немецкий акцент забавно коверкал польские слова.
— Да, я слушаю, — удивленный учитель внимательно всмотрелся в лицо военного — может быть кто-то из бывших пациентов или учеников?
— Пан Корчак, я с детства безумно люблю ваши книги, но до сих пор не представлялось случая сказать это лично, — в глазах офицера горело неподдельное восхищение.
— Я польщен, благодарю вас. Может быть… Корчак не успел продолжить, офицер перебил его:
— Смотрите! Вот документы на ваше имя! Я сам хлопотал за вас перед комендантом Варшавы. Вы можете остаться, пан Корчак.
Противно екнуло сердце. Жить? Жить. Жить!!! Ему предлагают жизнь.
— А как же «Дом Сирот»?
— Невозможно, дети должны поехать.
— Спасибо вам от души, — учитель посмотрел офицеру в ледяные глаза, — но дети важнее всего. До свиданья, Варшава!
Пан Корчак с трудом поднялся по неудобным ступенькам в вагон и задвинул за собой дверь. Расторопный полицай запер висячий замок. Раздался сигнал к отправлению. Застучали колеса — сперва тяжело, медленно, потом все быстрее, четче. Поезд в Треблинку вышел из точки В.
* * *
…В гостиничном номере было жарко, душно и тесно. Люди сидели плечом к плечу — барды, фарцовщики, диссиденты, просто полуслучайные гости. Все знали — это последний концерт в Ленинграде, документы на выезд уже подписаны. Потрескивая, крутился бобинный магнитофон — запись велась с утра. На небольшом гостиничном столике стояли два микрофона и лежала тетрадка стихов, переписанных от руки. Человек с гитарой держал паузу.
«С некоторых пор мне показалось интересным, — поскольку вы могли сами убедиться — мои песни — больше, так сказать, мимикрируют под песни, — с некоторых пор меня заинтересовало сочинение таких композиций, в которых попевка сочетается с чистыми стихами. Вот одну из них, самую большую и, во всяком случае, сделанную так, как мне представляются возможности этого жанра, я вам сейчас и покажу. Это довольно давно уже написанное сочинение, в 70-м году оно написано… Называется оно „Кадиш“. Кадиш — это еврейская поминальная молитва, которую произносит сын в память о покойном отце».
(Фонограмма)И ударила музыка — перестуком колес, перекличкой во времени, искренней, горькой клятвой:
…И тогда, как стучат колотушкой о шпалу, Застучали сердца — колотушкой о шпалу, Загудели сердца: «Мы вернемся в Варшаву! Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!» По вагонам, подобно лесному пожару, Из вагона в вагон, от состава к составу, Как присяга гремит: «Мы вернемся в Варшаву Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву! Пусть мы дымом растаем над адовым пеклом, Пусть тела превратятся в горючую лаву, Но дождем, но травою, но ветром, но пеплом Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!»Люди слушали и молчали.
* * *
…Внимание. На пятый путь прибывает поезд «Гданьск-Варшава» Встречающих просят занять свои места, — механический голос из репродуктора разгонял по местам пассажиров.
Новое стеклянно-стальное здание Гданьского вокзала поражает воображение размахом и строгой прямолинейностью линий. Элегантные эскалаторы вверх и вниз, электронные табло и справочные автоматы, эргономичные скамейки из гнутых железных труб, разноцветные витрины, царство шума и света, праздник для путешественника. Умшлагеплац подверглась значительной реконструкции и теперь эту современную площадь можно смело записать в актив достижений мэра Варшавы. Туристические автобусы отправляются на экскурсии в Старый город непосредственно от вокзала. А для желающих отдохнуть, по периметру площади организованы летние кафе и мини-отели с превосходной домашней обстановкой.
Вокзал кипел народом, как муравейник — суетливыми муравьями. Озабоченные мамаши вывозили на дачи многочисленное потомство. Загорелые крестьяне торопились доставить на рынок многочисленные плоды своих огородов. Шумные туристы с неизменными фотоаппаратами спешили запечатлеть на память карнавальную мешанину польской столицы. Чинные клерки в белых воротничках и дорогостоящих галстуках возвращались из офисов в пригороды. В репродукторах наигрывал вальс. У ближней ко входу платформы толпился народ с цветами и диктофонами — очередная делегация бог-весть-откуда озаботилась очередной мемориальной доской.
…Со второго пути отправляется поезд Варшава-Краков. Провожающих просят покинуть вагоны, — механический голос едва не заглушил начало торжественной речи.
— …По случаю трагического и знаменательного события, имевшего место быть во время Второй Мировой войны, — толстая дама в брючном костюме уныло разглагольствовала с импровизированной трибуны, ее поддерживали вялыми аплодисментами. — Ужасающие по своей жестокости происшествия, приведшие к гибели значительного числа, — дама замялась, — населения города. Эту чудовищную гекатомбу мы хотим почтить в память об имевших место быть жертвах, повешением и торжественным открытием мемориала.
Защелкали фотоаппараты, дама сдернула покрывало с мраморной доски, на которой была изображена почему-то овца. Две прелестных нимфетки в коротких юбочках украсили монумент пучками дешевых гвоздик. Место оратора занял громогласный долговязый детина:
— В этот знаменательный день нам хотелось бы вспомнить о безвинных жертвах жесточайшей войны за историю Польши. По причине капитуляции произошедшей вследствие пораженческих настроений инородной части населения великой страны, мы проиграли в этой войне, но победа осталась за нами.
Гудок отходящего поезда заглушил оратора. По вещанию объявили о находке чьего-то кошелька с документами на Марину Граховскую, потом какой-то Марек из Лодзи ожидал Баську Збыхову у стола информации, потом прибыл состав из Градовиц. Потом Гданьский вокзал накрыла мертвая тишина. Завершение речи оратора прозвучало ясно и четко:
— Уповаем на великие победы нашего великого народа в борьбе с иноземными захватчиками.
Вдруг детина заткнулся.
Из репродукторов в тишине многолюдного здания разнесся мальчишеский смех. Долго-долго звучал он над онемевшей толпой. А потом высокий и ясный тенор сказал:
— Внимание. На первый путь возвращается поезд из пункта Треблинка. Встречающих просят занять свои места. Здравствуй, Варшава!
* * *
В тексте использованы документальные материалы из дневника Януша Корчака и фонограммы записи Александра Галича. Стихи: «Лили Марлен» в переводе Иосифа Бродского и «Кадиш» Александра Галича.
Кхаморо
«…Ой, пока солнышко, ромалэ, не взойдёт…» Цыганская народная песняЯ сидел на траве у белого памятника. Простая пирамидка из гипса за хлипким заборчиком, яблоневые лепестки осыпаются на неё с ветвистого, старого дерева. Чья-то заботливая рука положила к подножию пышный пучок ромашек. От звезды в левом нижнем углу откололся кусочек краски — словно его выщербила пуля. Имена с таблички я знал наизусть.
Голутвин Борис Михайлович, капитан, 1909–1943. Рыжов Валерьян Иванович, лейтенант, 1921–1943. Амонашвили Георгий Шалвович, рядовой, 1920–1943. Веневитинов Аскольд Георгиевич, рядовой, 1899–1943, Кочубей Павел Павлович, рядовой, 1925–1943. Карнаухов… Не «Корноухов» — сколько спорил, сколько доказывал, что ошиблись в военном билете, неправильно написали фамилию. Я улыбнулся. Тёплый ветер коснулся моей щеки — месяц май начался небывалым теплом. Буйно цвели большие сады в маленькой Аржановке, зеленели луга, носились по деревенским дорогам мальчишки на дребезжащих велосипедах, глухо урча, ползали по пашне тракторы, соловьём разливалась воскресная, удалая гармонь. Вот только женщины за водой к речке больше не бегали. И мужчин оставалось мало, словно снова открыли набор в третью роту к товарищу Назаретскому. Но весенними светлыми днями жизнь кипела в маленькой деревушке. А по ночам было тихо.
Я встал, поддёрнул зелёную гимнастёрку, поправил выцветшую пилотку и отдал салют товарищам. Спите спокойно, покуда не потревожили. Вот и поле спит, и деревня спит… Аржановка и вправду плыла, словно лёгкий кораблик в белых волнах тумана. Тускло светилось пять-шесть окон, еле отблёскивал новенький купол церкви, чуть виднелся одинокий костёр на высоком берегу речки. Не иначе охотнички городские, смоленские, а то и из самого Минска прибыли. Им сезон не сезон, закон не закон, абы в кого пострелять — в кабанов с поросятами, в лосиху с телёнком, в тетёрку с птенцами. И гонят валом, зверьё бьют на безымянных могилах, где фашисты наших солдат в землю клали, тревожат мёртвых и живым не дают покоя. Бывало, что и рвались охотнички на старых минах, шеи ломали в залитых водой блиндажах, а всё им мало. Сходить что ли, пока солнышко не взошло, рассказать о местных лесах, о боях-пожарищах — глядишь, что в головах у мужиков прояснится? А на нет, как известно, и суда нет.
Путь до речки показался длиннее, чем раньше — время не шутит. Или просто не хотелось спешить — так безумно светила луна, так хороши были рощи в новеньких платьях, так одуряюще пахло молодой жизнью. Сочный воздух Смоленщины не походил на солёный, колючий ветер родного города, но сегодняшней ночью я почти не жалел об этом. Вот и обрыв, с которого как на ладони открывается дальний берег. И там тоже огни? Смех и музыка? Так быстро, как только мог, я поднялся по заросшему ивняком склону, и, выйдя на край, вгляделся в сумерки. Вдоль песчаной отмели бродили длинногривые кони, чуть поодаль купались три девушки, целомудренный лунный свет очерчивал контуры нежных тел. Две женщины постарше возились с большим котлом, отчищая его пучками мокрой травы. У костров негромко переговаривались, лаял пёс, хныкал чей-то младенец. Одиноко прозвенела струна, брякнул бубен, тут же вступили гитара и шальная, сумасшедшая скрипка. Она плакала и смеялась, бередила тоской усталую душу… где моя молодость, скажи, цыган? Не ответит.
По узенькой тропке я вышел на ближний огонь и нисколько не удивился, увидев, что на этом берегу у костра тоже сидит цыганка. Старуха, моя ровесница или немного младше. Одета «по городскому», на плечах дорогая шаль, пальцы в перстнях, серьги искрят камнями. И глаза блестят молодо, сильно — от огня или дальней музыки. Или от слёз?
— Добрый вечер, бабушка! — поздоровался я и шагнул ближе к свету, — припозднились вы, я смотрю. Позолотить ручку?
— Не гадаю, прости. А к огню, если хочешь, садись, мы гостей от костра не гоним.
Я представился «Пётр Яковлевич». Она сухо кивнула «Ляля я». Обойдя пламя, я сел на бревно напротив старухи. Она не смотрела на меня и молчала, думая о чём-то своём. Её пальцы, сухие и длинные, со вздувшимися суставами, медленно перебирали чёрные чётки. А за рекой всё играла, кружилась над водой музыка. Мне казалось — я вижу, как пляшут у костров смуглые парни, дрожат плечами красавицы девушки, расцветают розами на траве пёстрые юбки, как мечется вслед за музыкой жаркое пламя… почему только дымом не тянет из-за воды?
— Веселится нынче табор, а бабушка Ляля? Свадьбу играют? — спросил я, желая разговорить старуху.
Она покачала головой:
— Не свадьба. Другое. Пока солнышко-кхаморо не взойдёт, гуляют ромы, танцуют-радуются…
Отвернув от меня лицо, старуха достала из кармана большого пальто сигарету с золотым ободком, прикурила от уголька и жадно затянулась. Я тоже нащупал в кармане щепоть табака и скрутил неизменную «собачью ножку».
— Хочешь, расскажу тебе сказку-быль про наш табор? Как мы выжили, как спаслись от неминучей смерти, как танцевали по краю могилы, и земля расступилась для нас?
Зазвучавший в полную силу голос старухи оказался богатым и звучным, как у актрисы. Она словно помолодела — милосердные сумерки скрыли морщины и седину.
— Слушай, гаджё, пока есть, кому рассказать — слушай. Жил на свете цыганский барон — баро, Григорий Васильков, кочевал по Смоленщине со всем своим родом. Лошадей продавали, котлы делали, песни пели, плясали, цыганки гадать ходили, как исстари повелось. Баро сам первый плясун был, лучший наездник, а случалось, и сказки сказывал так, что заслушаться можно. Про царя и Ружу-красавицу, про Бойко-конокрада, как старый ром чёрта обманул, а чявэла саму смерть переплясала… Были у баро два сына, Мишка с Николаем, оба на фронт попали в германскую и Гражданской на их долю тоже хватило. Оба чудом живы вернулись в табор. Старший сын, Николай, как пришёл — форму снял, женился-остепенился, хорошим цыганом сделался. А у младшего красные флаги перед глазами остались. Прозвенел вскоре слух, что сажать цыганскую нацию на землю станут, колхозы делать. Мишка и пошёл на отца — давай, мол, всем табором светлое будущее для страны строить. Слово за слово — за ножи взялись. Быть бы драке, да не выдержало у баро сердце. Старики порешили гнать Мишку из табора, он и ушёл, шестерых молодых увёл к большевикам. А Николай Васильков новым баро стал.
Как отец его кочевал, так и он с табором бродил по Смоленщине за цыганским счастьем вослед. Случалось, голодали и мёрзли, случалось сыты были до отвала. Бывало, пускали их поартельничать, поработать на колхозы, подержать лошадей зимою в тепле. А бывало и гнали, тюрьму да Сибирь сулили. Своих детей у баро не родилось, подобрали они с женой в голодный год девочку на дороге и вырастили как свою. Зорькой окрестили, а цыгане прозвали Солнышком-Кхаморо — мы же чёрные, а у девочки волосы были как золото, а глаза — цвета неба весеннего. Родители на неё нахвалиться не могли: и умна и послушна и работа любая в руках кипит, а уж если танцевать выйдет Зорька, босая, звеня монистом, — любую таборную перепляшет. Сказки слушать любила — как отец сядет сказывать, так она первая рядышком примостится. Особенно по душе Зорьке сказка пришлась про цыганку и смерть. Раз пришла пустоглазая в табор, села к костру без спросу и давай зыркать — кого из детишек первым косой скосить. А красавица Ружа сказала ей — погляди сперва, безносая, как я для тебя спляшу! И всю ночь танцевала для смерти, как на свадьбах и похоронах танцуют. Взошло солнышко, упала Ружа без сил — и смерть рядом с ней упала, от света камнем-валуном покатучим сделалась…
Время шло, вот и Зорьке пятнадцатый год минул. Стал отец ей жениха приглядывать, да перебирал — этот не гож для моей звёздочки, этот лицом нехорош, этот и вовсе беден. Мишка-большевик заходил как-то в табор по старой памяти — посоветовал Зорьку в Москву везти, там для цыган театр открыли, девочка способная пусть учится. Николай отказал наотрез. А там и война грянула. Ушли Зорькины женихи на фронт и лучших коней у табора реквизировали. Остались в кибитках старики, женщины и детишки. Не успели цыгане оплакать сыновей, как пришла новая напасть — немцы подступили к Смоленску. Десять дней шли бои, рвались бомбы, гремели пушки, бежали кто куда люди из города. Табор опомниться не успел — оказался за линией фронта. Баро решил до сроку в лесу схорониться, авось не найдёт никто, да и кому нужны бедные ромалэ? Провели коней в чащобу, встали у болотца, грибы-ягоды собирали — летом с голоду не помрёшь.
Неделю живут — всё спокойно. Две — всё тихо. Ромки раз в Аржановку погадать сходили, принесли хлеба и молока детям, второй сходили. Немцев видели издали, но никто их не трогал. А потом прибежал в лес мальчишка из Красного — Мишкина цыганского колхоза. И такое рассказал, что баро поседел в одночасье. Мол, приехали немцы, большой отряд, собрали народ на площади, вывели в поле. Велели мужчинам рыть ямы, шнель, окопы нужны. А потом всех в те ямы и положили очередями, весь цыганский колхоз, до последнего человека. Мальчишке повезло, он белёсым, как молоко, уродился, мать закричала, что гаджё он, русский пацан, из Аржановки — отпустили его фашисты.
Недолго думал баро, что делать: уходить в тыл всем табором. Через фронт пробираться опасно, а у немцев под боком жить — верная смерть. Хотел Зорьку в деревне оставить, от беды уберечь, но упрямой оказалась приёмная дочка, под стать отцу — отказалась уходить от названой родни. Помолились цыгане Дэвлале-богу, попросили у него защиты, и тронулись в путь на закате. Думали затемно пробираться дорогами, а днём по лесам прятаться. Тихий вечер тогда был и туман над полями стоял, и хлеб уже колосился…
Только выехали к речке цыгане — навстречу отряд немцев на мотоциклах. И пошла потеха. Видал, гаджё, как кошка с мышкой играет? Так и фашисты цыган ловили. Баро свою кибитку в поле погнал, по пшенице, думал, не сунутся вслед — так они коня подстрелили. И всё. Согнали цыган толпой на берег, ромки кольца поснимали, серьги, дорогое монисто у одной было — думали, вдруг откупятся? Не берут немцы золото, только смеются. Офицер один вышел — щеголеватый, в фуражке — по-русски кое-как говорил. Приказал: ройте ямы. Баро ответил — нету у нас лопат, господин офицер. Ройте руками! Стали ромалэ копать — куда денешься. Женщины воют, дети плачут, немцы что-то бухтят по-своему, сторожат, чтоб никто не убёг. Зорька тоже копала со всеми. Упал у неё с головы платок — аж посветлело вокруг от золотых волос девушки. Приметил её офицер, удивился: что за юная Лорелея цветёт среди унтерменшей, может грязные воры украли ребёнка из хорошей семьи? «Нет», — сказала Зорька, — «Я цыганка, дочь барона, кровь у меня цыганская и в землю я лягу рядом с отцом и матерью. Но скажи, видел ли ты хоть раз, как танцуют цыгане? Хочешь взглянуть? Отец споёт и сыграет, а я спляшу для тебя, как никогда никому не плясала!» Офицер перевёл, что предложила девушка, и фашистам понравилось — пусть станцует красавица напоследок.
Достал баро Васильков семиструнную подругу-гитару, взял хромой Степан Эрденко ненаглядную свою скрипочку, а старуха его бубен вытащила. Распустила Зорька-Кхаморо золотые косы, разулась, взяла материнскую шаль и пошла в круг:
…Ой да не будите то мэн ман молодого Ой да пока солнышко ромалэ не взойдет О-о-о люба тэй люли ча чоданэ Ой пока солнышко ромалэ не взойдет…Как огонь гудел молодой голос старого баро, как шальной язык пламени танцевала по траве Кхаморо. Молча, словно окаменев, глядели немцы на чудную пляску. Кончилась одна песня, пошла другая, третья… Одна за одной вылетали цыганки в круг, развевали по ветру юбки, звенели монистами. Что было сил отплясывали мальчишки, обессилевшими ладонями отбивали такт старики. Чистым золотом сияли волосы Зорьки, слепили глаза врагам.
Всю ночь длился танец, всю ночь стояли фашисты, не в силах отвести взгляд, схватиться за автоматы. А когда первый луч солнца тронул синие облака и в далёкой деревне запели первые петухи — расступилась земля-матушка, приняла в себя словно зёрна, бродячих своих детей, укрыла от злой напасти. Очнулись фашисты проклятые, оглянулись по сторонам — а табора-то и нету. Лишь пустые кибитки да конские туши остались. И цыганская шаль чёрными кистями по истоптанной напрочь траве…
Старуха закашлялась и ухватилась за новую сигарету. В предрассветной тиши одиноко вздохнула гитара с дальнего берега. Я поднялся:
— Нет, Ляля. Не так всё было.
Старуха зыркнула на меня бешеными глазами:
— Не так?
— Не так. Поглядели фашисты, как пляшет Солнышко, послушали, как поёт старый баро — песню, другую, третью… А потом офицер дал команду открыть огонь. Попадали цыгане в те ямы, что сами для себя рыли. Закидали их свежей землёй, подождали немного — вдруг кто очнётся, да и бросили могилу на берегу. Весь табор там лёг. Только цыганка одна уцелела — ей ещё пяти лет тогда не было. Мать ребёнка телом своим укрыла от пуль, поутру девочка разгребла могилу и выкопалась наружу. Мимо наш солдат пробирался — из тех, что в окружение попали и к своим выбредали за линию фронта. Подобрал девчушку, отнёс в деревню, отдал сердобольной крестьянке, рассказал, что случилось с табором. А в сорок третьем солдат спас цыганку ещё раз. Когда отступающие фашисты загнали жителей Аржановки в сельсовет, заложили выход и полили брёвна бензином, солдаты роты капитана Голутвина, вошли в деревню. Лейтенант Валерьян Рыжов забросал гранатами вражеский пулемёт. Рядовые Амонашвили и Карнаухов подползли к сельсовету и сумели распахнуть двери…
Торжествующий птичий хор перебил мой рассказ. В мае светлеет рано. Я кинул взгляд на дальний берег реки — ни костров, ни людей.
— Простите, Ляля, буду откланиваться. Пора мне. Благодарствую, что навестили наши края. Передайте привет Ленинграду… И спасибо за сказку — пока нас помнят, мы живы.
Пока я поднимался по тропке к околице сонной Аржановки, холодный туман обступал меня, подбираясь всё ближе. Он залил сапоги, ремень, гимнастёрку, поднялся до самого сердца. Но я всё ещё слышал, как тихонько поёт старуха у угасающего костра:
Ой да не будите то мэн ман молодого Ой да пока солнышко ромалэ не взойдет О-о-о люба тэй люли ча чоданэ Ой пока солнышко ромалэ не взойдет…Скрипичный ключ
Было душно. Сонное утро обещало жару, неподвижный воздух пах морем и шашлыками. Разнеженные курортницы, колыхая зонтами, текли вдоль бульвара — на пляж. Их краснощекие мужья расстегивали пуговки полотняных костюмов, жадно пили холодный квас и целебную минеральную воду. Лениво проезжали извозчики, спешили по своим делам потные коммерсанты и подтянутые офицеры, вразвалочку прогуливались молодые люди неопределенных занятий. Стоя в жидкой тени подле входа «Астории», беспризорник Митяй скверно играл на скрипке. Занятие это вызывало в мальчишке тоску, но другого способа заработать на хлеб он не знал.
Ему хватало трех песен — жалостливой «Раскинулось море широко», блатной «Мурки» и «Марсельезы». Однообразно водя смычком по струнам, Митяй мечтал: как напьётся холодной, аж зубы ломит, воды из Кринички. Посидит на теплой траве башенного пригорка, поглазеет, как торопятся в порт заграничные корабли и снуют у длинного мола рыбацкие лодочки. Поймает кузнечика, зажав в кулаке, будет слушать, как тот трещит. И отпустит — всякой твари нужна свобода…
Чудной долговязый фраер остановился у тротуара, прислушиваясь к хромоногой мелодии. Не товарищ — одет шикарно, ботинки начищены, усы щеткой. Но и не господин — лицо старое, мятое, кулачищи как у грузчика, плечи ссутулены. На иностранца похож. И взгляд тяжёлый, пронизывает насквозь, словно крючок червяка. Чего уставился?
Сделав жалобное лицо, Митяй усердней запиликал смычком — может фраер захочет башлей отвалить. Тщетно. Долговязый дернул усами, скривился и пошёл себе прочь. Ну и пошел он! Пугать ещё будет, и не таковские пугали!
Шли часы, солнце грело все громче. В голосах продавцов появилась дремотная хрипотца, бродячие псы, чаявшие поживы, разлеглись под акациями, подставив мухам репьястые животы. Поток курортников оскудел — полдень. А денег в картузе почитай не прибавилось. Не хватит даже откупиться от вредного Бачи, взрослого парня, которому Митяй «служил» с весны за право ночевать в подвале на Галерейной. Голод не так страшил — в июне можно и наловить рыбы и выпросить у торговки залежавшийся пирожок и пробежаться по садам, от пуза налопаться шелковицы, черешни и абрикосов. Это зимой в городе страшно, а летом ништо, жить можно. Подумаешь, Бача сунет пару раз в зубы или возьмётся «Москву показывать». Или вовсе не появиться в подвале, пойти поплескаться в море, а после заночевать на пляже под старой лодкой?
Посмотрев на ленивые лица прохожих, Митяй решил — до первой монетки играю, а потом на Карантин. Можно кликнуть с базара однорукого Алабаша — вдвоем купаться веселей, цыганенок хороший товарищ, не подлый, не жадный. Прошлой зимой он выучил Митяя пиликать на скрипке и отдал ему свой инструмент. Алабаш был из даулджи, его отец и братья играли на свадьбах, и до сих пор играют под Ялтой. А калека отбился от табора из-за увечья, чтобы не быть обузой большой семье.
Блестящий гривенник шлепнулся в картуз, умиленная дама в платье, похожем на пестрый торт, слащаво улыбнулась Митяю. Её сыночек, розовый пузырь в матросском костюмчике, показал беспризорнику язык. Дело сделано! Облизнув пересохшие губы, Митяй в последний раз завел заунывное:
— Тарай-рай-тарай-рай-тарай-райрайрай…
Его ждал летний день, заросший упругой травой теплый пригорок, ледяная вода и темный сок шелковицы. Ноги уже карабкались по отполированной временем мостовой, перескакивали овражки, цеплялись за камешки Круглой башни, разбрызгивали соленую пену. Руки трогали шершавые бока раковин, гладкую гальку, скользкую чешую бычков и мягкую словно кожа кору черешни. Над вихрастой, нечесаной головой хлопали крылья чаек…
— Значит ты музыкант?
На Митяя свирепо смотрел давешний долговязый фраер. В одной руке он держал потертый черный футляр, другой ткнул прямо в грудь мальчишке.
— Ты смеешь играть, не зная ни одной ноты! В твоей пиликалке нет голосов моря и ветра, грома любви и крика отчаяния, она мертва и смердит, словно дохлая кошка. Неужели тебе не стыдно?!
Гонит что ли? На всякий случай Митяй выронил инструмент, захныкал:
— Я больше не буду, простите дяденька! Отпустите сироту бесприютного…
— Будешь! Ты посмел выйти на улицу, показать людям своё искусство и поэтому будешь играть, мальчишка!
Щёлкнул футляр, на свет явилась потёртая скрипка с прорезями на деке.
— На, владей! И играй, сейчас же. Изо всех сил, как только можешь, понял? Ты музыкант, а не плесень канавная. Ну!!!
Большие ладони незнакомца дрожали, как у заправского пьяницы, капли пота катились по бледному лицу. Бешеные глаза просверливали насквозь, доходя до самой середины души. Перепуганный насмерть Митяй думал порскнуть к бульвару, затеряться среди толпы, но руки сами собой протянулись вперед и на грязные ладони беспризорника опустилось легкое дерево.
Первый звук оказался гулким и долгим как «боммм» вокзального колокола. Покорные струны отозвались смычку, истосковавшись от немоты. Что-то внутри мальчишки откликнулось и зазвенело вслед. Пальцы вывернулись словно чужие, застонали растянутые сухожилия, сухое дерево корпуса больно прилегло к подбородку. И полилась музыка.
…Товарищ, я вахты не в силах стоять — Сказал кочегар кочегару, Огни в моих топках совсем не горят, В котлах не сдержать мне уж пару…
Какой-то матрос вполголоса поднял песню, за ним подхватили рыбаки с «Афродиты», на фальшивой физиономии торговки бубликами показались настоящие слезы. Мелодия кружилась над толпой, словно огромная тяжкокрылая птица. На маленького музыканта смотрели во все глаза — изумленный Митяй вдруг вспомнил, что ещё год назад так же пялился на скрипача из городского оркестра, адски завидуя стройным звукам.
А волны бегут от винта за кормой И след их вдали пропадает…
Последние ноты сбились, но люди этого не заметили. Они озирались, терли глаза, прокашливались, какая-то дамочка в круглой шляпке крикнула «браво». Фраер исчез, оставив у ног мальчишки раскрытый чехол, куда тут же полетели монетки. Митяй стоял как потерянный, прижимая к груди живую, гладкую, теплую скрипку. Четыре прорезных значка на деке, похожие на маленьких чаек, гладкий завиток на конце грифа, мелкие трещинки красноватого лака, чернота — инструмент был очень старым. …А руки грязные, в цыпках — стыдно-то как. Платочком бы хоть обтереть… Митяй вспомнил, что последний раз вытирал нос платком ещё дома, когда батя был жив, и всхлипнул. Но не заплакал.
— Эй, собачка, как делишки, как доходишки?
Противный Бача имел изумительный нюх на деньги. Горка монет в чехле настроила его на добычливый лад.
— Славная собачка, рабочая. Все по-честному — восемь долей мои, две твои, без обману. Ну-ка сколь там бренчит?
Бача дважды пересчитал монеты и отделил четыре гривенника поплоше.
— Вот твои денюшки, — слово это выходило у парня приторно-липким. — Ничего не припрятал? Ух ты!
Поймав жадный взгляд «хозяина» Митяй хотел спрятать скрипку за спину, но опоздал. Бача был искренне восхищен.
— Слямзил что ли? За ум взялся, хорошая собачка. Вот тебе ещё гривенник на леденцы. А скрипулечку эту мы продадим и поделим. Не обижу — три доли отмерю. Давай-ка её сюда!
Митяй помотал головой.
Лицо Бачи сделалось ласковым, узенькие глазки прищурились.
— Забыл, сопля белобрысая, кто твой хозяин? Я твой хозяин, захочу — грязь лизать станешь. Дай!
— Нет, — набычился Митяй.
Бача шагнул вперед. Митяй поднял инструмент над головой:
— Убью! Подойдешь близко — убью! Хочешь денег, бери деньги, всё забирай. А скрипку я тебе не отдам.
Тощий Митяй был самым мозглявым пацаном в подвале и никогда не дрался. Не задумываясь, Бача сделал обманный хук левой, а правой попробовал выхватить инструмент. Что-то острое вонзилось ему в грудь. Отшагнув, беспризорник увидел — по грязной рубахе расплывается кровь. Нож?
— Убииииили!
Перепуганный Бача плюхнулся на мостовую. Митяй, забыв о футляре с деньгами, побежал вверх по улице, через сквер выскочил на Итальянскую и нырнул дальше на гору — в переулках слободок его не найдет сам черт. Левой рукой он прижимал к себе скрипку, правой держал смычок. Когда Бача поймет, что отделался простой царапиной, виновнику не поздоровится. Дыхание скоро сбилось, давешняя жажда напомнила о себе. На ходу Митяй обрывал и жевал теплые ягоды черешни. Взбираясь на Митридат, он изрядно взопрел, пот катился по лицу, оставляя грязные дорожки на загорелой коже. Вот и Криничка! Мальчишка с трудом дождался, когда две толстых татарки, лопоча и пересмеиваясь, наполнят кувшины, вдосталь напился сладкой воды, умыл лицо и комом глины как мылом отчистил руки. Потом вытер ладони о штаны и бережно взял скрипку. Какая она красивая!
Митяю расхотелось идти на море. Совсем рядом был крутобокий, заросший зеленью холм, из одного бока которого проступала старинная башня. Иногда после дождей из холма вымывало монеты с непонятными надписями, проржавевшие наконечники стрел, пестрые черепки. Счастливчик Никос однажды нашел тусклый золотой перстень, на котором красовался лев с крыльями, и продал добычу антиквару в городе. Но Митяю это место нравилось из-за другого — с вершины холма просматривался весь город. Как неторопливые корабли ползут по морю и причаливают к длинной спине порта, как бредут с Карантина старые клячи, покорно тащат телеги, как рассыпается по холмам пестрое стадо овец. Как большие облака наползают на город, бросают тень на беленые домики и ползут дальше к желтым выступам крепостной стены. Взрослые редко взбирались на холм, обходили его по тропкам, поэтому на вершине можно было невозбранно сидеть хоть до ночи.
Легко преодолев склон, Митяй растянулся на упругой сухой траве, глядя в небо. Скрипку он положил рядом с собой и время от времени дотрагивался до грифа пальцами. Словно кто-то живой рядом — кошка, щенок, младший брат… Светлоголовый крепыш Федька давно умер от инфлюэнцы. Отец с мамкой об этом не знали — когда большевики взяли город, он служил на «Марии», она стирала бельё офицерам. Истошно дымя, пароход отплыл в Константинополь и не вернулся. Дядька Макар распродал мамкины шали, отцовы сети и другой скарб, и до времени кормил сирот. А потом Федька умер, дядька сговорил дом татарам, дал племяннику две рублевых бумажки и напутствовал подзатыльником. С тех пор Митяй и мыкался, как бог пошлет. В сыром подвале, рядом с завшивленными, злыми приятелями, было тепло. Осенними вечерами мальчишки разводили огонь, пекли в углях краденую картошку и рассказывали, отчаянно привирая, байки из прошлой жизни.
Митяй сел, потянулся, чтобы размять затекшую спину, взял в руки инструмент. Он не умеет играть, точнее не умел до сегодняшнего дня. Жалкий писк прежней скрипки, не входил ни в какое сравнение с мощной прибойной волной подарка. Но этого было мало, ничтожно мало. Раньше он был уверен — не выйдет, как ни старайся музыка не зазвучит, только милостыню просить получится. А теперь… Пальцы сами легли на гриф, ухватили смычок. И мелодия полилась — не так гладко, как у «Астории», но полилась, а не похромала базарным нищим. Инструмент не прощал неточных, резких или слабых движений, зато откликался послушно. Под аккомпанемент птичьего хора и стрекотанья кузнечиков Митяй на слух подбирал старый вальс, который раньше играли на набережной:
Тихо вокруг, Ветер туман унёс, На сопках маньчжурских воины спят И русских не слышат слёз.Последний припев мальчик повторил трижды — для него вдруг открылось, что один и тот же мотив можно играть по-разному. Каждый фальшивый звук резал уши, каждый удачный проход мелодии радовал, как хороший прыжок с волнореза. Но ведь раньше он, Митяй, никогда так не чувствовал музыку. И в семье у них никто не играл.
— Митя-я-яй! Это ты там? Я тебе башли твои принес!
Голосистый Алабаш топтался внизу под горкой, держа под мышкой скрипичный футляр. Дружище!
— Лезь сюда, — крикнул Митяй, и, осторожно опустив скрипку, сам стал карабкаться вниз, чтобы помочь приятелю.
— На базаре дела не шли, бабы ведьмы, дядьки чуть что драться. Говорят, совецкие пошли всех шерстить. Я поглазел-поглазел и побег купаться, хотел тебя позвать — а тут вижу, люди шумят, Бача верещит, тебя на чем свет кроет. Мильтон свистит-заливается — хипеш полный. И Данька-Жук отирается. Я к нему. Он звонит — дружок твой Митяйка перо под ребра Баче пустил, из-за башлей. А я ж тебя знаю — не было у тебя пера. Хапнул футляр, свою скрипочку подобрал — и на гору! Знаю, где тебя искать!
Довольный Алабаш погрозил другу пальцем и расплылся в улыбке.
— Спасибо, выручил! Я боялся — без футляра скрипка пропадет, под дождем промокнет.
— Так я её и припас, старушку!
— Нет, другая.
— Какая?
— Гляди!
Митяй протянул дружку свою новую скрипку. Почему-то ему стало неприятно от мысли, что чужой человек прикасается к драгоценному инструменту.
Присев наземь, Алабаш положил скрипку на колени, ощупал, щипнул струны:
— Ойфовая, барская вещь! Откуда?
— Дай приберу, — настороженно пробурчал Митяй, вынул старую скрипку, выгреб из футляра горсть мелочи, убрал инструмент на место, и лишь потом начал рассказ — о странном фраере, чудной музыке и жадности дурака Бачи. Тяжелые выпуклые глаза незнакомца, его пронзительный голос и удивительные слова врезались в память.
— Ты музыкант!.. Алабаш, он меня словно околдовал, понимаешь?
— Нет, — покачал головой посерьезневший цыганенок. — Хуже дело. Крест на твоем фраере был?
Митяй поскреб в затылке — под костюмом особо не разглядишь.
— Не знаю.
— Не было на нем креста, — уверенно заключил Алабаш. — Мы, цыгане, всё знаем.
— Да кто он?
— Шайтан, Аллахом клянусь, черт по-вашему! Он и скрипку придумал — не слыхал разве?
— Нет.
— Так слушай. Жил на свете цыган, из русска рома. Хороший цыган, богатый — и кибитка у него новая и табун большой и молот крепкий. Жена умерла, осталась дочка красавица. Ножка легкая, в глазах огонь, брови вразлет. И певунья, и танцовщица знатная и старика-отца уважала. Никому её старый ром отдавать не хотел.
Явился в табор польский пан. Песни послушать, как девки пляшут поглядеть, с парнями на кулачках помериться, со стариками трубочку выкурить — добрый был пан. Раз заглянул, второй заглянул, на третий говорит рому — глянулась мне твоя дочь, отдай. Отец и слушать не стал. Рассказал барону, в ту же ночь поднялся табор и ушел куда глаза глядят. Только стала цыгана дочка-то чахнуть, все ей не в радость. Отец к ней — что за беда? Девка молвит — люб польский пан, пуще жизни люб.
Взял старый ром кибитку, взял дочь и назад поехал. На полдороге пана встретили. Тот поклялся крестом, что обвенчается, а до свадьбы позвал погостить у него в поместье. Старый ром пожал плечами — пусть. День они живут в усадьбе, другой, третий. Пан невесту свою разодел в шелк да бархат, глаз с неё не сводит, тешит, как может. И однажды в недобрый день затеял покатать цыганку в коляске. Запряг резвых коней, усадил красавицу, щелкнул кнутом — и понеслись вороные.
Вдруг откуда ни возьмись, заяц через дорогу порскнул. Лошади на дыбы. Коляска набок. Девка вылетела да и виском приложилась о камень. Насмерть. Поглядел пан на невесту, ничего не сказал, пошел в дом и тотчас застрелился.
Старый ром никого к телу не подпускает, плачет. Душу, говорит, продал бы, лишь бы с дочкой ещё раз поговорить. И вдруг откуда ни возьмись гаджё — как ты рассказывал, глаз тяжёлый, звонит чудное. Хочешь продать душу — айда. Вот тебе нож булатный, режь им руку, а потом у мертвой косы тяжелые отсеки — и услышишь свою дочь. Обезумел старый ром, сделал всё, что ему чужак говорил. Дымом тут потянуло, серой запахло — и исчез гаджё.
Семь дней ром не ел, не спал. А на восьмой вернулся чужак — и скрипка в руках у него. Так поет, что душа плачет, девичьим голосом выводит: юбки нет, рубашки нет, ты, отец, купи их мне. Отдал чужак рому скрипку — вот тебе твоя дочь, говори с ней, покуда жив. А как смертный час придет — не обессудь.
Пошел старый ром по свету бродить — и в таборах гостевал и в поле ночевал и в больших городах по театрам играл перед богатыми барами. Пели струны человеческим голосом, смеялись девичьим смехом. Плакали люди, заслышав музыку, забыть её не могли. Золотом цыгана обсыпали, умоляли у него скрипку купить — а он с ней на день не расставался. Потом сгинул. А скрипка с тех пор по свету ходит — черт её людям подсовывает, чтобы с пути сбить, душу украсть…
Ошарашенному Митяю показалось, что туча скатилась с Тепе-Оба, принеся с собой сумрак и холод. Чёртова скрипка — мыслимо ли? Выкинуть? Сжечь? Ни за что!
— Дай ещё поглядеть, — жалобно попросил Алабаш.
Скрепя сердце, Митяй щелкнул футляром. Пристроив скрипку на коленях, цыганенок погладил деку, потрогал пальцами струны, перебрал, пытаясь собрать мелодию, подкрутил ослабевший колок.
— Мне бы шайтан явился — души бы не пожалел, лишь бы сыграть как ты. Ладно, айда купаться!
Посовещавшись, они решили не соваться на «Чумку» — беспризорники часто ошивались на берегу, клянча мелочь у купальщиков, подбирая остатки чьего-нибудь ужина и под шумок тибря забытые вещи. Дорога до маяка была дольше, крупногалечный пляж городские не жаловали, зато там удалось бы раздобыть и ночлег, и пищу. В камнях у берега водились крабы и мидии, так аппетитно пахнущие в котелке с кипятком. А смотритель маяка, угрюмый очкарик из «бывших», за охапку хвороста пускал пацанов ночевать в сарайчик и, ворча, наливал по стакану свежего молока.
Дорожная пыль приятно грела босые ноги. Мальчишки болтали о ерунде — на какую наживку лучше ловить бычка, кто кого сборет — слон или кит, как вернее выводить бородавки — жабьей слюной, дохлой кошкой или цыганским наговором. Алабаш стоял за цыган, но вяло. Поглядев на его осунувшееся лицо, Митяй испугался — не заболел ли тот. Но на пустынном пляже приятель стал прежним. Они сбросили нехитрую одежонку и, оскальзываясь на камнях, вошли в волны. Плескались до синих губ, брызгались, ныряли и кувыркались, не забывая, впрочем, об ужине, — выкидывали поочередно на берег блестящие раковины, придавливали камнями протестующих крабов. Сохли нагишом, подставив медленному солнцу чесоточные болячки. Обуреваемый любопытством, Митяй поглядывал на вздутый, розовый обрубок, торчавший из плеча цыганенка. Приятель наловчился и одеваться и колоть орехи и даже драться одной рукой.
Когда закат тронул красным круглые стекла маяка, приятели поднялись. Вместо хвороста они разыскали на пляже пару просмоленных досок — чем не дрова? Мокрые ракушки завернули в рубашку. Скрипку Митяй нес сам. За игрой и добычей он отвлекся, теперь же темное дерево, спрятанное в чехле, заполняло мысли. Не терпелось снова прикоснуться к нему, убедиться — не ушел ли из рук дар.
Беспризорники долго стучали в двери, прежде чем смотритель маяка нехотя приоткрыл их. Угрюмый очкарик на доски даже не посмотрел и молока не предложил, только ткнул в сторону сараюшки и пробурчал что-то грубое. Мальчишки переглянулись — не привыкать. Главное — есть крыша над головой, есть огонь, есть какой-никакой горшок, в котором можно сварить еду. А без молока обойдемся.
Когда последняя ракушка была высосана дочиста, Алабаш тотчас зарылся в сено и уснул. А Митяй всё ворочался с боку на бок, то кутался в клифт, то скидывал с себя тряпки — сараюшка казалась ему вонючей, сено грубым. И скрипка звала — словно слышалось, как вливается ее голос в шорохи ночи. Устав, наконец, от бессмысленной маеты, Митяй взял футляр и вышел во двор. Тучи ползли над горами, светил маяк, где-то в низенькой башне бродил взад-вперед смотритель.
Осторожно раскрыв футляр, Митяй приложил инструмент к плечу. Он не знал, что играть. И скрипка решила за него. Звуки полились серебром, то мчась вслед за ветром, то вторя цикадам — скрипачу ли не узнать скрипача. Время смывают волны, берег встречает воду, люди разрушат берег, время сметет людей. Пальцы колдовали над струнами, мальчик слушал, не веря — это играет он.
— Браво! Браво, молодой человек! Для ваших лет вы прекрасно импровизируете. Только темп плоховато держите. Позвольте я покажу.
Безразличное лицо смотрителя маяка преобразилось, худые руки, протянутые к скрипке, дрожали. Взбешенный тем, что его прервали, Митяй сглотнул бранное слово — что теперь, всякий будет лапать инструмент? Но жалость возобладала — смотритель смотрел на скрипку, как он сам порой пялился в витрину колбасной лавочки.
— Нате, — пробурчал мальчик.
Достав из кармана платок, смотритель привычным жестом расправил лоскут под подбородком, приладил скрипку, взмахнул смычком — и неумелая мелодия Митяя распахнула чаячьи крылья, заполнила двор, отразилась от пыльных стекол. Колесо времен закрутилось, разбрызгивая года — что ему революция, что война и потери — лишь бы море плескалось о вечный берег, лишь бы звезды зажигались над головой. Митяй слушал — он понимал музыканта, и только это понимание останавливало от бешеного желания отобрать инструмент, спасти от чужих рук.
Завершив пьесу, смотритель не стал возвращать скрипку — подслеповато щурясь, он долго разглядывал деку.
— Пойдемте-ка в дом, молодой человек, откушаем с вами чаю.
Пить Митяю не хотелось, ему нужна была только скрипка. Как некстати Алабаш спит — ещё тюкнет его по голове этот очкастый да ограбит как есть! Но смотритель вражды не проявил. Он действительно поставил перед мальчишкой хрустальную вазу с какими-то давно засохшими сластями, налил очень крепкого чаю, зажег две лампы, достал лупу и стал разглядывать инструмент заново. Завязнув зубами в каменной пастиле, мальчик смотрел, как подрагивают острые ноздри смотрителя, шевелятся тонкие губы.
— Батюшки! Вот так встреча!
Чужие жадные пальцы снова прошлись по скрипке, ощупали её как живую, осторожно приподняли, взвешивая.
— Отдайте! — не выдержал Митяй.
— Погодите-ка молодой человек! — глаза смотрителя заблестели, словно тот успел выпить водки. — Расскажите-ка лучше мне по-хорошему, из какой дворянской усадьбы вам удалось стащить раритет? Расскажите правду — я не пойду в ЧК.
— Я не вор, — обозлился Митяй. — Скрипку мне подарили.
— Ах, подарили, — обидно фыркнул смотритель. — Вы ещё скажете мне, будто вы выживший цесаревич, вечная ему память. Такие скрипки дарят царским детям, а не оборвышам.
Запинаясь от неловкости, Митяй в двух словах рассказал историю с незнакомцем. Смотритель со вздохом протянул ему инструмент.
— Похоже вы человек необычной судьбы. Не знаю, кто сделал вам подарок, но надеюсь, он сделал это не зря. У вас очевидный талант, молодой человек. Главное, занимайтесь побольше. И по возможности найдите себе приличное место — на улице скрипка скоро погибнет, ей нужна сухость, тепло, покой. К сожалению, не могу предложить вам мой скромный дом — поверьте, в любом подвале вам будет лучше, чем у… — смотритель замялся, затем продолжил. — Я покажу упражнения.
Из пыльного шкафа на свет появилась другая скрипка — большая, гладкая, гулкая. Смотритель, прикрыв глаза, сыграл небольшую пьеску, затем подозвал Митяя и начал «ставить руки», больно давя на костяшки пальцев, растягивая сухожилия. О децимах, квинтах и терциях он рассказал вскользь, ощущение музыки было важнее. До рассвета продолжался урок. Затем смотритель порылся в комоде и достал оттуда черный костюм на мальчика — прямые брюки, короткий пиджачок, белую сорочку, завернутые в газету блестящие штиблеты:
— Возьмите, это вещи моего сына. Переоденьтесь и уходите вместе с вашим товарищем. И не возвращайтесь сюда, слышите! Я нынче не самое почтенное знакомство.
Сонный Алабаш сперва не узнал дружка в гарном паныче, забормотал что-то жалостное, потом озлился. Митяй поднял его за шиворот.
— Нам уходить велели, тотчас.
— Что ты такого натворил, Митька, пропащая твоя душа, — по-взрослому вздохнул цыганенок и зябко передернул плечами. — Ну, пошли, раз велели.
Закрывать за мальцами ворота никто не стал. Митяй видел огонек в кабинете смотрителя, но хозяин не вышел прощаться. Начал накрапывать дождь — сперва мелкий, задорный, потом холодный, колючий, потом где-то над башнями словно разверзлись хляби небесные — и полило. Мальчишки укрылись в полуразваленной мазанке, притулившейся к холму, и, прижавшись друг к другу мокрыми спинами, скучно смотрели, как сереет небо, прорезаются из сумрака тугие струи воды. Оба клевали носом, но сон не шел. Когда рассвет тронул мягкой ладонью спины холмов, со стороны города показался патруль — трое красных бойцов с винтовками, а за ними — неприметный человек в штатском. Перепачканный глиной отряд прошел к маяку, мальчишки переглянулись — и дали деру, едва солдаты исчезли из вида.
На Карантине погасли окна. Сонные жители копошились во дворах, жены поливали мужьям из кувшинов и подавали шитые полотенца, лениво гавкали псы, орали запоздалые петухи. Надо было решать, что делать дальше. Воровато оглянувшись, Митяй приоткрыл чехол убедиться, что дождь не повредил скрипке. Потом хлопнул себя по карману и неумело выругался, вспомнив, что оставил все башли в старом клифте. Небось, за ними теперь не сходишь! Или все же переложил? Для очистки совести Митяй провел руками по всем карманам, и нащупал продолговатую пачку. Это были деньги — больше чем оба мальчика видели в жизни, больше, чем оба могли сосчитать. У Митяя екнуло в животе — вдруг фальшивые, но в ранней булочной оборванным покупателям продали горячую булку и насыпали медяков сдачи. После короткого, но жаркого спора, половину нежданного богатства мальчишки припрятали в потайном местечке Круглой башни, вынув приметный кирпич. На остальное Алабаш предложил угостить всю братву с Галерейной и откупиться от Бачи. Кутеж Митяй отверг — пацаны не успокоятся, пока не разденут вчистую. У него появилась другая идея…
Вдовая тетка Ганна приходилась отцу дальней родственницей, была одинока, неразговорчива и при том скуповата нутряной крестьянской скупостью. Она жила на Горе, в аккуратненькой мазанке, держала небольшой огород, приторговывала ягодами, козьим молоком и, случалось, подкармливала сироту «за спасение души». Бесхозным, грязным мальчишкам тетка не обрадовалась, но напиться дала, и выслушать согласилась. Сделав жалкое лицо, Митяй рассказал, что отец «оттуда» передал ему гроши и настрого наказал не вязаться с подлецом дядькой, разорившим имущество, а велел идти к добренькой тете Ганночке и просить у неё приюта. Хитрость сработала — тетка считала, что по совести ей полагалась хоть толика от наследства. Да и деньги в хозяйстве не лишние. Для виду баба ещё ворчала, корила вшами и грязью, обещала выгнать взашей, если хоть ягодка пропадет с грядок. Алабаш божился и клялся, что «ни-ни», Митяй помалкивал. Устав браниться, Ганна протянула руку, трижды пересчитала рублишки и суетливо спрятала их под передник. Потом велела им раздеваться, самолично вымыла обоих в корыте, обстригла догола, и отобрала одежду прокипятить. Митяй похвалил себя, что припрятал деньги в скрипичном футляре.
Разместили их по летнему времени на чердаке, на сене. С балок свисали сухие травы, связки старого лука, на дальней стене гудело осиное гнездо — но по сравнению с гнилым подвалом новое обиталище было райским. И кормили мальчишек щедро. Молока и хлеба тетка им не жалела, варила борщи и наваристую кукурузную кашу с брынзой, позволяла вволю рвать вишни. Искать беглецов не искали — Бачу забрали мильтоны, на беспризорников объявили облаву и те из мальчишек, кто уцелел, попрятались кто куда. Живи — не хочу! Вот Алабаш и не захотел — он мрачнел с каждым днем, еле-еле прикасался к еде, цеплялся к приятелю по пустякам, и, наконец, объявил, что уходит:
— Скрипка твоя мне всю душу выела. Сам знаешь, Митяй, люблю тебя как брата, и был ты мне братом. Но как подумаю — ты играешь и будешь играть, у тебя музыка в пальцах пляшет, а я ни единого разочка больше смычок не возьму — и яд к сердцу подступает. Шайтан мутит — сожги скрипку или в колодец брось или брату своему названому перережь во сне горло. Не могу терпеть больше. Прости!
Ушел и денег не взял. Митяй скучал без единственного дружка, но на время летняя дрема приглушила тоску. По утрам, когда тетка уходила торговать на базар, мальчик отправлялся пасти коз. Пока рогатые упрямицы щипали травку, играл на скрипке — по нескольку часов кряду, до кровавых мозолей и бессильных слёз. Ввечеру иногда уходил купаться, посмотреть в «Спартаке» приключения Гарри Пиля или просто погулять в городе, прошвырнуться по пыльным бульварам. Работать в теткином огороде он наотрез отказался после того, как повредил палец и неделю не мог играть.
От покойной жизни Митяй подрос и раздался в плечах, дареный костюмчик стал ему впору, превратив в мальчика из хорошей семьи. Раньше он и помыслить не мог о кафе на набережной, горячих шашлыках, лимонаде в прозрачных бокалах и «чего изволите-с» от услужливых «человеков» в потных рубашках. Раньше, стоило ему заглядеться на выставленный в витрине товар, как приказчик шугал его или бранил. А теперь его приглашали зайти — потрогать роскошные ткани, попробовать сыра или рахат-лукума, полюбоваться на удивительные, сделанные вручную игрушки — офицеров, циркачек, пастухов и матросов, в точности как живых. Случалось, даже уличные мальчишки тянули к нему ладони «помогите на хлебушек». И Митяй помогал, выворачивал все карманы.
Гуляя по многолюдной Итальянской и нарядной Земской, обшаривая взглядом бульвары, мальчик совершил неожиданное открытие — сами собой причудливые закорючки вывесок стали складываться в слова. «В-о-к-з-а-л», «Х-л-е-б», «Мо-ло-ко», «Ры-нок». Это было чудесно — Митяй, запинаясь, перечитывал вывески, рисовал буквы прутиком на песке, наконец, обзавелся азбукой и с трудом продирался сквозь тенета грамоты. Ему вдруг захотелось учиться. Но музыка все же оставалась важнее. Мысли о чертовой скрипке никогда не покидали его — ни в море ни во время игры в ножички или бабки ни за нарядным столиком «Дачи Стамболи». Часами Митяй стоял на бульваре слушая, как играет городской оркестр, часами просиживал в ресторанах «Ассунта» и «Адмирал», наблюдая за музыкантами, часами валялся в роще, запоминая голоса певчих птиц. Как-то раз даже купил билет на музыкальный вечер в «Антресоли» и жестоко разочаровался — обещанный виртуоз оказался фальшивым тенором.
Митяй привыкал слушать и слышать, оттачивал слух в городской суете, покое холмов и пастбищ, как точильщик правит нож на шершавом камне и кожаном ремне. Много лет спустя он хвалился, что способен различить не меньше трех десятков оттенков шума воды — дождь ли это, капель, град, фонтан, прилив, протекающая труба, ручеек или родничок. Мальчик узнал, что даже тишина бывает разной — ожидающей, давящей, блаженной, бархатной словно ночь. И все это он пробовал перевести в звуки. Ему казалось, что переполняющие душу мелодии невыразимо прекрасны, что струны, наконец, покорились ему, старое дерево радуется, отвечая каждому требовательному прикосновению.
Старая Ганна редко слушала его музыку, но всякий раз жарко хвалила и награждала то пряником, то яблоком, обещая, что «племяш» выбьется в люди. Пацаны на пляже, загорелые рыбаки, вечно пьяные грузчики и их веселые подруги, перед которыми он изредка соглашался сыграть, дружно ахали «как душевно», в особенности если Митяй выводил популярный мотивчик или старую моряцкую песню. Но такого успеха, как в первый раз, когда «Море широко» подхватили десятки глоток, больше не случалось, и Митяй отчаялся понять причину. Недетская, сатанинская гордость копилась в нем, сила переполняла пальцы, и он жаждал отыскать ей применение.
Тем временем лето перевалило через зенит. Знойный август раскинул над городом желтый плащ, зашуршали сухие листья вдоль пыльных бульваров, налились соком виноградные гроздья. Курортников стало больше, они веселились жадно, стараясь до последней секунды использовать жаркие дни. По городу процветали карманники и фотографы, за любую мелочь просили втридорога, чаще дрались и реже понимали друг друга.
…В ресторане «Ассунта» всегда царила живительная прохлада. Хозяин, хитроглазый красавец Кефели позаботился об удобстве взыскательной публики — плетеные кресла с вышитыми подушками, низкие столики с неизменными живыми цветами, старинные бокалы в которые так вкусно наливать молодое вино. И живая музыка — на маленькой круглой эстраде по будням задавало тон фортепьяно, по субботам играл дуэт, а воскресенья отдавали приходящим гостям. Не покладая рук, господин Кефели, поставлял все новые инструментальные деликатесы — то разыщет в поселке татарина-скрипача, который играл когда-то для самого… тссс!!! то зазовет на огонек проезжую знаменитость из Ленинграда. Посетители смаковали хорошую музыку и понимали её, как никто. Все хорошие музыканты Феодосии сиживали за столиками «Ассунты», а бывало и поднимались наверх, подыграть исполнителю.
Обжившись в новой судьбе, Митяй захаживал туда не раз, облюбовал столик в глубине зала и старался держаться тихо. Обычно он побаивался разряженных шумных дам и девиц в чересчур открытых платьях, солидных господ в золотых очках и строгих костюмах, пестро одетых непонятных парней. Но в этот вечер кураж кружил ему голову. Шел восьмой час, посетителей было немного — компания офицеров, щупленькие супруги, коротающие вечерок за бокалом муската, крашеная, хищная старуха в бисерном платье не по возрасту, с пальцами, унизанными перстнями, и пара-тройка завсегдатаев за первым столом у сцены. Все курили, от запаха табака у Митяя першило в горле, он злился. Впрочем, не петь же.
Когда заезжая скрипачка — некрасивая, толстая девушка несколькими годами старше, чем сам Митяй, — поднялась на эстраду, волнение улеглось. Первая пьеска, которую сыграла гостья, добавила уверенности — заунывное дребезжание, то скачущее, то протяжное, со скрипучими переборами и редкими нежными нотками. Инструмент в руках девушки всхлипывал, словно истеричная барышня, смычок то порхал, то дрожал. Митяй не понял, чему так бурно хлопали зрители — скукота же. Щелкнул замочек, скрипка явилась на свет — пора.
Второй мелодией оказался чардаш — медленный, сладкий, дразнящий как кофе, чардаш. Сжав до скрипа зубы, гордо выпрямившись, Митяй поднялся и шагнул к эстраде, на ходу вплетая свой голос в радостную мелодию. Смычок касался струн уверенно и легко — кто кого, а? Потанцуем? «Потанцуем» — улыбнулась девушка, блеснула зубами, её большая грудь колыхнулась под платьем. «Айда!» Она удвоила темп, Митяй едва поспевал за ней, потом замедлилась, расплываясь в невыносимой томности — так цыганка тянет ладони, колышет пеструю шаль, бряцает монистом, прежде чем вспыхнуть пляской. Зрители зааплодировали. Митяй видел, как сияют их глаза, вспыхивают огоньки сигарет, отсверкивают очки и драгоценные кольца. Дама в бисерном платье не сводила взор с маленького музыканта… или с его скрипки?
«Айда!» Бешеная девица утроила темп, белые пальцы запорхали над грифом словно кузнечики. Силясь поспеть за ней, Митяй сбился с такта, захлебнулся в попытке нагнать. С отвратительным скрежетом на скрипке оборвалась струна… вторая… третья. Чертова дрянь! Сжалившись над неудачей горе-музыканта, девица сбавила скорость, и Митяй кое-как доиграл свою партию, выжал все звуки из последней целой струны. Вот и выступил. Опозорился, как только мог. Возомнил. Со свиным рылом в калачный ряд. Дурак. Засранец. Огузок стриженый… Митяй рванул галстук-бабочку, отбросил его, как тряпку, и, опустив взгляд, спустился в зал. Щелк — и проклятая скрипка скрылась в футляре. Хлоп — распахнулась дверь.
Скрипачка выбежала за ним.
— Не расстраивайся, мальчик!
Она говорила смешно, картавя и шепелявя, как иностранка — «гасстгайвайся», «мальтшик», и сама была потешной, похожей на круглощекую куклу.
— Подумаешь, струны порвались. У Паганини тоже рвались, так он плюнул на всех и на одной струне целый концерт сыграл!
— Это кто такой — Паганини? — сварливо спросил Митяй. — С Караимской будет или с Форштадта?
— Вот глупый… Ты самоучка?
Митяй кивнул и покраснел до пота.
— Знаешь, — девушка задумалась, потом продолжила. — Ты хорошо играл и способности у тебя большие. Езжай в Одессу, к Столярскому Пейсаху Соломоновичу. Скажешь, от Этли, он тебя и послушает, и пристроит. Запомнил? Повтори.
— Столярский, — хмуро сказал Митяй. Больше всего на свете ему хотелось оказаться за сто верст отсюда.
— Этель Михайловна, просим, просим! — раздался льстивый басок.
Сам Вениамин Кефели, сверкающий запонками и кольцами, в парадном своем костюме похожий на прогулочную яхту при полной иллюминации, вышел на улицу, зыркнул на наглеца, протянул руку скрипачке. Та улыбнулась, послала мальчику неуклюжий воздушный поцелуй и исчезла за кованой дверью ресторана «Ассунта». Соблазнительно сверкнул темный бок брошенной кем-то пивной бутылки — зашвырнуть бы в окно, посмотреть, как забегают, гады. Фу, позор! И ещё ведь с девчонкой связался.
Шмыгнув носом Митяй поплелся куда глаза глядят. Едкая злоба мешалась в нем с горькой обидой. Скрипка, чертова скрипка. Она одна во всем виновата. И друга из-за неё потерял и на посмешище себя выставил, и сыграть как люди не смог. Не порвалась бы струна… а и не порвалась бы, не вытянул, нет в руках нужной сметки. И таланта нет никакого, жалела меня толстуха, от дури бабьей жалела. Паганини-Паганини… поганец он был и другим заказал. «Шайтан мутит», вспомнились слова Алабаша. Так пусть и идет к шайтану дурацкая деревяшка, предательница!
Ноги сами вывели мальчика к городскому пляжу. Там шлепали о волнорез редкие волны, в темноте хихикали и взвизгивали женщины. Митяй разулся, оставил на песке нарядные штиблеты, аккуратно сложил костюмчик. Запустил «блинчик», посмотрел, как расходятся круги по воде. Взял футляр со скрипкой, высоко поднял над головой и вошел в теплое как молоко море, оступаясь на гальке. Зайдя по грудь, оттолкнулся и поплыл так далеко, как хватило сил. Потом отпустил гладкую ручку футляра, толкнул посильней, и, отфыркиваясь, повернул назад. С меня хватит. Снова купаться начну, рыбу ловить, с мальчишками якшаться. Может, в школу пойду или в детский дом подамся?
Выбравшись на сушу, мальчик долго лежал на камнях, глядя в беззвездное, низкое небо. Когда он снова сел, то увидел знакомый футляр, выброшенный на берег прямо у его ног.
После третьей попытки утопить скрипку, Митяй отчаялся и просто-напросто бросил её на берегу — бери, кто хочет. Там же оставил штиблеты, пиджачок и сорочку с жестким воротником. И штаны бы оставил, но идти до дому голышом было стыдно. Тетка всплеснула руками, когда «племяш» явился под утро, полураздетый, босой и грязный. Но браниться особо не стала — платил он пока что в срок.
Трое суток Митяй дурил напропалую. Привязал красный бант на рога соседскому козлу Мотьке, разозлив того до потери невеликого соображения. Подрался с братьями Аджибековыми и побил обоих, даром, что старший, Равиль, был его на два года старше. Попробовал пива, выкурил первую сигарету и до вечера блевал за сараями. Сходил в море с младшим Сатыросом, приволок пеленгаса и корзину мелкой рыбешки. На четвертое утро в дом тетки постучался незнакомый грузчик, большой, загорелый и запинающийся от застенчивости.
— Я того-этого… струмент вашу сыскал разом. Давеча на пляже мы с артелью того… отдыхали в обчем, а как светать стало — глядь, вор пожаловал! Приблудился стервец мелкий да по вещам ковыряется. Я за ним, он от меня — и футлярчик-та урони. Я тута и вспомнил, что ваш парнишка нам бывалоча на отдыхе-та пиликал, и струмент на его похож. Вот принес.
Оторопев, Митяй не нашел что сказать, предоставил тетке благодарить доброго человека, подносить тому стаканчик наливки и ломоть соленого кавуна. Мальчик забрал футляр к себе в сараюшку, воровато открыл — проверить — жива ли скрипка. Инструмент нисколько не пострадал, чехол не пропустил воду. Оставалось только поменять струны. Мальчик чувствовал — пальцы ноют, руки сами тянутся взять смычок, тронуть деку, заставить упрямое дерево заговорить. Нет уж, черту чертово!
Дождавшись, когда тетка уйдет на базар, Митяй умылся, пригладил волосы, решительно взял футляр и отправился на улицу Троцкого. Первый этаж каменного дома недалеко от церкви занимал Иван Наумыч Морозов, пожилой, вежливый антиквар, скупавший у мальчишек монеты и прочие древности. …Наверняка он возьмет и старую скрипку. А нет, так на толкучку снести можно, рынок недалеко. И баста — рыбаком буду, или механиком как батька. Нечего воображать — музыкант!
Антиквара дома не оказалось. Что ж, подождем. Скрестив по-татарски ноги, Митяй сел у порожка, бездумно забарабанил пальцами по футляру. Отчего ж не сложился тот танец? Можно ж было взять чардаш, удалось бы догнать девчонку, если б струна не лопнула. Или нет? Достав скрипку, Митяй вывернул пальцы над грифом, вспоминая, как ухватисто, ловко работала руками соперница.
— Подайте на хлебушек! — задребезжал старушечий голос, отвлекая от мыслей.
По привычке Митяй пошарил в карманах, собрал копеек и, не глядя, сунул в протянутую ладонь.
— Вот спасибочки! Добрый мальчик. Хороший мальчик, а так мучаешься — ай, как жаль.
Удивленный Митяй посмотрел на просительницу — хромая нищенка в туго завязанном черном платке, сама длинноносая, словно ведьма, узкий рот, внимательные, птичьи глаза. И какая-то несуразица в облике.
— Проклятье на тебе лежит, милый ты мой, страшное, смертное. Некому тебя защитить, некому мудрое посоветовать. А я знаю… все знаю!
Откуда? Как? Митяю стало не по себе.
— Что вы такое гуторите, бабушка?
— Дурачка не крути! — огрызнулась старуха, показав неожиданно белые зубы. — Дьявол тебе скрипку принес, а ты не знаешь, как от неё избавиться. Думаешь, Паганини стать? Так и он не осилил.
— Да кто такой этот ваш Паганини? — обозлился Митяй.
— Самый лучший скрипач на свете. Николо душу продал за инструмент, чтобы играть лучше всех. Дьявол повсюду за ним ходил, а после смерти утащил в ад. Старик Паганини тысячу тысяч лет будет жариться на сковородке и слушать, что делают с музыкой казенные скрипачи. Эх ты, глупый, невоспитанный мальчик.
Митяй и вправду почувствовал себя маленьким, беззащитным глупцом. Влип по самые уши, хуже, чем в голод, хуже чем в грязный подвал.
— Ты не знаешь, малыш, какой мастер создал инструмент, послушный как женщина и капризный как женщина? — голос нищенки налился силой, стал властным. — Почему темный ужас таится в струнах, почему лучший смычок — тот, на который натянуты девичьи волосы?
Кажется, это он уже слышал. Митяй попробовал ответить, но во рту пересохло.
— Лучшие свои скрипки Джузеппе Гварнери творил из ничего — из створки старого шкафа, из корабельной скамьи, говорят даже из гробовой доски. Он стучал по дереву умными пальцами, слушал как то звучит, а потом резал, выглаживая каждую линию. Видишь птиц, украшающих деку? Это его знак! Чтобы лак получился отменным, мастер добавлял в него горное масло, слезы матерей, потерявших ребенка и кровь, запекшуюся на брачных простынях. Сам господин Самаэль заказывал у Гварнери живые скрипки и платил сполна за работу. Глупец дель Джезу потом раскаялся — инквизиторы пообещали, если он не придет в лоно церкви смиренным рабом, то сгорит на костре, а дровами станут его инструменты. Мастер стал работать для попов, продавать глупым людям жалкие подделки. Но лучшие скрипки он делал в молодости. Понимаешь?
Побледневший Митяй помотал головой.
— Дьявол бродит по миру, взыскуя смятенных душ. Он дарит скрипки однажды и на всю жизнь, ставит в душу клеймо — проклятие музыканта. Думал выбросить или продать? Мальчишка! Ты обречен на смятение и одиночество, маленький дурачок, ты приносишь несчастье, друзья покинут и предадут тебя, любимые женщины бросят, не в силах соревноваться с музыкой. Для тебя станет важно лишь одно — совершенство, недостижимое совершенство звука. И когда старость скует твои члены, болезни ослабят силы, ты умрешь в страшных муках, томимый неутоленной жаждой!
— Это навсегда? — спросил, наконец, мальчик.
— Да, милый, — с неприятной улыбкой подтвердила нищенка. — Проклятие не оставит тебя и после смерти — если, конечно, ты не отыщешь помощи. Красивый мальчик, такие большие глазки, выразительная фигурка …жаль, стриженый. Золотая парча будет тебе к лицу, камзол с пуговками, чулочки и башмачки. И паричок, белый пудреный паричок. Пойдем со мной в мою лавочку, я сварю тебе чудного шоколада, угощу сладостями. Ты когда-нибудь пробовал рахат-лукум? Давай руку, мой славный.
Узнал! Хищный серебряный скорпион с перламутровой спинкой, украшающий безымянный палец, ногти, покрытые ярким лаком, чистая кожа — он видел эти ладони у старухи в кафе, старухи в бисерном платье, с длинным витым мундштуком.
— Из-з-звините, — Митяй запнулся. — Я не хочу сладостей. И с вами никуда не хочу.
Старуха приблизилась к нему, наклонилась, почти касаясь лица длинным носом. От неё пахло сладкими благовониями, пахло так сильно, что голова закружилась.
— Тебе нечего бояться, малыш. Госпожа Вероника любит детей и позаботится о тебе, уберет все напасти, все тревоги. Ты будешь играть, играть вволю! Погляди, что у меня есть!
В ловких пальцах из ниоткуда возникли чудные куклы. Даже сквозь страх Митяй успел удивиться — до чего же здорово сделано! Офицер Виленского полка в окровавленной форме машет маузером, поднимая в атаку. Раненый матрос стоит на одном колене, опираясь о пулемет. Татарский воин в лисьей шапке натянул лук. У Митяя никогда не было своих игрушек. Он потянулся к фигурке рыцаря в шлеме — разглядеть, что у того за герб. Глаза старухи жадно блеснули.
— Шла бы ты отсюда, убогая!
Неторопливый Иван Наумыч спешил так, что начал задыхаться, худая грудь антиквара ходила ходуном, усы грозно встопорщились, пенсне слетело и, подрагивая, повисло на шнурке. Старый интеллигент, он называл на «вы» даже кошек, и Митяй страшно удивился.
— Явился, защитник обиженных и несчастных. Думаешь жить вечно? — прошипела старуха, выпрямляясь во весь рост. Она показалась страшно высокой рядом со щуплым антикваром, но тот не отступил.
— Нет, и время, отпущенное мне, почти вышло. Но зато я живу свои годы. А что лежит у тебя в шкатулке? Резной, из слоновой кости, с тремя ликами Владычицы Перекрестков на крышке?
— Ты и это пронюхал, шпион проклятый? — лицо старухи исказилось, казалось, она вот-вот набросится на врага, начнет рвать ему волосы, выцарапывать глаза крашеными ногтями.
Наваждение спало. Митяй не стал дожидаться конца беседы и выяснять, что за старые счеты связывали Иван Наумыча с этой ведьмой. Он подхватил футляр и порскнул вниз по бульвару, сверкая пятками.
С неделю после того мальчик не выходил на улицу, не купался, и не смотрел фильмы в синематографе. Ночами снились кошмары. По всем бульварам гнался за ним разъяренный скрипач Паганини, потрясая огромными кулаками, кричал «отдай мою скрипку, мерзавец». Сотни одинаковых девочек с розовыми бантами ядовито смеялись, когда он выходил на сцену и у него одна за одной «дзынь! дзынь!» лопались струны. Рогатый дьявол похожий на вокзального мильтона Плевако являлся, чтобы отобрать инструмент и утащить душу прямиком в ад. И самое страшное — повесившийся Алабаш ухмылялся мертвым лицом, показывал синий язык — что, добился моей смерти, брат названый? Но обошлось — ветер переменился, жара спала, дурь из головы вышла. Митяй снова стал заниматься, сперва нехотя, потом истово. Он понял одно — что играть он сейчас не умеет. Но раз ему суждено быть музыкантом, раз он проклят, то выбора не остается. Вопрос лишь во времени — сколько придется учиться.
В сентябре подошел срок уплаты за прожитьё. Денег на кармане оставалось не густо — щедрая жизнь выходила дороже, чем мальчик думал. Ранним утром, убедившись, что его никто не заметил, Митяй сбегал к потаенному месту на Круглой башне. Приметный кирпич так же верно прикрывал выемку, но тайник оказался пуст. Может быть, Алабаш передумал и забрал свою долю добычи? Или кто-то чужой пробрался? В любом случае передышка, отпущенная судьбой, завершилась. Надо было что-то решать со своей жизнью. В начале весны исполнится тринадцать, отец в эти годы уже работал. Возвращаться к бездомью, грязи и нищете — ни за что! Играть на улице — так подавать не будут, здоровому обормоту. Податься в порт? Ловить рыбу? Стать батраком у тетки — она одинока, немолода. Или…? Детдомовскими порядками, крысами в супе, воровством, побоями и злобными надзирателями пацаны пугали друг дружку зимними вечерами, но болтовня болтовней, а школа школой. Опять же, крыша над головой, харчи. Глядишь, и с музыкой помогут.
В тот же день Митяй попрощался с теткой, объяснив ей, что денег больше не светит, а нахлебником он сидеть не намерен. Для приличия Ганна повозражала, удерживать всерьёз не стала — она хорошо относилась к мальчику, но родственной любви между ними не завелось. На прощанье она спекла пышный курник, подарила племяннику почти новую вышитую рубаху и мужние порты, подкоротив кое-где. Громко сходила в лавочку за ботинками и картузом — пусть люди видят, не босяком отпускаю. А потом отвела к скучным серым воротам и объяснила чахоточной барышне-воспиталке «так мол и так, не могу прокормить сироту, документов никаких нет, пишите: Митрий, Васильев сын, по фамилии Бориспольский, родился аккурат под Пасху, двенадцать годков назад». Под неласковым присмотром Митяй разделся, сдал шмотки, кое-как вымылся, стесняясь голого тела. Старичок-парикмахер догола обстриг лохматую голову, добродушно ворча, мол об такой волос зубья машинки сломать недолго. Казенная одежда оказалась колючей и неудобной, непривычное бельё давило на тело. Воспиталка, презрительно щурясь, предупредила — второй выдачи не будет, порвешь или на базар снесешь, будешь ходить, в чем хочешь. Митяй чуть заметно пожал плечами — главное, что разрешили оставить скрипку.
Полтора десятка разновозрастных мальчишек, населявших общую спальню, приняли новичка без особой радости. Зная обычаи пацанов, Митяй приготовился к неприятностям и, при первой попытке домотаться, дал сдачи. Он никогда раньше не дрался всерьёз, но подвальная школа его многому научила — бить больно и страшно, напугать не только противника, но и зрителей, чтоб уважали впредь. С первого удара он расшиб противнику нос до кровавых соплей, со второго уронил с ног. Пацаны завопили «лежачих не бьют», но Митяй ухватил врага за волосы, стукнул об пол и волтузил, пока тот, захлебываясь слезами, не попросил пощады. А потом пообещал, что искалечит всякого, кто попробует тронуть его самого или его скрипку. Зрители смотрели на представление, раскрыв рты — пожелай Митяй, он вполне мог бы помериться силой с главарем этой шайки зверенышей, и занять его место. Но он не искал ничьей дружбы. Занял «дачку» на отшибе, собственноручно собрал хитрую щеколду на тумбочку, и зажил сам по себе.
Первые недели он тяготился строгим режимом, необходимостью спрашиваться, чтобы сходить до ветру, скудными порциями невкусной еды, придирками воспиталок и постоянными мелкими сварами пацанов. В школе его, как малограмотного, отправили в первую группу, и сидение рядом с сопливой малышней бесило невероятно. Все свободное время Митяй посвящал скрипке, пиликая до судорог в пальцах и приступов головной боли. Импровизировать, вторя ветру, волнам или городскому шуму, здесь, конечно же, не выходило, но ставить технику и быстроту удавалось вполне. Гордый Митяй чувствовал — все проворней перескакивают по струнам пальцы, все реже сбивается с такта, режет фальшивым звуком мелодия.
На одаренного мальчика обратили внимание учителя. К десятой годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции по городу прошли митинги и концерты. Митяй выступал трижды — на утреннике для детей погибших революционеров, на сборном концерте в первой школе и в портовом клубе для дружественных иностранных матросов. Он выучил неизбежный «Интернационал», пионерский гимн «Взвейтесь кострами синие ночи», обновил в памяти «Марсельезу» и наконец-то справился с клятым чардашем. Выступать оказалось совсем не страшно, Митяй не боялся ошибок, понимая, что зрители просто их не заметят. И сыграл хорошо, так хорошо, что потом улыбался во сне. Матросы с английского корабля подарили «вундеркинду» коробку настоящего шоколада, Митяй щедро разделил лакомство между товарищами, и они перестали чуждаться хмурого новичка.
Хлопотливый директор, вскоре заметил, что в детдоме появилась новая звездочка, и немедленно осознал, сколько выгод принесет одаренный ребенок. После короткого опроса выяснилось, что воспиталка старших в молодости играла на фортепьяно и кое-как знала ноты — ей и поручили ежедневно заниматься с Митяем, заодно заполняя пробелы в школьной программе. Нельзя сказать, что мальчик возненавидел эти занятия — они были всего лишь скучны. Зато энергичные политинформации, которые раз в неделю проводили пионеры Артем и Лида, неожиданно заинтересовали его. Гром Днепрогэса, звон чапаевских сабель, происки Антанты и коммунизм, который вот-вот наступит, очаровали Митяя, как чаруют волшебные сказки. Едва научившись бойко читать, он взялся за «Правду» и вскоре сам начал делать небольшие репортажи о положении дел в стране. «Торжественное обещание пионера» Митяй выучил назубок и надеялся, что к Первомаю ему под барабанную дробь перед лицом дружины повяжут ослепительный красный галстук. Но все обернулось иначе.
К Первомаю ожидался большой концерт. На одном из занятий воспиталка попросила маленького музыканта проявить политическую сознательность и позволить ещё троим мальчикам из детдома сперва репетировать, а потом и выступить с его скрипкой. Денег на новые инструменты в детдоме не было. «А если я не дам инструмент?» осторожно поинтересовался Митяй. «Не дашь — экспроприируем, и поедет твоя скрипка на концерт без тебя» — воспиталка визгливо засмеялась своей шутке. Митяй представил, что его инструмент станут лапать чужие люди, грубые пацаны с немытыми руками, дождался ночи, подхватил свой нехитрый скарб и сбежал.
До Симферополя он добрался на тряском душном автобусе, выложив за дорогу последние гроши. На толкучке загнал школьный костюм, ботинки и дурацкий картуз, переночевал на вокзале, сбрехнув мильтонам, что ждет дорогую бабушку, и отправился дальше. По малолетству Митяй никогда раньше не выезжал из города, мир показался ему огромным, шумным и великолепным, он громыхал и гудел, свистел и щелкал, бормотал и стонал во сне. В Севастополе мальчик отправился в порт поискать удачи — жизнь среди грузчиков и моряков кой-чему его научила, к тому же спрятаться в многолюдной суматохе кипучей работы казалось проще. С неделю он ошивался в доках, спал где ни попадя, ел, что найдется, не отказывался от любой работы и старался услужить матросам — сбегать за пивом или папиросами, купить семечек или вяленых бычков, опустить письмишко в почтовый ящик. На восьмой день он поднялся на борт «Коммунара». Отговориться байками в этот раз не удалось, капитан парохода был старым революционером и легко раскусил беглеца. Пристыженному Митяю пришлось сказать правду. Его не выгнали.
Все плавание и всю разгрузку мальчик работал на камбузе, не покладая рук, чистил картошку, резал лук, мыл котлы и слушал нескончаемую болтовню длинноносого кока. Красавица Одесса равнодушно встретила очередного маленького босяка, ей хватало своих оборвышей. Город оказался и богаче и беднее, чем Феодосия. Никогда в жизни Митяй не видел таких роскошных дворцов, как на набережной, таких разодетых господ и нарядных дам, таких вонючих, лохматых нищих, тощих извозчичьих кляч, шикарных витрин, щеголеватых военных и наглых рыжих котов. Ещё не отцвели акации, по бульварам несло белые волны суетных лепестков, звенели трамваи, гудели и пыхтели автомобили, играла музыка, из окон и репродукторов кричало на разные голоса радио. Торговали «сахххарным мороженым», квасом, лимонадом и бубликами, папиросами и газетами, апельсинами из Константинополя, золотыми часами с самым точным парижским механизмом. Эх, гуляем! Митяй два раза прокатился на дребезжащем трамвае, восторженно глядя в окно, прогулялся по городскому парку, съел тающий во рту шарик крем-брюле. И, наконец, набрался смелости — подошел к первому встреченному мальчишке со скрипичным футляром в руке:
— Привет! Ты не знаешь случайно, где мне найти Столярского?
Веснушчатый кучерявый пацан поправил очки и посмотрел на Митяя, как на идиота:
— Тебе какого Столярского? Моня Столярский таки сел за грабеж, Шая Столярский уехал с мамочкой в Жмеринку, Мордехай Абрамович у рейде, Боба и Ицик с ним, Лейзер Наумович принимает с девяти до пяти в кабинете на Греческой, у Хаима захворала кобыла так он ходит за ней как за родной дедушкой и на Дерибасовскую носа не кажет.
Зачесались кулаки, но Митяй сдержался:
— Мне того Столярского, который учит играть на скрипке!
— Ишь ты… — на подвижной физиономии пацана проступило недоумение, в тёмных как вишни глазах читалось «и этот босяк туда же».
Ожидая ответа, Митяй оглянулся вокруг в поисках других советчиков. Но веснушчатый смилостивился.
— Пошли, отведу куда следует.
Изнывая от предвечерней жары, они долго ждали трамвая, потом мучительно долго ехали, тормозя на каждом перекрестке, пропуская каждый автомобиль, каждую бабу с корзинами. Пацан оказался неразговорчив, смотрел в окошко, что-то мурлыкал задумчиво, потом махнул рукой: айда выходить. На тенистой узенькой улочке он показал нужный дом и, неожиданно покраснев, попросил:
— Передай Пейсаху Соломоновичу, что Муся Гольдштейн больше не придет заниматься. И скрипку мою верни.
— Почему? — удивился Митяй.
— Потому, что кончается на «у». Скрипач из меня, как из гуся аэроплан. Надоело, понял! И вообще не твое дело!
Митяй пожал плечами. Он не мог понять, как по доброй воле отказаться учиться играть. Двадцать восемь шагов до входа показались удивительно длинными, бронзовая ручка с головой льва — тяжелой, кнопка звонка тугой, ожидание невыносимым. Ему никто не открыл. Митяй долго колотился в двери, потом в ворота, прежде чем вызвать дворника, грубого бородатого мужика.
— Нету никого мальчик, занятия кончились. В школу сейчас не записывают. В сентябре приходи с мамкой, слышишь?
— Меня Муся Гольдштейн попросил скрипочку передать Пейсаху Соломоновичу лично в руки! — нашелся Митяй.
Дворник недоверчиво осмотрел грязные ноги мальчика, его обтрепанную одежку, обветренное лицо:
— Дай-ка я отнесу, малой!
— Велено лично в руки, иначе нельзя.
— Покажь инструмент!
Митяй послушно распахнул чужой футляр, не приближаясь к дворнику. Тот прищурился, потом махнул рукой:
— Ладно, ступай! Третий этаж, кабинет налево у лестницы.
В здании было прохладно и очень тихо. Каждый шаг отдавался эхом от высокого потолка. Мраморные ступени парадной лестницы холодили босые ноги, а паркет коридора оказался удивительно теплым. Пахло старой бумагой, деревом, пылью, смолой и ещё чем-то незнакомым. Митяй поставил скрипки на пол и перекрестился перед тем, как постучать в дверь.
— Войдите!
Кабинет был заставлен шкафами, полными книг. Его хозяин, пухленький человечек с совершенно белыми волосами, казался особенно маленьким рядом с большим столом. Приличный серый костюм делал человечка похожим на дорогого врача, доброе лицо украшали большие очки с выпуклыми стеклами. А вот голос оказался сердитым:
— И не надо вам здесь стоять! Никаких пересдач, Шурочка, хватит. Придешь в августе, детка, и сыграешь не хуже самого Паганини.
…Он что, слепой или дурной?
— Извините, но я не Шурочка. Муся Гольдштейн попросил передать вам скрипку, и сказать, что он больше не придет заниматься.
— Что?! — человечек подпрыгнул в своем кресле, очки слетели, он зашлепал ладонями по столу, подцепил дужку и снова надвинул их на нос. — У Муси концерт в воскресенье, половина Одессы соберется слушать этого шейгица, а он не придет. Моцарт ему не дается — вы такое слыхали? Рано ему за Моцарта разговаривать. Нет уж, я бекицер поеду побеседовать с его мамочкой, пусть объяснит своему гениальному мальчику — ещё один такой балаган и я сам велю ему не приходить. Ой-вэй!
Из кармана шикарного пиджака на свет божий явился огромный неопрятный платок, человечек утер потное лицо, ещё раз горько вздохнул — и наконец-то разглядел Митяя как следует.
— Что тебе нужно, мальчик?
— Пейсах Соломонович, я приехал учиться музыке, — пробормотал Митяй.
— Ты опоздал, — виновато улыбнулся преподаватель. — Сейчас лето, детка, год вот-вот кончится. Скажи маме, пусть приведет тебя в сентябре.
— У меня нет мамы.
— Хорошо, скажи папе, скажи бабушке, кто-нибудь же за тебя смотрит?
— Никто, — ответил Митяй. — Я сирота.
— Ай-яй-яй! — Пейсах Соломонович сочувственно покачал головой. — Ай, какая беда, когда нету мамы и папы. Издалека ты приехал?
— Из Феодосии… Этля! — Митяй наконец вспомнил имя. — Этля, скрипачка, сказала, чтобы я поехал в Одессу к Столярскому.
— Давненько мы с ней не виделись, — вздохнул Пейсах Соломонович. — Загордилась девочка, гастролирует, замуж видите ли собралась, а о старом учителе и не вспомнит, трех строк не напишет. Телеграмму прислала на день рождения — смех и грех… Итак, ты хочешь учиться музыке? Покажи, что ты умеешь, детка.
Замок футляра словно заело, Митяй отщелкнул его с четвертой попытки. Чертова скрипка лежала спокойно, настройка струн не слетела. Ну, не подведи! Задорная мелодия чардаша полилась легко и свободно, год занятий не прошел зря. Ускорить темп, снизить, замедлить, взять паузу, как брала та девчонка, и снова рухнуть в отчаянный пляс — всё. Смычок опустился, Митяй открыл зажмуренные было глаза.
— Хорошо. Вот хорошо, вот молодец! — лицо преподавателя разгладилось, улыбка тронула мягкий рот. — Учили плохо, а играешь просто великолепно. Руки бы оторвать тому, кто ставил тебе пальцы, и ровнее надо стоять и скрипку держать гордо, понимаешь? Это ж не метла. Вот смотри!
Взяв в руки инструмент Пейсах Соломонович преобразился — откуда-то появилась осанка, черты лица стали тверже, даже росту в преподавателе словно прибавилось.
— Берешь нежнее, голову выше, плечо развернуто и раз-два-три!
Да, Столярский был мастером. Глядя на него, слушая тот же чардаш, Митяй схватывал на лету, как стоять, как держаться, понимал свои промахи и ошибки.
— Значит ты у нас сирота, приехал из Феодосии, знакомых в Одессе у тебя, конечно же, нет. И денег нет. У кого ты учился?
— У скрипки, — ответил Митяй.
— Самоучка? Похвально, детка, похвально, ты подлинный вундеркинд, — покивал головой Столярский. — Что же нам с тобой делать?
— Я учился у скрипки, — повторил Митяй. — Черт принес мне проклятую скрипку работы мастера Гварнери, на которой играл этот ваш… Паганини, и сказал, что я музыкант.
Очки Столярского снова съехали с носа, блеклые карие глаза широко раскрылись:
— Черт, говоришь? Паганини? Присядь-ка, золотко, выпей водички, и расскажи-ка мне этот сипур!
Ерзая на кончике обитого бархатом табурета, Митяй добросовестно рассказал всю историю от начала до конца. Про усатого фраера и его странный подарок, про сказку Алабаша, про смотрителя маяка, про то как сатанинская музыка в одночасье овладела его душой и заставила мир вокруг переливаться разноцветными нотами. Про кошмарную старуху с её проклятьем, про мастера Гварнери, который резал скрипки из гробовых досок, про сны, в которых всклокоченный Паганини гнался за ним по Адмиральскому бульвару и верещал «Отдай! Отдай мою скрипку!»
Рассказ прервали клокочущие, глухие звуки. Митяй поднял глаза — Столярский смеялся, покатывался от хохота, тщетно стараясь сдержаться.
— Вот глупство! Божечки мои, мальчик, какое невероятное глупство! Ду бист а идише ингеле?
Не поняв вопроса, Митяй покачал головой.
— Слава богу! Если б ты был евреем, то непременно сошел бы с ума, имея таких фантазий. Цыгане, старухи, сказки, дьявол, диббук — подумать только! Гварнери в провинциальном городе, Гварнери, которого дарят нищему мальчику просто так. Впрочем, революция, бегство — все может быть… Дай-ка сюда нашу скрипочку!
Вздрогнув, Митяй протянул преподавателю потертый футляр. Все ещё всхлипывающий от смеха Столярский достал инструмент, бегло ощупал его, заглянул внутрь, потом положил на стол и достал из второго футляра скрипку Муси Гольдштейна — точно такую же, покрытую темным потресканным лаком, с редкостными прорезями по деке, похожими на разлетающихся в стороны чаек.
— Посмотри вот сюда, видишь? «Страдивари, 1701 год».
Иностранные буквы на маленькой этикетке Митяй разобрать конечно же не сумел, но тонко выведенные цифры были те самые.
— Это подделка. Удачная копия, золотко, понимаешь? Сто лет назад немецкие мастера стали делать копии великих скрипок — Страдивари, Гварнери, Амати. Выходил у них честный, добротный инструмент. В десятом году одесские миллионеры, дай им бог здоровья, закупили партию таких скрипок, чтобы дети учились. Кто-то решил подшутить над тобой, детка, и шутка хорошо удалась.
— То есть это простая скрипка? Самая-пресамая обыкновенная? И Паганини тут не при чем и никакая судьба мне не суждена? — Митяй не знал, радоваться ему или плакать.
— Сложный вопрос, — хитро усмехнулся Столярский. — Коммунисты говорят, бога нет, и судьбы тоже нет. Но раз ты, нищий мальчик, сумел добыть себе скрипку, выучиться играть, добраться до Одессы и найти единственного человека, который сделает из тебя настоящего музыканта — значит, кто-то на небе крепко за тебя молится.
Достав из кармана круглые золотые часы, Пейсах Соломонович, посмотрел на циферблат, пошевелил губами, что-то подсчитывая, и взял в руки скрипку упрямого Муси.
— Полчаса у нас есть, детка. Даю первый урок, потом отвезу тебя к нам с Фирочкой, переночуешь, поешь, а там как судьба выведет, да?
Довольный Столярский хихикнул и потрепал мальчика по стриженой голове. Митяй тоже расхохотался — он не думал и даже мечтать не смел, что кошмар обернется всего лишь страшной сказкой для малышей.
— Давай, золотко, слушай первый куплет, а потом попробуешь подыграть. И не делай тут личико — Моцарт для новичка слишком просто.
Митяй ожидал от Столярского чего угодно — но никак не блатной песенки, да ещё с вариациями, проигрышами и совершенно издевательской интонацией. Скрипка у старого музыканта заговорила бархатным голоском уличной этуали, закружилась, дразня:
Раз пошли на дело, выпить захотелось, Мы зашли в фартовый ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, А из-под полы торчал наган.Дождавшись конца куплета, Митяй встроился вторым голосом:
Мурка, в чём же дело, что ты не имела? Разве я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, Разве ж я тебе не добывал?«Мурка» плавно перетекла в какой-то незнакомый Митяю залихватский танец и завершилась неожиданным гопаком. Вспотевший от усилий Столярский оборвал игру и посмотрел на ученика уважительно:
— Из тебя выйдет толк, детка. Главное пользуй своих фантазий в музыку, только в музыку. Договорились?
Счастливый Митяй кивнул.
Профессора Столярского в Одессе знали все от биндюжников до депутатов. Потратив пару дней на беготню по комитетам, Пейсах Соломонович устроил Митяя в неплохой детский дом с правом посещения музыкальных занятий, а спустя четыре года перевел в интернат при созданной им же музыкальной школе. Д. Бориспольский, как писали на его первых афишах, действительно стал музыкантом, талантливым скрипачом. Если его имя не вошло в первый десяток имен выпускников — причина была исключительно в том, что у Столярского занимались гениальные дети. Митяй даже не пробовал оспаривать превосходство братьев Гольдштейнов, Семы Фурера или Лизочки Гиллельс. Ему хватало того, что у него получалось, а любую искру зависти к чужой славе музыкант гасил нещадно, помня больные глаза Алабаша, первого друга, потерянного из-за пустой ерунды. После школы Митяй поступил в Одесскую консерваторию, окончил её перед войной, но диплом получить не успел — в сорок пятом пришлось восстанавливать документы.
22 июня Дмитрий Бориспольский пошел на фронт добровольцем, отслужил два года, получил три награды и один осколок в живот. Выжил чудом. О войне он не рассказывал никому, даже сыну, медали прятал в ящик стола и надевал лишь на день Победы. В сорок пятом скрипач вернулся в Одессу, в том же году женился на Розочке Тененбойм, младшей сестре товарища по скрипичному классу, потерявшей в оккупации всех родных. Следующей весной Бориспольский стал отцом, нежным, трогательным, но и строгим — Розочка трепетала перед ним, как полевой цветок, приучая детей к покорности. С сорок шестого по семьдесят пятый музыкант служил в Одесском симфоническом оркестре, выступал в городе, гастролировал по стране и не имел нареканий, не считая пары дурацких причуд — играл только на своей старой скрипке и наотрез отказывался браться за Паганини, даже имени его слышать не мог. С возрастом его отношение к музыке не менялось — не довольствуясь репетициями и концертами, он музицировал дома, уходил поиграть в парк или на пляж, импровизировал вволю. Сын, дочери и внуки не рисковали нарушать уединение скрипача или (упаси боже!) слушать в доме те записи, которые он почему-то не одобрял.
Выйдя на пенсию, Дмитрий Васильевич быстро сдал, стал жаловаться на сердце, потерял интерес к прогулкам, кинематографу и даже к изумительно вкусной стряпне жены. Казалось, дни его сочтены, но хлопотливая Розочка провернула многоходовую комбинацию и обменяла родовое гнездо на двухкомнатную в Феодосии. Возвращение «к отчим брегам» придало скрипачу жизненных сил. Обвыкшись в уютном, нешумном гнездышке он снова начал ходить пешком, показывать милой Розочке уцелевшие улицы и тропинки, по которым гонял мальчишкой. Понемногу рассказал жене детство — про засыпанную Криничку, подлый поступок дяди, голодный быт беспризорников. И про скрипку — не все, но многое. Тем же летом он купил жене шаль и золотое кольцо, наряжал её, баловал на старости лет. Засыпая рядом с сухонькой женщиной, едва заметной под большим одеялом, слыша, как она тихо дышит, скрипач думал, что безмерно богат. В его жизни есть два сокровища, скрипка и Роза. И немного времени для любви.
Дом Офицеров, куда Бориспольский по старой памяти заглянул, кишел кружками и студиями, мастерство старого скрипача там пришлось как нельзя кстати. На закате жизни Дмитрий Васильевич начал давать концерты, делать сольные номера по мотивам популярных мелодий и задорных народных танцев — небольшие, в меру оставшихся сил. Он стал пользоваться популярностью, уважением, а затем и любовью у горожан, неизменно бывал приглашаем на отчетные концерты в двух городских «музыкалках» и даже вел уроки музыкальной культуры в том самом детском доме, который однажды чересчур поспешно покинул.
В свободное время он любил прогуляться по развалинам генуэзской крепости Кафы, помолиться у стен заброшенного армянского храма, посмотреть с высоты холмов на безмятежное море, поиграть тихо-тихо — для кузнечиков, бабочек и хлопотливых пчел. Покой заполнил усталую душу, как свежий мед заливает соты. Детство и старость сплетались в книгу причудливых воспоминаний, долгих, подробных снов, полузабытых мелодий. Обветшалое тело перестало пугать музыканта, слабость ног — раздражать. В «Богом данной» все шло своим чередом — зерна ложились в землю, давали ростки, плоды, рушились под ножом, и снова падали в рыхлое поле.
Когда пришла перестройка и стихийный Арбат художников, музыкантов, поэтов и прочих безумцев выплеснулся на улицы, Бориспольский тоже решил вспомнить детство. В хорошие дни сезона, ухмыляясь про себя, он становился у входа в «Асторию», клал на землю футляр и играл часовой концерт, завершая его неизменным «Раскинулось море широко». И нельзя сказать, что было важнее для старика — неплохая прибавка к пенсии или молодое, шкодное удовольствие от работы с «курортной» публикой. Вспоминая уроки Столярского, скрипач заставлял инструмент мяукать и кукарекать, изображать ссоры влюбленных и тернистый путь пьяницы к дому. Впрочем, классическими произведениями он не пренебрегал — к семидесяти годам Бориспольский счел, что дорос, наконец, до Моцарта, и мог играть его вечно. Пронзительная печаль и молодая беспечная легкость композитора пришлись скрипачу особенно по душе.
Седая Розочка все вздыхала «с этой улицей тебя не будут уважать люди». Дмитрий Васильевич гладил её по нежным кудрям и целовал в щеки — не о чем волноваться, золотко. За два года он стал своим на набережной, его узнавали, здоровались, называли на «вы», приглашали сыграть в кафе, клали в футляр цветы и порой аплодировали не хуже, чем в филармонии. Если скрипач о чем и мечтал — умереть вовремя, до того, как откажут ноги и голова. Но до смерти ещё оставалось время — как и многие здешние старики, занятые делами, Бориспольский был вполне бодр и даже силен.
…В этот день его место подле гостиницы оказалось неожиданно занято — длинноволосые парни из Коктебеля попросились подзаработать на набережной. С ними была беременная флейтистка, поэтому скрипач не стал возражать. Он прогуливался в тенечке подле кафе «Аркадия», ожидая своего часа, и небрежно разглядывал товары. Бусы из «крымских самоцветов» делали невесть где, местных ювелиров, знающих толк в дарах Карадага, осталось мало и они не торопились выносить на всеобщее обозрение перстни тонкой работы и подвески с молочно-голубыми агатами. Зато витрина кукольницы смотрелась как стенд музея — ловкая мастерица повесила на крючки татарина с татаркой в пестрых халатах, степенного караима в шапочке и при нем улыбчивую жену, длиннокосую украинку и её гарного хлопца, грека в белой рубашке, шального цыганенка со скрипочкой. Сама торговка сидела в тени, только мощные руки, похожие на когтистые лапы, высвечивало яркое солнце. На пальце правой руки красовался серебряный скорпион, смутно знакомый старому скрипачу. Но он не стал вспоминать — откуда. И перешел на другую сторону, где у музея Древностей выставлялись работы городских живописцев.
Рисовальная школа в Феодосии за последнюю сотню лет потеряла немного, писали мастера здорово, в особенности пейзажи и натюрморты. Разнообразие не поощрялось, но заурядными картины тоже не выглядели — то там то здесь вспыхивали искры подлинного таланта. Но, увы, не у всех.
Тощая и угрюмая, словно помоечная ворона, девочка-портретистка рисовала прескверно. Жесткий штрих рвал бумагу, гуляли пропорции, уныние так и ползло с листа. Две-три готовых работы не годились даже для пляжных кафе. Исцарапанный грязный мольберт внушал жалость, бумагу похоже дергали из альбома, обкусанные карандаши брали в ближайшем киоске «Союзпечати». На глазах у скрипача расфуфыренная дама профсоюзного вида скривилась, разглядев свой портрет, и наотрез отказалась платить. Хмурая девочка ничего не сказала нахалке, только сильнее съёжилась на своем переносном стульчике. Ей было стыдно и гадко, однако она продолжала сидеть, поглядывая на проходящих туристов голодным взглядом. Совсем школьница, хорошо, если пятнадцать стукнуло. Школу небось не кончила, а думает, что художник. Думает? Что ж. Когда беспризорник Митяй ошивался на набережной, он смотрелся не лучше.
До «Эрмитажа» — десять минут на такси. Если у девочки есть талант, подарок поможет ей встать на ноги — недаром Столярский давал дорогие скрипки даже самым тупым новичкам. Если таланта нет, пусть хотя бы порисует хорошими красками. Почувствует себя человеком.
Бойкая молодящаяся продавщица удивилась заказу, но честно выполнила его. Всё, что может потребоваться для занятий искусством — карандаши «Кохинор», мягкий ластик, папка с шероховатой, плотной бумагой, блокнот для набросков, набор угольков, пылящий сквозь коробку. Коробка акварели в серебряных фантиках, словно конфеты, знакомая надпись «Ленинград» — города уже нет, а краски ещё продают. Тюбики масла, баночка растворителя, пестрые стерженьки пастели. Кисточки какие желаете — колонок, соболь, белка? Нужен ли вам этюдник? С вас… понимаю, серьёзная сумма. Убрать что-нибудь? Благодарю, заходите ещё, дорогой вы наш человек.
…Скрипач отпустил машину и медленно поднялся вверх по Галерейной. Скрипичный футляр казался ему тяжелей обычного, увесистый желтый ящик, забитый доверху, оттягивал плечо неудобным жестким ремнем, папка все норовила упасть на асфальт. У музея Грина Бориспольский остановился, глотнул воды из заботливо припасенной бутылочки. Он был потен, как мышь, но присесть отдохнуть было негде. Деревянные скамьи заняли самостийные экскурсоводы, обещая прогулки на море, в горах и по самым таинственным уголкам Крыма. Между жухлых деревьев ютился лоток с книгами, облепленный покупателями. Какой-то восторженный мальчик в джинсах взял светлый томик, раскрыл, не глядя, и тут же прочел подруге: когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо. С оборотной стороны томика хмурилась фотография — писатель с мятым лицом и большими, как у грузчика кулаками.
«Глупство какое, — улыбнулся старый скрипач. — Делать чудеса — все равно, что делать детей, — никогда ведь не знаешь, получится или нет».
Красная глина
Годину бедствий предвещает особенная пора. Колосья наливаются золотом, сети полны тяжелого, шустрого серебра, ветки ломятся под весом спелых плодов. Коз — видано ли? — коз, словно варшавских пани, этим летом кормили сливами и абрикосами, доили с них сказочное молоко, чистые сливки. Коровы телились двойнями, овцы ягнились тройнями, женщины рожали легко — горластых, крепких мальчишек со сжатыми кулаками. Жить бы и радоваться в году 5679 от сотворения мира и втором от Революции… да кто ж даст жить бедным евреям? Местечко Озаринцы с весны брали трижды — красные белые, жовтоблакитные, злые как казаки и голодные как диббуки. Три раза община давала откуп — табаком, пейсаховкой, мясом, потерявшими цену ассигнациями и золотыми червонцами. Три раза собирались в синагоге благодарить за спасение от лютых хищников. И в канун праздника Кущей напасть явилась в четвертый раз.
— Комец-алеф — о, комец-бейс — бо, комец-гимель — го… Не ленитесь, мальчики, повторяйте за мной!
Задумчивый реб Хаим ходил по классу, похрустывал пальцами, поправлял без нужды очки. В седеющей бороде его застряли крошки махорки. Сопливые ученики жались к печке, на разные голоса выпевая азы алфавита. Мальчишки постарше корпели над книгами, переписывали священные буквы на оберточную бумагу, заучивали наизусть толкования. Кто-то щипал соседей, плевался горошинами из трубочки, дразнил котенка, украдкой чесал болячки, показывал язык дурачку Ицке — младшему брату почтенного раввина. Занятия в хедере шли своим чередом, вот только дети были бледны, худо одеты и вздрагивали от резких звуков. С ночи стреляли по обоим берегам Немийки, бой шел за старую крепость, возведенную невесть какими панами в давние времена. Поутру потрепанный белогвардейский отряд проскакал через местечко — оставалось дождаться новых хозяев.
— Хватит баловаться, Залман! Скажи, из чего был сотворен Адам? — учитель остановился перед рыжеволосым юнцом и отнял у него трубочку.
— Из земли, ребе, — пробормотал мальчишка.
— Из какой земли? — уточнил раввин.
— Из святой, — прошептал Залман.
— Боже мой, властелин мира! Этот невежда через три месяца выйдет к Торе! Дай мне не дожить до позора, — реб Хаим воздел к потолку руки. — Лейба, из какой земли был сотворен Адам?
— Из мокрой, — захлопал глазами чумазый Лейба.
— Почему, мудрец ты хеломский?
— Потому что из мокрой легче лепить.
— Тише, дети! Тише, кому сказал! Янкель, надежда моя, из чего был сотворен Адам?
Белобрысый, прозрачный до худобы Янкель брезгливо оглядел соучеников:
— Адам был сотворен из красной глины.
— Почему же? Объясни, пусть эти лентяи слышат.
— Потому что секреты священного языка таятся в его корнях. Адом — красный. Дам — кровь. Адама — земля, породившая Адама. Красная глина дарует плоть, а Господь наш вдыхает жизнь, — скучно ответил Янкель. — И не надо меня хвалить, я все равно не буду раввином.
— Кем же ты будешь с таким умом? — вздохнул ребе.
— Большевиком, как Дора и Берл. Построю новый, счастливый мир!
Раввин потянулся было отвесить затрещину бессовестному мальчишке, но не успел.
— Беда, реб Хаим, беда пришла! Бегите до синагоги! — в перепуганной, потерявшей парик бабе, пинком отворившей дверь хедера, трудно было узнать красавицу Малку, жену богача Фельдмана, владельца единственной на округу водяной мельницы. — Бандиты!
— Они стреляют в людей, Малка? Они хотят делать погром?
— Упаси боже, нет! — женщина замахала руками, отстраняя несчастье.
— Они хотят получить свой кусок власти, ломоть мяса и хорошую водку. А потом придут другие бандиты и выгонят их долой.
— Они хотят наших девушек, ребе! Чтобы мы сами отобрали лучших красавиц, нарядили их, как невест царя Соломона, и отвели к этим мамзерам, к этим бесстыдникам, пусть их матери никогда не увидят внуков.
— Они слишком много хотят. Община не согласится.
— Согласится, ребе! Старики и молодые — все хотят жить.
— А твоя дочь ходит между девушками, как пава между курицами. И ты пришла просить помощи, потому что без неё сделаешь конец своей жизни?
— Потому что взяв этих, они потребуют и остальных. А потом ограбят, сожгут местечко, порубают живых людей без разбора. Ой, реб Хаим, мы все пропали!
Синагога кишела растревоженным муравейником. Женщины рыдали и заламывали руки за дверью, внутри собрались мужчины, от дряхлых стариков, до безусых парней. Кипели споры, к потолку поднимались витиеватые проклятия пополам с русской бранью. Остановясь на пороге реб Хаим прислушался к говору и не поверил тому, что услышал.
— Прачка Циля больна чахоткой, ей уже все равно.
— Рыжая Зельда гулящая, пусть она отдувается!
— У бешеной Доры два ареста, и каторга!
— Расчехлить пулемет и вдарить по гадам! Из окна синагоги — ннна! Ннна! Их с полсотни сабель, не больше. Осилим!
Хромой Мотя недавно вернулся с фронта и был готов драться дальше. Тощий Берл поддержал его, обещая большевистский отряд в помощь страдающей бедноте. Толстяк Фельдман, услышав про красных партизан посулил Берлу, что тот до конца жизни будет работать на зубного техника. Сионист Осинкер, потрясая буйной шевелюрой, предлагал всем немедленно отправиться в Палестину и основать там прекрасный кибуц. Старый реб Нахман, двоюродный внук того самого ребе Нахмана, посоветовал Осинкеру прогуляться куда как ближе. Реб Хаим протолкался к возвышению синагоги и рявкнул:
— Евреи, шекет!
— Тише! Тише! Наш ребе говорит! — зашумела толпа. Кто-то взвыл, кому-то звучно заехали по затылку — и голоса, наконец, смолкли.
— В Торе сказано — не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа. Мы не выкупим жизни честью наших дочерей, потому что нас это не спасет.
— А как же Эстер, реб Хаим? Как же праведная Эстер, которая стала женой язычника Ахашвероша? Как же Йегудит, соблазнившая Олоферна? Как быть с Сарой, которая вошла наложницей в дом фараона, чтобы спасти Авраама? — старый талмудист говорил кротким голосом, но глаза его были полны сарказма.
— Оставь свои хасидские штучки, реб Нахман! Иаков не стал покупать мир ценой чести Дины, и мы не станем!
— Нас всех убьют, ребе! Будет большой погром, как в десятом году, а жандармов из города не позвать, — портной говорил негромко, но его все услышали. В каждой семье местечка помнили кровавое лето. — Какую цену мы предложим вместо девиц? Что нам делать?
— Твердо уповал я на Господа и он приклонился ко мне, — раздался дребезжащий голос дурачка Ицки. Раскачиваясь и приплясывая, он напевал псалом.
— И он приклонился ко мне, и услышал вопль мой! Мы скажем бандитам, что отдадим девиц — самых лучших, невинных красавиц. Нарядим их как царевен из рода Давидова, одарим золотыми украшениями, устроим шикарное угощение, каким этих засранцев не потчевали и в Одессе… — протяжно возгласил реб Хаим.
— Свинцовым горохом их потчевать надобно да гранатовыми яблоками досыта накормить, — огрызнулся Мотя, приправив речь солдатской бранью.
— Сколько в местечке винтовок, Мотя? Три, четыре? И наган у нашего большевика. И пулемет, как я забыл. Евреи, кто умеет стрелять из пулемета? А что будет, Мотя, когда вас убьют, знаешь?
Фронтовик молча поскреб в кучерявом затылке, сдвинув картуз. Он знал, что местечко подожгут с четырех сторон. И все знали.
— Пообещаем им свадьбу. Но чтобы её собрать, нужно время. Дня два, три, четыре… А тем временем Господь пошлет нам лодку.
— И мы уплывем по Немийке? Все в одной лодке, ребе? Это чудо! — восхитился золотарь Нёма и обиженно всхлипнул, когда сосед ткнул его кулаком в бок.
— Мы выиграем время, шлемиль! Или в Озаринцы придут другие бандиты, или эти заболеют холерой или передерутся между собой или… да, ты прав Нёма, случится чудо. Помолимся, братья, и по домам!
Разговор с атаманом банды стоил реб Хаиму новых седых волос. Оборванцы расположились в усадьбе Рафаловичей, словно у себя дома — пачкали дрянью старинные ковры, подрисовали картинам похабщины, пустили под нож знаменитых боевых петухов пана Юзефа и вертели самокрутки из желтых от старости польских книг. Бородатый жидок в смешном полосатом халате вызвал у бандитов детскую радость, они вволю потаскали гостя за пейсы и потыкали в рот куском сала, прежде чем отволочь его внутрь и бросить к ногам его превосходительства. Славный атаман Войска Винницкого походил на лакея, наряженного в генеральский мундир, но реб Хаим не стал этого говорить. Он смиренно поклонился его превосходительству и покорнейше уточнил — сколько именно девушек желает ясновельможный пан, блондинок, рыжих или брюнеток, только девиц или красивые вдовы тоже устроят его сиятельство и офицеров героического отряда. Нарядить ли красавиц по-еврейски, с плотной фатой и простым белым платьем, или господа жаждут парижского шику? Подать ли к столу шампанского, лимонной и апельсинной водки, приготовить ли гуся со шкварками, судака или барашка? Желаете ли скрипачей, трубачей или старый добрый кларнет? И вы же умный человек, ваша светлость, вы же понимаете, чтобы устроить такой праздник, нужно время, много времени… десять дней… ах, не бейте, милостивый пан, пожалейте седую бороду! Неделю… четыре дня, три! Спасибо, спасибо вам, благодетель, через три дня вы получите такую веселую свадьбу, какой никогда в жизни не видели.
Под промозглым октябрьским дождем местечко нахохлилось как больной воробей. Жались к кустам желтоглазые козы, глодали кору и чахлые веточки, мокли тощие псы, мокла и протекала ветхая крыша хедера. Крытые соломой хибарки впитывали в себя влагу, разбухали и кисли, как тесто, руины панских хором скалились порчеными зубами. Из дома в дом перекатывался женский плач, крики младенцев, заунывные звуки молитвы. Пахло гнилью и прелью, стоячей водой и овчинами. И только дурачок Ицка безмятежно возился в луже, лепил из глины маленьких человечков.
— Гляди, братец! Я натворю солдат, целую армию, чтобы она защитила еврейских девушек. Мы прогоним врагов и отправимся в Землю Обетованную, чтобы встретить Машиаха!
Реб Хаим вздохнул и протянул брату замусоленную конфету. Когда-то Ицхак был лучшим учеником в ешиве, и отец мечтал, что увидит младшего сына раввином, а то и (чем бог не шутит?) цадиком, основателем новой династии. Но в дело вмешалась яростная августовская гроза. После удара молнии Ицка остался жив, но начал заговариваться, видеть духов и мочить по ночам постель. Поэтому раввином стал Хаим, а семейное дело продали на сторону — носатый Хацкель теперь владеет переплетной мастерской и артелью переписчиков тоже. Богу виднее, куда вести и какую судьбу выводить на свитке, сколько невзгод отсыпать и в какую минуту отправить ангела удержать руку с ножом. И как быть с детьми и стариками, матерями и молодыми парнями, ему тоже видней. Местечко, Господи, может спасти только чудо — сколько бы ни гутарили в синагоге, кто согласится купить свою жизнь кровью соседской дочери? Нету в Озаринцах таких бездушных людей! Или есть? Реб Хаиму не хотелось об этом думать.
Куда идут ноги, когда на душе тяжело? Или в корчму или на кладбище. У реб Хаима был свой секрет, своё убежище от докучливых соседей и злоязычной ребецен Соры-Брохи, законной и свирепой жены, да продлит Господь её дни. Высокий как холм древний каменный склеп принца Торы, праведного Иехиеля, сына Иегуды, похищенного ангелом смерти в самом расцвете семнадцатой весны, содержал внутри целую комнату, побольше иных бедняцких хибар. Стены комнаты украшала причудливая резьба, свет проникал через узкие окна в крыше. Там под плитами пола прятали от погромов серебряные меноры и пасхальные блюда, разукрашенные золотом короны Торы. Там же, в огромных каменных корытах, похожих на гробы, хоронили обрывки свитков, мудрых писаний — ни гниль, ни плесень не мешали буквам священного языка истлевать в безмятежном покое. И раввин устав от безрадостных размышлений, приходил сюда помолиться и подумать без лишних глаз. И покопаться в старинных свитках — вдруг отыщется редкостное сокровище? Однажды реб Хаим нашел под грудой трухи потрепанный пражский Майсе-бух и читал дочерям сказки… пока у него были дочери.
Свеча, кремень и плоская фляжка со сладким вином лежали на своём месте, в каменной нише. Реб Хаим зажег свечу, сказал молитву, отхлебнул долгий глоток, неторопливо скрутил и выкурил «козью ножку». Ему было не по себе — беда стучалась в ворота, ангелы бедствий махали крыльями над местечком, метили косяки кровью, выбирая жертву за грех. А душа не болела и шрам от сабли не ныл и руки совсем не дрожали… самую малость разве что, от усталости. Немолодой, битый жизнью раввин лучше многих знал, что справедливости нет, молитвы лишь облегчают муки, и Господь на Сионе не щадит ни праведников, ни грешников. Но порой Он всё же слышит людей — почему бы с облаков не прислушаться к одному старому дураку?
Мерзкий писк раздался из угла — крысы! Здоровенные пасюки возились и дрались между собой, пытаясь поделить сверток заплесневелой кожи. Не найдя ничего лучшего, реб Хаим кинул в них фляжкой. Грохот напугал тварей, они скрылись в щелях. Раввин поднял свечу, чтобы отыскать свое нечаянное оружие, и увидел: в свертке что-то блеснуло. Золото! Мятая цепь, потускневшая от времени, литой медальон, размером с ладонь, исчерченный причудливыми символами и буквами священного языка. Раввин покрутил находку, ощупал её, захотел даже попробовать цепь на зуб, но побрезговал. Возможно, таков божий промысел — желтого металла хватит, чтобы откупиться от банды, они уйдут и оставят Озаринцы в покое. И появятся новые… а защитить народ некому, в смутные времена каждый хищник думает о своей шкуре.
Что же это за украшение? Не мужское, но и не женское, не купеческое и не царское. Буквы выдавлены, надпись не разобрать. Чуткие пальцы раввина пробежались по надписи, нашарили неприметный, но выпуклый комец над «хэй». Щелк — и в руки выпал небольшой свиток, исчерченный быстрым, бисерным почерком, запечатанный перстнем с рычащим львом. Знак колена Иуды. И Иегуды Лива, Махараля из Праги, великого мудреца, однажды спасшего свой народ от истребления. Так вот чьим сыном был юный Ихиель, вот почему львиные морды скалились с резных узоров. Осторожно, чтобы не повредить ветхий пергамент, реб Хаим развернул свиток.
— Я, Иегуда сын Бецалеля, посылаю привет моему последнему внуку! Я умру раньше, чем отпразднуют твое обрезание, и не успею благословить на долгую и счастливую жизнь. Надеюсь, Господь сделает это за меня, пошлет тебе Ихиель, всяческие блага, увенчает чело мудростью, а сердце добротой. Я был хорошим отцом и хорошим дедом, щедро наделил всех отпрысков рода Лив. А для тебя, Ихиель, у меня особенный дар. В Праге сменится множество королей и наместников прежде, чем кто-то решит тронуть пражское гетто, но твой отец взял семью и решил уехать подальше от громкой славы. Если беда постучится в твои ворота, дорогой внук, если взбунтуются воды или вспыхнет негасимый огонь, если свирепые иноверцы взалкают крови отпрысков твоего рода, знай — у тебя есть надежный защитник. Возьми красную глину, смешай с красным вином и красными ягодами, и слепи человека, большого, как дом. Кости сделай из прутьев, а когда они выгорят, залей пустоты свинцом. Облачись, как подобает раввину, надень на шею Золотую печать, а под язык созданию рук твоих положи этот свиток. Трижды прочти слова творения. Поверни амулет треугольником вниз. И зови! Голем может разломать стену и построить её, принести воды из колодца, ступить в огонь, железные сабли тупятся об него и железные топоры выщербляются. Он будет покорен своему повелителю. Но помни, мой мудрый внук — Голем защитник, а не…
Тусклые буквы было не разобрать, но реб Хаим Лив не стал вглядываться. Он понял главное — Господь решил все же спасти Озаринцы, матерей и детей, сыновей и отцов, увенчанных сединами стариков и прекрасных девиц, едва не ставших потехой для бесстыжих горе-солдат. Осталось разгадать ребус — какие слова Иегуда имел в виду, какую молитву надлежало читать его дальнему, очень дальнему родственнику? Глубоко вздохнув, реб Хаим бережно спрятал медальон на груди и отправился восвояси. У ворот кладбища раввина ждал первый снег — дождь замерз, мелкий пух посыпался из небесной перины, укутывая исстрадавшуюся, грязную землю. Всё замолкло, лишь из кустов шиповника возмущенно чирикали мокрые воробьи. Ай, уснуть бы — и чтоб пушками не разбудило!
Сора-Броха встретила мужа таким свирепым ворчанием, что дворовый пес завыл из солидарности. Она считала, что нужно бежать, пока дороги ещё пусты и все живы, перебраться к сестре в Берестечно или к сыну в Америку. Её раздражала погода, вороватая соседка Ривка, блудная коза Рута и кривая курица Каська, ей хотелось сочных груш, новый парик и ботинки на зиму. Замерзший насквозь реб Хаим кое-как успокоил супругу, пригнал козу, натаскал воды, переоделся в теплый домашний халат и сел читать Пятикнижие. Если Господь даровал тебе суп, у него хватит милости и на ложку. Раввин сжег две свечки, выпил кофейник скверного желудевого кофе и наконец лег спать, целомудренно повернувшись спиной к необъятной супруге… чтобы за час до рассвета разбудить её бешеным воплем: Вайивра!!! Вайивра Элохим эт-хаадам бэцальмо!!! И сотворил Господь человека по образу своему!!!
— Сора, беги к соседям! Скажи, пусть каждый мужчина местечка притащит по ведру угля и ведру глины в лодочные сараи. И пусть готовятся к свадьбе, не скупятся, варят кушанья, наряжают невест вовсю. Кто невесты? Да кто угодно, решайте сами.
Четыре семьи двое суток сидели шиву как по покойникам, оплакивали невест, проклинали их красоту и пышные косы. Мать большевички Доры рыдала молча — дочь пообещала ей, что сбежит, если услышит хоть одно «Шма». У остальных жителей не оставалось на слезы времени. Мужчины носили глину и поддерживали огонь, женщины, высоко подобрав подолы, месили красное тесто. Дурачок Ицка тёрся вокруг, норовя вывести на необожженной ещё поверхности узоры и буквы, понятные лишь ему. Старики перешептывались довольно — наш ребе отыскал путь к спасению, вот увидите! Он выведет нас из пучины бедствий, как Моисей из Египта! Хромой Мотя, послушав бабьи сплетни, исчез из села, словно и не жил. Тощего Берла тоже простыл и след.
Утро свадьбы выдалось ясным. Ночной морозец подхватил ледком истоптанную дорогу, щедрый снег скрыл следы лошадей и человечьего свинства. Голые деревца ненадолго стали походить на невест — разряженных словно куклы, укутанных в белые кружева, зареванных и испуганных. Предупредить девиц никто не предупреждал, они ждали самого худшего и беззвучно поскуливали, держась за руки. Столы накрыли прямо во дворе синагоги, чтобы далеко не ходить. И господа офицеры во главе с атаманом пожаловали точно в срок. Как они прифрантились! Блестящие сапоги, начищенные мундиры, сияющие как звезды пуговицы, холеные усы до подбородков и выбритые румяные щеки. Если б реб Хаим не знал, сколько крови на белых руках, затянутых в лайковые перчатки, он решил бы — с такими файными панами следует водить дружбу. Пошептавшись, бандиты кинули жребий и поделили невест — атаман получил полнотелую, рыжеватую Голду, из-за которой в семнадцатом стрелялись студент и юнкер, Дора досталась одноглазому капитану невесть какого полка, остальных расхватали чины пониже. Рядовые толпились поодаль, жадно смотря то на накрытые столы, то на неосторожных женщин, явившихся поглазеть на чужое несчастье. Было ясно — стоит веселью как следует разгореться, и оно перехлынет на улицы, не щадя ни старых ни малых. И никакие обещания господ офицеров не защитят Озаринцы.
Печеный гусь уже исчез в ненасытных желудках, рыба фиш таяла, как снег под солнцем. Атаман был доволен и горд, лапая молчаливую, покорную девушку, он упивался властью, завистливыми и ненавидящими взглядами.
— Тост, господа! Я хочу сказать тост! Предлагаю выпить за наших гостеприимных хозяев и их покладистых жен. За красавиц дочерей, готовых скрасить походные будни усталым путникам. И за нас — подлинных защитников Оте… те.. те…
Неумолимый как ангел смерти маленький и худой реб Хаим подошел к пиршественному столу. За узкими плечами раввина возвышалась громадина, похожая на раздувшуюся до необъятных размеров детскую игрушку. Вместо глаз у существа красовались зеленые стекла, вместо зубов — кирпичи. Плечами Голем (это был он, конечно же) доставал до второго этажа синагоги, гулким голосом валил на лету птиц. И препятствий для него не было.
— Видишь этих людей, сынок? — кротко спросил реб Хаим. — Будь так добр, убери их отсюда!
— Их уже нет, отец! — покорно ответил Голем. Грубыми, но проворными пальцами он подхватил одноглазого капитана за шиворот, встряхнул словно крысу, и выбросил прочь, за ограду большой синагоги.
— Что стоите, болваны, огонь! — заверещал атаман и сам выхватил браунинг. Хлопнул выстрел, потом ещё несколько. Голем даже не покачнулся. Не обращая внимания на суетливых людишек, он подхватил за шкирку следующего бандита и раскрутил его в воздухе. На третьего он наступил, огляделся недоуменно и зашаркал ногами по земле, словно мальчишка, испачкавший башмаки. Четвертого бандиты дожидаться не стали. «По кооооням!» раздался чей-то сдавленный вопль. Перепуганная кавалькада пронеслась через все местечко. Они спаслись бы, легко отделались, но на самом краю Озаринцев, у кладбищенских плит их уже поджидали. Красный флаг взметнулся в серое небо, затараторили пулеметы, началась жаркая схватка. Кричали кони, раненые откатывались в промокший снег, надеясь на милость победителей. Бандитов не добивали — нет времени. И гнаться за бегущими тоже не стали.
Ошарашенный реб Хаим оглядывался вокруг. Он прожил в Озаринцах сорок семь лет и всегда считал штетл унылым болотом, где коротают век бедняки, трусы и неудачники всех мастей, те, кому не хватило отваги перекроить свою жизнь, попытать счастья. А в этот день он увидел, как распрямляются старики, как слетают платки с поседевших кос и буйных кудрей, как сияют гордостью выцветшие глаза. Кто б мог подумать — беззащитные евреи дали отпор, а насильники и убийцы превратились в обычную падаль! Жители местечка обнимались, пели и даже плакали, реб Нахман пустился в пляс и четверо его сыновей поочередно поддерживали его. Все свои были живы, даже упрямая Дора и Мотя, который хромал теперь на обе ноги. Он вернулись с большевистским отрядом, как две капли воды похожим на изгнанную прочь банду. Но атаманом (командиром, товарищ служитель культа) у них был щуплый лысеющий бессарабский еврейчик в пенсне — здоровенные лбы слушались его беспрекословно, не позволяя себе ни мародерств, ни насилия. Грандиозный Голем, перетаскивающий в овраг трупы, засыпающий мертвецов желтым песком, восхитил красноармейцев — неуязвим, бессмертен, не ест, не пьёт, а молитву можно и пережить. Мужики пялились на глиняного человека, самые смелые трогали кончиками пальцев шершавые бока и отскакивали под тяжелым, укоряющим взглядом чудища. У командира разгорелись глаза:
— С такой махиной враз можно добиться победы мировой революции. Пулей в него не стрелишь, ядом не отравишь, любую тачанку перевернет, любой броневик остановит!
— А не развалится по пути? Мир большой, ходить долго, — засомневался кто-то из солдат.
— Пусть попробует, — загадочно ухмыльнулась сияющая Дора, шепнув что-то на ухо командиру. Невесть откуда она успела раздобыть офицерские галифе, кожаную куртку и кобуру, наконец-то обрезала ненавистную косу, и не слушала больше визгливых родительских причитаний. Она не стала говорить с мракобесом-раввином при людях. Для вопросов оставалась долгая ночь. И реб Хаим нисколько не удивился, проснувшись от прикосновения пистолетного дула:
— Просыпайтесь, товарищ служитель культа, есть у нас к вам небольшой разговор. А вы, мамаша, не плакайте, вернем мужа у целости.
Ночной сквозняк не согревал беседу, раввин понимал, что выглядит смешно в своих кальсонах и тапочках. Тусклый огонь свечи озарял молодые лица, отражался в пытливых глазах нежданных гостей. Они думают, что сумеют изменить мир, и ещё не знают цены победы…
— Вы понимаете, что бандиты ещё вернутся? Не одни так другие. Некому будет защитить детей и женщин, некуда спрятаться. Местечко погибнет без Голема!
— Революции он нужнее. Мы экс-про-при-и-ру-ем ваше чудо природы. Как им управлять?
— Просто, — горько улыбнулся реб Хаим. — Сейчас покажу! Сынок, хочешь ли ты послужить Красной армии?
Достаточно было одного слова, чтобы незваных гостей окунули в реку или сбросили в темный овраг к тем, прежним. Но реб Хаим считал, что крови пролито более, чем достаточно.
Когда красные ушли из местечка, раввин замолчал. Отказался от похвалы и подарков, перестал вести службы, навещать больных, а затем и разговаривать с соседями. Все чаще соседи видели его вместе с младшим братом, копающимся в грязи, в красной и липкой глине. А по ночам раввин просыпался с криком, пугал старуху жену — ему снилось, что детище рабби Лива… нет, его собственный глиняный сын топочет по полю боя, как пушинки разбрасывая живых людей, убивая всех без разбору. Реки крови становятся глубже и шире, подступают к самому горлу. Защитник, защитник, а не палач!!! А вокруг Озаринцев парит Азраил, бесшумно взмахивает крылами. И просить о спасении некого — Господь уже послал сюда лодку.
Все местечко заразилось унынием ребе. Кто побогаче — похватали детей, пожитки и уехали — в Могилев или Яссы. А беднякам где рады? Понурые женщины молча доили коз и пекли хлеба, мальчишки в хедере перестали шуметь и драться, младенцы плакали по пустякам. Даже в субботу над нарядными столами клубилась тоска, а в шаббатнем вине чудился привкус крови. Только дурачок Ицка улыбался соседям беззубым ртом, подсовывал к дверям глиняных человечков-гойлемов, шепелявя напевал псалмы и обещал, что Машиах уже в пути, и вот-вот явится в штетл. Его бранили, гоняли, пару раз даже били — не больно, для острастки. И не верили — кто же слушает дурака? Даже если ноги его перепачканы нездешней оранжево-бурой землёй, волосы пахнут морем, а в карманах лежат то финики, то золотистые, свежие апельсины…
Краснознаменный ударный Голем отслужил три недели в составе партизанского боевого отряда. Он наводил мосты, таскал тяжести, разгонял лошадей, повторял за командиром цитаты из Маркса. Он был послушен, грозен и невероятно силен. Но бог войны оказался сильнее. У отряда белогвардейцев нашлась конная пушка и хороший артиллерист царской школы. Детищу рабби Лива хватило прямого попадания в корпус. Его похоронили как человека и дали залп над могилой.
Незадолго до Рождества, винницкие бандиты вернулись в Озаринцы и местечко запылало, подожженное с четырех сторон. Они жаждали мести, горячей крови, но людей почти не нашли — только хромой солдат битый час отстреливался из пулемета, не считая патронов, да старый раввин был растоптан у дверей синагоги. Остальных увел Ицка — ведь Машиах собирает своих.
Брат Гильом
Очередное посвящение бесу Леонарду
Тяжело скрипели ступеньки. Кто-то грузный, одышливый поднимался, цепляясь за стены большой ладонью, откашливаясь и плюясь. Не Лантье — слуга костлявый и шустрый, вечно в делах и походка его легка, не толстуха Мадлон с её деревянными башмаками и подпрыгивающим от суеты шагом, не их сын дурачок Николя — он идет еле-еле, поднимет ногу и остановится, думает, не младший, Жак — этот носится, как угорелый. От аптекаря за версту пахнет снадобьями, от врача бальзамическим уксусом и смолой, музыканты насвистывают и притопывают, ростовщик разит чесноком и бормочет себе под нос. Кто-то чужой. Чужой.
Крышка старого сундука приподнялась бесшумно. Маленькое оконце рисовало на грязном полу круг света, сквозь щели пробивалась причудливая сеть лучей и лучиков, в которых плясала пыль. Флакон с ядом холодил пальцы — живым не дамся. Рыцарю должно встречать врагов стоя, с обнаженным мечом в руках, сражаться, пока не упадешь в пыль… жаркую пыль пустыни, где визжат кони и режут воздух клинки, гремят мамелюкские барабаны. Свирепые сарацины вопят: «Амит! Амит! Смерть!», брат Гильом хрипит: «Бо-се-ан!!!», братья вторят ему сорванными голосами и смыкают щиты — вперед! Почему я не умер, не погиб вместе с ними, Господи?!
Глухо бряцнул засов. Чужая рука коснулась ржавых петель, колыхнула дверь. Лантье устроил хитро — не знающий тайны решит, что запоры не открывали лет сто, что на этом старом чердаке нет ничего, кроме пыли и рухляди. Но вдруг слуга предал, вдруг подкуплен или ему угрожали?!
— Зачем вы трудились, батюшка? — раздался визгливый голос Мадлон. — Мы держим вино внизу, в погребе, понимаете в по-гре-бе!
— Не кричи так, дочка, я ещё не глухой. У нас в деревне хозяйки хранили на чердаках колбасу, подвешивали к стропилам целые связки.
— Здесь нет никакой колбасы, батюшка. Пойдемте в кухню, я налью вам горячего супа.
— С колбасой?
— Да-да-да, с колбасой!
…Батюшка — значит отец Мадлон, приехал навестить внуков. Лантье давно сирота. Обошлось.
Крышка сундука так и осталась приоткрытой. Брат Филипп, он же Филипп де Раван, рыцарь ордена Храма, последний уцелевший из командорства Вилледье, поудобнее повернулся в своем убежище, почесал изъеденный блохами живот и прикрыл глаза, погружаясь в привычную дрему. Он старался спать больше — это облегчало тоску. Проклятые мыши сгрызли «Завоевание Константинополя» и засаленный список Горация, других занятий в убежище не находилось. Руки и ноги слабели — шаги на чердаке могли услышать снизу, поэтому приходилось лежать или сидеть.
Иногда, безлунными ночами, Лантье выводил бывшего господина вниз, в маленький дворик — подышать дымным воздухом Эланкура, потоптаться по чахлой траве, подставить лицо дождю. Пару раз, повинуясь мольбам вперемешку с приказами, доставал книги. Случалось, забывал принести еду или в срок опорожнить поганое ведро. Филипп подозревал, что слуге приятно показывать свою власть над когда-то всесильным тамплиером в белом плаще, но тут же гнал от себя подлые мысли — если беглого тамплиера найдут, Лантье разделит с ним участь. Убежище стоило рыцарю немало золота, но подлинная преданность за деньги не покупается…
— Какая наивность, прекрасный Филипп! Твой венценосный тезка как побитый щенок прибежал к дверям Тампля просить защиты от взбесившейся черни, он без счета запускал руки в ваши сокровищницы — и чем вы, благородные рыцари, отплатили королю за доверие? Целовали друг друга в уста и плевали с высокой колокольни на святое распятие? — высокий, писклявый и в то же время удивительно нежный голос потревожил пыльную тишину. Куча тряпок в углу зашевелилась, оттуда вылез белесый, полупрозрачный младенец в размотанных пеленках, уселся на перевернутую корзину и начал болтать тощими ножками.
— Уймись, дитя, — пробурчал рыцарь, присаживаясь. — Ужели у тебя нет других дел, нежели сквернословить на помазанника Божьего?
— Представь себе, нет, — ответил ребенок и захихикал.
Филипп улыбнулся в бороду. Это было безумие, заслуженный и закономерный кошмар — разговаривать с призраком, с некрещеным младенцем, умершим лет за двадцать до его, Филиппа, рождения. Рыцарь не был вполне уверен — существует ли скверный мальчишка на самом деле или мнится, кажется от одиночества. Однако других собеседников на чердаке не нашлось.
Однажды, в канун Рождества, когда все домочадцы ушли на мессу, Филипп позволил себе прогулку по чердаку. При свете тусклой масляной лампы он рассматривал балки и притолоки, трогал изъеденные молью плащи, копался в грудах изломанной утвари, воображая — кому когда-то принадлежали вещи. Чья маленькая ножка умещалась в кожаном башмачке с красными пуговками, чью массивную талию облегал узорчатый пояс, для кого любовно расшивали бутонами нежный чепчик…
Страшная находка таилась в ящике для белья. Плетеная корзина, а в ней — туго спеленатое, иссохшее тельце. Ленты стягивают пеленки, мертвое личико накрыто кружевным платком. Филипп поднял лоскут и вздрогнул, увидев, что безмятежно-голубые глаза открылись, наблюдая за осквернителем. Тамплиеру случалось стоять под горящими ядрами катапульт, держать атаку египетской конницы, пережить шторм в Средиземном море и ухаживать за чумными больными. Но так страшно ему не было никогда в жизни. Перекрестившись, рыцарь выкрикнул «Изыди, сатана». Но младенец лишь засмеялся:
— Я просто умер любезный синьор. Мое бренное тело изнемогло от холода и голода, когда мать оставила меня одного в Рождество — она была служанкой, девицей, не могла прокормить дитя, и не сумела придушить новорожденного. За это я двадцать лет подавал ей платок утереть слезы — пока дорогая родительница не удавилась в конюшне. А я остался, прекрасный дух, привязанный к месту иссохшей плотью. Призрак монаха из борделя напротив обучил меня грамоте, бедный студент, зарезанный под мостом — логике и риторике. Братья-духи вручили мне дар путешествовать по чудесным местам и таинственным странам, которых не видел ни один из живых сыновей Адама. Не будь глупцом рыцарь, не швыряйся в меня четками, не надейся прогнать молитвой — я хозяин этого чердака, я, не ты. Смирись — разве устав вашего ордена не требует от братьев смирения?
У Филиппа и вправду не оставалось выбора. Он не мог подыскать себе новое убежище, не мог потребовать у Лантье, чтобы тот держал господина в жилых комнатах, где кто-то из ретивых заказчиков или товарищей по ремеслу может наткнуться на опасного гостя. Ключик, конечно, был — кинуть в огонь мертвое тельце, освободив дух, избавиться от него. Но у Филиппа не хватило воли — он догадывался, что пламя принесет младенцу новые страдания… и если исповедаться начистоту, призрак забавлял рыцаря. Он был умен, умел приободрить и утешить, развлекал удивительными рассказами.
— В этом городе, мой сеньор, десять тысяч деревьев и у каждого свой плод. Одно похоже на яблоню, другое на смоковницу, третье на горький миндаль, но пока не попробуешь, не угадаешь, что же тебе досталось. Дома сами собой растут из земли, словно грибы — достаточно лишь прорубить вход и окна, выскрести рыхлую сердцевину и можно жить. Благородные оленухи подходят к окнам, подставляя сосцы, полные молока, рыбы выпрыгивают из реки в ладони к алчущим. Девушки там нежны и добронравны, целомудренны и несребролюбивы. Есть у них лишь один недостаток — единожды выбрав возлюбленного, они придерживаются своего выбора, даже если их прелести отвергают. Мужчины, избавленные от тяжких трудов, проводят время, состязаясь попеременно в мудрости и доблести. Они не знают старости и болезней, а устав от жизни, просто ложатся на зеленый холм или садятся под деревом, чтобы заснуть.
— Где же подвох, злое дитя? Я не помню у тебя ни единой истории без подвоха, — ухмыльнулся Филипп, почесав бороду.
Дух сделал вид, что обиделся, поковырял ножкой пыль:
— Эти люди — кинокефалы, лица их похожи на песьи морды, ноги и животы поросли скверной шерстью, изо ртов разит словно из золотарни. Мудрость их сродни мудрости шелудивой собаки, знающей, где взять мясо и как избежать ударов. А ещё у них хвостики.
Филипп расхохотался, закрывая ладонью рот.
— Хво-сти-ки?
— Куцые и уродливые, как у английских бульдогов.
— Неужели тебе в жизни не встречалось ничего светлого?
Дух, изогнувшись, словно щенок, почесал себя ножкой за ухом.
— Элишева, шлюха из Бейт-Лехема.
— Что ты несешь, сквернавец?
— Что тебя удивляет, ханжа? Когда Назореянин явился в Бейт-Лехем проповедовать иудеям, раввины скинулись и заплатили шлюхе, чтобы та, прокравшись под гостеприимный кров, возлегла с сыном Марии, оскверняя его. Женщина исполнила поручение — она вошла в хлев, увидела Посланника, спящего на соломе, и склонилась над ним. Но столь ясен, безмятежен был лик Назореянина, что шлюха устыдилась нечистых намерений и убежала прочь. Вернувшись домой, Элишева приняла ванну, дабы подготовиться к встрече с гостями — и ощутила, что девственность снова вернулась к ней. Отказавшись от нарядов и денег, облачившись в рубаху из белого льна, распустив по плечам несравненные волосы цвета красного дерева, она удалилась в пустыню, к единственному в округе источнику. И с тех пор ухаживает за ним, тысячу триста лет кряду. Она чистит родник, сторожит верблюдов и поит собак, разжигает костер, чтобы странники не заблудились, омывает раненым кровь, а прокаженным смрадные язвы. Элишева стала сестрой каждому путнику — неважно, ходит он в церковь или синагогу, поклоняется Мухаммеду или огню, утопает в грехах или лучится святостью. Она будет служить до тех пор, пока сын Марии не созовет живых и мертвых на последнюю битву.
— Вот как… — Филипп замолк. Он вспомнил жалкий оазис, хижину, покрытую пальмовыми листами и монахиню редкой красы, одетую в рубище. Из-под пыльного платка выбился локон, похожий на шуструю красную змейку, смуглые ноги в открытых сандалиях легко сминали песок. Она поднесла ему воду и преломила хлеб, хотела омыть и царапину от стрелы, но он уклонился — тамплиеры не смеют касаться женщин. …Не смеют, но касаются. В юности. Его Аличе была христианкой, как и он сам, дочерью византийского грека и сарацинской пленницы, подол её грубого платья вечно бывал испачкан то в навозе, то в глине, с маленьких рук не сходили царапины. Он целовал хрупкие пальчики и божился, что однажды его возлюбленная позабудет о грязной работе, он носил Аличе на руках и кружился с ней в оливковой роще. Но не возлег, опасаясь позора, страшась гнева брата Гильома, справедливого и свирепого магистра Гильома. А потом пришли сарацины и вырезали под корень предместья Акры.
Когда рыцарь очнулся, дух уже скрылся с глаз — собеседник, впавший в уныние, не прельщает даже оживших мертвецов. На чердаке воцарилась тишина. Стало слышно, как пищат новорожденные мышата, угнездившись в слежавшихся тряпках, как внизу заунывно поскрипывает ребек в ловких руках Лантье, как ветер раскачивает вывеску в доме напротив и грохочут по мостовой колеса большой телеги. Жизнь кипела вокруг, лишь ему, грешному монаху, трусливому тамплиеру, забытому богом и покинутому друзьями, не оставалось места среди людей. Забираясь на этот чердак, он надеялся пересидеть неделю, месяц, в крайнем случае зиму. Потом процесс прекратится или затихнет, можно будет уехать прочь, укрыться у братьев-иоаннитов, вернуться на Кипр или податься в Испанию — говорят, тамошние храмовники заперлись в крепостях и не пускают внутрь ни папских легатов, ни людей короля, ни самого дьявола. Но прошло уже больше трех лет. Процесс все тянется, обвинения нарастают, люди его величества рыщут по Франции как голодные псы. И Лантье, столь сочувственный, верный слуга, стал ворчать, выражать недовольство — слишком долго опасный гость прожигал у них крышу над головой. Вот и сегодня мерзавец наверняка не явится — в доме чужие. Придется до завтра глодать черствые корки, заботливо спрятанные в соломе, слизывать капли росы с решетки и мечтать о вине, густо-красном бургундском вине, освежающем рот…
Лантье не было трое суток. Оголодавший тамплиер изглодал сальную свечку, изжевал кожаный пояс, вытряс горсть зерен из овсяной соломы и съел их, сломав очередной зуб. Дальше пришлось бы либо охотиться на крыс, либо спускаться. Слуга это тоже понял. Он принес скверную пищу и ещё более скверные новости.
— Магистра сожгли, мой сеньор. Жак де Моле взошел на костер как святой и до последнего вздоха возглашал свою невиновность, проклиная судей. Говорят, люди падали в обморок, так он вопил от боли, когда пламя подпалило седую бороду. Нам… вам больше не на что надеяться. Упокой господи его душу.
Тамплиер машинально преклонил колени. Чуть подумав, Лантье опустился на грязный пол рядом с ним. Слуга хорошо помнил заупокойную.
— Господи, Ты дал мне тех, которых я оплакиваю. Будь моей силой и моим утешением: прости мои слезы, утиши мою печаль…
Дослушав бесплодную молитву, Филипп почувствовал слабость в ногах. Слуга помог ему подняться.
— Это не все, сеньор. Мадлон снова беременна. И клянется всеми святыми, что если я не изгоню из дома дьявольского тамплиера, пожирателя младенцев, приносящего зло, она сама донесет слугам его величества. Я многим обязан вам, добрый сеньор, ваши деньги помогли семье встать на ноги, но поймите…
— Понимаю, Лантье, прекрасно тебя понимаю. Прости, что столь долго тебя утруждал. Я уйду, нынче же ночью оставлю кров.
У Филиппа стыдно дрожали руки, подгибались колени, он чувствовал, что глаза вот-вот набухнут слезами, и готов был придушить верного слугу — лишь бы избежать позора. Лантье тоже выглядел жалко:
— Я ж не выгоняю вас, мой господин. Время есть. Я переговорю с настоятелем в Амбруазе, и вывезу вас до монастыря в телеге. Или, если хотите, Соломон, ювелир ищет охранника-провожатого, чтобы без опаски добраться до Гавра. Или — знаете, граф Сен-Люк собирается ехать в Святую Землю, отбивать у язычников Гроб Господень. Он стар и безумен, а в отряде его собирается всякий сброд, но вы сможете беспрепятственно покинуть страну, сеньор, уехать туда, где вам ничто не угрожает. Подумайте!
— Хорошо, — согласился Филипп. — Подумаю. Спасибо тебе, любезный Лантье, за все добро, которым ты щедро оделяешь меня, за приют, кров и пищу.
— Вот, сеньор, это утешит вас! — порывшись в продуктовой корзине, слуга извлек оттуда глиняную бутыль. — Прекрасный шабли, выпейте за наше здоровье и за будущего малыша!
…Показалось или Лантье как-то странно отвел глаза? Дождавшись, когда слуга спустится вниз, рыцарь открыл бутылку, размочил в вине корку и бросил на середину чердака. Из щелей тут же выскочили две крысы, вцепились в хлеб с разных сторон — и околели, давясь первыми же кусками. Значит, предал. Все-таки предал.
Филиппа охватило глухое отчаяние, он сжимал кулаки, изрыгая проклятия. Как он мог быть настолько доверчив? Что теперь делать, куда податься, как отомстить иуде? На дне сундука прятался узкий тамплиерский нож — им чинили сбрую и делили хлеб, но при должном умении можно было зарезать и человека. Дождаться, когда мерзавец поднимется забирать труп, встать за дверью — и всадить клинок в ямочку у ключицы. А потом и самому глотнуть из заветного флакона или выпить отравленного вина — это позволит умереть быстро, избежав пыток. Почему он не лежит в Палестине, почему Господь оставил его?
Перед глазами рыцаря как живой встал непреклонный брат Гильом де Боже, магистр Ордена, погибший при штурме Акры. Первый среди равных, лучший из лучших, он никогда не прятался за чужими щитами. Забыв про старость, забыв про прежние раны, он рубился как одержимый и дважды отбрасывал сарацинов, спасая крепость. Потом, посреди очередной атаки неожиданно повернул коня и въехал назад в ворота. Никто не осмелился заподозрить его в трусости, но гнев был на лицах братьев, гнев и стыд. Лишь один оруженосец спросил: «Вы ранены?». «Я убит» — ответил Гийом и поднял руку — стрела попала в подмышку, не защищенную кольчугой. Он сам дошел до церкви, лег на каменный пол и умер, не сказав никому ни слова. С того дня брат Филипп перестал молиться. Вернувшись в Европу, он хотел было покинуть орден, но не успел.
Стараясь не шуметь, рыцарь достал нож, взвесил на ладони прохладную рукоять. Слугу или себя?
— Тело это только обуза, мой прекрасный сеньор! — призрак был тут как тут. — Я сегодня купался в Эгейском море, валялся на теплом песке, разговаривал с нимфами — они помнят ещё старика Гомера. Бессонница, понимаешь ли, тугие паруса, список кораблей, начертанный на длинном пергаменте. А у прекрасной Елены были волосатые ноги — дважды в день служанки со свечками выжигали ей кучерявую поросль. Брось свои сомнения, скинь броню и, поверь, мы станем лучшими друзьями, Филипп.
— Я попаду в ад! — хмуро произнес рыцарь. — Если ад вообще существует.
— Зачем так грубо, так примитивно мыслить? Ты станешь спутником и добрым товарищем по духу, мы вместе отправимся в дальние страны, увидим женщин неземной красоты и самых быстрых на свете коней. Ты попадешь в лучшую в мире библиотеку — она сгорела тысячу лет назад, но призраки книг все ещё ждут на полках. Ты пожмешь руку Рене де Шатийону, рыжебородому, неистовому Рене. Сможешь выпить фалернского с самим Цезарем, поспорить о мудрости с Цицероном, послушать, как молодой Гораций читает стихи над ручьем, побеседовать об изяществе с Петронием Арбитром — однажды он тоже перерезал себе вены в кругу друзей, — голос младенца стал глубоким и вкрадчивым.
— И цена этому — смерть?
— Необязательно смерть. Точнее необязательно сразу. Если ты так дорожишь своим стареющим телом, всегда можно договориться. Цена свободы не слишком-то дорога, многие братья-рыцари заплатили её, не торгуясь, — искательно улыбнулся дух. — Долгой надежды нить кратким сроком урежь. Мы говорим, время ж завистное мчится. Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему — так, помнится мне писал твой прекрасный Гораций.
…Меньше всего веря… «Верую», — плакал колокол, медный колокол на покосившейся башне — в последний день оруженосец Гильома забрался на колокольню церкви святого Андрея и звонил как одержимый, провожая корабли с последними выжившими. Говорили, что мальчишку потом скинули наземь обозленные сарацины. А он, опоясанный рыцарь, валялся в трюме, недвижный как труп, и смысла не было ни в чём — лишь глухое, дьявольское отчаяние.
Филипп вскочил, пристально вглядываясь в призрачную фигурку.
— Скажи: «Христос»!
— Что за причуда взбрела в твою плешивую голову, чересчур долго стянутую шлемом? — скривился младенец.
— Скажи: «Христос». Скажи: «Господь». Скажи: «Богородица, дево, радуйся!». Скажи, или я сожгу эту сохлую падаль!
— Жги, — без удовольствия согласился дух. Он вдруг вырос, налился плотью, пеленки спали, обнажая мертвое тело. — Все равно ты обречен, трепетный друг мой. Дурачок Лантье не травил вино, это мои штучки. Но Мадлон наконец написала донос. Сегодня свиток лежит в сумке прево, завтра воскресенье и никто не станет заниматься делами. А послезавтра сюда явится стража. Тебя будут пытать, прекрасный Филипп, выдирать ногти клещами, протыкать раскаленным прутом тело, всаживать иглы во все родинки. А потом отправят до конца дней гнить в каменном мешке. Или пошлют на костер, если будешь упорствовать. Так что флакон удобней. А когда ты отделишь душу от смрадного мешка с костями, я замолвлю за тебя словечко, проницательный тамплиер.
— Получается, что ты дьявол? — очень спокойно сказал Филипп.
— Не совсем, — потупился дух. — Но Князь Тьмы надо мною властен.
— Сатана, бес, чертенок, неважно, совсем неважно. Дьявол существует на самом деле. Значит, — тамплиер с безумным видом захохотал, забрызгав слюнями бороду, захлопал в ладоши, словно дитя — Бог тоже есть!!! А я, дурак, сомневался. Прости, Господи, меа кульпа, меа максима кульпа!
Рыцарь вонзил в край сундука узкий нож с крестообразной рукоятью, упал на колени. Мертвый младенец поглядел на счастливого тамплиера, сплюнул в пыль и исчез — остался лишь запах серы и след в пыли.
Завершив молитву, тамплиер подрезал бороду и спутанные пряди волос, вымыл лицо и вскрыл потайное дно сундука — там хранилось его облачение. В белом плаще с красным крестом, в белой тунике, белых шоссах и ботинках отменной кожи, препоясанный мечом, он стал похож на себя прежнего — брата Филиппа защитника святой земли, видевшего стены Иерусалима. Удивленный Лантье уронил ложку и перекрестился, его жена нацелилась выть, когда рыцарь спустился в кухню. Сеньор был тверд — за поимку беглого тамплиера дают немалые деньги, и грешно оставлять их в чужом кармане. А Филиппа, рыцаря Храма, будет судить Господь. Ты доставишь меня в узилище, возлюбленный брат мой?
Провожаемые сотнями перепуганных взглядов они средь бела дня прошли через весь городок к ратуше — впереди тамплиер в полном облачении, с флажком на копье, за ним понурый слуга. Верный Лантье получил заслуженную награду полновесными золотыми. Филиппа подвергли допросам — обыденным и с пристрастием. Эланкурский палач повредился в уме, спешно вызванный из Парижа сменщик через сутки был найден без чувств у дверей церкви — старый рыцарь попеременно молился и смеялся под пытками, словно не чувствуя ни огня ни железа. «Меня будет судить Господь по правде Божьего суда!» повторял он, раз за разом отказываясь от исповеди. Добиться признания так и не удалось, поэтому судьи были суровы. По примеру Парижа, нераскаянных тамплиеров полагалось публично предавать искупительному пламени.
…Ночью шел дождь, поутру недовольное солнце едва проглядывало сквозь тучи. Невыспавшиеся стражники, бранясь в усы, сложили костер на площади, закрепили надежный столб и оковы. Собралась небольшая толпа — кто-то из любопытства, кто-то со своим интересом. Пепел сожженного еретика, как известно, помогает от зубной боли, поносов и мужского бессилия, а обгорелый лоскут одежды подшивают к седлу, чтобы отпугнуть конокрадов. Казнь задерживалась, и народ волновался — судачили, что уцелевшие тамплиеры из Вилледье вот-вот возьмут штурмом ворота города, чтобы отбить своего товарища. Стрелы их не берут и мечи не рубят, потому что проклятые еретики — мертвецы… Идут, идут!!!
Сеньор Филипп де Раван, смиренный брат ордена тамплиеров, выказал свое последнее желание и осуществил его — он шел на костер в том же белом плаще с красным крестом. Точнее его волокли под руки— передвигаться сам рыцарь уже не мог. Солнце играло в спутанных волосах цвета спелой пшеницы, в золотистой густой бороде, утренний холодок трогал разбитые губы, облегчал боль. Священник в последний раз предложил исповедь — тщетно.
— Отдаю себя на суд Божий! Босеан! — громко крикнул Филипп, когда его приковывали к столбу. Толпа отшатнулась и замолчала, кому-то почудились колдовские слова, кому-то проклятие. Прозвенел полуденный колокол, приземистый кривоногий палач поднес огонь к груде хвороста. Воцарилась тишина — предвкушение криков и мольб.
Сучья занялись с одного боку, но разгореться не успели — порыв ветра сбил несмелое пламя. Филипп ждал. Люди на площади тоже ждали. Второй факел полетел в самую середину кучи — и ударился об оковы, увяз в отсырелом сукне плаща.
— Отдаю себя на суд Божий, бо невиновен, — снова выкрикнул рыцарь.
В третий раз костер подожгли с четырех сторон. Повалил густой дым, заскакали по веткам шустрые красные белки, невыносимо медленно занялся край плаща. Толпа всколыхнулась в жадном нетерпении, священник отвернулся, палачи делили имущество казненного, вполголоса кляня скудную плату.
— Все еще веришь, будто бог справедлив? — прокричал из толпы мальчишка с недетскими злыми глазами.
— Верю, — донеслось из огня.
И тут полил дождь, щедрый и изобильный грибной дождь. Он шел до тех пор, пока в хворосте не угасла последняя жалкая искра. Потом солнечные лучи осветили лицо Филиппа, заиграли в волосах, окружая его живым нимбом. Почуяв недоброе, поспешили попрятаться палачи, отступили в ратушу судьи и подперли двери тяжелым шкафом с бумагами. Первым, кто бросился сбивать цепи, был верный Лантье. Вторым — я.
…С того дня в Эланкуре никогда никого не жгли.
* * *
Брат Филипп окончил свои дни в обители францисканцев. Нам удалось уйти незаметно, укрыться в горах, а весной пробраться в уединенный монастырь. Босоногие монахи приняли нас хорошо — им случалось видать и не такие чудеса, укрывать и не таких страшных преступников. Я принял постриг и зовусь теперь брат Гильом, переписчик в монастырской библиотеке. Мое дело — василиски и фениксы, грифоны и единороги, откровения святых и проповеди цветам и птицам. Я дышу едкой пылью, растираю чернила, иногда — молюсь за покойную мать. Я давно принял обет молчания. Когда демоны искушают меня видениями, мучит похоть или одолевает страх — я звоню в колокол, и вся братия молится, чтобы спасти грешника. Если же яд сомнения вновь посещает неверное сердце, я вспоминаю — как стоял в костре брат Филипп, как сражались огонь и вода, и вода победила. Иерусалим пал, но пусть отсохнет моя правая рука, если рыцари не достигнут его снова.
Смотри, брат — на площадь хлынуло солнце!
Мирная жертва
…В сладком дыму забывалось и будущее, и прошлое. Смуглотелая сириянка-рабыня плясала истово, изгибала прелестный стан, вертела бедрами. Накрашенные глаза сочились тупой коровьей тоской, но Жерому было плевать. Он бросил хозяину кабака монету, поймал сириянку за руку, усадил на колени. Заставил глотнуть из кружки — не ему одному смаковать прокисшее аскалонское вино, поцеловал в мягкий рот и отпустил, пришлепнув — пляши, детка. Впереди ещё долгий вечер и горячая ночь. Кто войдет в божий град и помолится перед Гробом Господним, тому отпустятся все грехи, поэтому можно погулять вволю. Сделать остановку перед тем, как взять Иерусалим.
Он не был святошей, Жером де Вантабран, младший сын, неудавшийся трубадур и веселый рубака. Ел мясо в среду и пятницу, любил девок, добрую выпивку и непристойные песни. Убивал — и не только язычников. И все же, все же… Ему казалось — стоит припасть к прекрасным сияющим стенам храма, и он услышит Бога. Как слышал мальчишкой в лиловых лавандовых полях Прованса, в звездах сквозь дырявую крышу башни, в морском прибое, скрипе якорной цепи, стуке копыт по замерзшей римской дороге. Он раскроет ладони и скажет: вот я, Боже, человек глупый и грязный, прости. И будет прощен.
Веселье уже началось, войска крестоносцев кольцом охватили город. Неистовый Готфрид пробовал взять приступом древние стены, но лишь зря потерял людей. Мудрый Танкред приказал делать лестницы и осадные башни. Мусульмане трепетали — осада священного города обещала закончиться через считанные недели… где верблюды египетского султана, где свирепые африканцы? Задержись генуэзские нефы ещё немного и Жером бы остался не при делах. Но он успел. Ночь в Яффе, последняя грешная ночь — и в бой!
Утром он проклял доспехи. К полудню железо раскалилось, камиза промокла насквозь, противные струйки текли по шее, тело зудело и плавилось. Слуги, бранились в голос, кляли ослов, пыль, дорогу, вчерашнее вино и грядущую драку. Злое солнце насмехалось над фаранги, сумасшедший дервиш показывал на них пальцем и визгливо смеялся. Оставалось пять часов ходу, три… вижу, вижу!
Город возник внезапно. Рваный контур широких стен, стрелы башен, петли дорог. Дым, огонь, кровь и ярость, кипение человеческих тел, пестрота многотысячного, многоголосого войска. Золотой шлем мечети, украшенный полумесяцем, пыльная зелень олив, побуревшие клочья травы, драный, выцветший шелк шатров. Красный щит маркграфа Раймунда, желтый крест, след от стрелы. «Я пришел, мой сеньор. Лучше поздно, чем никогда».
Утром войско двинулось крестным ходом вокруг Иерусалима. Мусульмане стреляли из луков, бросали камни, смеясь, швырялись со стен мусором, и кричали страшные вещи про деву Марию. Упрямые крестоносцы шли босиком, с хоругвями, пели псалмы сорванными, хриплыми голосами. Все верили — ещё чуть-чуть, и Господь откроет им Яффские ворота, отдаст даром сокровища города, пищу и драгоценности, женщин и лошадей. Нет? На штурм!
У Жерома от пламенного восторга мутилось в глазах. Вера переполняла его, бурлила в жилах, давала силу рукам и проворство телу. Ещё немного — и небо распахнется, синий плащ навек укутает душу. Вперед, братья, руби их всех! Вслед за бешеным Готфридом Жером взобрался на стену и одним из первых ввалился в город, взял его как брали женщин прямо на перекрестках.
Темные волосы рыцаря слиплись от пота, вязкая кровь пропитала перчатки, запеклась на доспехах, ноги подкашивались от усталости, руки дрожали. Блестящий меч сделался бурым, клинок выщербился — Жером не мог подсчитать, скольких он зарубил. Он отшибал сабли, отмахивался от копий, принимал на доспех арабские стрелы и бил, бил, бил… Слуги дорезали упавших.
Дверь в проулке, украшенная сложной резьбой, ничем не отличалась от прочих дверей — непрочный засов, маленький пустой дворик с одиноким деревцом посредине, череда длинных, устланных коврами комнат. Два старика сидели при свете масляных ламп, играли в свою варварскую игру, двигали резные фигурки, едва обернувшись на грохот чужих шагов. Две седых головы покатились по мозаичному полу.
У женщины, ожидающей в дальних покоях были темные как пустыня глаза и унизанные монетами косы. Она открыла лицо, исчерченное морщинами, покорно сложила на груди татуированные худые руки. Слишком стара, чтобы взять её. А убивать Жером устал. Опустив меч, рыцарь сел на ковер, рявкнул: май! Кас май! И получил воду — с лимоном и листком мяты, божественно прохладную, чистую как слеза воду — даже если она отравлена, Иерусалим стоит мессы. Женщина, склонив голову, ожидала пока фаранги утолит жажду, потом обнесла питьём слуг. На мгновение Жером задремал сидя, потом вскочил — с улицы неслись крики и грохот, бой продолжался. Выходя, рыцарь повесил свой щит на дверь, испортил кинжалом резное дерево. Этот сад и ковры, вода с мятой, послушливая рабыня — принадлежат мне, как весь город. Я. Взял. Иерусалим.
Бой на улицах затихал, крики и мольбы смолкали. Камни покрылись кровью, псы лакали из луж, уворачиваясь от хлыстов и стрел. Воздух пах бойней и жареным мясом — лотарингцы подожгли синагогу и ловили на копья выбегающих из огня. Уцелевшие рыцари обнимались, молились, плакали как младенцы, дрались из-за золота и коней, жадно пили вино, отбитое в армянском квартале и снова рвались вперед — добивать нехристей.
— Где Гроб Господень? — спросил Жером.
Вверх по улице, там увидишь. И откроешь сердце чуду чудес, получишь заслуженную награду из рук Спасителя…
Груда серых камней, едва различимая в сумерках. Сладковатая вонь — июнь, юг. Лошадиная туша с бесстыдно развороченным животом, куча грязной одежды, тканей, какого-то барахла, ничейной добычи. Безумный мальчик с огромным ключом на шее. Хриплые совы. Руины. Теплый ветер. Аромат цветущих роз. Всё.
Так должно быть чувствовал себя стриж, которому Жером мальчишкой однажды подрезал крылья. Птица ползала по карнизу, дрожала всем телом, тонко вскрикивала, поднимая головку к небу. Потом прыгнула вниз.
…Слуги под руки оттащили обессиленного Жерома в дом, который он выбрал. Молчаливая женщина жестом велела им снять доспехи с большого тела их господина, потом собственноручно, не пугаясь свирепых взоров, отмыла, перевязала и умастила его. Две проворных девицы, словно зеленые ящерки возникшие из огромного сундука, остались в покоях — караулить сон повелителя, согревать его и ублажать. Слуги встали у двери, неся караул.
Утро принесло смрад свежей смерти. Жара навалилась на город как большая перина на маленького ребенка. Памятуя о моровых поветриях, Готфрид велел сжечь трупы, и солдаты потащили мертвецов со всех улиц на площадь подле Яффских ворот. Христиан после короткого спора зарыли в Иосафатовой долине, в общей могиле, остальных облили маслом и отправили кратчайшим путем на небо. Но это не помогло — сладковатый яд тления пропитал воздух. До Рождества всё — и вино и хлеб, и овечий сыр и баранина — отдавало мертвечиной. Чудом не явились болезни, ни чума, ни язва не тронули крестоносцев, по милости божьей, как повторяли священники. Впрочем, Жером больше не доверял чудесам.
У рыцаря пропало желание слушать мессу, слова молитвы стали сухими ореховыми скорлупками. Вера порвалась как старый бурдюк и вытекла уксусом прямо на мостовую. Первые дни он метался по городу, поднимался к Гефсиманскому саду, забирался на башню Давида, бродил по кладбищам, докучал каноникам и прелатам. Потом утих.
К благородным собраниям, обсуждающим новый закон нового королевства, рыцарь проявил постыдное безразличие. Ему не было дела, получит ли корону красавец Танкред, угрюмец Бодуэн или Раймунд, сюзерен и военачальник. Когда Готфрид Бульонский принял власть и отказался короноваться в городе, над которым властвует Христос, Жером только пожал плечами. Если кто и властвует здесь — разрушение, пыль и мухи.
Новый дом оказался не бедным, но и не слишком богатым. Прежний хозяин, мусульманский законник, заботился о своем благополучии и уюте, подвел к внутреннему дворику воду из источника Гихон, не жалел денег на балдахины и покрывала, курильницы и серебряную посуду. И на рабов тоже — в потайных уголках прятались, как оказалось, не только две девицы, умеющих все, что должно уметь служанкам, но и пожилой конюх, повар-евнух и юный музыкант, как две капли воды похожий на домоправительницу. Говорить свое имя упрямая женщина отказалась, Жером называл её Эвриклеей или кричал «эй ты, ведьма!». Женщина слушалась — во всем, кроме имени, она являла покорность, услужливость и заботу, оберегая захватчика, словно родного сына. Показала где законник хранил золото, перстень с рубинами и старинные, заскорузлые книги. Подносила воду, шербет, сласти, добывала — где только умудрялась — свежие фрукты и мясо, не доверяя никому пекла хлеб. Если б не угольки ненависти, вспыхивающие в темных глазах… но Жером старательно не замечал их.
Чужая жизнь понемногу налаживалась. Вместе с отрядом Раймунда рыцарь нес караул у Львиных ворот, выезжал по Яффской дороге охранять паломников и распугивать любителей легкой добычи. Вместе с сюзереном выбрался к Тивериадскому озеру, чтобы потешиться благородной забавой — охотой на оленей, кабанов и трусливых палестинских медведей. Шкуру медведя Жером приволок с собой, заставил выделать и повесил в спальне, чтобы хоть как-то разбавить сладкую одурь цветастых ковров. Стену украсил и верный меч — сабля, купленная у льстивого оружейника-самаритянина, неожиданно хорошо легла в руку. И тонкие перчатки армянской работы подошли куда лучше грубых изделий из кожи лося.
Стоило грабежам утихнуть, как откуда ни возьмись повылезали купцы, открылись лавки и лавочки, загомонили разносчики сладостей и лепешек, забурлил кофе в медных джезвах — крепкий как клятва кофе, подаваемый с чашкой холодной воды и желтыми пористыми кусочками сахара. В сумрачных рыночных закоулках можно было приобрести все — кинжал из дамасской стали, волшебный бархатный балдахин с ткаными птицами, изысканные подсвечники с львиными головами, расшитый халат, шелковые шальвары — жулик торговец не обманул, гладкую материю не выносили ни вши, ни блохи. И прохлада, восхитительная прохлада.
…После пятничного купания облачиться в легчайший шелк, возлежать на ковре во дворике, смотреть, как играет вода в фонтане, как перебирает струны ребаба мальчик Дауд, как танцуют Айше и Айгуль или играют в мяч или возятся как красивые кошки. Никакого промозглого холода мрачных залов отцовского замка, никаких сырых одеял и клопов, никакой кровяной колбасы и протухшего супа с салом, никаких грязных девок, смердящих несвежей щукой. Городской шум за стенами, складывающийся в тонкую музыку, верблюжьи колокольчики и церковные колокола, псалмы армян, заунывные молитвы евреев, караимы с пальмовыми ветвями, бедуины в белых бурнусах. Чеканный профиль рыцаря-франка и застенчивая улыбка его смуглой жены, рыжие лохмы неистового нормандца, босые пятки монаха, исцарапанные пальцы мастера-ювелира и крохотный молоточек, звон серебра. Длинный контур храма Иоанна Крестителя, безупречная арка Львиных ворот, синие и пурпурные ленты стягов, резная шкатулка могилы Авессалома, склеп дочери фараона.
Однажды ему помстилось, что он видел юную египтянку, одетую в легкую белую ткань — она сидела на краю приземистой гробницы, болтала ногами, как девочка, посматривала на небо — ждала рассвета. А потом испарилась, как ломтик льда на горячих камнях двора. Вино прогнало видение, но затронуло сердце — впервые за много лет Жером сочинил стихи и напевал их вполголоса, кружа по извилистым улочкам города. Он стал носить легкие туфли, чтобы чувствовать нежную гладкость отполированных временем мостовых, полюбил гладить стены, трогать решетки и каменные узоры, разглядывать пеструю смальту римских мозаик, стоять в церквах — не молясь, нет, впитывая густое время. Даже к пыли привык — разве можно представить Иерусалим без вездесущей мелкой и желтой пустынной пыли?
Короткая зима тронула снегом остроконечные крыши и синие купола, по утрам чаша фонтана сверкала льдом. Возвращаясь из города, Жером отогревал усталые ноги подле причудливой жаровни с грифоньими мордами и когтистыми бронзовыми лапами, дышал благовонным дымом, струящимся из курильницы. Старая ведьма подносила ему горячее питьё, подавала ужин, затем повинуясь безмолвному жесту доставала шахматы и садилась напротив. Правила игры дались Жерому легко, он охотно ввязывался в сражения, атаковал короля, жертвовал пешки и смеялся, видя на лице домоправительницы озадаченную гримасу. Она все ещё выигрывала две партии из трех, но мастерство рыцаря нарастало с каждой победой. Иногда, вечерами, рыцарь просил почитать ему вслух и уплывал в сон под извилистые как улицы Города сказки Шахеризады, мудрые притчи Калилы и Димны, прелестную вязь Фламенки — домоправительница, как оказалось, читала по-латыни, знала и возвышенный окситанский и корявую как немытые ноги германскую брань. А самому Жерому все яснее казалось, что он ловит смыслы быстрой арабской речи.
В канун Пасхи он отправился на Масличную гору любоваться цветущим торжествующим миндалем. В клочьях тумана на черных мокрых ветвях распускались нежные гроздья, лепестки осыпались вниз, словно снег, путались в отросших седеющих кудрях рыцаря, в завитой бороде. Словно снова в Провансе, весной любви и надежды, весной Мелисенты — зеленоглазой и злоязычной невесты старшего брата. Они вдвоем скакали по мокрым лугам, рвали первую землянику, целовались и засыпали друг друга цветами, мечтали сбежать — в Британию, на острова, в царство пресвитера Иоанна. Обвенчаться там и жить безмятежно, как птицы небесные. Потом отец умер, брат вернулся из свиты Раймунда, принял наследство и вступил в законный брак. А он, Жером, отправился восвояси — таким же миндальным утром, таким же туманным розовым снегом.
По дороге назад он увидел молодого еврея — одетый в черное парень яростно спорил со стеной синагоги. Может ли мирная жертва быть бескровной, если храм разрушен и негде резать тельцов единолетних, нет алтаря и ковчега тоже нет? Жертва богу — сердце сокрушенное, — возразил Жером, — живую плоть жгут на алтарях дикари. Мы омыли Иерусалим кровью, когда брали его под знамена Христа. А для мирной жертвы достаточно муки и масла, вязи букв — шин, ламед, мем. Шалом, — согласился еврей, — горькие слова мудрости, лестница ангелов, бескрайняя плоть земли, которую оставляешь, поднимаясь вслед за дымом в обитель праотцов. Вот идет Мессия, погляди, брат!
Толстый арабчонок, едущий на белом осле, никак не походил на Спасителя. Жером собрался возразить оппоненту и вспомнил, что не знает иврита, и никогда не знал. Страх и ярость переполнили душу рыцаря, он рванул саблю из ножен, чтобы снести голову проклятому колдуну, но оружие зацепилось за поясной ремень. У еврея достало ума скрыться с глаз. Тем же вечером слуга-провансалец украл из дома серебряный кубок и дал деру — из четверых смельчаков, переплывших с господином Средиземное море, один заблудился в пустыне и не вернулся, один ушел в монастырь, один пропал месяц назад, теперь не стало последнего. Невелика потеря — рабы нынче дешевы, а плохой слуга хуже врага. Жером порешил, что при встрече зарубит вора, и забыл о нем навсегда.
Когда жара вновь опустилась на древние стены, Готфрид Защитник Гроба неожиданно и молниеносно скончался от холеры. Его брат Балдуин тотчас короновался и, едва выдержав траур, закатил пир. Пронеслись празднества, отслужили молебны, закипела новая жизнь. У Жерома находилось все больше поводов праздно бродить по улицам и холмам, от Навозных ворот до Елеонской горы, от церкви Магдалины до Йерихонской дороги. Прежде разборчивый в пище, он срывал с деревьев горькие апельсины и покупал за гроши лепешки, прежде любитель дорогих вин — пил как воин Шауля, лакал из источника, припав лицом к тайной прохладе. Дорогой наряд износился и истрепался, изящные туфли давно спали с ног. Ласковая Айше и игрунья Айгуль толстели в небрежении, объедались сластями. А Жером все шагал. Он надолго застывал у старинных развалин, разглядывал камни, трогал пыль и рисовал в ней странные знаки. Он тратил безумные деньги на помятую, покрытую патиной посуду, ветхие рукописи священных книг, заржавевшие копья, и ночами сидел в кладовой, любуясь своими сокровищами. Домоправительница ходила за ним по дому, как душистая тень, огонек ненависти в темных глазах подернулся пеплом.
Густой сентябрьской ночью бродягу задержали у развалин Гроба Господня. Угрюмые ломбардцы из патруля толкали его древками копий, плевали под ноги и бранили грязным арабом. Он пытался объяснить, что христианин и рыцарь, но никто его не слушал. Или не понимал? Повезло, что начальником караула оказался одышливый генуэзец, с которым они когда-то плыл через Средиземное море. Вояка долго вглядывался в бывшего товарища по оружию, крутил головой, задавал вопросы и в итоге приказал сопроводить благородного господина до дома — на всякий случай.
В спальном покое Жером тотчас зажег все свечи и кинулся к зеркалу. Из позолоченной рамы на него глядел незнакомец. Русые с проседью кудри стали черными с серебром, светлая бронза кожи обратилась в темную медь, прямой нос изогнулся орлиным клювом, укрепились и побелели зубы, потемнели глаза. Человека перед ним звали… как? Где потеряно мое имя, кто я? Куда идти, господи? Рыцарь увидел меч на пыльной шкуре и вспомнил, что клинок когда-то принадлежал ему. Удар! Ещё удар! Он сражался с коврами, зарезал кушетку, убил насмерть посудный шкаф, потом бросил звенящее железо на плиты двора. Двор был пуст. И дом был пуст и темен — ни единой живой души, ни единого звука, ни единого запаха, словно здесь никогда не жили, не смеялись и не плакали подле высохшего фонтана.
Резная деревянная дверь с глухим стуком сорвалась с петель, упала на мостовую. Человек побежал по спящим улицам, бросил себя в лунный свет и глухую тьму. Время текло потоком, успевай только прыгать с камня на камень. Рыжекудрая девушка в ветхом платье пасет овец, царь царей как мальчишка подглядывает за ней, улыбаясь в душистую бороду. Обагряются кровью золотые рога жертвенника, возносится к небу сладчайший дым. Не пугаясь насмешек жен пляшет перед ковчегом Давид, высоко поднимает худые ноги, бьет в тимпан и смеется, смеется. Уличные мальчишки играют в камушки, не разбирают, чья родня молится на высотах, а чья несет жертвы статуе императора. Привязав ослика на постоялом дворе, рабби прогуливается в саду, в кружевной тени олив, отвечает ученикам, спокойно и терпеливо — нет ни эллина, ни иудея, ни дурной ни хорошей крови. Просто — не укради, не убий, оставь отца своего и ступай следом.
Следом, шагом, бегом за ними! В проход, в камень, в арку старых ворот — и плевать, что она замурована. Вот он я, Боже, человек глупый и грязный, прости навеки!
Жером де Вантабран, младший сын, неудавшийся трубадур и веселый рубака, раскинул руки крестом, прижался к теплой, пористой стене Храма и застыл.
…Тело бывшее прежде рыцарем и крестоносцем, протянул на свете ещё добрых пятнадцать лет. Сердобольный Раймунд приказал перевезти безумца назад в Прованс. Грузный старик бродил по коридорам, дремал в саду, пугал племянников и племянниц, дарил им то монетки то тумаки, сочинял баллады в честь Дамы и никогда не рассказывал, как сражался в Святой Земле. Умер он незаметно, во сне, как хорошие люди, был похоронен в церкви, рядом с отцом. Храм разрушили в год Великой Французской, кости проклятых дворян вперемешку выбросили на свалку. Не осталось даже могильных плит.
Что ж до того, кто носил имя Жером — поезжайте в Иерусалим к полнолунию. Днем, не торгуясь, купите в арабской лавочке резные шахматы, вечерком задержитесь у Гроба Господня, а ближе к полуночи сядьте на теплые камни площади, расставьте по доске костяные фигуры и ждите. Город взял многих — может выйдет веселый монах-кармелит, может скорбная Йовета, сестра и дочь королей, может нью-йоркский панк, возомнивший себя рок-мессией… Им не нужно овечьей крови, вина и дыма, чтобы плыть по реке времени. И вам не нужно — собеседник уже сидит напротив, гладит бороду, щурится, примериваясь к лунному свету. Ходят белые, первый шаг королевской пешки. Город шин-ламед-мимо. Едва-едва…
Рыцарь бедный
— …Не подходит! — потный и злой Лодовико швырнул в стену связку ключей и ничком бросился на постель, — Донна, что же нам делать? Ключи звякнули о зерцало миланского панциря и плюхнулись в вазу с фруктами. Из-за занавеси показалась лисья мордочка горничной — бесстыдница наблюдала за происходящим с видимым удовольствием. Лодовико с меткостью, достойно лучшего применения, швырнул девице яблоком в нос, та взвыла и скрылась.
— Ты зря обидел мою служанку, — донна Челеста грациозно поднялась с ложа и встала перед юношей в позе Добродетели, искушаемой Развратом. Из одежды на даме был только железный пояс, закрывающий лоно и длинные серьги с аметистами. Лодовико покосился на пышные прелести дамы и молча сглотнул. После трех месяцев уговоров, подарков и серенад донна наконец-то решилась одарить влюбленного высшим знаком своей благосклонности. Да и случай подвернулся удобный — мессер Джильярдо, ревнивый супруг красавицы, отправился в Рим закупить новую партию драгоценного хрусталя и поцеловать перстень Его Святейшества Папы. Лодовико сходил с ума, предвкушая неземное блаженство, он напевал, поднимаясь, по темной лесенке, а в его кошельке дремало превосходное ожерелье из бледных жемчужин — точь-в-точь такое, как посоветовал лучший друг и наперсник, шалопай Анджелетто… И вот!!! Какая подлость, до чего же коварны и мстительны эти мужья!
— Я ждала тебя много ночей, — голос донны Челесты был полон страстного упрёка. — Я умащалась амброй и купалась в любовном отваре из мелиссы и пассифлоры. Увы, цепи изнурили меня!
Под железным обручем и вправду угадывались ссадины. А по нежной щеке донны прокатилась слезинка. Лодовико был тронут — только истинно влюблённая женщина способна заплакать оттого, что не может соединиться с господином своего сердца.
— Эти жемчуга, о жемчужина моей страсти, утешат тебя на то — поверь мне — недолгое время, на которое я покину тебя, дабы изыскать способ решить проблему, — протянув возлюбленной дар, Лодовико лихорадочно стал одеваться, путаясь в шнурках и штанинах. Донна Челеста прижала ожерелье к груди:
— Как ты щедр, мой Лодовико! Я буду носить эту прелесть, думая о тебе.
Перевязь с верной шпагой плотно приникла к телу. Скрипнула дверца чёрного хода, протопотали шаги на лестнице. Прохладный сумрак Вероны принял в свои объятия незадачливого влюблённого. Поднимаясь по узкой улочке, Лодовико не удержался и обернулся — окошко донны Челесты ещё светилось.
…Когда убелённый сединами и январскими холодами писатель выводит на жёлтом пергаменте «Ночь тиха» — значит, он уже стар, и забыл, сколько звуков таится в бархатной темноте города. С острых крыш на мостовую каплет вода — звонко бьёт о булыжники или булькает о поверхность вчерашних луж. Заунывными голосами коты выясняют, кто именно завоюет благосклонность прекрасной дамы, а красотка — рыжая, словно истинная венецианка — скромно вылизывает лапку, приютившись возле тёплой трубы. Хрипло кашляет старик нищий, не нашедший приюта на эту ночь. Что-то бормочет расхристанный пьяница, пробирающийся вдоль стены. Вкупе с энергическим вокализом из окна на него обрушивают целое море душистой пены — не иначе хозяйка дома в неурочный час принимала гостей… простите, ванну. Скулят собаки, ржут кони, ревут младенцы, скрипят ступени и ставни, звенят шпаги, звучно бранясь городская стража поспешает прекратить беспорядки. И вдруг, королева воров и магов, донна Луна выходит из облачного алькова, серебря сонный воздух — и на мгновение всё вокруг замирает, покорившись её красоте. Вот эту-то минуту и разрушил Лодовико, от души хлопнув дверью шестой и последней веронской кузницы. Ни один человек не проникся его трагедией, ни один не согласился изготовить ключи. Старый Джепето, лучший из мастеров Вероны так и сказал:
— Муж вернется, всё узнает. Жена покается. Вы, сеньор, сбежите во Флоренцию или в Геную. А мне снесут голову ни за что ни про что. Или вы, ваша светлость, готовы оплатить мне с семейством дорогу до Рима и всю стоимость новой кузни с инвентарем?
Изнывающий от любви и желания Лодовико был готов на все, но таких денег в кошельке у него не оказалось. Он предложил вексель с рассрочкой на год. Старый Джепето расхохотался как филин и велел подмастерьям проводить молодого господина до выхода, что они и исполнили — бережно, но настойчиво. И вот Лодовико стоял на залитой лунным светом улице один-одинешенек. Где-то там, в одинокой постели, разметавшись меж шелковых простыней ожидала возлюбленная — а он обманул все её надежды. Он вернется с пустыми руками. Завтра можно будет попробовать снять восковой слепок с замка (правда как это делается Лодовико не представлял) и отправиться в близлежащую деревушку, заказать ключ у кузнеца посговорчивей. Или попробовать отыскать кого-то из «братьев плаща» — лишь бы вместе с ключами они не вскрыли и другие замки. Но это все будет завтра… а он обещал донне Челесте вернуться ещё сегодня. Что же делать?
Расстроенный донельзя Лодовико плюнул с набережной в обмелевшую от июльской жары реку Адидже, перешел через мост святого Витторио, уныло отсалютовал городской страже и слегка поплутав темными переулками выбрался к Пьяцца дель Эрбе. Площадь Трав многолюдная днем и волшебно пустая ночью была его любимым местом в Вероне. Бродяг и разбойников он не боялся, владея шпагой в равной степени безжалостно и виртуозно, привидения, что по слухам давно уже поселились в разрушенной землетрясением церкви Сан-Джованне, не пугали юношу. Выходя на середину огромной, вымощенной истертым камнем площади, он ощущал себя не скромным четвертым сыном бывшего городского подесты, но как минимум одним из великих правителей делла Скала, а как максимум… да в мечтах Лодовико примерял на себя императорский пурпур.
…Предмет моего беспокойства не только в том, что Луций Сергий Катилина, сын достойного отца своего, обратился против великого Рима. И не только в том, что к нему присоединились достойные в прошлом мужи, как Публий Лентул Сура, не столь давний консул и сам внук прославленного консула, Публия Корнелия Лентула. Предмет моего особенного беспокойства и огорчения — в грозящем нарушении закона, к чему мы, отцы-сенаторы, подошли опасно близко…
Речи Цезаря Лодовико давно уже знал наизусть. Он обвел ладонью воображаемое собрание — и вдруг разглядел в дальних развалинах чью-то темную стремительную фигуру.
— Эй, кто там! — крикнул Лодовико и на всякий случай положил руку на гарду шпаги.
Ответом ему был смех. Задорный и легкий, как деревянные колокольчики на венце деревенской мадонны, смех. Бесшумно — не призрак ли? — на середину площади выскользнула совсем молодая девушка. Босая, с распущенными, достающими до земли волосами, в рваной блузе, почти обнажающей грудь и нескольких юбках, одинаково пышных и ветхих. На тонких запястьях девушки позвякивали браслеты, на шее красовалось монисто из золотых скудо с гербами— вот так нищенка! Лодовико взглянул ей в лицо и на мгновение замер от яркой, бессовестной красоты. В распахнутых чёрных глазах таилось пламя, дерзкие губы смеялись, смуглые щеки казались сладкими словно персики. Очарованный юноша вздрогнул, представив, как запускает пальцы в эти щедрые кудри, ласкает полную грудь, освобождает от тряпья тело… и тут перед ним златокудрым видением возник светлый образ донны Челесты — возлюбленной, все еще не вкусившей ласк.
— Я не нравлюсь тебе, прохожий? — в капризном голосе девушки послышалось удивление.
— Ты прекрасна. Но я люблю другую. Этой ночью она ждет меня — и дождётся. А тебе я могу предложить лишь генуэзский серебряный грош на память и пожелать удачи.
Лицо девушки сделалось изумленным и совсем детским. Она приблизилась к юноше, двигаясь так же легко, коснулась его волос и отдернула руку. Лодовико почувствовал её запах — молодое здоровое тело и морская вода, которой бедные женщины стирают свою одежду. Значит точно не призрак.
— Меня зовут Вероника. И я не торгую своей любовью. Наши женщины не продают себя, щедрый синьор.
— Извини, — Лодовико склонил голову — отчасти прося прощения, отчасти уводя взгляд от дерзких прелестей девушки.
— А почему ты один на площади, если твоя красавица ждет тебя? Вы поссорились? Или она заболела? Погадать тебе, будет ли ваша встреча счастливой? — девушка лукаво улыбнулась Лодовико и тоже потупилась, крутя пальцами длинный локон.
— Я искал кузнеца, — огорченно признался Лодовико. — Мне очень нужен хороший кузнец. Или… Милая, милая Вероника, хочешь ли прибавить еще скудо к своему ожерелью? Если ты не боишься гулять ночами, то наверняка знаешь тех, кто промышляет ночной добычей. Найди мне человека, который смог бы открыть сложный замок. Весьма необычный замок. И я щедро награжу и тебя и его!
— Позолоти ручку, щедрый синьор! — девушка протянула смуглую ладонь.
Не задумываясь, Лодовико положил в руку золотой. Девушка подбросила монету, ловко поймала и завязала в подол.
— Жди здесь, под башней с часами, не беседуй с бродягами и не смотри на чужие дела. Я вернусь скоро и со мной будет нужный тебе человек — лучший во… мастер своего дела в Вероне. Если кто-то захочет отобрать у тебя кошелек и красивый камзол, ты скажи, что ждешь меня — и ничто тебе не грозит.
— Да благословит тебя бог, Вероника!
Лицо девушки передернулось.
— Вряд ли богу есть до меня дело. Ты жди!
Одним движением девушка собрала в узел пышные волосы, подхватила широкий подол и метнулась в темноту — только её и видели. Проводив ее взором, Лодовико позволил себе улыбнуться — может быть ему повезет. Девушка казалась странной, встреть он такую средь бела дня — решил бы, что бедняжка не в себе или выпила лишку. В то же время в ней ощущалось нечто вызывающее, влекущее и страшное одновременно. Озноб прошелся по коже, Лодовико вспомнил, где он видел похожий взгляд — у мавританской танцовщицы, казненной на пьяцца Сан-Франциско, за то, что убила богатого гостя, как мужчина мужчину, кинжалом в грудь. Но ведь эта была жива? Юноша оглядел по-прежнему пустынную площадь, и, приблизившись к башне сел прямо на камни, прислонился спиной к прохладной стене. Ему захотелось прочесть молитву за упокой души безвестной девицы, а заодно попросить прощения за собственные грехи.
Не смешно ли — сидеть, ожидая, когда неизвестная девка притащит мазурика, чтобы вскрыть замочек от пояса целомудрия, и молиться при этом? Знал бы дядя Бернардо — высек бы. Или простил. Старый кондотьер уверовал после того, как вернулся из Константинополя, чудом уцелев после гибели Великого города и выжив в плену у проклятых турок. Он навещал изредка отца, возился с племянниками, покрывал их детские грешки, наставлял в истине и не гнушался при случае поучить отеческой дланью. Безмятежный как одуванчик дядюшка любил Лодовико больше других (и лупил чаще), а на смертном одре завещал ему самое ценное свое сокровище — серебряный ковчежец с частицей Креста Господня, найденный им в руинах церкви святого Хора. Дядюшка был уверен — именно эта реликвия помогла ему спастись и из горящего города и из жестокого плена. Вот уже два с половиной года юноша носил ковчежец на шее, но особых чудес за ним не замечал. Да и сейчас реликвия вряд ли ему поможет…
Лодовико тронул цепочку, чтобы вытащить ковчежец. Он любил разглядывать изящную гравировку в восточном духе, украшавшую темное серебро. Цепочка не поддалась, перепутавшись с гайтаном крестика. Лодовико дернул сильнее, вытащил из-за ворота обе вещицы, попробовал разобрать неопрятный клубок — не получилось. Со злости он рванул непослушное переплетение — и шнур с цепочкой не выдержали. Ковчежец, гремя, покатился по каменным плитам, крестик упал в какую-то щель. Лодовико наклонился подобрать их — и как назло, луну заволокло облачком. Он попробовал нащупать крестик между камней, наколол палец, по-детски сунул в рот — и тут юношу окликнули.
— Вы что-то потеряли, мессер Лодовико? А стоит ли ваша потеря усилий, чтобы её разыскать?
Недоуменный Лодовико поднял взор — кому это из его знакомых приспичило перед рассветом гулять по площади Трав. Но в темноте был виден только силуэт невысокого мужчины в шляпе. Глубокий, низкий, похожий на рокот галерного барабана голос не принадлежал никому из друзей или родственников.
— Откуда вам известно мое имя, синьор?
Незнакомец развел руками:
— Драгоценный мой юноша, по долгу службы я знаю все… ну почти все, что таится в душах у жителей великолепной Вероны. Что у нынешнего подесты французская болезнь, а его незамужняя дочь беременна. Что банкиру Маркони на днях придется бежать из города — подальше от кредиторов. Что синьор Капулетти пробовал сделать с вашей бедной кузиной Бьянкой — и каким именно образом ей удалось избежать несчастья. Почему вы, такой красивый и такой благородный юноша околачиваетесь посреди ночи на пустой площади, вместо того, чтобы нежиться рядом со златокудрой возлюбленной.
Ошарашенный Лодовико глянул снизу вверх на собеседника. Он помнил, что Вероника советовала не разговаривать с чужаками, но любопытство оказалось сильнее. Пальцы юноши вдруг нашарили крестик, он сунул находку в карман камзола и поднялся, отряхиваясь.
— А какое вам собственно до этого дело?
Незнакомец открыл в улыбке великолепные белые зубы. Луна, миновав облака, осветила его лицо — резкое, словно высеченное из дерева.
— Мне — никакого. Но некий Джильярдо Веронезе забыл дома долговые расписки, которые нужно обналичивать в Риме. Поэтому он оставил слуг с товарами на постоялом дворе, а сам во весь опор мчится в город. Не позже чем к полудню он будет дома — и, скорей всего, полный чувства вины за случайную трактирную шалость, попросит прекрасную супругу сопроводить его в путешествии.
…Вот это новость. От огорчения у Лодовико перехватило горло — в минуты глубокого волнения он, случалось, рыдал как мальчишка. Дорога до Рима, пребывание там, возвращение — это минимум три недели. За это время донна Челеста запросто встретит какого-нибудь красивого и богатого распутника-римлянина — вся Италия знает, как ловки в любовных утехах бритоголовые блудодеи. А даже если не встретит — кто знает, как долго придется добиваться следующего свидания, удастся ли снова пробраться в спальню и — черт бы их взял три раза — подобрать ключи к поясу целомудрия!!!
— Я вижу, вы сильно расстроены, друг мой? — незнакомец сочувственно вздохнул.
— О, да! — воскликнул Лодовико.
— И дорого бы отдали за возможность хоть что-нибудь изменить?
— Да, но… — Лодовико сглотнул и замолк. Он не желал смерти мессеру Джильярдо.
— Не волнуйтесь, мой друг, я предлагаю честную сделку.
Незнакомец разжал кулак и показал то, что прятал — маленький ключик изящной работы, генуэзской или миланской.
— Эта прелестная штучка подойдет к тому таинственному замочку, который вы столько времени тщились открыть.
— Неужели? И сколько вы с меня захотите? — Лодовико просиял всем лицом, но тут же снова нахмурился. Что-то было нечисто.
Незнакомец махнул рукой:
— Правда, чистая, как слеза. Этот ключик подходит к любому замку на свете. Он с одинаковой легкостью отпирает и запирает любые двери. А ещё этим ключиком можно вскрывать сердца, располагая к себе самых неприступных красоток и суровых судей. Вы не будете знать отказа!
— Докажите! — расхрабрился Лодовико.
— Легко! — кивнул незнакомец. — Ступайте за мной.
Он пересек площадь и приблизился к тяжелым чугунным воротам, закрывающим вход в Дом Купцов. Их запирали на ночь огромным ключом, сработанным венецианскими мастерами, Лодовико однажды видел, как почтенные длиннобородые купцы торжественно берут с бархатной подушки огромный ключ, больше похожий на папский скипетр, и с трудом проворачиваю его в замочной скважине. Незнакомец поднес свою вычурную безделку к дверям, покрутил — и Лодовико услышал грузный скрежет открывающихся ворот. В доме Купцов тотчас заиграли рожки, вспыхнул свет в окнах, полуодетые гости метались, хватаясь то за оружие, то за толстые кошельки. Незнакомец смеялся, Лодовико тоже прыснул в кулак, но тут из ворот показались разбуженные суматохой стражники.
— Бежим! — незнакомец ухватил Лодовико за длинный рукав камзола, и они понеслись к развалинам, словно двое мальчишек, ворующих яблоки из чужого сада. По счастью луна снова ушла за тучи. Укрывшись за остатками широкой стены, они слушали, как, бранясь, обшаривают площадь недовольные стражники, как шипит и трещит смола на факелах, как позвякивают доспехи и угрюмо скрипят запираемые ворота. Наконец все затихло. С реки потянуло прохладным ветром, сумерки стали светлеть — до рассвета оставалось не более часа.
— Ну, так что же, мой влюбчивый друг? Убедились?
Лодовико молча кивнул.
— И поверьте, цена вас устроит. Мы подпишем маленький договор — и этот ключ вам достанется даром. С одним условием: вы будете счастливы — искренне и безмятежно. Хотя бы один день в году. Если да — через триста шестьдесят пять дней на этом же месте вы вернете мне ключик и мы в расчете. Если нет… Полагаю вы в курсе, мой благоразумный друг, чем платят за такие игрушки?
Незнакомец приблизил к Лодовико лицо и ухмыляясь, приподнял шляпу.
— Фьюйть — и нету, любезный мой! Но зато до скончания лет вы получите восхитительную компанию.
Не лукавя себе, Лодовико уже догадался, с кем имеет беседу. Он задумался, но совсем ненадолго. Его ждали томящаяся донна Челеста и часы невыразимого счастья. А потом… ключ открывающий двери сердец даст возможность презабавно провести время и добиться немыслимого успеха. Стать во главе торгового дома или быстрого корабля, отправляющегося в дальние края за «черным деревом», провести переговоры с неуступчивыми флорентийцами, помириться с отцом, наконец!
— Я смотрю, вы согласны? Вот и палец поранили кстати. Подпишем договор и айда?! — из ниоткуда незнакомец достал маленький свиток. — Приложите сюда и готово.
«Прости меня, дядя Бернардо!». Лодовико поднес правую руку к свитку, но в последний момент остановился:
— А если вдруг ключ не сработает? В ваших руках он открывает любые двери, а у меня перестанет!
Незнакомец решительно покачал головой.
— Быть не может. Впрочем, — тут незнакомец расхохотался. — Вы поймали меня на слове, любезный! Да, этот ключ не отопрет дверь освященной по всем правилам церкви, и к сердцу истинно верующего не подойдет. Но где вы в наши дни видали хоть один храм, в котором кого-нибудь не убили?
— Это все?
— Да. Я всегда говорю правду, как бы ни изощрялись велеречивые, клеймя меня Отцом Лжи. Если вдруг этот ключ что-нибудь не откроет, договор будет расторгнут и все останутся при своих.
— По рукам! — Лодовико решительно прижал палец к свитку и отдернул его, чуть не вскрикнув от острой боли. Вспыхнуло пламя и незнакомец (вернее было бы называть его дьяволом) тут же исчез. В руках у юноши остался причудливый маленький ключик. Надо было спешить!
— Постой! — неожиданно прозвенел женский голос. — Что же ты натворил?!
Из развалин показалась запыхавшаяся Вероника.
— Извини, что не дождался, милая! Я нашел подходящий ключик и спешу к своему замку — улыбнулся Лодовико. — Спасибо!
Вероника покачала головой и поникла:
— Я знала, что будет беда, но думала это от женщины. И опоздала. Когда ты снова встретишься с… с ним.
— Через год, на этом же месте. Счастливый и знаменитый, вот увидишь! — Лодовико потянулся потрепать по плечу красавицу. — Не плачь! Хочешь, привезу тебе из дальних стран зеркальце или браслет?
Оттолкнув его руку, Вероника встряхнула распущенными волосами, повернулась и бросилась бежать. Лодовико тоже припустился, но совершенно в другую сторону — к выступающему из сумерек четырехбашенному мосту Витторио, а затем на лучшую в Вероне улицу Мареотти. К ней. К Челесте!
Маленькое окошко под самой крышей все еще светилось. Растроганный Лодовико расплылся в улыбке — неужели возлюбленная все еще ждет его и мечтает о страстных ласках? Вот она, сила чувства! Он решил не будить слуг — а заодно и испробовать ключик. Что же — дверца черного хода распахнулась мгновенно. На цыпочках Лодовико поднялся до верхних покоев, где ждала его несравненная донна, вздыхая от страсти. И вскрикивая. И рыча на два голоса. Не поверив своим ушам, Лодовико прильнул глазом к замочной скважине. В роскошной постели посреди разметавшихся простынь совершенно обнаженная донна Челеста сладострастно стеная подскакивала над распростертым в блаженстве телом некого… вот поганец! Анджелетто, лучший друг и наперсник Лодовико во всех делах — как веселых, так и сердечных. Еще неделю назад он внимал истории о несчастной любви Лодовико, советовал, какие подарки преподнести донне, какой сонет ей прочесть — и вот. Они вдвоем сговорились и надули его как мальчишку! Ну, держитесь! Лодовико уже был готов с размаху вышибить дверь и вызвать на дуэль бывшего друга, но понял, что вместо дуэли сбегутся слуги и, скорее всего, дело кончится каталажкой. А донна Челеста выйдет сухой из воды. До чего же коварны женщины!!! Изнемогая от ярости, Лодовико сжал кулаки — и вспомнил про чудный ключик. Дьявольский план сложился мгновенно. Юноша постучал в дверь.
— Дорогая! Возлюбленная Челеста, просыпайся! Я вернулся с ключами!
— Какая радость, дружочек, я не спала всю ночь, ожидая. Потерпи немного, я умоюсь и освежу тело!
В замочную скважину Лодовико увидел, как донна Челеста спешно натягивает на себя пояс, замыкает его ключом и сует ключ в старый резной сундук, куда спрятался Анджелетто. Затем закрывает крышку убежища, привешивает замок, плещет водой в лицо и томно раскидывается на постели:
— Заходи же, я жду!
Лодовико распахнул дверь и, как любой возлюбленный на его месте, бросился на ложе донны Челесты. Осыпая поцелуями нежное тело возлюбленной, он нашарил замочек пояса, сунул ключик, повернул его и снял металлическую преграду. А затем откатился с довольной улыбкой.
— Что ты медлишь, Лодовико? Я вся истомилась!
— Я исполнил свое желание, о прекрасная донна! Почти исполнил.
Лодовико взял пояс за надушенную цепочку и вышвырнул в окно. Потом нашарил в вазе давешнюю связку ключей, сунул ее в карман, повернул свой ключ в замке сундука и стрелой вылетел из комнаты, не забыв при этом запереть за собой дверь. Вслед ему раздались проклятия. Удовлетворенный возлюбленный задержался на минутку на лестнице — послушать, как замысловато кроет его неудавшаяся дама сердца. С ума сойти — и в эту вульгарную мегеру он был влюблен! Насладившись гневными воплями, он спустился, тщательно запер входную дверь, подобрал пояс и замкнул цепь на дверной ручке. На улице уже рассвело. Не позже, чем через пять часов мессер Джильярдо вернется в город и найдет у дверей дома нежданный сюрприз — без ключей они этот замок не откроют, а спилить его на глазах всех соседей не хватит духу. Напоследок Лодовико вышел на набережную и выкинул связку чужих ключей в темные воды Адидже. Его единственный оставался при нем — и любое сердце самой прекрасной донны в Вероне принадлежало ему же. Но нельзя сказать, что Лодовико был счастлив сейчас — сколько ни утешал он себя радужными мечтами. Он вернулся домой, накричал на похмельных слуг и лег спать не раздеваясь. А спустя сутки узнал, что мессера Джильярдо от злости хватил удар, Анджелетто сидючи в сундуке повредился умом, а ославленная на всю Верону донна Челеста собралась в монастырь — что ж, поделом распутнице. У него, Лодовико, есть ещё целый год.
Осень, зиму, весну, половину лета юноша провел в странствиях. Он искал приключений, находил новых возлюбленных, дрался на дуэлях, торговал пряностями и отплясывал на карнавалах. Он даже чуть не был избран в венецианские дожи, но вовремя снял свое имя из списков. Он вкусно ел, мягко спал, накопил состояние и спустил его в карты и кости, купил неукротимую рабыню-египтянку и спустя ночь отпустил её на волю с Пьяццо дель Бра. Вся Италия была влюблена в элегантного, щедрого и невероятно везучего молодого красавца. «Фортунелло» называли его — счастливчик. А Лодовико был глубоко несчастен. Скука, черная скука отравила его прежде веселую, легкокрылую душу. Он брал с земли и срывал с веток все, что захочется — и ничего больше не волновало его. Кроме последней ночи июля, когда ему надлежало явиться на Пьяцца дель Эрбе и вернуть ключ хозяину. Вместе с душой.
Однажды, отчаявшись, Лодовико попробовал поговорить со священником-экзорцистом. Хмурый старик внимательно его выслушал и пожал плечами — договором с нечистым в наши дни никого не удивишь. Можно помочь, отчего же нельзя. Если тысячу раз сказать «меа кульпа» и каждый раз омыть кровавыми слезами раскаяния, а затем постричься в один из старых монастырей с суровым уставом и до скончания дней соблюдать посты, трудиться на благо общины и молиться о своей заблудшей душе — спасешься. Там, где искренне веруют, сатане нету места. Написать вам письмо к настоятелю в Санта-Крус? Так я и думал, молодой синьор. Да поможет вам бог… хотя вряд ли он вам поможет.
За неделю до страшного дня Лодовико вернулся в Верону и ушел в безнадежный запой. Тщетно отец и братья пробовали его увещевать — он огрызался, хамил и возвращался в кабак. Темная злоба переполняла юношу — ещё каких-то несколько дней и все они — отец, братья, слуги, пьяницы, шлюхи, нищие — будут жить, а он, Лодовико, отправится в ад до скончания дней. По своей собственной воле, по своему выбору. Порой ему хотелось поджечь дом или отравить ужин — по крайней мере, рядом с ним в геенне окажутся родственники. Порой — самому принять яд или прыгнуть в Адидже с моста Скалигера. Пышные чёрные кудри юноши потускнели и поредели, блестящие глаза потухли, лицо осунулось, пальцы дрожали — двадцатидвухлетнему Лодовико нынче давали сорок. Он держался только на отчаянной воле — мужчины умирают с гордо поднятой головой.
В последний день июля Лодовико проснулся с рассветом. Слуге, который побрил его и приготовил ванну, подарил десять скудо и новый камзол. Старшему брату Винченцо — шпагу. От отца улизнул — сил на то, чтобы объясняться не оставалось. Весь день Лодовико потратил, прощаясь с любимой Вероной — бродил по улочкам и площадям, забирался в развалины, где когда-то играл ребенком, поднимался на крепостную стену, поросшую зеленью, покупал теплый хлеб, жареную рыбу и кислое вино у торговок, раздавал мелочь нищим, копался в пыльных берлогах старьевщиков, разглядывал рукописи в книжной лавке, играл в монетки с уличными мальчишками и запускал с ними голубей. В глубине души он лелеял надежду — вдруг какое-то милое сердцу воспоминание сможет сделать его счастливым. Тщетно…
Вечер Лодовико скоротал в таверне «Три генуэзца». Дождавшись выстрела пушки, чинно расплатился и покинул заведение. До Пьяцца дель Эрба он шел спокойно — чему бывать, от того не увернешься. Все равно донна Челеста его отвергла. И никто из прекрасных девушек, чьи сердца он отпирал дьявольским ключом, не полюбил его всей душой, и никто не остался рядом — даже та египтянка, которую он отпустил. Неблагодарная тут же подалась к бродячим комедиантам и до сих пор пляшет по площадям, звеня бубном. А несчастную донну Челесту он так и не навестил.
В Вероне царила теплая летняя ночь. Донна Луна, полнолицая как трактирщица медленно поднялась над крышами. Стройный силуэт башни с часами уже маячил впереди, когда Лодовико услышал тоненький свист. Из-под арки ему махал рукой пестро одетая девушка.
— Помнишь? Я Вероника. Я задержалась, и ты попал в лапы к дьяволу и заключил с ним договор.
Лодовико хмуро кивнул.
— Возьми! — девушка протянула ему ковчежец. — Это твое. Я нашла его там, на площади. Он тебя не спасет, как и крест с молитвой, — но помочь может.
Лодовико подхватил дядин подарок и надел на шею, не гнушаясь неопрятной веревочки, заменившей красивую цепочку.
— А теперь скажи — я тебе нравлюсь? Честно? — Вероника медленно повернулась, давая юноше возможность рассмотреть себя всю.
Лодовико кивнул — девушка с первой встречи поразила его особенной, дикой прелестью.
— Но ты не любишь меня, так ведь?
Юноша на минуту задумался. Разглядев Веронику, он понял, что весь год искал именно эти черты — пронзительные и резкие, неправильные и манящие одновременно — в десятках других, покорных и страстных женщин. Но назвать это чувство любовью…
— Нет. Прости, не люблю.
Девушка коротко улыбнулась:
— Тогда я попробую тебе помочь. Скоро полночь. Он явится за тобой и потребует исполнения договора. Ты позови меня и скажи, что хотел открыть мое сердце, но не смог. И надейся, чтобы нам удалось выкрутиться.
— Но ведь это опасно! Зачем тебе вмешиваться в судьбу незнакомого человека? — удивился Лодовико. — Ты ведь так молода и красива.
— Тише. Вот он уже пришел.
И вправду на площади в тени башни с часами из ниоткуда возник знакомый силуэт невысокого мужчины в большой шляпе с пышным пером. Дьявол приветственно помахал им рукой:
— Ты храбрец, Лодовико! И весело провел время, жаль счастливым не выглядишь. Подходи же, не бойся, расставаться с душою совсем не больно! А тебе, Вероника, спешить некуда — твой срок ещё не наступил.
Решившись, Лодовико протянул дьяволу ключ:
— Вот, синьор. Я хотел открыть её сердце, но не смог это сделать.
Дьявол в притворном ужасе воздел к небу руки:
— Боже мой, Лодовико, зачем тебе эта цыганка?! У нее было больше мужчин, чем у тебя золотых скудо. Она холодна как лед, уж поверь мне. Хочешь другую женщину — мавританку или славянку или желтую девушку из страны Каттай? Может дать тебе еще времени — кажется, ты не наигрался? Хочешь год? Два, три года?
— Я хочу открыть её сердце! — повторил Лодовико.
— Да, сеньор Дьявол, он хочет открыть мое сердце! — девушка распахнула блузу и Лодовико увидел извилистый темный шрам под левой грудью. — Верните мне мое сердце, и пусть он откроет его!
— Нет проблем, дорогой Фортунелло! — дьявол пожал плечами и добыл из-под шляпы пульсирующий мешочек. — Ты, счастливчик, ведь любишь это бесстыжее порождение площадей и надеешься быть любимым?
— Не люблю, — покачал головой Лодовико.
— Тогда зачем тебе открывать её сердце?
— Интересно, есть ли оно у женщины вообще? Или правы были епископы, посчитавшие на соборе, что души у дочерей Евы нет, — Лодовико смотрел в глаза дьяволу совершенно спокойно.
— Смею заверить — душа есть. И продается за ту же цену, — дьявол подмигнул и распахнул мешочек, в котором бился кровавый комок. — И сердце в наличии, открывай-не-хочу.
— Недоказуемо, — тонко улыбнулся Лодовико, вспомнив уроки схоластики.
— А доказательства быть не может, — обидно хихикнула Вероника. — Я могу получить свое сердце назад, только если меня полюбят такой, какая я есть сейчас — бессердечной.
— Ларчик просто открывается, — возразил дьявол. — Смотри, Фортунелло — как ловко эта женщина обвела тебя вокруг пальца. Я верну ее сердце. Ты откроешь его — и отправишься на горячую сковородку. А твоя Вероника умчится дальше отплясывать по площадям — ей же больше ничего не грозит, два раза одну сделку не заключают.
Лодовико побледнел от гнева — так вот в чем дело! Эта бродяжка хотела освободиться, используя его, Лодовико, как подсадную утку. Не дождется — он и так достаточно заплатил за женское ведьмовство.
— Вот ваш… — он протянул было ключ дьяволу, но не успел выпустить из рук.
— Стой, Лодовико! — Вероника схватила его за запястье. — Он обманывает тебя! Он не может нарушить своего договора!
— Дьявол не лжет! — рявкнул Лодовико.
— Да, не лжет. Он просто не говорит всю правду. Одно слово — «если». Если бы ты открыл мое сердце, я стала бы свободна. Но ты меня не любишь — и сердце не может быть возвращено.
— Это правда, мессир дьявол? Лодовико пристально посмотрел на собеседника. Тот кивнул:
— К сожалению, да.
— А про нее?
— Она мечтала спастись. И надеялась, что там, где найдётся одна лазейка, отыщется и вторая, — дьявол почти шутливо взял Веронику за подбородок, она отвернулась. — Твой срок подходит к концу, и ты это знаешь. Ищи, танцуй… Ну а ты, дорогой Фортунелло, действительно везунчик. Ты успел натворить достаточно зла, точнее быть для него посредником. Мы в расчете. Прощай.
Вспыхнуло яркое пламя, сильно запахло серой. А когда дым рассеялся, оказалось, что дьявол исчез.
— Значит ты тоже? — Лодовико изумленно поглядел на девушку. — Но зачем?
Вероника грустно махнула рукой:
— Мужчины делают глупости из-за женщин, а женщины из-за мужчин. Долгая история.
— А почему ты решила помочь мне?
— Во-первых — надеялась выкрутиться, — пожала плечами Вероника. — А во-вторых ты был первым, кто от меня отказался. Все. Будь здоров, живи долго.
— Погоди! — Лодовико схватил девушку за плечо. — Я могу что-то для тебя сделать, помочь?
— Забудь, — отрезала Вероника. — Чем скорей ты забудешь этот кошмар, тем скорее исцелишь душу.
Цыганка вывернулась из рук юноши, и бесшумно переступая босыми пятками, исчезла в темном переулке. Лодовико никогда больше её не видел.
Год с лишним он провел в уединенном монастыре, пожертвовав туда кроме денег и дядин подарок. Думал даже принять постриг, но здоровое земное начало одержало верх над духовным. Вернувшись в Верону, Лодовико взялся за ум, вместе с братьями торговал тканями и благовониями, сплавал во Францию и к берегам Ирландии, получив свою долю наследства, женился на пухлой, скромной простушке, раз в два года рожал с ней по ребенку и был счастлив. Почти счастлив — не считая одной ночи в году, последней ночи июля. Веронцы привыкли к чудачествам Фортунелло и не обращали внимания, когда Лодовико — почтенный купец, муж, отец, а потом и старец — в любую погоду до рассвета бродил по улицам, разыскивая босоногую Веронику.
…Полагаю, вы знаете, что он хотел ей сказать.
Искушение грешной Пьетры
— Матушка, госпожа Флоримонда совсем плоха, — у молоденькой послушницы из под белой обвязки торчали потные рыжие кудри, она совсем запыхалась, — ребёночек жив, а у ней мы никак крови не можем унять.
— У неё, дитя моё. Сейчас буду, — Паола жестом велела девочке замолчать, неторопливо дочитала молитву, закрыла оббитый бархатом часослов и грузно поднялась с колен. Медицинская сумка, с которой пожилая монахиня не расставалась, стояла в изножье койки.
Снаружи шёл дождь, было сыро и пасмурно — только фонарь над дверями «общедоступной больницы Святого Лазаря» освещал скупо мощёный двор. Аккуратно приподняв подолы коричневых одеяний, женщины поспешили перейти из здания в здание. Входная дверь даже не скрипнула. Паола принюхалась и улыбнулась. В больнице пахло свежим сеном и травяными отварами, лавандой в мешочках и горячим вином. А двадцать лет назад из ворот разило гноем и смертью. По правую сторону коридора были мужские палаты, по левую — женские, на втором этаже ютилась богадельня для беспомощных стариков. Хорошо, что подкидышам дали отдельный флигель, помещаясь вместе с больными, сироты подхватывали то горячку, то лихорадку и уходили назад к Богу.
Дверь в палату рожениц была открыта. Немолодая, тёмнолицая крестьянка в одной рубахе ходила из угла в угол, обхватив руками огромный живот. Щуплая белошвейка спала, жадно прижав к себе покряхтывающий свёрток, на распухших, обкусанных губах колыхалась улыбка. Ещё одна кровать была пуста. А на койке подле окна разметалась госпожа Флоримонда — супруга владетельного Фуа. Кровь и нечистота родов не могли скрыть почти кощунственную прелесть тела, едва прикрытого тонкотканой сорочкой с пышными кружевами. Сестра Беата стояла рядом с женщиной на коленях, пытаясь закрепить пузырь со льдом на животе роженицы, сестра Агнесса собирала в кучу испачканное тряпьё. Женщина выгнулась и застонала, пузырь плюхнулся на пол, словно большая жаба. Похоже роды кончались скверно. Паола фыркнула «Воды» и через минуту Агнесса уже поливала ей на руки. …Почему эти благочестивые квочки не подумали позвать её раньше? Где Маргарита? Со вздохом Паола вспомнила, что сестра Марго третьи сутки дежурит у ложа юноши с почечною болезнью — отроку то хуже, то лучше.
…Мысли шли, руки делали своё дело. Кровь чистая, алая. Разрывов нет. Матка напряжена.
— Послед отошёл? — спросила Паола резко.
Беата протянула ей мисочку с тёмной сырой плацентой. Что-то не так. Маленькая. Слишком маленькая.
— Ребёнок как?
— Мальчик. Закричал сразу. Лёгкий. Кудрявый, как одуванчик, — рябое, скуластое лицо Агнессы даже чуть просветлело.
В задумчивости Паола ещё раз прошлась пальцами по животу роженицы. Флоримонда закричала и снова выгнулась, словно её била судорога. Ладонь Паолы почувствовала лёгкое шевеление — там, внутри, в измученном чреве…
— Дуры!!! (Боже прости меня грешную) Дуры глупые! — Паоле очень хотелось съездить безмятежной сестре Беате ледяным пузырём по сытой физиономии, но времени не было, — держите крепче, я её осмотрю.
В такие минуты Паола отключалась от криков боли — пока есть шанс помочь, надо делать, а не жалеть. Так и есть. Второй. Ножками. Крови много ушло.
— Агнесса, Беата, помогите ей приподняться. Попробуем надавить на живот.
Сильные руки Агнессы подхватили страдающее тело, Беата неловко сунулась… и вдруг упала. Похоже, она была в обмороке. Паола оглянулась, скрипя зубами от злости. Послушница вдруг подскочила:
— Позвольте помочь, матушка, — и, не дожидаясь ответа, оббежала койку и подхватила роженицу с другой стороны.
— С богом!
Губы твердили молитву, руки давили и мяли. В такие минуты Паола чувствовала себя пульчинеллой, божьей марионеткой — словно кто-то двигал ей, дабы исполнить высшую волю. Роженица взвыла, стиснув плечи монахинь.
— Кладём. Ну!
Девочка. Дышит. Кричит. Господи, на всё твоя воля! Бессильная Флоримонда открыла глаза, потянулась, молча. Паола дала ей младенца, ещё необмытого, женщина обняла мокрую драгоценность, губы ее дрожали. Кровь? По ноге вилась тёмная струйка — вялая и спокойная. Расторопная Агнесса подала чашу вина с водой, роженица жадно выпила, щёки чуть порозовели. Паола коснулась тонкого запястья, трогая пульс, ещё раз ощупала белый живот… кажется обошлось. И Беата глаза продрала… кастеляншей её, простыни считать, а не с больными сидеть.
— На колени.
Сёстры встали кругом около койки и сотворили короткую благодарственную молитву. Воистину чудо божье… Как только смолкло последнее «Амен», крестьянка кашлянула в кулак:
— Пособили бы…
Монахини оглянулись и засмеялись хором — роженица подстелила под себя рубаху и сделала младенчика быстро и незаметно. Здоровенный мальчишка, красный как рак, уже сосал тяжёлую, вислую грудь, оставалось только перерезать пуповину.
— Матушка!!! — та же послушница сунула в дверь остроносое личико, — там торговец из Николетты пришёл, грозится!
Промокнуть лоб, вымыть руки… сменить одежду не успеть. Тяжело шаркая башмаками, Паола вышла в коридор — и столкнулась с торговцем нос к носу. Незнакомый высоченный брюхатый дядька в сапожищах, по колено заляпанных дорожной грязью, лоснящихся шоссах, суконной куртке пахнущей навозом и лошадьми. По сальному воротнику вши гуляют.
— Вечер добрый, матушка! Значитца так — забрали вы со святого Жуана по сю пору вина пять бочек, свечей два ящика, сахара тростникового десять золотников, масла оливкового бочонок, смолу кедровую и ножик редкостный.
— Выйдем-ка сын мой из дома скорбей, — спокойно сказала Паола, повернулась спиной к торговцу и направилась к выходу. Незваному гостю ничего не оставалось, как двинуться следом. Впрочем, дождь его не охладил.
— Я, матушка, человек божий и кроткий, но убытков не потерплю! Раз забрали — расплачиваться извольте, моё имущество, не чужое!
— Я у тебя, сын мой, и ржавый гвоздь на ярмарке святого Мартина покупать бы не стала, — как бы случайно Паола оперлась спиной о влажную стену, отёкшие ноги с трудом держали тело.
— Я, матушка, Бернардо Гаппоне, зять и наследник Луки Боршезе, честного купца из города Николетта. Батюшка волею Божией слёг в параличе, передал все дела мне с супругой, — голос у верзилы был уверенный и даже гордый.
— А если батюшка ваш Божией волей поднимется и отчёт у вас спросит, что вы ему скажете — мол, бочку вина святой обители на помин души пожалели?
— Пять бочек, матушка. Пять, не считая оливкового масла.
— Сын мой, не искушай мою кротость. Дела я вела с Боршезе и счета сводить буду с Боршезе. Поручение с подписью и печатью ведь не вытребовал у батюшки, побоялся — он тебя наследства лишит, скупердяя. А в обитель пришкандыбать у христовых невест деньги вымогать не постыдился?!
— Батюшка обезъязычел и под себя ходит. Даже если он Божей милостью, — тут верзила криво перекрестился, — поднимется, прежним хозяином ему уже никогда не стать. Деньги всё равно что мои, матушка, а Бернардо Гаппоне честь торговли блюдёт и ущерба терпеть не станет!
…Господи прости и помилуй грешницу. Паола быстро огляделась — никого из сестёр во дворе не было, никакой любопытный не торчал из окна. Ну, держись, сучий сын, гроб повапленный…
Не прошло и пяти минут, как торговец спиной вперёд вылетел за ворота обители. Он был бледен и мелко крестился. Отвязав от ограды пучеглазого мерина, Гаппоне пустился в галоп, и лишь когда голубой купол часовни исчез за холмами, остановился сплюнуть в дорожную грязь «вот чёртова баба!»
Маленький колокол пробил восемь. Молитва. Трапеза. С утра надо будет послать в замок кого-нибудь из сироток порасторопнее — пусть графу скажут, что Господь его детками наградил. «Королевский выбор» мальчик и девочка, оба живы и похоже, что оба выживут — дети от трудных родов, явившиеся на свет с Божьей помощью частенько бывают удачливы. Марго не пришла к общему столу, похоже её больной всё ещё остаётся между жизнью и смертью. Паола подумала, что стоит заглянуть в палату и проверить, не пора ли сменить сестру — в деле целения тяжких хворей Марго была лучшей (даже лучше самой Паолы), но рассчитывать силы, увы не умела и не раз уже было, что надорвавшись, она сама валилась с ног на долгие недели оставляя Паолу без верной помощницы. …Да, и десять молитв по чёткам три месяца кряду не меньше. Грехи мои тяжкие, неисцелимые, стыд-то какой, матушка… У себя в келье Паола встала на колени рядом с узкой койкой, накрытой одеялом из тонкой колючей шерсти, да так и уснула, уткнувшись седой головой в постель.
— Матушка!!! Матушка!!! — визгливый голос сестры Беаты бил в уши. Паола открыла глаза — сквозь узенькое оконце кельи еще не пробивался свет. Что случилось?
— Матушка, там за воротами прокажённый!
— Слава богу, что не чумной. Вы впустили его, конечно? — неловкими со сна руками Паола прятала волосы под чепец и оправляла одежду. Колени ныли, тело словно налилось свинцом.
— Матушка, это же прокажённый!!!
— А вера тебе на что? Христос твоя защита и опора, будешь молиться истово — он тебя не попустит до этакой вот беды. Флигель святого Антония — свежий тюфяк туда, одеяло, бинтов. Я сама его впущу. Ступай!
Беата убежала, отвратительно громко стуча по камням деревянными подошвами. Паола подтянула чепец, прочла «Отче наш» и, опираясь о койку, с трудом поднялась. Проказы она не боялась — если верить «Вертограду Целебному» важно было не соприкасаться со зловонными язвами страдальца и не есть из его посуды. Дождь кончился. Нежный серпик луны выглядывал из-за купола храма, воздух пах мокрой свежей листвой и цветами… какие цветы в ноябре, мнится, конечно же, кажется с недосыпу. Уверенной рукой Паола отодвинула тяжёлый засов и вышла за ограду обители. На камне подле дороги и вправду сидел прокажённый — в колпаке с бубенцами, закрывающем лицо, в балахоне непонятного цвета, с тонким посохом в обвязанной мокрым бинтом ладони.
— Мир тебе, сын мой. В обители ты получишь приют и кров и подмогу, — привычно произнесла Паола.
— Мир тебе, дочь моя! В мире ты найдёшь смех и счастье и прекрасную жизнь! — прокажённый откинул с лица капюшон, и Паола увидела белокурого, пышноволосого, пышущего здоровьем юношу с родинкой у губы. Он был прекрасен и полон света, словно ожившая золотая карнавальная маска.
— Ты явился опять, старый дьявол? Ужели тебе не осточертели эти прогулки?! — с безмятежной улыбкой Паола отступила на шаг. Она казалась спокойной, только ногти до крови впились в ладони.
— Я надеюсь — вдруг ты передумаешь раньше, чем оставишь земную юдоль. Или же, наконец, соскучишься в этих стенах, — изящной ладонью юноша указал на монастырь, отставленный мизинчик украшало кольцо с ярким сапфиром, — грязь, кровь, крики и никакого веселья, Пьетра!
Паола вздрогнула.
— Пьетра, ласточка, легконожка, радость моя! Тысячи тысяч танцевали на площадях и собирали в бубны гроши, тысячи тысяч пачкали гримом щёки и рядились в пёстрые тряпки, но подобной тебе не случалось с тех пор, как первый актёр примерил первую маску! Пьетра!
— Паола. Сестра Паола. По деревням уже шепчут «Святая Паола» — но твой лживый язык не сможет это произнести, бес Леонард. Во имя Отца и Сына…
— Оставь попам эти штучки, Пьетра, — губы юноши изогнулись капризно — ты же знаешь, что достаточно сказать «уходи» и я исчезну, как истинный рыцарь, покорный и взмаху ресниц своей Донны. Как дальше?
— Услышав соловья в роще, я вспомню о чудном голосе моей Донны. Увидев зелёный луг, пожелаю, чтобы Донна смогла отдохнуть на нежнейшем ложе. Касаясь губами потёртой кожаной фляги, подумаю, что однажды Донна соизволила напиться из неё — и память о поцелуе будет такой же сладкой, как и сам поцелуй, — словно против воли Паола произносила давно забытые фразы.
— Мой возлюбленный — сокол в апрельском небе, нет быстрее его. Мой возлюбленный — пламя, рядом с ним я не мёрзну и в январе. Мой возлюбленный так прекрасен, я гляжу на него и не замечаю солнце, — голос юноши стал вдруг высоким, женским.
Паоле почудилась слитная песня флейты и барабана. Старик Панталоне выкрикивает — «Спешите увидеть, вы такого не видели никогда!». От трико Арлекина пахнет потом и смехом. Пёс Арто скребёт лапой ненавистную юбочку. Обезьянка Жужу подкрадывается к кувшину — если не отследить, то к концу представления эта мартышка налижется, словно заправский пьяница. У Кормилицы красные щёки и след поцелуя на шее. А за занавесом, в первом ряду ярмарочной толпы — сияющее лицо юноши с родинкой у верхней губы.
— Ты бессмертен, бес Леонард.
Юноша грациозно поднялся — вместо страшного балахона на нём оказались парчовый камзол, белые панталоны и расшитые туфли с пряжками.
— Конечно, радость моя. Я живу столько лет, что твоей очаровательной головёнке невозможно даже представить это число. Я привык и уже не скучаю.
— Ты бессмертен. А мы — нет. Ты хотел вытащить из тюрьмы своего Эмиля, порочного злого мальчишку. Мы пошли за тобой, как один, вся труппа — разве можно отказать благородному, щедрому и весёлому духу праздника Карнавала? Мы сыграли со смертью и выиграли, помнишь? А наутро в балаганчик явилась стража. Знаешь, что такое тюрьма Святого Престола, ты, бес? — Паола судорожно вздохнула, — Эмиля ты спас. И меня уволок за шкирку с костра. Остальные — все, все…
— Ты ревнуешь меня к этому сорванцу, Пьетра? Оставь, никто не может с тобой сравниться, — Леонард осторожно сел рядом с плачущей Паолой, сдвинул чепец, начал гладить седые волосы. Удивлённая луна наблюдала, как под чуткими пальцами старое серебро превращается в бесстыже яркую медь. Леонард коснулся лица монахини — и кожа разгладилась, розовея, словно свежий цветок… Звон колокола заставил беса отпрянуть. Паола вскочила, её трясло.
— Изыди, дьявол, убирайся к себе в преисподнюю!
— Когда Фьяметта насыпала жгучий перец в твой грим, ты ругалась куда изящней, — тонкий стан Леонарда изогнулся в шутливом поклоне, — трижды ты звала меня, и я приходил. Теперь я волен трижды позвать тебя. Третий счастливый. Смотри!
На ладони у Леонарда лежала роза. Бутафорская, тряпочная красная роза — сколько поколений Коломбин надевало её, играя фарсы дель арте? Беглянке из женского монастыря, хулиганке и безобразнице Пьетре было почти семнадцать, когда она в первый раз закрепила цветок в кудрях. Целую жизнь, полную солнца, аплодисментов и поцелуев, она выходила на булыжники и подмостки, выходила всегда босиком. И играла, боже мой, как играла.
Паола вцепилась в пыльную розу, словно роженица в младенца. Леонард рассмеялся — звонко, будто бы хрустальные шарики сыпались по серебряной крыше.
— Приколи её к волосам радость моя, но прежде уколи палец шипом. И останешься рядом со мной — вечной спутницей, вечной актрисой бессмертного карнавала. Пока солнце не коснётся лучом часовни, у тебя есть время подумать, решай. Я…
— Не надо, Леонард. Правду ты говоришь или лжёшь — есть слова, с которыми не играют даже в театре. Я подумаю до рассвета, у меня ведь ещё есть время? — протянув руку, Паола легко погладила бархатистую, словно персик, щеку беса.
— Ту улыбаешься так же как прежде, годы не властны над истинной красотой, радость моя. И знай — что бы ты ни выбрала — ты лучше всех. Клянусь звездой балаганщиков и глупцов — такой актрисы я не встречал и не встречу, помнишь — ты вставала с колен и говорила «Чудо» и зрители верили, будто твой Арлекин и в самом деле воскрес.
— Льстец. Ступай… слава богу мои невесты даже не представляют, с кем я веду беседу.
— Это был бы чудесный фарс — монахини пользуют сирых и страждущих, а настоятельница в это время целуется с чёртом.
— Ну уж нет! Ты забыл, как щедра я была на хорошие оплеухи? До свиданья, мессер Леонард, — Паола развернулась и неторопливо пошла назад — за надёжные стены обители. Молодое, звенящее «Прощай, Пьетра» заставило её вздрогнуть, но не ускорило шага. Влажный воздух был полон запахов — винограда и театрального грима, пирожков с печёнкой и пива, дорожной пыли и шуршащего шёлка нового платья…
— Матушка!!! — истошный вопль сестры Гонораты вернул Паолу на землю, — матушка, стыд какой!
— Тихо, сестра. «Отче наш» про себя — и рассказывай.
— Послушница наша новенькая, Кларета… остроносая, рыженькая такая… она…
— Что она? Варенье из кладовой утащила? На мессе заснула? Тебя дурой назвала?
— Не спалось мне, матушка, решила сходить в часовенку помолиться. Шла мимо виноградничка, глядь — кусты шевелятся. Заглянула — а там Кларета и паж госпожи Флоримонды, ой, матушка… — Гонората нацелилась выть.
— Значит так, — Паола сняла с пояса связку ключей, — пойдёшь сейчас в кладовую и возьмёшь два лимона. Один съешь сама, чтобы впредь крепче спалось, другой Кларете скорми, чтобы не так сияла. Она ведь не постриженная ещё?
Удручённая Гонората покачала головой.
— Вот и славно. Значит женим. Ступай. И запомни — и другим закажи — я молиться пошла за страждущих и убогих. Кто меня до утренней мессы побеспокоит в храме — год без перерыва в богадельне горшки выносить будет.
Гонората охнула и переваливаясь, как утка, побежала в кладовку. Паола же отправилась в храм. Убедилась, что никому больше не приспичило помолиться посреди ночи. Закрыла двери и заложила засовом. Трижды прочла «Отче наш». И только потом разрешила себе биться лбом о холодные плиты пола, стучать о камни бессильными кулаками.
…Ей было пятнадцать — сироте, неизвестно чьей дочке. Дважды в год для неё в монастырь привозили подарки — чудных кукол, прелестные молитвенники, тонкое бельё и тёплые плащи из причудливо крашеной шерсти. И деньги, много — поэтому ли или за особую чуткость ума, аббатиса выделяла юную Пьетру и наставляла её отдельно — в чтении и шитье, рисовании буквиц и лечении ран. Дважды в год Пьетра надеялась — вдруг объявится мама или отец и заберут её в чудный, широкий мир. Всякий раз надежды оказывались тщетны, она взрослела и аббатиса всё настойчивей начинала вести беседы о будущем пострижении.
Неожиданно, ниоткуда стали приходить письма. Чудесные поэмы, игривые и фривольные, нежные и пронзительные. Они не требовали ответа, они ничего не хотели — просто оказывались по утрам под подушкой. В конце стояла печать карнавальной маски и подпись «мессер Леонард». Она думала — это её отец. И однажды, головокружительным майским днём спрятала под рубашкой свои драгоценности — золотой крестик, жемчужные чётки и пачку писем, перелезла через калитку и сбежала. По счастью ей повезло в тот же день встретиться с труппой бродячих комедиантов. Актёры не ограбили её, не принудили к скверному, наоборот — пожалели и дали место в повозке. И покатилось…
Мессер Леонард объявился спустя полгода. Он выглядел таким юным, что Пьетре даже стало смешно — как этот золотой мальчик мог быть чьим-то отцом? Но с первых бесед она почувствовала — мессер Леонард слишком опытен и умён для своих видимых лет. Он наставлял её в театральном искусстве и театральных законах, учил играть и держаться на сцене, наряжаться и танцевать. Он водил её по кабачкам — отплясывать на столах и кутить с контрабандистами, и, прикрыв лицо маской, вытаскивал на приёмы в графских домах — посмеяться над благородными донами. В Праге он показал ей тень старого Голема и тень ребе Бен Бецалеля, а в Тулузе открыл, где покоится святая Мария из Магдалы. Он приходил к каждой премьере и любовался ей и восхищался, облекая восторг в стихи и пьесы для любимого театра… Пьетра так ни разу и не спросила кто он — однажды мессер признался, будто он дух вечно живого Карнавала, но это выглядело лишь одной из множества его шуток.
Шли годы, она играла всё лучше. Подруги по труппе уже начали перешёптываться — почему это в тридцать Пьетра выглядит так же молодо, как и в семнадцать? А она не хотела задумываться — слишком нравилось менять маски и проживать заёмные жизни — по две или три в день, слишком дорого стоили аплодисменты и восторг на лицах толпы. Пьетра чувствовала, что способна заставить их плакать или смеяться и хмелела от этого, как выпивоха от хорошего коньяка. Театр был её мужем, отцом, сыном и Богом… земной любовью, мимолётным актёрским флиртом она любила таких же шальных бродяг. Мессер Леонард оставался денницей, звездой, блеск которой всегда согревает взор.
А потом он их предал. Всю труппу — малышку Неле и старого Арлекина, зануду Бригеллу и тощего Панталоне, грудастую Кормилицу, великана Солдата и задаваку Жанно. Они ждали, надеялись до последнего, что мессер Леонард не бросит своих друзей… а он подкупил стражу, чтобы вместо неё, Пьетры, у столба сожгли труп какой-то старухи, а её увезли в труповозке, на самом дне. Все остальные сгорели. Стали пеплом и сажей. Ни за что. Низачем.
Леонард рассказал ей тогда о путях карнавала, о весёлой игре в жизнь и смерть… Ни понять ни простить его Пьетра не захотела, и как только смогла встать на ноги, вернулась в обитель. Приняла постриг. И ни разу больше не отходила от стен дальше, чем на двадцать шагов. На первой исповеди святой отец ужаснулся, даже вызвал экзорциста от Папы, но по счастью всё кончилось хорошо. Она стала монахиней, божьей невестой, божьей марионеткой, владеющей жизнью и смертью… Спасибо Господи, что жизней — больше, спасибо за тех, кто родился и тех, кто будет рождён, спасибо и не оставь меня, грешную Пьетру, на всё твоя воля, спасибо… Монахиня распростёрлась на каменных плитах, в её голове звучал колокол — время утренней мессы, солнце жёлтым пальцем коснулось купола…
Когда сёстры взломали дверь, они нашли мать Паолу недвижной и почти бездыханной. В правой руке она сжимала распятие, в левой — пыльный цветок из тряпок. Сёстры думали, что в ближайшие дни им придётся выбирать новую настоятельницу, но Господь уберёг. Две недели бреда и жара, страшный кризис — три сестры едва могли удержать в постели мощное тело матушки, сутки тяжкого сна — и Паола пошла на поправку. Чтобы как-то развлечься (сестра Маргарита запретила ей отягощать ум чтением) она стала возиться с вышивкой и шитьём, отыскав под подушкой старую розу пустила и её в дело. Сёстры гадали, что за таинство делает мать Паола, но до самого Рождества она настрого запретила заходить в её келью.
Вечером незадолго до праздничной мессы Паола собрала сестёр, ходячих больных и приютских детишек в трапезной. По её указаниям сёстры натянули вдоль дальней стены длинную простыню, сшитую из нескольких кусков полотна. Потом на две минуты задули свечи, а когда снова зажгли огонь — перед занавесом уже возвышался разукрашенный пышный вертеп и ослик торопился везти в Египет беременную Марию.
— А расскажем мы вам байку да не зря: Про злодейского про Ирода Царя, Саломею голышом и мать её, Про нелёгкое Иосифа житьё, Как придумка серохвостого осла И Марию и младенчика спасла…Зал смеялся и плакал — текст истории Рождества отличался от канона, да и шуточки царя Ирода были под цвет красной розе девы Марии. Дети хлопали и пищали, взрослым тоже не сиделось на месте. Под финальную фарандолу все дружно притопывали — кабы не трапезная, а базарная площадь — вот бы пуститься в пляс… Святое ж дело, праздник какой — Рождество!
Сестра Беата потом написала письмо самому Папе, но что он ответил — мы вам не скажем. Лучше взять старых тряпок и вырезать чьё-то платье и собрать из папье-маше чью-то голову и исколоть пальцы, сшивая занавес… Представление начинается — чей выход?
Не стреляй!
Джуда шваркнуло по глазам мокрой плёткой волны. Макинтош протекал у шеи, подлая влага сочилась внутрь — в теплоту буршлата, в красную шерсть фуфайки, к голому зябкому телу. Штурвал скрипел, стакселя хлопали, палуба словно плыла под ногами. Жёлтый фонарь на носу «Дамиетты» перестал притягивать взор, чёрное крошево брызг наконец разделилось на небо и море. Завтра шхуна придёт в Бристоль, два дня на разгрузку — много бочек вина и масла, мешки с инжиром, бочонки с перцем и ароматной гвоздикой — и гуляй себе вволю, матрос! Красавица «Дамиетта» казалась Джуду чересчур чистенькой, слишком благочестивой. О капитане болтали, будто он ходил на Армаду под началом самого Дрейка и так же как мрачный Френсис умел завязывать ветер морским узлом. Но грог матросам выдавали только по воскресеньям, а за каждое богохульство полагалось по лишней вахте. Не о такой жизни мечтал Джуд Хамдрам, впервые поднимаясь на палубу. …Говорят, что в Бристоле вербовщики собирают отчаянных молодцов для каперов — кувыркаться в зелёных волнах южного океана, щипать за бока жирных испанцев и разряженных, словно девки, французов, вволю палить, пить ром каждый день и получать за труд полновесное золото…
Наконец море стихло и небо стихло. Белый серпик луны зацепился за рею. Джуд вздохнул — через несколько долгих минут рында ударит в седьмой раз и Билли Боу, добрый старина Билли высунет сонную морду из кубрика, чтобы сменить приятеля. Можно будет сжевать припасённый с обеда сухарь, скинуть мокрый буршлат, разуться… Ресницы матроса слипались словно сами собой, голова опустилась и Джуд ткнулся носом в колючий канат…
— Очнись, щенок! — прохрипел над ухом знакомый голос, — Гляди! Когда ещё такое увидишь.
Джуд вздрогнул — капитан испугал его. В глазах мутилось после секундного сна, туманное молоко шевелилось и двигалось… Это же птицы! Сотни белых, безмолвных словно призраки, альбатросов закружили над мачтами, то по спирали взмывая вверх, то паря на распластанных крыльях, то падая вниз к самой палубе. Медленные движения, быстрые взгляды, хлопанье мощных крыльев — словно господь послал ангелов провожать «Дамиетту» до порта.
— Птичий вторник. Альбатросы — это мертвые моряки — те кто умер без покаяния и похоронен в море. Раз в году незадолго перед рассветом они ищут знакомые корабли — чтобы мы вспоминали о мёртвых, и молились, чаще молились за их грешные души, — угол рта у сурового капитана Мюррея искривился на миг.
— Да, сэр, — отчеканил Джуд. Ему стало чертовски стыдно — чуть не уснул. А это святоша сделал вид, будто всё окей. И на чаек дурацких пялится. …Величественный, плавный птичий танец и вправду походил на молитву, лучи рассвета касались широких крыльев. Кэп задрал к небу лобастую голову и шевелил губами, повторяя слова заупокойной службы. Его крупные кулаки были сжаты так, что побелели суставы. За спиной задышали — старина Билли тоже вылез на палубу и одноглазый Йорк с ним и Поллок и Бижу. Кок Маржолен тяжело опустился на колени, по круглому лицу добряка потекли настоящие слёзы. Чёртовы альбатросы словно зачаровали команду… и его тоже. Полный бешенства Джуд отпустил штурвал, на глаза ему вдруг попался прислонённый к мачте мушкет. Солнце вспыхнуло, словно сорвали занавес. Никто не успел перехватить матроса.
— Не стреляй!!! — крикнул Мюррей, но было поздно. Грохнул выстрел, и на палубу шлёпнулась мёртвая птица.
Альбатросы ринулись на корабль. Сотни крыльев хлопали над головами опешивших моряков, касались волос и одежды. Птицы лавировали между снастями, раскрывали грозные клювы, пикировали на головы, словно целились выклевать людям глаза. Команда замерла в ожидании неизбежной и страшной схватки. Кэп Мюррей скинул расшитый мундир, рванул рубашку и шагнул вперёд, раскрывая руки, как крылья. Огромная птица упала к нему на грудь, капитан пошатнулся, но устоял. Объятие длилось одно нескончаемое мгновение, альбатрос сорвался в небо, за ним помчались все остальные.
…Команда медленно приходила в себя. Джуд вжал голову в плечи — глупая шутка кажется обещала обернуться серьёзными неприятностями. На лицах матросов читались ярость и гнев, Билли коротко выругался. Йорк помог капитану набросить на плечи мундир — кэп прибавил лет десять за эти минуты. Кто-то из вахтенных сунул фляжку, Мюррей отхлебнул, закашлялся, бледные щёки порозовели. Мёртвая птица лежала на палубе словно кусок полотна. Капитан взглянул на труп, на Джуда, снова на труп… и рявкнул:
— Верёвку!
Повесить? За альбатроса? Джуд взвыл:
— Сэр за что?! Это же птица, обычная птица!
Сочувствия он не встретил — капитан и команда смотрели на преступника одинаково нехорошо. Ушлый юнга приволок моток пеньковой верёвки и стал неторопливо её разматывать. С реи капнуло натёкшей водой, Джуд моргнул и представил — вот сейчас он умрёт, станет тушей, как этот в бога-душу-мать трахнутый комок перьев. Капитан взял верёвку, прикинул её на руке — и одним гладким узлом перехватил за лапы дохлого альбатроса, а другим завязал петлю.
— Убил — носи, треска дурная. Как в Бристоле причалим, чтобы духу твоего на моей палубе больше не было. Парни, в трюм его. На хлеб и воду.
— Есть, сэр! — откликнулся Билли Боу.
…А ещё друг… Билли не бил, не связывал — просто бросил в тесную, воняющую дерьмом и рыбой клетушку, где по полу плескалась нечистая вода. Пожалел конечно — приволок сундучок, два куска солонины, большой чёрный сухарь, пообещал вечером принести грога с раздачи. Но Джуду почему-то не нравилось, как опускал глаза приятель — так смотрят на раненого, которому корабельный врач поутру собирается отнять ногу. Неприятность вышла изрядная, но не смертельная — в Бристоле можно будет наняться на другое судно, зажить и сытней и куда веселее.
— Понимаешь, т-ты, парень, — от волнения Билли всегда заикался — у Мюррея брата убили. Давно ещё, когда с испанцами воевали. Капитан тогда щенком был совсем, а Мюррей-старший помощником капитана ходил на «Прекрасной Элизабет». Хороший был офицер, щедрый и на зуботчины и на выпивку, ругался как сам морской дьявол. Драчка тогда выдалась жаркая, испанцы нам борт прострелили у ватерлинии, мы в абордаж собрались, тут-то его и сшибло — руку напрочь оторвало и в воду сбило картечью. Он кричал-кричал, а подмоги-то не дождался — сгинул без покаяния. Потому-то наш кэп и молится и команду блюдёт и все заработки монахам сплавляет — надеется отмолить братнюю душу.
Ошарашенный Джуд кивнул. Говорила ему мамашка, когда трезвой была: думай, что делаешь, головой думай, чтобы жопой не отвечать. И закрепляла урок — когда верёвкой, когда куском сети, а когда и треской по чему-ни-попадя.
— В общем это… не п-п-повезло тебе, парень, — Билли хотел добавить ещё что-то, но не стал, — Сиди пока, ввечеру принесу выпить.
Тёмный трюм оказался не лучшим местом для отдыха и ночлега. Снять сапоги Джуд не рискнул — крыс на корабле было больше, чем вшей в бороде у боцмана. Пришлось прислонить сундучок к углу и усесться на нём подобрав ноги. Дохлая птица успела оттянуть шею, она казалась липкой на ощупь и очень тяжёлой, но снимать её было рискованно — Мюррей вполне мог добавить с полсотни линьков за непокорство. Джуд достал из кармана кусок солонины, вцепился в него зубами и так и заснул с мясом во рту.
Разбудили его крысы. С десяток тварей сидело на нём — на коленях, плечах, даже в волосах. Он не видел зверей, но чувствовал их тепло, острые морды, маленькие когтистые лапки. Самая наглая забралась на спину чёртову альбатросу и обнюхивала лицо. Джуд вспомнил, что болтали о тварях в кубрике, будто бы сперва они выгрызают глаза и щёки. Он хотел заорать, но не смог открыть рот — челюсти свело от страха. Крыса дотронулась горячим язычком до его носа и фыркнула — Джуд готов был поклясться — тварь смеялась. Она коротко запищала, словно давая команду, и спрыгнула в темноту. Остальные грызуны последовали за ней. Остался только отвратительный запах, словно клятая птица висела на шее не пару часов, а неделю. Стало холодно. Джуд свернулся клубком, натянул на плечи мокрый буршлат и задремал снова.
Ждать пришлось долго. Билли так и стал спускаться к приятелю, путешествие затянулось почти на сутки. В Бристоль «Дамиетта» прибыла вечером пятницы — Джуд почувствовал, как остановилось движение деревянного корпуса, но из трюма его вытащили только утром субботы. Альбатрос к тому времени пах, как целая сотня издохших птиц, под перьями копошились белёсые черви. От долгой неподвижности у Джуда подгибались ноги, солнечный свет бил в глаза, заставлял щуриться и отворачивать голову. Команда стояла вдоль борта, словно провожала покойника. В лицо никто не смотрел. Кэп Мюррей тоже выглядел грустно — похоже, эти дни старый святоша пил горькую.
— Вот твоя плата, матрос Хамдрам. И ступай с богом.
Две золотых «Лиззи» и десять шиллингов. Подряжались на фунт.
— Спасибо, сэр! Простите…
— Ступай! — в голосе капитана появились тяжёлые нотки.
Джуд подхватил сундучок и спустился в шлюпку. Старина Билли вывез его к причалу и даже обниматься не стал — похлопал по плечу, вздохнул:
— Бывай, парень!
Преисполненный благодарности Джуд хотел подарить ему запасную трубку — почти новую вересковую трубку с удобным мундштуком, — но приятель мотнул головой и налёг на вёсла. Шумный порт дожидался Джуда, кучерявые девки истосковались без поцелуев, а какой-нибудь капитан Пушка только и ищет в команду молодого свирепого храбреца. …Осталась сущая мелочь. В последний раз Джуд окинул взглядом стройный профиль «Дамиетты» — под лучами апрельского солнца она как никогда походила на чопорную фламандку — взял сундучок поудобнее и зашагал куда глаза глядят. Мимо шикарных шхун и утлых рыбачьих судёнышек, мимо пышных, словно аристократы, королевских судов и хищных каперов… «Быстрый» слишком обшарпан, на «Мальтийце», капитан сволочь, а вот узкая, словно морда борзой «Арабелла» — самое то. Ладонь Джуда потянулась пригладить короткие словно скрученные из бронзы волосы… да, птичка. За голенищем прятался любимый испанский нож — подхватить верёвку у горла так, чтобы не срезать кожу, потом побриться, сменить рубаху — и чем я не капер Хамдрам?… Аааааах!!!!
Боль оказалась такой неожиданной, что Джуд упал на колени. Лезвие и ладони были в крови, тёплые капли стекали по грязным перьям. Кровоточила верёвка. Из надрезанных серых волокон сочилось алым, словно Джуд рассадил себе кожу. Вдруг — то ли от ветра то ли от солнца — показалось, что мёртвая птичья голова шевельнулась и злобно зыркнула. Что за дьявольская чертовня? Джуд попробовал снять верёвку руками, кольцо моментально сжалось, перехватив горло. И молитву прочесть не вышло — верёвка впивалась в шею на каждое «отче наш». Дрожащей рукой Джуд поскрёб в затылке — похоже, он попал в переплёт. А куда податься матросу, у которого неприятности?
Трактир «Отсоси у адмирала» был самым шумным и многолюдным в порту. Офицеры в расшитых мундирах заглядывали туда редко, а вот матросы, гарпунёры, вербовщики и прочий сомнительный, но весёлый морской народ охотно пил и закусывал в заведении. Мало кто имел силы удержаться от соблазна отсосать четверть пинты ямайскго рома через дырочку в «адмиральском» бочонке — те, кто мог не пролить ни капли и остаться стоять на ногах, не платили за выпитое. Джуд не прочь был попробовать тоже… при случае, а сейчас не стоило и пытаться. И без того тяжкий запах падали вызвал гримасы на лицах немногочисленных в утренний час посетителей.
Одноглазый трактирщик, похожий на стареющего хорька, остро глянул на нового гостя.
— Плата втрое. За постой тоже.
— Ты чего, перекушал с утра, хозяин?
— Втрое или вали. Кроме меня в Бристоле тебе койку никто не сдаст, — спокойно сказал трактирщик и отвернулся к стойке.
«Чтоб ты лопнул от жадности» подумал Джуд, но произнёс другое:
— Рома. Мяса. И комнату на три дня.
— Три с половиной… Пять шиллингов. И имей в виду, девка с тобой не ляжет. По крайней мере моя, — подбил итоги трактирщик, — Джинни, детка, тушёной баранины и ещё порцию рома!
Злой как чёрт, озадаченный Джуд сел за дальний угловой стол. Все вокруг понимают, что он в полной жопе. Но, чтоб черти трясли капитана Мюррея, вместе с трёпаной «Дамиеттой» и вонючими альбатросами, что случилось?
Пышногрудая Джинни проворно выставила на стол тарелку с дымящимся мясом, кусок серого хлеба, кувшин и кружку. Служанка не улыбалась и даже вид золотой монеты, словно случайно вынутой из кошелька, не привлёк её взор. Джуд вздохнул и принялся за еду. Вонь дохлятины портила аппетит, но сладкий и крепкий ром сглаживал неудобство, словно масло смиряет буйство волны. О поверье не убивать чаек Джуд слышал ещё от деда Хамдрама и рыбацкие байки не мешали ему воровать из гнёзд и высасывать чаячьи яйца. Взрослых птиц тоже случалось подбивать палкой, на вкус они были так мерзки, что Джуд предпочитал голодать или таскать рыбу из чужих лодок. Говорят, у матросов другие законы… за три «настоящих» рейса он наслушался и про пламя святого Эльма и про старика Голландца и про девок с собачьими головами и про мисс Бурю, которую моряки пугали, сняв штаны всей командой… а вот про альбатросов запамятовал…
…Вард плавал с севера на юг, Любил щипать за щёчки юнг, Он вешал турок вдоль стропил, И такелаж в порту пропил, Как только грянет пушек гром, Сэр капитан глотает ром. До самых северных морей Задиры Варда нет храбрей…Нестройный матросский хор затянул долгую песню про подвиги капитана Варда — самого дерзкого, бесстрашного и развратного парня на всех английских судах. Говорили, этот чудак два года провёл в плену у алжирских пиратов, после чего начал резать всех мусульман, которых встречал в морях, и обзавёлся сомнительными привычками… Словно чёрт дёрнул Джуда за язык — пьяным голосом Хамдрам переиначил завершающую строфу куплета:
…И капитан ваш знаменит Не только тем, что содомит!Чернокудрый, смазливый матрос вскочил, словно его укололи в спину. Хищной кошкой метнулся он к наглецу, на ходу доставая нож:
— Встать, вонючка! Встать и отвечай за свои слова!
Джуд подумал и помотал головой. К их столу уже бежал трактирщик, но смазливый успел раньше — он хотел полоснуть по глазам и ошибся — нож только слегка задел щёку Джуду. Боли не было. Несколько капель крови шлёпнулись в тарелку из-под баранины — и всё. Трактирщик уже оттащил драчуна и что-то ему втолковывал, отчаянно жестикулируя. Трезвеющий Джуд тронул пальцем щёку — она была сухой и горячей, рана затягивалась. О как! Подумав ещё с минуту Джуд встал и вышел во двор. Положив левую руку на каменную приступку, он взял нож и шарахнул по пальцам. Кусок ногтя с подушечкой среднего пальца отрубило почти что напрочь. Боли не было. Словно псих, Джуд ещё раз чиркнул ножом — ломтик плоти упал на землю, а рана начала аккуратно затягиваться. Нового ногтя не выросло, зато рубец через полчаса выглядел старым шрамом.
До глубокой ночи Джуд сидел во дворе. К вечеру заморосило, буршлат отсырел от дождя, грудь невыносимо чесалась, словно черви пробрались под рубашку. Посетители кабака, девицы и даже собаки обходили сидящего стороной. Трактирщик молчал — он получил свои башли, а где болтается гость, его не касалось. Куда идти за советом и помощью Джуд не знал и даже представить себе не мог. Он был родом из Ливерпуля, дед Хамдрам давно умер от пьянства, Хамдрам-отец утонул в Мерси, едва успев заделать мамаше двоих детишек, Мэри Хамдрам была замужем трижды, от каждого брака в домишке появлялись новые малыши и все они хотели хлеба с селёдкой. Старший брат, рыжий Бони, уплыл на дальние острова поохотиться за чёрным деревом и два года как от него не было весточек. Самого Джуда мамаша с десяти лет сдала дядьке Филу — кожевеннику и святоше. У них с тёткой сыновей не было, Джуда воспитывали как родного, в четыре руки — постом, розгой и трудом, каждодневной вознёй с вонючими кожами. До шестнадцати он терпел, но когда окончательно стало ясно, что дядя хочет окрутить его со своей Бет, двадцатипятилетней дурёхой, а затем и передать дело наследничку — Джуд сбежал. Дождался, когда Бони приедет потрясти перед матушкой золотом, и упросил-таки братца взять с собой. Год плавал юнгой на «Мэри-Сью», потом перебрался на «Дамиетту» уже матросом… И дружков кроме старого Билли особо не завелось.
Бездействие утомляло пуще работы — за годы службы Джуд отвык отдыхать. Он поднялся и вышел в ночь — да, бристольские улицы не похожи на коридоры монастыря, но будь что будет. Ноги сами водили его по закоулкам, мимо луж и сточных канав, драк и шумных матросских танцев. Добропорядочные горожане давно уснули, затворив ставнями узкие окна. Только воры, шлюхи и запоздалые пьяницы нарезали круги от трактира к трактиру. В иное время Джуд охотно б повеселился, но сейчас он искал тишины. И вот, из-за тёмного поворота проявилась громада церкви. Острые мрачные шпили, каменная ограда, открытая дверь — заходи, добрый человек, если приспичило помолиться. Озираясь по сторонам Джуд вошёл в длинный зал — церковь была пуста. Каждый шаг отдавался гулом, каждый вдох был слышен. Джуд попробовал произнести «Отче наш» — и свалился, сотрясаемый кашлем — верёвка снова стянула горло.
Пожилой, смуглолицый священник помог ему подняться. Джуд хотел было удивиться «откуда он взялся» но не успел. В неторопливых жестах, в мягкой улыбке и проницательных тёмных глазах божьего человека было столько тепла и заботы, что девятнадцатилетний матрос Хамдрам разревелся, словно мальчишка, у которого отняли леденец. И история про проклятого альбатроса рассказалась сама собой. Священник внимательно слушал, кивал «Продолжай же, сын мой», постукивал пальцем по спинке скамьи, обдумывая своё.
— Святой отец, сэр, помогите! Отслужу… — выговорившемуся Джуду наконец стало легче, церковный воздух успокаивал, как он, дурак, забыл, что у бога на каждую тварь по горсти зерна в кармане…
— Подойди-ка, сын мой под благословение… — лицо священника сделалось очень внимательным.
Джуд приблизился… и упал, сотрясаемый спазмами.
— Так я и думал. Сын мой, ты влип в очень дурную историю. Я тебе не помогу. И никто в Бристоле тебе не поможет. И скорей всего никто в Англии… разве что ты разбудишь старика Мерлина. Может быть — не обещаю, но может быть — тебя вытащат экзорцисты в Риме или Сантьяго-ди-Компостелла. Шанс, что вместе с проклятьем ты расстанешься с жизнью — баш на баш, или да или нет. Как духовный отец, я советовал бы тебе каждодневно стараться молиться и просить Господа нашего о прощении. Как портовый капеллан скажу: плохи твои дела, парень. Не знаю, сколько ты проживёшь, но ни причастия ни исповеди тебе не видать, пока носишь альбатроса на шее. А умрёшь…
Священник не договорил, но Джуд и так всё понял. После смерти стать белой птицей и носиться над морем, заунывно крича. А потом — прямо к дьяволу в пекло…
Не прощаясь, Хамдрам повернулся и вышел из церкви. Мокрый ветер хлестал его по лицу. Будущее представлялось туманным, безрадостным и паршивым. Как теперь жить, куда податься, не везти же проклятие в дом к мамаше и малышне. Можно конечно прыгнуть вниз с мола или повеситься на собственном поясе, но помочь оно всё равно не поможет. …Можно выпить ещё рома и подумать о будущем завтра — в конце концов койка и выпивка обеспечены. Джуд потрогал натёртую верёвкой шею, стряхнул с груди червяка и направился к порту — назад в трактир.
Всю ночь его мучили кошмары. Будто он лежит на морском дне или валяется в шлюпке или скребёт стены, запертый в каменном мешке, умирает долго, очень долго — и никак не может расстаться с жизнью. Служанка, которая принесла утреннюю овсянку и пиво, покосилась на него странно. Заглянув в умывальный таз Джуд увидел, что стал седым, белёсым, словно чёртова птица..
В двери комнатки постучали. Гость — пузатый краснорожий детина, протянул лапу с порога:
— Хамфри Харлей, боцман с «Арабеллы». Дело к тебе, приятель. В рейс до мыса Доброй Надежды за чёрным товаром пойдёшь? Десять шиллингов в месяц, кормёжка добрая, если что — золотишка добудем или… (боцман блудливо подмигнул) — доля в добыче. Капитан Гэп — удачливый… капер.
Джуд чуть не подавился пивом. Вот и мечта к порогу пришла, да, как водится опоздала.
— Благодарю вас сэр за щедрое предложение, но не могу принять его.
Боцман сплюнул:
— Перекупили, суки! Сколько хочешь, приятель? Пятнадцать шиллингов? Двадцать?
Вместо ответа Джуд приподнял дохлого альбатроса. Волна вони прокатилась по комнатушке, боцман повёл носом, но стерпел:
— Так это… поэтому и берём. Эх ты, салага. Если возишь на борту проклятого, значит точно вернёшься в гавань. По рукам?!
Недолго думая, Джуд хлопнул по широкой ладони боцмана. Взять под мышку сундук минутное дело.
«Арабелла» и вправду была красива. Да, палубу не отдраивали до блеска, стволы пушек не натирали мелом, и почистить сапоги матросы порой забывали, но зато все они щеголяли обновками — кто суконными куртками, а кто и бархатными камзолами на голую грудь. У кого-то из-за пояса торчали пистолеты, у кого-то сабли и кортики. Настоящий капер… вот только Джуду там не обрадовались. Вместо общего кубрика его гамак подвесили в крохотной кладовой, еду, словно офицеру какому приносили туда же, а делать не надо было почитай ничего, и в драку ни разу не брали. Матроса Хамдрама назначали смотрящим, чаще всего по ночам, когда в колыхании чёрноты было не разглядеть ни зги. Однажды в шторм приказали самолично вышибать у бочонка дно и лить масло в волны — Джуд испугался, не бросят ли самого в море, но обошлось. На обратном пути приставили караулить трюм, полный лепечущего и стонущего товара. Половина чернокожих отправилась в море вперёд ногами, таскать трупы Джуд подрядился добровольно — никакая зараза к нему не липла, а невольники при виде белого человека с дохлой птицей на шее, становились кротки, как голуби. Команда Хамдрама сторонилась — отчасти из-за зловония и червей (за год плаванья падаль не изменилась, словно чёртова альбатроса убили неделю назад) отчасти из-за «особого отношения». Унылый Джуд подозревал, что мог вообще отказаться от работы. Он пробовал заговаривать с парнями из команды, ставил выпивку в портовых кабаках, но ничего теплее «Привет, Хамдрам» не сумел добиться.
Единственное, что отравляло жизнь (не считая вечно зудящих груди и шее) были кошмары. С одной стороны все раны заживали легко и быстро, с другой Джуд подозревал, что вполне смертен, с третьей — живучесть и вправду обещала мучительную агонию, если придётся дохнуть от жажды или тонуть. Да, и шлюхи все до одной отказались иметь с ним дело, даже за золото. А брать силой вопящих рабынь Джуду было противно. По возвращении в Бристоль Хамдрам списался на берег обладателем небольшой но вполне существенной суммы — хватило и подновить гардероб и выпить и даже отправить кое-что в Ливерпуль мамаше и малышне. Рейд оказался удачным, «Арабелла» хорошо заработала и потеряла всего пятерых моряков. Поэтому, когда Джуд, отдохнув с недельку в знакомом «Отсоси у адмирала» начал думать, куда плыть дальше, сразу четыре судна захотели его на борт.
Так и пошло — Джуд мотался от корабля к кораблю, не старея и почти не меняясь. Долгим рейсам со временем он стал предпочитать плаванья вдоль побережья. Однажды ему повезло две недели скитаться по океану в шлюпке с бочонком воды и сумасшедшим плотником, и страх мучительной смерти навсегда отбил у Хамдрама любовь к дальним странствиям. Друзей у него так и не появилось — люди сторонились Джуда, словно проклятье передавалось касанием, как проказа. От скуки он выучился читать и писать и на Пасху и к Рождеству сочинял долгие письма матушке — навещать её Джуд отказывался, всякий раз под новым предлогом. Мэри Хамдрам отвечала, точнее диктовала ответы дядюшке Филу — старушке было уже под семьдесят, но ругалась она, как истинная торговка рыбой. Пару раз Джуд подумывал, а не добраться ли в самом деле до Рима, как советовал капеллан церкви святого Марка, но ни разу морские дороги не доводили его до стен Вечного города — то таможня не даст добро, то добыча богатая по пути встретится. Жизнь тянулась ни шатко ни валко, одиночество утомляло, деньги не радовали и даже несокрушимая крепость здоровья начала раздражать — с такой завистью косились колченогие дряхлые сверстники на стройного и плечистого, хотя и напрочь седого, сорокапятилетнего молодца.
…Рейд «Святого Брандана» ожидался самым обыкновенным. Полные трюмы тюков с шерстью, тридцать два человека команды, всего-то от Дублина в Лондон со склада на склад довезти товарец. Конец июля, время спокойное, бури редкость, харчей хватает, да и спешки никакой не должно быть. Команда прекрасно справлялась с несложными вахтами, Джуду даже не надо было трудиться — сидел себе на мешках в тенёчке, вырезал из вересковых корней заготовки для трубок или просто дремал. Запах дохлого альбатроса от жары становился острее, но Хамдраму было давно плевать и на падаль и на всех, кто вынужден её нюхать. Особенно часто ему хотелось плюнуть на молодого капитана О'Гэри. Этот говнюк был из тех, что заставит команду носовыми платками палубу вычищать, если заняться нечем. К Хамдраму он не придирался от греха подальше, остальных гонял как акула дельфинов. Не проходило и дня, чтобы кого-нибудь не секли, а уж зуботычины сыпались на команду, как из ведра. К тому же О'Гэри был скуп, как чёрт и способен был месяц изводить человека за разбитый кувшин или утопленное весло.
Особенно часто доставалось братьям Шепардам. Старший, Дуг, слыл хорошим матросом, выносливым, смирным и очень сильным. Младший, Роб — сущее недоразумение. Юнга из парня вышел как парус из носового платка. То уронит тарелку с супом, то забудет почистить капитанские сапоги, то заглядится на волны и утопит по рассеянности кисет доброго табака. Щуплый, тонкий, сероволосый парнишка походил скорее на мокрого воробья, чем на будущую грозу морей, да и выдержки ему не хватало. Во время порки Роб визжал, выл, и, случалось, плакал. А Дуг любую обиду переносил кротко, как ломовик-першерон — чем и доводил капитана О'Гэри до белого каления.
Повод для нынешней экзекуции был как водится высосан из адмиральской бочки. У старика О'Догерти пропала серьга. Золотая серьга кольцом, знак успеха и доблести моряка. Скорее всего у цацки разомкнулся замочек и она завалилась в какую-нибудь глухую щель, но О'Гэри, услыхав о пропаже заявил, что ему на борту хватает четвероногих крыс, а двуногие могут плыть на все четыре стороны. И приказал тащить на палубу матросские сундучки — мол, сейчас и посмотрим, а как пропажа найдётся, вор на месте получит свой рацион свежих линьков. Команду исполнили неохотно — на сундучки ни замков ни засовов не вешали и даже у распоследних ворюг хватало совести не запускать туда лапу. Боцман Йорген попробовал отговорить капитана — идти поперёк обычая значило провоцировать недовольство матросов. О'Гэри упёрся со всем ирландским упорством и приказал Дугу Шепарду обыскать вещи. Дуг отказался.
Сундучки в итоге каждый матрос выворачивал сам, под прищуром жадного ока О'Гэри — естественно, никакой серьги не нашлось и никакого ухищенного корабельного барахла там не прятали. Злой как чёрт капитан приказал устроить наказание тотчас, не дожидаясь традиционной понедельничной порки, когда матросы получали разом за все проступки прошлой недели. Спокойного как всегда Шепарда привязали к фок-мачте, боцман неспешно взялся за дело. Джуд без особого интереса следил, как вспухают рубцы на широкой спине моряка. Он видел, что боцман отвешивает удары вполсилы. Капитан тоже это заметил. Йорген получил в челюсть, не отходя от мачты и благоразумно укатился под снасти. Линёк лёг в ладонь капитана так метко, словно вместо расшитой галуном шляпы О'Гэри носил красный колпак с прорезями для глаз. Желваки заиграли на загорелых скулах ирландца — Джуд почувствовал, до чего ж капитану хочется исхлестать в кровь белую спину наказанного. Но раз взявши палаческий кнут до скончания дней не отмоешь рук… О'Гэри хорошо это помнил, поэтому смог сдержаться. Пару раз хлестнул мачту, показывая «Вот так пороть надо» и прошёл взглядом по угрюмой толпе матросов.
— Юнга Шепард, ко мне!
Понурый Роб сделал два шага вперёд, грязные щёки мальчишки были мокры.
— На! — О'Гэри протянул юнге линёк, — Бей! Ещё двадцать четыре осталось, парень.
Джуд чуть пожал плечами — поганое дело. Мальчишка вырастет редким мерзавцем, попробовав братней крови, и при первом удобном случае продаст самого О'Гэри… такие истории Хамдрам уже не раз видел. Эх ты, Роб… стоило время от времени подкидывать парню то яблоко то кусок сухаря… жаль тебя, дурака, сам такой был.
Какой-то особенно жалкий в своём огромном буршлате Роб ухватил верёвку и шагнул к брату. О'Гэри широко ухмыльнулся:
— Давай! Высечешь от души — в Лондоне младшим матросом сделаю, шиллинг в месяц прибавлю.
Верёвка медленно поднялась и опустилась до палубы.
— Давай, Шепард! Будь мужчиной! В оттяжечку, с плеча, ну!
— Нет, сэр.
От удивления Джуд подавился табачной жвачкой. Этот салага стал возражать капитану? О'Гэри тоже сперва не поверил своим ушам:
— Выполняй приказ Шепард, мать твою. Делай, что говорят, медуза вшивая!!!
— Нет, сэр! — губы мальчишки тряслись, на глазах стояли слёзы, он отчаянно замотал головой, — Не буду, сэр, ни за что не буду!
Одним ударом капитан сбил Роба с ног и начал пинать сапогами, хрипя ругательства. Матросы молчали. По закону слово капитана на корабле верней Библии, а юнга имеет не больше прав, чем корабельный кот. По деревянным доскам палубы расплылось пятно крови. Наконец капитан выдохнул и отступил. Избитый Роб приподнялся — парень лишился переднего зуба, один глаз быстро заплывал, бледное лицо было перепачкано соплями и кровью. Встать, цепляясь за снасти, ему удалось не сразу.
Свирепый О'Гэри поднял линёк и швырнул в мальчишку:
— Вперёд, сволочь!
Привязанный Дуг изогнулся, насколько позволяли верёвки:
— Роб, пожалуйста, сделай это!!!
Мальчишка уцепился за такелаж и вспрыгнул на борт. От страха и боли он похоже ополоумел, единственной мыслью стало удрать от мучителя. Балансируя на канатах, юнга наконец завопил в голос, покрыв капитана грязной и неумелой бранью. У О'Гэри от злости побелел кончик носа.
— Юнга Шепард, я приказываю спуститься и выполнять команду!
Роб, похоже его не слышал… Тогда О'Гэри достал из-за пояса пистолет и прицелился в парня:
— Слезай или сдохнешь!
У Джуда сжалось сердце — капитан и вправду мог пристрелить парня. Вот сейчас упадёт Роб в синее море, помрёт без исповеди и станет чайкой. Белокрылым альбатросом, из тех, что парят над мачтами и просят, чтобы их помнили…
— Не стреляй!!! — Джуд рванулся вперёд и ударил капитана под локоть. Огорчённая пуля ушла в паруса. О'Гэри (недаром он был капитаном) рванул второй пистолет и пальнул не целясь, благо Хамдрам был совсем близко. Пуля попала в дохлого альбатроса. Это было чертовски больно — словно в грудь запихнули раскалённую кочергу. Джуд упал, изогнулся дугой в пароксизме, почти теряя сознание. Верёвка сдавила шею узлом, с полминуты не получалось вздохнуть. А потом наступило блаженное чувство свободы. Тело сделалось лёгким, как пёрышко, в голове просветлело. «Я наконец умираю» улыбнулся счастливый Джуд, «Отче наш иже еси… что?!!!». В уши ему ударил звериный вопль капитана. Открыв глаза, Хамдрам увидел: О'Гэри катается по палубе, пробуя отодрать от лица разъярённую мёртвую птицу. …Деньги — в Бристоле, у старика трактирщика, в сундучке гроши, до берега две с половиной мили… Джуд Хамдрам сбросил буршлат, сапоги, одним прыжком вскочил на борт и бросился в море.
Он очнулся уже на пляже. Мелкий белый песок, ослепительно синее небо, старый вяз у дороги, холмы, покрытые мелкокурчавой зеленью, силуэт невысокой зубчатой башни у горизонта, в кустах терновника заливается неугомонный дрозд… Свобода! Волны смыли проклятый запах и мерзких червей, шея выпрямилась, на груди больше ничего не висит и царапины на руках кровоточат, саднят от слоёной воды… Ему сорок пять лет, он свободен и жив и не станет летать над морем, оглашая пучину вод криками о спасении. «Кто родится в день воскресный, тот получит клад чудесный». Джуд Хамдрам, ты счастливчик! — улыбнулся он себе, отжал одежду, связал шнурком седые волосы отправился куда глаза глядят по немощёной, жёлтой от пыли дороге.
До Бристоля он шёл почти месяц, ночевал то в хлеву, то в сарае, то под кустом благо лето. Кормился, чем бог пошлёт да человеки помогут. Добрым людям говорил, что попал в кораблекрушение и чуть не утонул (второе было недалеко от истины). В Бристоле он первым делом сходил в церковь святого Марка поставить свечку и помолиться за счастливое избавление. Не удержался потом — уже выйдя из храма показал кукиш мрачным зубчатым шпилям (жаль, давешний священник уже лет десять как помер). В «Отсоси у адмирала» Хамдрам гулял две недели — днём пил, по ночам таскал в комнату девок. Потом купил себе новый кафтан (никаких буршлатов!!!), зашил в пояс золотые монеты, обзавёлся брыкливым, выносливым мулом и, словно принц, поехал домой в Ливерпуль. Успел и матушку повидать и получить от неё свежей треской по морде и даже благословить невесту — в первый день по прибытии он направился к свахе и через месяц был уже неплохо женат — на рябой, большеротой но зато работящей, верной и доброй девице.
Через год жена принесла ему первого маленького Хамдрамчика. Счастливый Джуд отметил разом два праздника — появление наследника и открытие кабачка «У счастливого альбатроса». Только здесь подавали пудинг по-йоркширски, по-шотландски, по-уэльски и а-ля-королева, только здесь наливали пиво пяти сортов и особый, чёрный матросский ром, только сюда почтенные супруги спокойно отпускали мужей — все служанки в «Альбатросе» блюли себя для замужества, и, надо сказать, делали хорошие партии. Владелец процветающего трактира господин Джуд Хамдрам дожил до глубокой старости, пользуясь любовью соседей, как человек немногословный, справедливый и щедрый. Он любил поплясать и полакомиться, по утрам прогуливался вдоль квартала, желая соседям доброго дня, подкармливал бедных детей и бездомных кошек, всегда находил работу бродяге, если тот стучался в обитые дубом двери трактира с просьбой о помощи. И единственной странностью почтенного трактирщика было, что Джуд наотрез отказывался подходить к морю ближе, чем на пушечный выстрел. Умер он тихо, в окружении семерых сыновей и бессчётного числа внуков.
Старший сын унаследовал дело… Да, сэр, я уже пятый Хамдрам — владелец «Счастливого Альбатроса» — и батюшка мой и дед разливали здесь пиво. И мы строго блюдём обычай — первый гость, что постучится к нам утром Птичьего Вторника, получает выпивку и еду бесплатно, лишь бы вспомнил добрым словом душу Джуда Хамдрама, а заодно и всех тех моряков, что сгинули в море без покаяния. Я смотрю, вы из тех джентльменов, что прибыли на яхте из самого Лондона и изволили с утречка веселиться, в воздух постреливать… да-с, слыхали. Уважьте нас добрый сэр, не побрезгуйте угощением. Что желаете? Рома? Мяса? Сию минуту.
Шустрый трактирщик умчался за стойку — выискивать самый чистый стакан и особенную тарелку для знатного гостя. Джентльмен — молодой и лощёный лондонский денди остался неподвижно сидеть за низким столиком, покрытым пёстрой скатёркой. В голубых словно волны глазах джентльмена чайкой билась какая-то мысль. Он достал из кармана жилета элегантный швейцарский ножик, одним щелчком открыл лезвие и осторожно провёл им по мякоти нежной ладони. Капли крови упали на скатерть — одна, две, три. Узкий шрам зарастал…
Новеллетта
…Благословен и год и день и час, И та пора и время и мгновенье И тот прекрасный край и то селенье, Где я был взят в полон двух милых глаз…— Откройте! Откройте же!!! Я прошел половину Италии ради этого часа.
Молоточек тяжело стукнул в медь, морда льва с рукоятки ухмыльнулась недобро. Стройный, богато — насколько можно было разглядеть в сумерках — одетый юноша нацелился было пнуть дверь, но передумал, пожалев франтовской длинноносый башмак. Стоящий чуть поодаль слуга с факелом потихоньку вздохнул — все Берни были упрямы и вспыльчивы, а молодой синьор еще и писал стихи. Второго такого романтика днем с огнем было не отыскать в Риме, а уж ночью да с факелом…
Ставни на втором этаже распахнулись с неожиданной легкостью. Домочадец — щекастый бодряк в ночном колпаке и халате — был хмур:
— От его Императорского Величества? — осведомился он.
— Нет, отнюдь, — отказался юноша.
— От мессера Чезаре Борджиа? — домочадец посерьезнел.
— Как можно… — молодой Берни улыбнулся и развел руками — мол, куда нам до такой чести.
— От Папы Римского? — домочадец обернулся вглубь комнаты, будто с кем-то советуясь, потом снова посмотрел вниз.
— Нет. Я Франческо…
— Спят все. Утром пожалуйте, — физиономия бодряка утратила всякую почтительность.
— Я прошел половину Италии, чтобы видеть… — на лице молодого поэта гнев мешался с отчаянием.
— Спят все. Поберегись!!!
Содержимое ночной вазы глухо шлепнулось на мостовую, забрызгав Берни его новый бархатный плащ. Ставни скрипнули и закрылись.
— Шли бы мы в гостиницу, синьор Франческо. Утро вечера мудренее. Поужинаете, поспите, а с рассветом подумаем, как бы свидеться с вашей красавицей, — слуга добыл из кармана видавший виды носовой платок и попробовал счистить с плаща вонючие пятна. Капля смолы с факела брызнула на руку господину. Тот взвыл, попытался отвесить подзатыльник услужливому болвану, но промахнулся. Узкая улочка огласилась отборной тосканской бранью, двенадцать слогов на строчку — даже в пылу гнева молодой Берни безупречно держал размер.
Ставни скрипнули снова.
— Стражу вызовем, — констатировал домочадец и почесался под колпаком.
Иметь дело с ретивыми и до неприличия жадными городскими властями слуге не хотелось. А еще больше ему не хотелось явиться пред светлые очи Анжело Берни-старшего — тот приставил его к сыночку с наказом — беречь пуще глаза. …Тюкнуть бы чем тяжелым, так не поймут… По счастью синьора Франческо тоже не вдохновила мысль провести ночь в кутузке, полной блох, вшей и всяческого отребья. Поэт погрозил кулаком ставням, запахнул плащ, фыркнул — а нос у него был фамильный: длинный, тонкий, с резными ноздрями, словно у борзой суки — и пошел себе вниз по улочке, опустив вдохновенную голову. Оставалось поспешить следом, светя догорающим уже факелом, чтобы синьор, паче чаяния, не оступился. Впрочем, плащ все равно чистить…
Молодое мессинское у хозяина погребка было выше всяких похвал. Поэтому утро началось заполдень. Ранний октябрь брызнул ливнем на улицы Вечного города, мостовые залило выше щиколотки, котурны не припасли — поэтому визит к дому мессера Санти отложили еще на сутки. Холодные струи так славно стучали о черепицу, придавая неповторимое очарование подогретому с пряностями вину и обжаренной курочке с зеленью и фасолью. Синьор Франческо был щедр — слуге перепали грудка и крылышко, да и выпить слегка хватило. После Берни заперся у себя, отказавшись от куртизанки — что за радость любиться с рыжей трактирной шлюхой, если мечтаешь увидеть прекраснейшую из женщин. Пергамент, перо и чернила — вот истинные друзья влюбленного, полного мыслей о Донне. Прекрасная Садовница в палаццо Питти — там впервые увидел он светлый образ и замер, пораженный неземной красотой. С тех пор… А слуга пил с трактирной челядью и выспрашивал потихоньку — мол не знает ли кто кухарки или конюха дома Санти.
На рассвете с первыми петухами Франческо пришлось проснуться. Слуга сдернул с него одеяло и подал, отвернув брезгливо лицо, чашку крепкого кофе — как истинный христианин он не одобрял тех, кто пил турецкую мерзость.
— Синьор мой, смотрите сюда внимательно. За церквушкой Темпьетто будет Несытый рынок. По утрам женщины дома Санти ходят туда за рыбой и прочей снедью. К сердцу любой служанки подбирается золотой ключик, — тут слуга сделал вид, будто ловит монету, — ну и мне за работу…
— Посчитай, — согласился Франческо, — а пока полей мне…
Умытый и принаряженный синьор Берни притаился у портика вожделенного дома. Он ждал. Хлопнула дверь — старуха вынесла мусорную бадью и вывернула ее в канаву. Босоногий подросток приволок на руках упитанного мальчонку, лет трех, не больше, и вскоре вышел из дома — один. Стрелой вылетел из двери изумительной красоты юноша в синей котте, перепачканной красками, поскользнулся на мокром булыжнике, вновь поднялся и, хромая побежал вверх, по улочке… Наконец появилась средних лет женщина с плетеной корзиной. До чего же дурна собой. Тусклые косы мышиного цвета, нездоровая бледность, обтянутый серым платьем большой живот, крупные кисти рук с длинными цепкими пальцами — сразу видно, ей приходилось работать много и тяжело. Только глаза — внимательные и черные — придавали какую-то прелесть меланхолическому лицу. Женщина помахала кому-то рукой, придержала улыбку, перекрестилась на купол Темпьетто и двинулась вниз по улице, степенно придерживая одной рукой длинный подол, а другой — еще пустую корзинку. Берни, крадучись, отправился вслед за ней.
Он дождался, когда служанка пройдет четыре квартала и завернет в арку переулка Чеканщиков (слуга говорил, так все ходят, потому, что короче). Обижать женщину не хотелось — бог обидел ее достаточно. Ладонью в перчатке из лучшей кожи Франческо ухватил бедняжку за плечо и повернул к себе.
— Не бойся, красавица, я с добром. Смотри, что у меня есть! — серебряная монетка сверкнула в воздухе и звякнула о мостовую, — Удели мне внимание — и получишь еще!
Восемь лет фехтовальных занятий не прошли зря — избежать оплеухи ему удалось без труда. Вот дерзкая дрянь! Не иначе любимая челядь или метресса хозяйская… нет уж, станет мессер художник при такой Донне греть постель у старухи…
Женщина удалялась, гордо колыхая тяжелым задом, словно дарить пощечины красивым юношам было столь же обыденно для нее, как выбирать зелень на лотке у торговца. Берни выругался вполголоса и поспешил за ней.
— Ты неправильно поняла меня, женщина. Мне нужно лишь твое время. Выслушай — и поймешь.
Бледное лицо женщины чуть порозовело от удивления. Она повернулась к возмутителю спокойствия и ощупала его взглядом с головы до пят. Берни вдруг ощутил себя мальчиком… не иначе, домоправительница.
Улыбка тронула губы женщины:
— Хорошо мой синьор, если вы так желаете — слушаю и повинуюсь.
…Надо было предложить золота… Берни выдохнул — строки новой поэмы застряли в памяти намертво — придется прозой.
— Год назад на картине мессера Санти я увидел прекраснейшую из женщин — Мадонну Садовницу. Я собрался покаяться в церкви, что влюблен в Богоматерь, мне сказали, что я дурак. А мадонну мессер художник рисовал со своей возлюбленной — куртизанки по имени Форнарина.
Женщина медленно покачала головой.
— Она была дочкой булочника.
Поэт отмахнулся:
— Неважно. Прекраснее профиля, чем у нее, стройней стана и соблазнительнее груди я не встретил за восемнадцать лет своей жизни. Я посвятил ей стихи и назвал дамой сердца. И прошел половину Италии, чтобы ее увидеть.
Женщина хмыкнула:
— Это не сложно.
Франческо встряхнул кудрями:
— Говорят, что мессер художник никого к ней не подпускает. Держит взаперти на женской половине дома, куда ходят одни служанки да старый певец-кастрат — чтобы Донна не скучала, когда господин погружен в дела. Говорят, будто он выгнал ученика, коий осмелился прикоснуться к подолу платья красавицы!
— Джаннино был бездарь и врун, — возразила женщина.
— Господь с ним. Понимаешь, мне нужно ее увидеть. Всего лишь увидеть… смотри, чтобы ты поняла — сколь достойна моя любовь, — чуть дрожащими пальцам Берни извлек из-за пазухи крохотный шелковый кошелек и распустил завязки — на белой ткани свернулся одинокий золотой волос, длиною в локоть. — Лодовико Моратти обменял мне его на перстень из Константинополя. Это волос из ее кос. Ты мне веришь?
Женщина прикрыла рот ладонью и будто задумалась. Поэт ждал, сердце билось под темным бархатом, словно птица в клетке.
Хорошо, — наконец сказала она, — приходите, синьор, завтра утром, на задний двор дома Санти. Не стучите в калитку — я сама вам открою и проведу. Деньги после. До встречи.
Женщина повернулась, и, не дожидаясь ответа, поспешила прочь с прытью, удивительной для ее возраста.
Окрыленный поэт возвратился в гостиницу. Он подарил слуге почти новые сапоги, бросил горсть серебра трактирным девчонкам, заказал у хозяина дивный ужин и не стал его есть. Стихи полнились в его голове, словно стая прелестных бабочек, Франческо записывал их не глядя… Ночь прошла незаметно, уснуть так и не довелось. Недовольный слуга остался стеречь сундук, а влюбленный поэт с первым лучом неяркого октябрьского солнца уже топтал грязь подле задней калитки прибежища Санти. Служанка ждала его. Оглянувшись — не дай бог, кто увидит, она открыла какую-то дверцу и за руку втащила поэта в темный чулан. Там навалом грудились на полках и на полу холсты, статуи, каменные обрубки и прочий хлам, пахло пылью, красками и мышами. Одинокий светильник едва позволял разглядеть помещение. Берни вдруг стало не по себе.
— Смотрите синьор, — прошептала женщина — здесь в стене потайное окошко. Вы увидите мастерскую. Госпожа Форнарина приходит туда позировать каждое утро, стоит свету лечь на подоконник. Иногда ее ставят одетой в бархат и шелк, иногда обнаженной. Будьте мужественны и терпеливы.
В груди Франческо будто вспыхнул живой костер.
— Как мне благодарить тебя, добрая женщина?
Служанка рассмеялась в ответ. Сверкнули ровные белые зубы, блеснули глаза, вдруг прорезались ямочки на щеках. На мгновение, в таинственном полумраке она показалась поэту почти хорошенькой.
— Поцелуй. Один поцелуй, синьор, и мы в расчете.
Поэт передернул плечами и глубоко вздохнул… поцеловать легко… главное, чтобы не больше. Отказывать женщине — что может быть позорней?! Но и мужской доблести на старуху запросто не сыскать.
Будь что будет! Раскрыв объятия Франческо зажмурился и шагнул вперед. Служанка шарахнулась и рассмеялась снова — звонко, как будто градины сыплются о водосточный желоб.
— Я пошутила, синьор. Удачи. Свет я вам оставляю.
Дверца чулана затворилась, легонько скрипнув. Тишина окружила Берни, пыльные запахи будоражили воображение. До счастливого мига остались считанные минуты. Стихи великого Петрарки снова пришли на ум:
…Благословен упорный голос мой, Без устали зовущий имя Донны, И вздохи, и печали, и желанья…Когда он, Франческо Берни, увидит свою Форнарину, он тоже сможет написать так… нет, лучше! Он станет величайшим поэтом Италии и прославит возлюбленную от Флоренции до Капуи. И она снизойдет к нему, даст насладиться ароматом нежного тела, шелком кудрей, крохотными изюминками сосков…
Сквозь неплотные занавески оконца пробились солнечные лучи. Франческо дрожащими пальцами раздвинул ткань, чуть не чихнув от пыли. Он увидел стену, задрапированную голубой тканью, спящего пухлоногого малыша, табурет и кувшин. Вошла женщина. Неудачно, лица было не увидать, но походка!!! Вдохновленный поэт приподнялся на цыпочки, силясь разглядеть, что откроется, когда Донна скинет тяжелый плащ…
Дверь чулана опрокинулась внутрь с жутким грохотом. На пороге воздвигся мужчина в расцвете сил, с лицом грозным и вдохновенным. Выпуклые глаза его пылали гневом, руки сжимали тяжелый посох. За спиной толпились ученики — кто с ножом, кто со стулом, кто с мольбертом и кистью.
— Вор! — мелодичный, тяжелый голос мужчины разнесся, как колокольный звон.
— Нет, мессер Санти! — пролепетал Франческо, пытаясь встать и расправить плечи, — Любовь…
— Вор и мерзавец! Ты явился сюда дабы похитить мою возлюбленную!!! — художник шагнул вперед, вперив пылающий взор в поэта.
— Поймите, мы люди искусства… — Берни стало нехорошо… надо было взять с собою слугу…
— Какая гнусность! — голос мужчины становился все громче, заполняя собой пространство. — Словно старец явился подсматривать за Сусанной, бездельник! Как ты посмел осквернить мой очаг! Я пожалуюсь Папе!
Франческо вспомнил, что художник — любимец и друг Льва Х Медичи. Нынешний Папа отличался суровостью, поговаривали, будто не одного охотника до чужих жен по приказу Его Святейшества… Только не это!!! Просить пощады? Драться? Что делать?!!
— Вон!!! — Голос художника грянул набатом, Франческо чуть не упал от неожиданности. — Вон отсюда, распутник, блудник вавилонский! Убью! Вон!!!
Ученики расступились. Санти пошел на поэта, выставив вперед посох. Загоревшись надеждой, Франческо сделал кульбит, проскочил под карающей палкой и рванулся на улицу — аж в ушах засвистело от ветра. Он мчался по узкой улочке так, словно за ним гнались художник с учениками, призрак старого Санти и Папа Римский в придачу.
Франческо Берни и вправду стал одним из лучших поэтов своего времени. Он прославился пьесами, капитолями и бурлесками, был ехиден, злоязычен и беспощаден. Играючи, с блеском писал о налогах и взятках, чуме и холере, угрях и прыщах на сиятельных ягодицах. И никогда в жизни ни одной строчки больше не посвятил любви.
* * *
…Стоило хлопнуть калитке — мастерскую заполнил хохот. Мессер Санти смеялся светло и звонко, ученики от потехи катались по полу, даже младенец, призванный изображать ангелочка, заливался, разевая прелестный ротик. Озорница-служанка кружилась по мастерской, хлопая в ладоши — ей понравилась эта шутка. Наконец недотепа Джулио опрокинул старинный кувшин и веселье унялось потихоньку. Художник утер раскрасневшееся лицо и кивнул:
— За работу, дети мои, солнце не ждет!
И мгновенно хаос потехи обратился муравейником дельных хлопот. Два этажа дома заполнились топотом и голосами. Кто-то растирал краски, кто-то грунтовал и пропитывал маслом холсты. Старшие возились с подмалевками, Джулио уже доверяли рисовать ангелочков и прописывать драпировки. Сам художник работал в большом зале — том самом, со стеной, занавешенной голубой тканью. Сперва он сделал несколько набросков итальянским свинцовым карандашом. Малышу дали яблоки, сливы и позволили играть на полу сколько хочется, а мессер Санти наблюдал за ним и отбрасывал на бумагу то движение пухлой ножки, то улыбку, то завитки кудрей. Наконец ребенок устал, закапризничал и служанки унесли его в женский покой. И пришла Форнарина. Спокойно, привычно встала в солнечный круг, развязала пояс серого платья, чтобы ткань опустилась волнами, распустила пепельные косы… Художник смотрел в восхищении на текучесть движений любимых рук, на чуть заметные тени у черных глаз, на осколки смешинок, все еще скрытые в уголках губ. Октябрьское солнце пронизало светом волосы Форнарины, переплело их золотыми нитями. Она взглянула в глаза мессеру — и засветилась потаенной улыбкой счастливой женщины.
— Кем мне стать для тебя сегодня?
Художник хлопнул в ладоши. Тут же Лодовико и Пьетро внесли палитру и холст, натянутый на мольберт. Мессер Санти обошел кругом женщину, снял сандалии с маленьких ног, разложил ей по-новому складки платья и забросил за плечи тяжелые волосы. Потом вернулся к мольберту.
— Ты прекрасна, радость моя. Вообрази — ты ступаешь по облакам…
Ясный сокол
Соловьи разорялись, будто май заплатил им за песни. Ночь выдалась жаркой — первая по-летнему жаркая ночь в году. От стены пахло терпкой смолой, кое-где проступали янтарные капельки. Дом срубили на скорую руку. Бог даст, лет через двадцать встанут каменные хоромы, а пока надлежит быть трудолюбивыми пчёлками, обустраивать будущее гнездо. Будущий город. Княжество. Бог шутник, почему бы ему князю Борису, младшему сыну Романа Черниговского, не поставить свой стол да не сесть на нём прочно? Пускай старшие братья грызутся за золотой кусок, ему покамест хватит простого чёрного хлеба. Только хлебушек уберечь надо — на каждый ломоть по десять ртов жадных. Болгарин проскачет — дай. Половец прибежит — дай. Гонцы от Киевского князя придут — дай, а ведь что ни год в Киеве — новый князь. То Ростиславич, то Святославич, а мира нет и покоя нет. И поди тут сбереги детинец-город, дай на ноги-валы подняться, чтобы злой тур копытами по полям не прошёлся. С единой белки семь шкур не снимешь… А, заррраза. Князь скинул с лавки босые ноги, потянулся с хрустом, нашарил на столе крынку, глотнул кваса и сморщился — тёплый. Сон ушёл. А за окном колыхалось марево сумерек, темнели голые стволы яблонь, где-то лениво перебрёхивались собаки — ночь отступала в берлогу, но серая её морда ещё лежала на холмах Ладыжина.
Неторопливые слова молитвы проговорились спешно. Стоило дрёме стечь вслед за последним «аминь», как пришла тревога. Князь Борис был здоровым двадцатипятилетним мужчиной, бессонница посещала его очень редко — и никогда зря. По смуглой коже пошли мурашки, князь передёрнул плечами, вспоминая, как осьмилетним отроком, перебудил дядьку, слуг, братьев, с плачем требуя утекать поскорее — сон видел. По счастью дядька Рагнар был опытный и выставил княжичей во двор, кого словом, а кого и тяжёлой дланью. А тут и соколы налетели, Брячиславичи, Романовы племянники. Борис помнил, как страшно кричал отец, занося меч, как визжали осатанелые кони, как пламя перекинулось на застреху, как бесцельно, жалобно звонил серебряный колокол и вдруг восхитительной музыкой откликнулся лязг и топот поспешающей старшей дружины… Брячиславичей быстро уняли, кого в монастырь, кому отрубили лишнее. Только матушку было уже не вернуть — с перепугу она начала рожать прежде времени, да так и не разродилась. И отец надорвался — он прожил ещё без малого десять лет, сделал двух меньших братьев с черноокой кипчачкой, но прежним Ярым Романом так и не стал…
Льняная рубаха прильнула к телу, влажному от ночного пота. Искупаться сходить что ли? С крутого берега да к Бугу-батюшке в сини волны. Борис хорошо плавал и любил воду, в отрочестве он мечтал даже ходить по морям на своей ладье. Матушка рассказывала как поочерёдно, словно лебединая стая, отплывали из гавани Константинополя белопарусные дромоны, как мерно, слаженно опускались и поднимались вёсла под руками загорелых гребцов, как ветер раздувал флаги, и качалась деревянная палуба. Отрок больше любил сказы о битвах, залпах стрел, волнах греческого огня. Мать смеялась — греческий огонь у тебя в крови, милый. Вправду — Борис уродился смуглым, черноглазым и медно-рыжим, хоть костёр от волос пали. И сестра его, Зоя-Заюшка, удалась златовласой, бронзовокожей красой — даром, что ли её берёт Даниил Белецкий, после Яблочного Спаса и свадебку отгуляем.
В ближней горнице шевельнулся горбатый забавник Боняка — преданный словно пёс, он всегда норовил сопровождать господина. Но князь отстранил раба. И сонному гридню велел оставаться у хором, сторожить домину. Опоясался только ножом, свистнул Серку, и пошёл по росистой тропке, босиком по корням и глине. Одиночество зверя в лесу, полном шорохов хищников и добычи, манило Бориса, притягивало, словно свеча притягивает бестолковых маленьких мотыльков. Он хотел бы стать быстрым пардусом или соколом или волком… Но человеческое оставалось сильнее, негоже крещёному бесовским блудом маяться, даже в мыслях. А вот в том, чтобы кинуться сильным телом в тугие, тёмные волны, греха не было. Князь долго плавал, разрезая руками воду, нырял, словно рыба в заходящей луне, со смехом пробовал ловить серебристых рыбёшек. Он углядел краем глаза, как играют в корнях водяницы, жаль чудо-девки исчезли стоило ему приблизиться. Чур их. Серко тихонько лежал на берегу, сложив лобастую башку на лапы — прав был братец, волчья кровь течёт в этой собаке. Князь сел рядом, запустил пальцы в желтоватую жёсткую шерсть, пёс вздохнул и придвинулся ближе, согреть ноги хозяину. Третий месяц как разлучённый с семьёй, Борис скучал по жене и детям, но Янушка собралась оставаться в Дорогобуже до полного выздоровления матери.
Прохладный туман поднялся с воды, окутал длинные ветви яворов и далёкие дубы. Птичий хор засвистал с новой силой, ему откликнулись ранние петухи. Небо было уже почти светлым. Князь оделся и неспешно пошёл назад. Мощный тын городища наполнил Бориса гордостью — семь лет назад на ладыжинских холмах у слияния Буга и Сальницы стояла кучка дворов, кое-как отгороженных. Место вроде хорошее — и для хлеба и для пчёл и для рыбы и для торговых путей — а почитай пустовало. Болтали, мол, при Владимире-Солнышке старый Ящер летал в тех краях, похищал себе девок, а кто против вставал — вместе с хатами жёг. Потому и селились здесь неохотно и дочерей выдавали замуж, едва дождавшись первой крови. Взяв под руку Ладыжин, Борис пообещал, что сам пожжёт или вразумит батогами всякого, кто про бесов поганых сказы сказывать станет. А, подумав чутка, побалакал с Бонякой и первым делом, ещё до княжьего двора, поставил деревянную церковь святой Софии и крест вызолотил — пусть бережёт. Красота вышла несказанная — храмина, хоромы, терем девичий, дом дружинный. И народ подселяться пошёл — запалили огнища, распахали поля, посадили черешни с яблонями, бурёнушек завели, коз, лошадок. Ловкие охотники повадились бить куницу, бобра и выдру, коих в чащобах водилось несчитано, бортники собирали душистый липовый мёд, рыбаки коптили, а потом везли на продажу копчёных голавлей, рыбцов и лещей. Кузню поставили, мастеровитого коваля Янка с собой привезла из Дорогобужа. Завести б ещё стеклодувню, делать пёстрые бусы, обручья, посуду дивную… Рассеянный взгляд князя прошёлся по двору. Ставни высокого девичьего оконца отворились с лёгким скрипом. Из светлицы Заюшки неуклюже выбрался крупный сокол. Очень большой. Переступил лапами, резко крикнул — и спорхнул с подоконника в ночь. Это ещё чья птица?!
Изумлённый Борис поспешил в покои. Гридень у дверей девичьего терема дрых, как свинья. Сенные девушки, подружки сестры и старая няня тоже спали вповалку по горнице. Сердце князя сжалось в тревоге. Что с сестрой? Он рывком распахнул дверь и увидел Заюшку, простоволосую, в просторной белой рубахе, стоящую у окна. Сестра повернулась на шум, полыхнула испуганными глазами — и вдруг с ошеломляющей ясностью Борис разглядел то, что не мог различить под парадными вышитыми одеждами — круглый, тяжкий живот. Князь взмахнул кулаком, сестра молча упала перед ним на колени. Ещё минута и он мог бы её убить. Сестру. Заюшку. Мамину дочку. Насмерть.
Дверь светлицы князь чуть не вышиб. Сонных клуш растолкал пинками. Гридню, не удержавшись, врезал сплеча — бабы дуры, а эта дрянь воин княжий. Чтоб никто не входил в терем! Чтобы мышь не пробежала, муха не пролетела!!! Баб дурных выпускать по бабьим делам, но при входе проверять каждую — что с собой тащит. А Зою — запереть на два замка и затворить окна… «раньше запирать надо было» отозвался внутренний голос. Господи, понмяни кротость царя Давида, прости и помилуй мя, прости и помилуй и её дуру грешную. С дальней улицы переливисто задудел берестяной рожок — пастухи собирали стадо на молодую травку. Словно в ответ зазвенел колокол, созывая народ к заутрене. Помолиться бы стоило. Князь покойно отстоял службу, повторяя за стареньким, тихоголосым батюшкой слова молитв. Запах смолы, ладана и курений, свет свечей и особенный, храмовый, мирный покой чуть утешили душу, гнев спал. Но исповедаться не хотелось — был грех, и, скорее всего ещё будет. Ох, Зоя-Заюшка, как же нам с тобой быть?
Завтрак в горло не шёл — Борис едва пожевал пшенной каши с изюмом, погрыз куриную ножку и отставил еду, удержавшись от сладостного желания смахнуть плошки на пол и велеть высечь толстую повариху — просто так, чтобы стравить злость. Зато конюхам перепало — и за плохо заплетённые гривы и за сено вместо овса (хотя сам же велел поберечь) и за драку между Чалым и Вороном. Любимый княжеский жеребец оказался покусан и ушиб ногу — пусть холопы и отдуваются. Олухи! Старшому боярину Давыду Путятичу Борис устроил такую выволочку, что старый вояка чуть не бросил на крыльцо перевязь вместе с мечом. Чтобы мои гридни на посту спали? Быть такого не может!!! Сам лично! Обойду! Проверю! Шкуру спущу!!! Землекопам, копошащимся на валу тоже досталось почём зря, мол рыхло кладёте, дождём размоет, всех к Бугу снесёт. Купец из Галича, роббе Йошка Файзман, ожидавший с утра справедливого княжьего суда и взыскания долгов с трёх дворов и дружинного гридня, порскнул прочь, аки мышь полевая, углядев грозный лик Бориса. Многопытный, хитрый Боняка не рисковал даже спрашивать, что случилось — просто таскался за хозяином следом, не отставая ни на шаг. Надо будет — сам скажет.
…Проще всего было бы если б сестра вдруг преставилась. Тихо-кротко, в самом расцвете лет. Или скромно потупив глазки подалась в монастырь — видение мол, мне было. Так в какую обитель её возьмут, с полным пузом?! Даниил Белецкий суровый князь. Если в Романовичах играла византийская жаркая кровь, по бабке, а у них с сестрой и по матушке, то Мстиславичи были чистыми северянами, плоть от плоти снегов, и били с рассудочной, ледяной яростью. Выдай он за белоголового Даниила непраздную Заюшку — крови пролилось бы, не утереться. И как отказать теперь? Отложить свадьбу, дожидаясь, пока родит? Девку с бабой даже слепой не спутает. Другой сестры на выданье нет, дочери от Янки ещё малы, а приблудную княжну против законной кто же возьмёт? Похоже, выбор один — Даниилу отписать, мол, больна Зоя тяжкой хворью — лихоманку подхватила или гнилую горячку. Сестру с бабами до самых родов из терема не выпускать ни на шаг, сказать, что слегла княжна. Челяди пообещать — язык отрежу, буде кто проболтается. Или в самом деле поотрезать языки?… князь мотнул головой — чай, не половец. Как родит — в монастырь. Дитя… пусть сперва свет увидит, там поглядим. Можно на сторону отдать. Может и мы с Янкой воспитаем, своя кровь, не чужая…
Неожиданно князь остановился посреди улицы. Верный Серко тут же сел рядом, ткнулся носом в ладонь. Осторожно отпихнув пса, Борис поскрёб пятернёй в затылке. А с чьею кровью смешалось византийское золото, кто отец будущего ребёнка? Если князь или старший боярин — можно ведь брак на брак поменять. У старшого Романовича, Святослава Черниговского, было две дочки на выданье, у среднего брата, Михаила Уненежского, одна поспела. А не то, с половецкими ханами породнить Бельцы или в Византию к материной родне… Поперёк телеги лошадь запряг! — взъярился на себя князь. А если снасильничал кто Заюшку? Или по доброй воле с гриднем сошлась, с челядинцем али холопом?! Убью. Вот тогда — убью гада, — решил Борис, и на этом ему стало легче.
— Что печалишься, свет-надёжа князь? Ночью с бродягами стакнулся, запечённого в глине ежа откушал, а теперь чревом маешься? Или пёстрою юбкой по устам мазнуло, а медку-то и не досталось? — хитрец Боняка тотчас заметил, что лицо князя просветлело. Привычно увернувшись от заслуженной оплеухи, он заглянул в лицо Борису, снизу вверх, моргая выпуклыми глазами:
— Чего уж там, вижу, суров и смурен, аки Навуходоносор. Говори, князь, что за напасть.
— Пошли к Бугу, — буркнул Борис, болтать на людях ему не хотелось. А забавник и вправду что дельное присоветует — горбатый уродец был самым умным, хитрым, бесстрашным и преданным из челядинцев. Они сели на берегу, в тени старой берёзы с вывороченными корнями. Серко, послушный короткой команде «сторожи», улёгся поперёк тропинки, чутко выставив уши. Боняка сел подле княжьих ног, пристроил поудобнее горб и велел:
— Сказывай.
Забавник, казалось, нисколько не удивился. Мысль, что княжну снасильничали, он отверг — даже в лес по ягоды Зоя ходила с девушками и бабами, кто б её хоть на час оставил одну. Надежду о родстве с иным знатным домом он отверг так же быстро — никаких заезжих княжичей на белых конях с прошлой осени в Ладыжине не появлялось. Зазнобы из гридней, челядинцев или упаси боже холопов у Зои не было — сболтнули бы, девки завистливые заметили и сболтнули. Не примечалось, чтобы следила она глазами за чьей-нибудь ясноглазой красой. Задумчива бывала последние месяцы — да. Бледна. Под глазами круги, губы пухлые — шептались, мол, не по душе княжне жених из Бельц, не торопится она к собственной свадьбе.
— А пошли-ка мы сестру твою, князь, навестим. Глядишь, сама она что расскажет. А я тем временем глазом по хоромам пройдусь — у меня, старика, глаз на всякое зло зорче.
…Как и следовало ожидать, Зоя молчала. Ненавидяще смотрела на брата, зыркала чёрными, заплаканными глазами, сидела сжавшись на лавке, прикрывала драгоценное пузо. Словно не он, Борис, учил её ногу через порог заносить и на лошадь верхом садиться, прикрывал от злой мачехи и отцова тяжкого гнева. Что ей стоило подойти, рассказать, так мол, брате и так, любый есть у меня — отдай. Покричал бы, да, кулаком постучал по столу, погрозился бы — и отдал. Ужели не пожалел бы единородную, единокровную, лицом в лицо — матушку?! Сухая цепкая ладошка Боняки дёрнула князя за рукав:
— Глянь.
Забавник протягивал князю горсть перьев. Пышно-белых с тёмными кончиками, просто белых, тёмно-серых, длинных и заострённых. Потом рука указала на подоконник — свежее дерево прорезали глубокие, узкие царапины, словно бы следы хищных когтей.
— Ножи острые в ставни воткни, князь. Чем больше, тем лучше. А во двор и на крышу терема — гридней с луками и самострелами, всех собирай, мало не покажется.
Зоя охнула и повалилась без чувств.
— Правду говорю, вишь! — зло ухмыльнулся Боняка.
Ввечеру засада была готова. Зою заперли в дальней горнице. Ножи воткнули. Гридней с луками рассадили, боярин Давыд самолично засел у крыльца с самострелом. Князь препоясался добрым мечом, надеясь на добрую сечу. Ночь была лунной, светлой — явится кто, сразу встретим со всем гостеприимством… Князь с дружиной просидели всем скопом с заката до первых петухов, тетивы у луков отсырели, одежда вымокла от росы. И вторую ночь просидели. И третью. С недосыпу вои ходили злые, словно цепные псы, у холопов чубы трещали от княжьей ласки, а Боняка старался не показываться лишний раз на глаза Борису. Но был упорен, настаивал — надо сидеть.
На четвёртую ночь полил дождь. Мелкий, серый холодный дождь, от которого враз покрывается ржавью кольчуга. Гридни ворчали, почти не скрываясь, луки держали спущенными, стрелы прятали в кожаных колчанах. И когда в отворённые ставни с криком грянулась птица, никто не успел выстрелить. Нет, она не упала и не улетела — распахнула огромные крылья, и опустилась во двор. Тёмные капли крови стекали по белым перьям. Это был сокол. Очень большой и очень сердитый сокол с крючковатым, острым клювом. Кто-то из младших гридней, завопив, прыгнул с крыши в крапиву, остальные лихорадочно натягивали тетивы, ожидая команды. Птица щёлкнула клювом, заклекотала, подпрыгнула, кувырнулась через голову, и князь Борис пожалел, что он не сопливый отрок, которому можно бечь по мокрой крапиве в мокрых штанах. Тур, огромный мохнатый тур, с загнутыми рогами и длинной, волнистой, густо-синею шерстью возвышался посередь двора. От зверя веяло дикой мощью, могучей и страшной силой. Нутром князь понял — это нельзя из луков. Только в честном бою, равный с равным. Очень медленно Борис расстегнул пояс, совлёк кольчугу, снял островерхий шлем. Нож и голые руки. Он был красив, молодой ладыженский князь — рыжекудрый и смуглый, как мать-гречанка, с мощным торсом, литыми плечами и неожиданно узкими, почти девичьими запястьями. Он был быстр, отважен и удачлив в бою, он стоял на своей, родовой земле и ничего не боялся. Ну, зверюга, давай!!! Кто кого?
Ярый тур устремился в атаку, наклонив голову. Князь рванулся наперерез и ухватил зверя за рога. Они встали — сила на силу, воля на волю. В глазах у Бориса мутилось, дыханию стало тесно в груди. Казалось, напряжённые мышцы сейчас порвутся, спина хрустнет, и зверь пойдёт по человеку копытами. Сквозь собственный натужный хрип он услышал, как орёт Боняка «Стой, князя зацепишь!» — и оттолкнулся ладонями от рогов, отшагнул «Не стрелять!!!!». Тур за ним не пошёл. Он стоял и смотрел прямо князю в глаза синими, пронзительными очами. «Словно звёзды глядят из колодца» — некстати подумал Борис. Во дворе встала мёртвая тишина, гридни словно боялись дышать, даже капли дождя опускались на землю неслышно. У огромного зверя вдруг подломились ноги, он грянулся ниц — чтобы подняться — нет не добрым молодцем, а могучим, кряжистым, немолодым уже мужиком, с широченными плечищами и короткими кривыми ногами. Копна полуседых волос закрыла лицо, он совсем по-звериному мотнул головой, убирая пряди со лба. Глаза у чудища остались прежние — синие и глубокие. Неожиданно он поклонился князю — в пояс, как равный равному:
— Отдай за меня сестру, светлый князь! Вено дам, какое ни пожелаешь. Отслужу службу, какую запросишь. Отдай!
— А кто ты таков, что сестру мою в жёны просишь? Кто отец твой, кто твоя мать? Почему не пришёл со сватами, а прокрался в светлицу, как тать? — давний обычай подсказывал Борису слова.
Незнакомец усмехнулся и чуть ссутулился, словно ждал нападения:
— Волх я. Серый Волх, сын Любавы Олеговны, из переяславских Ольговичей.
— А отец-то твой кто? — неожиданно встрял Боняка.
— Отец? — Волх замолчал надолго, словно пробуя на вкус тишину, — Бог мой отец. Старый Ящер, летучий змей.
Одинокая стрела просвистела над крышей и ушла в темноту. Гридни попятились. Борис понял — ещё минута и во дворе будет бойня. Бесова сына, может, они и сложат, но на этом князь лишится дружины. И хорошо, если голову сохранит.
— Стоять! — рыкнул он на парней, — всем стоять, сволота! Поперёк князя из пекла полезли?! Щит к ноге!!!
Шестеро старших гридней тотчас выстроились подле ворот, уткнув в землю острые концы щитов. Остальные сгрудились за живой стеной, целя стрелы.
— Добро. Держите строй. Молча. Князь говорит.
Хмурый Волх стоял совершенно спокойно, словно железо не могло его уязвить. Но Борис видел глубокие, сочащиеся кровью царапины на груди и плечах богатыря — не иначе как об ножи в ставнях. Князь глубоко вдохнул, чтобы спутанные слова улеглись в голове нужным порядком.
— Значит так, Волх сын Любавы… Виру с тебя возьму и немалую. Сестру княжью поял, как холопку безродную, семье позор принёс, Белецкому князю свадьбу сгубил, против чести пошёл. Стены мне поставь. Каменные. Вокруг Ладыжина. Чтобы ни огонь, ни вода, ни дерево ни враги лютые их порушить не могли во веки веков…
Волх легонько повёл бровями:
— За белы камушки сестру продаёшь? Хорошо… Через три дня, князь, будет тебе стена. Ни огнём, ни водою ни вражьей силой её не взломят.
— Я не договорил, Волх сын Любавы. Я, князь Борис Романович, крещёный, верю в Христа, Богородицу и святых. Отец наш, князь Роман Ингваревич Черниговский отошёл ко Христу, и княгиня-матушка Ирина Феодоровна почила в бозе, и князь Ингвар Святославич Черниговский и отец его и дед и прадед… И сестра моя, княжна Зоя Романовна не пойдёт за бесьего сына плодить нехристей-чертенят. Хочешь взять её в жёны — прими Христа. И веди сестру под венец в церковь, как положено у добрых людей.
Нехороший взгляд Волха упёрся в переносицу князю:
— А если я скажу «нет»? Я сильней тебя, князь, и сильнее твоей дружины. Разметаю по брёвнам тын, стопчу твоих воев и уйду себе в лес с сестрой твоей на плече… Что поделаешь?
Низкий голос Бориса был тяжёл словно молот:
— Не уйдёшь. И не скажешь.
Волх ссутулился, наклонил голову, сжал пудовые кулаки… на какой-то момент Борису показалось, что битва всё-таки будет. Но вот тяжёлые плечи поникли:
— Хорошо. Приму крест. Но и ты, князь, обещай, что пройдёшь со мной по лесу, в ночь перед тем, как я в церковь отправлюсь. По рукам?
Князь ударил ладонью о широкую, как подушка, десницу. Тут же Волх отпрыгнул назад, кувыркнулся и взмыл вверх серым соколом. Никому из дружинников, к счастью, не взбрело в буйну голову пальнуть вслед. Разом ослабнув, князь приказал Давыду Путятичу расставить караул и побрёл в девичий терем. Исстрадавшаяся Зоя металась по горнице, мало не обезумев. Борис обнял её как в детстве, удержал вырывающееся, горячее тело, неловко чмокнул в золотую макушку:
— Всё хорошо, Заюшка. Жив твой сокол, целёхонек. Бог даст — и свадьбу сыграете.
В распахнутых глазах Зои попеременно сменились недоверие, испуг, радость:
— Правда, брат?
— Да. Счастлива будешь, любит он тебя крепко.
Зоя тут же заплакала. Бабий глупый обычай — горе в дом, надо слёзы точить, счастье в дом, тоже солёной росой умоешься. Князь машинально гладил сестру по мягким, пахнущим мятой кудрям и думал об одном — как бы не упасть прямо в горнице. Поединок со змеевым сыном забрал все силы. Он передал Заюшку на руки сенным девушкам, кое-как спустился во двор и побрёл в свои покои. Верный Боняка выскочил, словно таракан из подпечья, князь заплетающимся языком поблагодарил раба и уснул, не дождавшись, пока челядинцы снимут с него перепачканные мокрой глиной, тяжёлые сапоги. Из глухого сна князя вырвал перепуганный отрок:
— Князь-батюшка, ступайте поглядеть, что за городом деется!
…Значит не приснилось. Сонный Борис даже не стал обуваться. Он вышел со двора, поднялся на тын у ворот — и слова молитвы сами легли на губы. Раз за разом князь повторял «Отче наш» вперив взгляд в чёрный вспученный холм, из которого поднимался белоснежный, словно младенческий зуб, первый зубец новой крепости…
Отец Викентий поспешил князю навстречу, едва Борис вошёл в церковь. Кроткий старый священник был смертельно напуган, у него тряслись руки. Он бормотал что-то о гонце в Лавру, молебствии и защите от дьявольских козней. Узнав, что беса привадила Зоя — пообещал отлучить её вместе с семейством от церкви. А, услышав про княжью просьбу и вовсе пришёл в неистовство, затопал ногами и закричал слабым голосом, что без патриаршего благословения о таком святотатстве, бесовской пакости и помыслить-то грешно. Упираясь ладошками в княжью грудь, старик вытолкал Бориса из церкви и громко захлопнул за ним дверь.
Дело запахло скверно. Князь уже осознал, что столкнулся с силой превышающей и его могуту и его разумение. О прежних богах, тех, кого скинул в Днепр князь Владимир, он слышал — немного, но слышал. Мелкой нечисти — купалок, полуденниц, леших, гуменников, банников — навидался вволю. Украдкой, мельком, из укромного уголка, но видал, и как шутят они над людьми, и как блазнят и как по лесу водят легковерного бедолагу. Про вовкулака однажды рассказывал дядька Рагнар — у его батюшки в дружине был норвег, который прыгал через ножи, только он однажды взбесился, пошёл грызть лошадей, и его порубала дружина. А вот старые сказки — о жуткой, безглазой Коровьей смерти, о змее-Ящере, о гневливом Перуне-громовержце, о матери Живе и весенних плясунах Лёле с Лелем — казалось канули в прошлое, растворились по рекам, затерялись в чащобах и глухомани. Как повторяла матушка «Кто пшено в горшок сыпал, тому и кашу варить».
— Дай бог светлому князю дожить до ста двадцати лет и ни одного дня из этих лет не печалиться так, как от нынешних горьких забот! — роббе Йошка, похоже, решил, что нашлось подходящее время напомнить о своих должниках. Князь уже дважды выслушивал его пространные, витиеватые жалобы и решение давно принял.
— С Дедюхи Волчка возьмёшь свои восемь гривен. Будет рыпаться — скажи, князь приказал платить. С Белоярова дыма — шесть гривен, они надысь двух теляти продали, при деньгах. С Василья Гвоздя — мехами, нету у него серебра. А вдову Ростиславлеву брось. Сам знаешь, брать с неё нечего, а в рабы ни её ни детей не отдам.
— Ай, князь, до серебра ли тут, когда в городе суматоха. Как говорил мудрец: маленькому рыбаку достаётся большая рыба…
— Нет мне дела до твоих мудрецов, нехристь! Получи свои деньги и проваливай с богом.
— Как говорил мудрец, — Йошка проворно отпрянул и продолжил — с поганой собаки и репьи хороши. Беда у тебя князь и немалая, разве чудом сумеешь выбраться. Когда реб Иегуда в Кракове пробовал делать голема и ошибся в пятой букве имени бога…
— И цидульки твои поганые мне не нужны!!! — рявкнул Борис.
— Замолкаю! Замолкаю и ухожу, — заюлил Йошка, пятясь, — только вспомни, кто сидит настоятелем в Святогоровом монастыре.
Кто сидит настоятелем в Святогоровом монастыре? Семь лет назад столетние стены кое-как укреплял толстобрюхий Геронтий, любитель печёной зайчатины, красного мёда и пирогов с грибами. Три года назад чревоугодник утонул в Буге. Новый пастырь прибыл из самого Киева, болтали, мол с кем-то в Лавре не сошёлся характерами. Звали его Евпатий, прежде чем сесть в обители, монах пешком обошёл полземли, бывал и в Константинополе и в Иерусалиме, и в Иордане губы мочил и на гору Фавор подымался. Бесов он изгонял легионами, больных исцелял божьим словом и за палицу отеческую был не дурак взяться, если кто набегал из Дикого поля… Вот тебя-то мне, батюшка, и надо!!!
Вместо себя в Ладыжине князь оставил Давыда Путятича. Гридня Шупика взял с собою для пущей важности, от Боняки отговориться не смог и Серко увязался следом — чем не свита? Ехать было неблизко — солнце уже садилось за сосны, когда из-за дальнего поворота блеснуло озеро и показался рубленый монастырь. Был он мал, но выглядел прочным — крепость, не божий дом.
Монах, что, зевая, открыл двери нежданным путникам, тоже не походил на смиренного чернеца — тяжкие кулаки, тяжкая поступь и совершенно разбойничья физиономия. Вызвать батюшку настоятеля он наотрез отказался — сейчас служба, потом отец Евпатий почивать будет. С вечери до заутрени он по обету и слова не говорит, так что незачем вам его, чада, тревожить. Коней можете привязать под навесом, почивать лечь в сараюшке, она пустует. Угостить вас, уж извините, нечем, трапеза давно кончилась. Доброй ночи!
Злой как оса Боняка хотел вступить в перебранку, но князь одёрнул его — будет. Жалует царь, да не жалует псарь — поутру разберёмся.
Заутреню князь отстоял вместе с монахами и челядь поднял помолиться — дело вишь, предстояло нешуточное. В трапезной им, как и прочим, поднесли по миске овсяной каши, даже без хлеба. Келья отца Евпатия, куда провёл князя косоглазый чернец — ни дать ни взять половец, — тоже была почти пуста. Голая лавка, полка с книгами, да икона со свечкой. Сам настоятель казался огромным — и не потому даже, что отличался высоким ростом и мощью тела. Он словно полнился изнутри некой силой, светился ей. Особенно это было заметно по взгляду — из-под кустистых жёлто-седых бровей смотрели ясные, словно два родника, глаза. Изумлённому Борису вдруг вспомнились синие глаза тура… блазнится! Князь перекрестился, отгоняя наваждение, поцеловал руку пастырю и начал свой рассказ.
Сперва священник слушал невозмутимо, кое-где ухмыляясь в бороду. Мол, дело молодое, поправимое. Дивный сокол, оборотившийся в тура, тоже не удивил, разве что взгляд у пастыря стал внимательнее. Он кивал, одобряя, постукивал пальцем по лавке… и даже побледнел медленно, словно был ранен:
— Что ты бесу велел, сын мой? Повтори, может, я глух от старости?
Борис чуть повысил голос:
— Хочешь взять Зою в жёны — прими Христа. И веди сестру под венец в церковь, как положено у добрых людей.
— И он согласился? — отец Евпатий поднялся с лавки, в келье сразу стало тесно.
— Да отче. Сказал, что крест примет. И стену строить взялся вокруг Ладыжина, — подтвердил Борис.
— Ты хоть понимаешь, что затеял… чадо ты неразумное! Анафемы захотел? Или душу свою не жаль или город со всем животом? Или хочешь, чтоб старые идолы из травы встали, головы подняли?! Думаешь все они в Днепре потонули, в дикие чащи изошли?! Ливы по сю пору Перкуносу рогатому молятся, коней ему режут и огни жгут. А сколько отсюда до Двины-то?!! Эх ты, князь…
Гневный Евпатий мерил шагами келью, зажав в деснице длинные чётки — бусины так и мелькали. У Бориса оставался последний козырь:
— Батюшка, он русич по рождению. Сын княжны переяславской… да хоть бы и сенной девки. Христос сказал ведь, что примет любого — и мытаря и грешника и даже разбойника на кресте простил. Если Волх сын людской, значит у него душа есть.
— Душа есть… Душа, — вдруг Евпатий остановился, — что ты знаешь о душе, чадо? Каким судом тебя судить будут, каким мои грехи смерят?
— Я знаю, что буду спасён, — просто сказал Борис, — и ты, отче будешь спасён. А Волха кроме тебя никому не спасти.
— То же самое говорил мне один франкский витязь подле Бет-Лехема, умирая от ран. Он лежал и пах гнилью и черви жрали его плоть. А он всё пробовал встать и хрипел, что встанет — ведь если не он, кто спасёт Иерусалим, кто пойдёт отбивать город у сарацинов?!!!
— И что?
— Он умер. Я засыпал его песком и прочёл молитву над телом и воткнул в землю его собственный меч — там даже не было дерева срубить крест. А Иерусалим остался под рукой сарацинского князя Салахаддина, — настоятель остановился у окна кельи и задумчиво глянул вдаль, на гладкое словно шёлк, безмятежное озерцо. Призраки жарких стран и тяжёлых походов словно бы окружили его, горячим ветром подуло по маленькой келье. А Борису вдруг представились белопарусные дромоны, и как сам он, словно Святослав на Константинополь, плывёт во Святую Землю с верной дружиной Черниговской. И где-то там поднимаются стены Иерусалима — большого, как Киев-град, с златоглавыми церквями и золотыми воротами…
— Хорошо. Я крещу твоего беса. Потом, если живы будем, с сестрой твоей обвенчаю. И чадо их как родится, тоже крещу — кто кроме меня согласится? Вместе будем грехи отмаливать, кто здесь не грешен… Когда говоришь, бес стену пошёл ставить?
— Вчера с рассвета.
— Значит завтра, к закату, закончит. Езжай к себе в Ладыжин, князь, и ничего не бойся. Как построит бес стену — вели ему в полдень явиться к церкви. Я к тому времени подоспею. Да, и с сестры своей глаз не спускай и в храме ей вели быть, не пойдёт, так силой тащи. Ступай.
У Бориса слегка отлегло от сердца. Пятясь он вышел из кельи и споткнулся о притаившегося Боняку — хитрец всё же подслушивал у дверей:
— Уговорил я отца Евпатия. Едем домой. Вели Шупику седлать лошадей, а я пойду помолюсь.
…Князь любил постоять один в пустом, тихом-тихом храме, когда суровые взгляды икон словно смягчаются, и можно поговорить с богом наедине. Встав на колени, Борис покаялся, что пожелал было сестре смерти, гневался попусту на людей, попросил смирить злую гордыню, что влекла его из малого Ладыжина к большим делам. Прохлада храма успокоила его, словно ладонь матери легла на воспалённый лоб, но стоило выйти во двор, как тоска зашевелилась снова. По дороге назад князь молчал, даже шутки Боняки его раздражали. Мысль о величии словно плеснула кислотой в душу. Ему двадцать пять. Святослав в эти годы ходил в Константинополь, князь Владимир крестил Киев. А ему, Борису Романовичу, светит подымать Ладыжин и молиться, чтобы город встал на ноги, прокормил его род, дал корень в землю. Почему не пойти против старших братьев за Черниговский стол, или хоть бы податься к чехам, ромеям, свирепым франкам — бранной славы искать? Мечом отбить себе жаркую, измождённую землю, караулить ночами поля, ожидая набега кочевников, мечом высекать искры из жёлтых стен и падать перед иконами на колени — в ещё не просохшую кровь. Чтобы не три десятка — сто, двести, тысяча воинов славной дружины шли следом, и, стуча мечами в щиты, громыхали «Бо-рис! Бо-рис!!!». Чтобы увидеть, как разрезают море белопарусные дромоны, как усталое солнце садится за белые шапки гор, как идёт по траве зверь-гора олифант а над ним парит огнекрылое чудо жар-птица. Чтоб добраться до края земли, как Александр Великий… взгляд князя упёрся в чёрный блестящий комок почвы, прилипший к копыту коня… Вот она, твоя земля, князь. Её тебе поднимать, её сторожить, её кровью своей поить, чтобы лучше родила.
Доехать засветло не успели, заночевали в лесу. Солнце уже светило вовсю, когда князь со свитой приблизились к городу. Белые стены Ладыжина были видны издалека — словно кубики льда, сложенные для детского баловства — но от детских игрушек не веет такой угрозой. Князь некстати подумал, что не хотел бы теперь штурмом брать собственный город — разве если пороки делать и ворота ломать. А вот жителей — и дружинников и челядь и смердов и даже баб — новое укрепление почему-то не радовало. Роббе Йошка удрал в свой Галич, не собрав половину долгов, кое-кто из холопов тоже хотел податься в бега, но Давыду Путятичу где кулаком где словом удалось увещевать трусов. По дороге до княжьих палат к Борису подошло не меньше двух десятков просителей, и всем он отвечал одно и то же: приедет отец Евпатий из Святогоровой обители, благословит стены, беса покрестит к вящей славе Бога и Ладыжина и всё будет хорошо. В покоях он заперся у себя, велел подать вина с пряниками и до вечера не беспокоить без надобности. И без того душу князя снедало неуёмное беспокойство, он волновался как в четырнадцать лет перед первой битвой. Растянувшись на лавке, Борис попробовал было взяться за переплетённую в сафьян, ветхую «Александрию», но подвиги великого царя не отвлекли, слова не шли на ум. Хорошо бы зарыться лицом в мягкое и податливое бабье тепло, позабыть обо всём, хлебнуть сладости… и гадать потом, глядя на рыжего, черноглазого сына дворовой рабыни «мой — не мой», а ведь всех-то в покои не приберёшь. Чуть подумав, князь кликнул Боняку, приказал расставить тавлеи и сел двигать фигуры. Обычно раб обыгрывал повелителя девять раз из десяти, но тут — не иначе от злости — Борис трижды подряд загнал в ловушку забавника, принуждая того сдаваться… Дело близилось к вечеру — вот и закат коснулся крылом воды батюшки-Буга.
…Борис оделся как на княжью охоту — простые льняные порты, мягкие, кожаные, богато расшитые жемчугом сапоги, шёлковая нижняя сорочка, алый кафтан с оплечьями и золотой каймой, шёлковый вышитый пояс и шапка, отороченная бобром. Из оружия — тот же любимый нож, ещё дедов, с волчьей мордой у рукояти и перчатка-кистень со свинцовыми бляхами. Из запаса — краюху хлеба да малую флягу вина. А вот мечом опоясываться не след — вряд ли князя ждёт битва. И исповедаться рановато — бог даст, вернусь живым, тогда разом за все грехи разочтусь. Боняка крутился рядом понурый, как пёс, которого не берут на прогулку. Ещё пять зим назад, когда Галицкий князь воевал Чернигов, и Борис с дружиной ушли на сечу под стягом старшего Романовича, был у них уговор — случись что с князем, забавник подастся к Янке, беречь её и дочурок. Ладно, с богом. Отогнав тревожные мысли, Борис присел напоследок на лавку, встал, перекрестился, поклонился в пояс иконе Бориса и Глеба и пошёл к бесу — принимать виру.
Крепость, за три дня выросшая вокруг Ладыжинского детинца, была прекрасна. Двое ворот, четыре стройных башни с бойницами, широкий ров, отводящий течение Буга так, что город оказывался на острове, аккуратный наборный мост через текучую воду — поутру ни моста, ни рва ещё не было. Чтобы держать оборону такой махины по всем правилам тактики нужно было не меньше сотни бойцов… ну положим, горожанам можно дать луки, а под защиту белокаменных стен люд потянется быстро. Бог ты мой, с такой крепостью можно вправду собирать вотчину, кормить большую дружину и не бояться ни половца ни голодного степняка. И палаты поставить каменные и церковь и мастеровых завести и сыну — а Янка непременнейше родит сына — оставить в наследство богатый и крепкий город. И на степь выйти с развёрнутым стягом и отправиться в Константинополь за богатой добычей и тысяча воинов за плечами «Бо-рис! Бо-рис!»…
— Борис Романович, всё по твоему слову, — невесть откуда появившийся Волх обвёл широким жестом руки могучие стены — вот тебе кремль Ладыжинский. Ни огонь ни вода ни железо ни дерево не возьмут крепость. Только ложь и обман сокрушат здесь врата, запомни князь! Только ложь и обман!!!
Князь увидел, как зашептались дружинники, как холоп дал подзатыльник мальчишке — запоминай.
— Только ложь и обман. Запомню и детям своим заповедаю. Благодарствую за труд, Волх и принимаю виру, нет больше между нами обид.
— А теперь пойдём со мной, князь Ладыжинский. Твою землю я уже видел, взгляни напоследок и на моё княжество. Только не обессудь — я тебе глаза завяжу.
Борис услышал, как загудела дружина — точь-в-точь пчёлы, почуяв медведя у борти, — и кивнул Давыду Путятичу: уводи гридней. Волх ждал. Когда последний человек скрылся за воротами, он достал из кармана синюю ленту. Князь бесстрашно подставил лицо. Сперва ему показалось, что он потеряет зрение — прикосновение ткани было острым, болезненным. Волх сильно взял князя за руку и повёл — как ребёнка или слепца. «Так должно быть, водили князя Василька, ослеплённого братьями» — подумалось вдруг Борису. На какое-то время он сосредоточился на простых мелочах — как идти, как поставить ногу, что на дороге — корень, грязь, камень. Ощущения обострились — он чувствовал каждую шишку, ветку, неровность почвы, еловую лапу у плеча, мягкий листок берёзы, коснувшийся щеки, хлопанье птичьих крыльев над головой. Тёплый, яблочный ветер коснулся его лица. Из-под ног порскнула зазевавшаяся лягушка. Запищала мелкая птаха в кустах. Кто-то грузный заворочался в чаще леса. Засмеялся серебряный малый ручей. Заблестели первые звёзды на чистом небе… Князь почувствовал, что видит сквозь тонкую ткань, видит даже яснее, чем днём при свете. Они были в берёзовой роще, стволы светились, землю словно покрыло жемчугом… да нет же, это стайки подснежников рассыпались по траве. А над цветами, не касаясь босыми ногами земли, кружили девушки в белых летниках и рубахах, вели неспешно свой хоровод. Князь видел, как шевелятся губы берегинь, как собирается песня:
…Ай, лёли-лели, Гуси летели, За море сине Весну уносили. Ай, лели-лёли, Волки на воле Пастуха рвали, Овец воровали. Ай, лёли-лели, Девицы пели, Кругом ходили, Весну проводили…— Смотри князь, — громыхнул голос Волха, — смотри, когда ещё такое узришь.
У берега Сальницы в карауле стояли тени — молодой гридень в порубленном шлеме и пробитой кольчуге, старик с топором и юная женщина с вилами. Они беззвучно поклонились Борису, не сходя с места. Не долго думая, князь ответил им поклоном.
— Это бродяники, князь. Давно, ещё до варягов они здесь живьём жили. Пришли булгары, пожгли деревню, весь род побили. Почитай все мёртвые в ирий поднялись, а эти слишком ненавидели, когда гибли. Вот и остались сторожами. Если враг к Ладыжину приступит — они его заводить будут в трясины и реки на пути разливать… Ты смотри, смотри.
Подле Бурлячей болотины князь едва удержался от смеха — пожилая, плешивая лешачиха вывела на прогулку махоньких, шустреньких лешачат — кто на ежонка похож, кто на лисёнка, кто на щенка. Бойкие бесенята носились друг за дружкой по кочкам, кувыркались на мху, брызгались мутной водой из лужи, дрались из-за прошлогодних брусничин и листиков заячьей капусты и мирились умилительно вытянув рыльца навстречу друг другу. Мать — или бабка — похрапывала на пригорке, изредка отвешивала затрещину чересчур расшумевшимся отпрыскам, или гладила по голове отчаянно ревущего лешачонка, утирала ему слёзы и сопли… Мелкая мошка залетела Борису в ноздрю, он чихнул — и сей же миг ни следа лешачьей семейки не осталось на кочках.
На другом берегу реки, там, где сосны стоят обвитые сочным хмелем до самых крон, к ним навстречу вышли косули. Просто звери — доверчивые, живые, подставляющие спинки и шеи, осторожно снимающие губами подсоленный хлеб с ладони. Князь гладил тёплые уши, покатые лбы, дивился на нежные, почти девичьи глаза с загнутыми ресницами. Косуля — добыча, вкусное мясо, он помнил. Но сейчас ему показалось, что он больше не сможет травить собаками это лесное чудо, всаживать нож в беззащитную грудь, думать — а вдруг именно этот зверь брал хлеб у меня с руки?
Хмурый взгляд неприятно-жёлтых светящихся глаз едва не напугал князя. Кто-то большой, злобный поселился посреди бурелома и ворчал там, косился на прохожих недобро, хрустел, разгрызая кости, чем-то противно чмокал. Волх цыкнул туда, погрозил кулаком:
— Упырь проснулся. Голодный весной, а сил чтобы крупную дичь завалить — нет. Вон, заволок себе падаль какую-то и жуёт помаленьку. Был бы ты тут один, князь, мог бы и не вернуться в свой Ладыжин.
У протоки, там где крутой берег Сальницы бросал в речку длинную песчаную косу, в воде резвилась целая толпа водяниц — острогрудых, пригожих, сладеньких. Они мыли друг другу длинные волосы, плели венки из первых жёлтых лилий, плавали вперегонки или просто качались в волнах, улыбаясь звёздам. Чужие люди сперва всполошили их — красавицы с визгом бросились прятаться кто в воду, кто в заросли камыша. Но потом водяницы осмелели, стали выглядывать из укрытий, строить глазки и нежными голосами зазывать гостей искупаться и поласкаться.
— Хочешь к ним? — насмешливо спросил Волх, — Пошли… окунёмся. При мне не обидят, не защекочут.
Красный как рак, Борис отрицательно помотал головой.
— И правильно, — согласился Волх, — они только с виду красивые. А сами холодные как лягушки и радости никакой.
Тропинка протекла через поле и остановилась у самой границы величавой дубовой рощи. Усталый, трудно дышащий Волх усадил князя на большой пень подле старого костровища, пошарил по кустам, добыл изрядную груду хвороста. …И запел. Постукивая пальцами по углям, затянул какую-то длинную песню без слов. То ли жаловался Волх, то ли печалился, то ли звал кого низким переливчатым голосом. Князь почти задремал, когда пронзительный свет ударил в глаза. На разлапистой груде хвороста преспокойно сидела жар-птица. Небольшая, размером чуть больше хорошего петуха, с длинным пышным хвостом и малюсенькой остроклювой головкой. Она переступала с лапки на лапку, вертела носом — совсем как голубь, который просит об угощении. От оперения расползались мелкие искры, хворост уже занялся. Волх зыркнул на Бориса, тот попробовал вспомнить обычай жар-птиц, но бесстыжая птаха его опередила. Хлопая крыльями подлетела к самому лицу, прицельно клюнула в оплечье, сглотнула гранат и взмыла в небо — потанцевать, покрасоваться под облаками. Тронув маленький ожог на носу, князь порадовался, что брил бороду и усы по византийскому обычаю — иначе быть бы ему палёным.
— Мало кто из крещёных видал то, что ты нынче видел. А ты видел, дай бог сотую долю из того, что можно увидеть. Алконост прячется, Сирин спит, из звериных хозяев никто не вышел — ни Кабан ни Волчиха ни Тур. Полуденницы по ночам таятся, дедушка Водяной по весне в озере на самом донце хвостом воду мутит, Индрик-зверь только летом в наши края забредает, Пчелиная Матка от роя далеко не отходит, — усталый Волх прилёг у костра, бородой к небу.
— Благодарствую, Волх… князь замялся — язык не поворачивался проговорить «Ящерович» — а ответь мне, как родич родичу, благо вскоре мы породнимся…
— Давай, — согласился Волх.
— Если ты владеешь столь чудным, прекрасным княжеством, зачем тебе становиться просто зятем Бориса из Ладыжина?
— Знал, что ты это спросишь. У тебя выпить есть? — Волх приподнялся на локте.
«Веселие Руси есть питие» — прав был князь Владимир. А если не весело, тем паче без вина не обойтись. Заветная фляга полетела через костёр, Волх ловко поймал её.
— Знаешь, как погиб мой отец, Старый Ящер? Илья Муромец бился с ним три дня и три ночи. А потом затравил раненного собаками, словно зверя.
— И ты не отомстил? — удивился Борис.
— Я б его сам убил. По крайней мере, попробовал. Злой стал Ящер, до крови жадный, до буйства неутолимый. Как почуял, что сила тает, власть из когтей уходит, яриться стал без причины, убивать почём зря. Матушку мою замучил… Она рассказывала, по молодости Змей весёлый был, удалой, бесшабашный. На спине её, девку, катал, сине небо показывал, чудеса небывалые. А под старость вот озверел, — Волх швырнул князю полупустую флягу, — И я тоже почувствовал, что зверею.
— Почему?
— Сила исконная во мне тает. Земля из-под ног уходит. Поговорить не с кем — я почувствовал вдруг, что забываю человечью речь. Там, откуда исчезает мудрость, поселяется злоба, — Волх помедлил, — а ещё я хочу, чтобы у меня были дети, которых никто не станет травить собаками. И умереть не в какой-нибудь дикой щели, а на своей лавке в своих покоях, чтобы сын мне глаза закрыл. Вино вышло?
Борис кивнул. Тяжёлый Волх поднялся на ноги, отошёл к дальнему пню, пошарил там под корнями и выкатил тёмный от старости мелкий бочонок.
— Мёд гречишный, столетний. К своей свадьбе берёг — вот и выпьем, брат. Ты же братом мне теперь будешь, а князь? Знаю, у князей брат брату враг хуже змея лютого может стать. Ты не бойся… землёй родной поклянусь, водой ключевой, жизнью своей — никогда злоумышлять против тебя и рода твоего не стану. Пей!
В руки Борису лёг прохладный деревянный ковшик. Такого мёда он никогда не пробовал — кисловатый, чуть терпкий, пахнущий летом, он смягчал душу и целил сердце. Стало спокойно, отступили заботы, словно спал княжий венец. Очень давно не случалось Борису просто сидеть у огня — не охотиться, не сторожить добычу не спешить в погоню или возвращаться с кровавой сечи — просто сидеть и смотреть, как пляшут по сухим веткам языки пламени. Ночь текла, словно сладкое молоко по Чумацкому Шляху, круглые звёзды то прятались за вуалями облаков то, прищурясь смотрели вниз. От земли пахло свежестью, молодая трава была мягкой на ощупь, сильные корни поднимали к поверхности влагу жизни. Пролетела сова и ворчливо заухала в чаще, ей откликнулся чем-то разбуженный ворон. Проходя к водопою, захрустели валежником отощавшие кабаны. Водяная лошадка подняла из реки белую голову и промчалась по сонной поляне, оставляя мокрый след на траве. …Князь лёг навзничь на землю — ему хотелось увидеть небо как можно полней, подняться ввысь к недостижимым звёздам, в глубокую синь…
— Пора, брат! — тяжёлая ладонь Волха легла на плечо, — рассветает. Закрой глаза.
Князь послушно зажмурился. Волх осторожно развязал ленту. Тусклый утренний свет резанул по глазам до слёз, мир казалось, стал серым и плоским…
— Это туман. Просто туман. Ступай по тропке, через Сальницу — по мосткам, бродом мимо водяниц не ходи. Вот, держи, — Волх бросил оземь пушистый клубок, — выведет. Значит, говоришь, к полудню в церковь?
— Да, к полудню, — ответил изумлённый Борис — он точно помнил, что не успел сказать Волху, когда его ждут в Ладыжине.
— Я приду, — Волх поклонился князю, грянулся оземь и взмыл вверх серым соколом. Тотчас клубок запрыгал, словно собачка, и покатился по тропке. Борис пошёл следом. Утренний воздух был прохладен и влажен, кафтан промок от росы, стало зябко. Густой туман клубился вдоль стволов сосен, стекал с белых берёз вставал над текучей водой, мешая видеть — или то пропадало колдовское действие ленты. Думая о своём, князь шёл быстро, едва поспевал за шустрым клубком… мимо поля, вдоль левого берега речки, мимо старого вяза с расщепленною вершиной, мимо ветхих мостков… стой!
— Клубочек-клубочек, а куда это ты меня ведёшь? — ошарашенно спросил князь. Он точно знал: надо было сворачивать на мостки. Цепкая память сохранила до мельчайших примет весь вчерашний путь… а клубочек, по-прежнему бодро подпрыгивая, манил вдаль — в омут к проказливым водяницам. Ядовитая мысль пронеслась в голове «Волх, змея, предал»… Нет, если б чудищу хотелось убить — он бы убил ночью, пока князь спал. Кто-то другой морочит голову, бесовским наваждением сбивает с пути. Князь размашисто перекрестился и прочёл молитву, спокойно и чётко выговаривая каждое слово. На последнем «Аминь» клубок рассыпался роем ос. Борис бросился в реку. Быстро переплыв Сальницу, он поднялся по глинистому обрыву, цепляясь за корни деревьев, и заспешил к Ладыжину, не полагаясь больше на тропы — звериное чутьё бывалого воина помогло ему определить направление. Небо так и не посветлело, начал накрапывать дождь, всё сильней и сильней. Вдрызг размокшие сапоги пришлось снять, князь шагал босиком через лужи, оскользался на цепкой траве, падал в грязь и снова вставал. Он уже начал было опасаться, что заплутает, но по счастью ветер донёс до Бориса дальний перезвон колоколов.
Белые стены Ладыжина окружала вода. Ров раздулся, волны грозили смыть мост и подточить рукотворный остров. Князь пробежал по скользким брёвнам и заколотил кулаком в ворота. Ему открыли тотчас. Не ожидая вопроса, гридень доложил, что приехал отец Евпатий с чудотворной иконой, что с рассвета в церкви не прекращается служба, что все младенцы в Ладыжине заходятся плачем, собаки попрятались по дворам, а коровы не дают бабам себя доить. Князь как был — босой, мокрый, облепленный грязью — поспешил в храм Софии. Сразу от двери он увидел, как бьёт поклоны отец Викентий — стоя перед иконой, старик читал какой-то длинный канон по-гречески. Всюду горели свечи — больше даже, чем на светлую Пасху. У отца Евпатия был усталый и озабоченный вид. Длинные чётки, которые князь запомнил с последней встречи, быстро-быстро щёлкали бусинами, прокручиваясь в сильных пальцах монаха.
— Ну, чадо неразумное, видишь теперь, в какие бирюльки играть собрался? — хмуро бросил Евпатий, — ступай к себе, переоденься, поешь. Силы тебе понадобятся — сторожем будешь своему Волху. Везёт как утопленнику этому бесу, глядишь и впрямь дело богу угодное делаем.
Надо бы исповедаться, — мельком подумал Борис, но настаивать не стал. В покоях он первым делом велел Боняке затопить баню, чтобы согреться и смыть грязь. Мылся быстро, без обычного удовольствия, после бани переоделся в неношеную рубаху и простые порты. Есть не стал — показалось, так правильней. За окном всё лил и лил дождь, полыхали зарницы, ворочался гром, бил по крышам свирепый ветер. Князю было не страшно, точнее «страшно» было неверным словом. Боялся ли Ной потопа, слыша, как стучит ливень по крыше его ковчега? Сила пошла на силу, воля на волю и он, Борис Ладыжинский был одной из фигурок в божьих тавлеях — неважно, снесут ли его с доски или дадут устоять, судьба партии определится на другом краю доски. Песок в часах пересыпался — время. Князь послал за сестрой и отправился в церковь сам. Он шёл медленно, стылый дождь бил его по щекам, мочил рыжие кудри, пробирался за пазуху. На колокольне Софии не умолкали колокола — слепой звонарь трудился вовсю. Князь увидел отца Евпатия — стоя на самом крыльце храма монах вглядывался в горизонт…
— Летит! Ах ты, вытребок, напоследок решил покуражиться!! Вон он, твой сокол, князь!!!
Прикрывая лицо ладонью, Борис глянул на небо — там били молнии, одна за одной, словно белые копья. А между ними мелькали серые крылья — сокол шёл наперерез ветру. Это было немыслимо сделать. Невозможно. Никак. Но птица резала собой воздух, уворачивалась от карающих бичей неба и продвигалась всё ближе к цели… Яркая вспышка озарила улицу, раздался хриплый, мучительный крик. Борис, не задумываясь рванулся вперёд — и грянулся оземь от удара птичьего тела. Гридни бросились поднимать, но Борис успел встать на ноги сам. И Волх тоже поднялся — измученный, мокрый, с алым рубцом ожога через всю грудь.
— В храм! Скорее! — крикнул Евпатий и кинулся на помощь. Они с Борисом подхватили Волха под белы руки и повели, верней сказать потащили к церкви. Князь слышал, как тяжело, хрипло дышит чудище, и как задыхается, надрывая силы монах… в одиночку б не вышло поднять грузное тело. Молния ударила возле крыльца, но двери уже захлопнулись. Купель была готова. Волха шатало, пришлось помочь ему разоблачиться. Мельком взглянув на сестру, князь увидел, что Зоя бледна и еле держится на ногах — кабы не скинула плод прямо в церкви.
— Держи его, князь. Если кого из нас порешит, убей — резко сказал Евпатий и отвернулся, — братие, время!
Отец Викентий возвысил голос:
— Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою…
Борис видел, как исказилось страданием лицо Волха, как налились кровью глаза, розоватая пена появилась на губах, как сжались пудовые кулаки. Отец Викентий молился, отец Евпатий совершал таинство — медленно, строго. Глаза монаха блестели, словно светлые звёзды — и вправду были похожи на синие очи тура. Голос громыхал, заполнял собой купол:
— Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех aггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?
Волх плюнул на пол:
— Отрицаюся!
Вместо старого человека встал серый сокол.
— Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех aггел его, и всего служения его, и всея гордыни?
Птичий крик был ответом, сокол харкнул кровавым и обратился в огромного тура.
— Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его?
Синий тур не двинулся с места. Он скрестил взор с монахом, как скрещивают мечи. Мгновения текли, было слышно только как хрипло вздымаются бока зверя, бьёт о крышу бешеный ливень, да неумолчно, размеренно звенит колокол. Гневом полнились синие глаза, гневом стихии, в которой не было ничего человеческого. Покоем правды сияли пронзительно голубые глаза, родниковой прозрачной ясностью. Сила на силу. Пальцы сами нашарили нож, Борис помнил — тура надо бить в шею, как закалывают быка. Если Волх бросится… Гридни не успели удержать Зою. Тонкая девичья фигура закрыла собой священника:
— Хочешь бить — меня бей!!!
В ответ ударила молния, храм содрогнулся. С улицы закричали разноголосьем:
— Церковь горит!
Тур склонил круторогую голову, плюнул на деревянные доски и упал, преобразясь в человека. Еле слышно он зашептал «Отче наш…». Отец Евпатий перекрестился:
— Быстро!!!
Борис кивнул и гридни под руки потащили наружу упирающуюся Зою. Волх уже был в купели, стоять он не мог. Дым пополз из-под купола.
— Крещается раб божий… раб божий Василий. Во имя отца! Аминь. Сына! Аминь. И святого духа! Аминь!
Монах зашарил рукою в воздухе. Отец Викентий протянул ему крестик на верёвочном гайтане. Волх покорно подставил шею… и упал спиной в воду, теряя сознание. Князь и отец Евпатий вытащили большое, обвисшее тело, монах выстриг крестообразную прядку и помазал новокрещёного миром. Борис всё поглядывал вверх, боясь не обрушится ли на них полыхающий купол, но дым словно бы таял в воздухе и вскорости выветрился совсем. Шум дождя тоже смолк. Князь упал на колени, повторяя благодарственные слова молитвы. Словно в ответ луч солнца пробился сквозь церковное оконце и тут же Волх-Василий открыл глаза. Князь поразился его взгляду — так смотрит только-только объезженный конь, впервые узнавший человечью властную руку.
— Кто ты теперь?
— Я раб божий Василий. Раньше звали Серым Волхом из Ладыжинской Пущи. Я помню тебя, брат. Я выполнил своё обещание, теперь ты выполняй своё.
— Погоди три денёчка со свадьбой, сын мой, если не хочешь молодую жену раньше срока вдовой оставить. Отлежаться тебе надо, отдышаться, привыкнуть. Уж поверь мне, нелёгкое это дело душу менять, — Евпатий смотрел сочувственно, даже ласково.
— Я своё слово сдержу, — подтвердил Борис, — встанешь на ноги и венчайся. Покои тебе поставим, приданое сестре соберём. А пока будь моим гостем.
— Благодарствую, князь….
Князь с крыльца крикнул гридней — отнести изнемогшего Василия в его покои, выделить горницу и челядинца в услужение, пока на ноги княжий зять сам не встанет. Отца Викентия тоже пришлось нести — старика священника не держали ноги. Счастливая Зоя, увидев, что любый жив, ушла сама — сил у неё прибавилось и глаза заблестели. У могучего отца Евпатия ещё хватило сил обойти новый Ладыжинский кремль крёстным ходом, во главе всех честных христиан. Он благословлял белые стены, чтобы берегли и хранили князя, княгиню, дружину, честных людей, их жён, детей, скотов и имущество. Князь покорно ходил следом за пастырем. Всё кончилось. Кончилось так хорошо, как не могло бы привидеться и в самом добром сне. У сестры будет счастье, у Волха — спасение, у него, Бориса Ладыжинского, белокаменный кремль с неприступными укреплениями. Отчего же непокой точит душу?
Завершив крёстный ход, отец Евпатий тотчас велел подать свою лошадь, чтобы ехать назад, в Святогоров монастырь. От провожатых наотрез отказался — кто тронет настоятеля монастыря? А кто тронет — того и палицей по-отечески поучить можно. Напоследок монах наказал, тотчас слать за ним, когда Зоя начнёт рожать, а до родов глаз с неё не спускать — мало ли кто нечистый на ребёнка позарится. Князь дождался, пока копыта каурой монастырской кобылы простучат по мосту, убедился, что город мирно готовится отойти ко сну, и отправился на своё любимое место к Бугу. Он любил посидеть у корней вывороченной берёзы, глядя, как тает в воде закат, как гоняются рыбы за крошками солнца. Верный Боняка осторожно прокрался следом, Борис чувствовал, что раб рядом, но не спешил его гнать. Князю думалось вязко, тяжеловесно. Стало ясным одно — мир уже не будет прежним, словно шустрая фишка тавлей соскочила с доски и укатилась в душистую пестроту луга. Что ещё скажет Янка и поверит ли сказу про ясна сокола, как удастся объясниться с Даниилом Белецким, не начнётся ли война раньше, чем он успеет собрать дружину, кто родится у Зои и успеем ли уследить… Мысли путались, переплетались, словно глупая бабья кудель. «Только ложь и обман» — вспомнил князь слова Волха и улыбнулся. Коль одна эта напасть угрожает Ладыжину, до скончания лет вражья лапа не ступит в город. У него есть и будут верные слуги, преданные друзья, любящие родные… Пусть свирепые братья грызутся между собой, он Борис, твёрдо помнит — негоже русичу на русича заносить меч. Тем паче на кровного своего. Если же придут половцы или булгаре или немецкие витязи добредут до Ладыжинских земель — их теперь есть, чем встретить. Честным пирком да за красную свадебку, сва-деб-ку… Медно-рыжая голова князя упала на руки, он уснул. Выждав немного, верный Боняка подкрался к Борису, заботливо укутал его синим плащом, сел рядышком и насторожил самострел. Раб сидел до рассвета, напряжённый и чуткий, как сторожевой пёс, точно зная — пока он жив, господина никто не тронет. Временами он нюхал воздух и удивлялся — майский ветер пах степью, лошадиным навозом и дымом горьких, чужих костров.
* * *
Спустя двадцать четыре года, в мае 1240 татарское войско хана Батыя, проходя по черниговским землям, осадило Ладыжин. Семь недель белокаменный кремль не поддавался ни штурмовым лестницам ни стенобитным машинам. Отчаявшись взять город силой, татары отправили гонцов к князю Борису Романовичу, суля живот, пощаду и милосердие, если город сдадут добровольно. Старый князь отказал, но горожане, изнемогшие от войны, настояли послушать татар и открыли ворота, дабы встретить Батыя дарами. Князь Борис Ладыжинский, его племянник Евпатий Васильевич и ближняя челядь затворились в каменной церкви и бились насмерть. Ладыжин был сожжён дотла.
Поединок
Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. (с) Джон Харрингтон— Проснитесь! Князь-батюшка, Сергей Григорьевич, да проснитесь же наконец — вас в Думе ждут нынче поутру и курьера уже прислали с депешей!
С трудом вырвавшись из тяжёлого сна, князь Волконский открыл глаза. Ему виделся тот же кошмар — снег, метель, запряжённые сани и тяжёлые кандалы на запястьях. Старая рана никак не могла зажить окончательно. Доктора говорили: надо ехать на воды в Баден… да откуда же время взять?
Старый Прохор, с обожанием глядя на господина, набросил ему на плечи любимый турецкий халат. На прикроватном столике, как всегда красовался подносик с чашкой кофе и набитою трубкой. Шторы не раздвигали — князь любил просыпаться спокойно.
— Как Мари?
— В ожидании, батюшка. В пятом часу начались схватки, но страдает не сильно. Доктор Арендт уже приехали, говорят, всё идёт благополучно.
— Как Николенька?
Прохор расплылся:
— Выздоровели Николай Сергеич! За полночь жар был сильный, две рубашки сменили князиньке, а к утру всё прошло. Сами проснулись, молока с булочкой скушать изволили и в солдатики играть побежали. Мамзель Флоранс хотела князиньку в постеле оставить, так они её бабой назвали — ничего, мол, вы бабы в войне не понимаете, а я генералом буду как папа!
Камердинер захихикал и перекрестил рот. Князь Волконский тоже улыбнулся — ему нравилась пылкость сына.
— Что ещё?
Прохор замялся:
— Тут Ивашка Меленьтев с сыновьями прошение подали. Мол, прощения просим, князь-батюшка, совсем с ума сошли от этой свободы — забирайте нас назад как есть, до скончания живота служить будем. Пьяница он, Ивашка, но кучер хороший и в лошадях толк знает.
…Такие случаи были не редкость. В первый год после оглашения «Манифеста о вольных земледельцах» множество крепостных, особенно из балованной домашней прислуги, покидало своих хозяев. Но уже весной двадцать восьмого люди начали возвращаться. Помнится, генерал Лунин долго вещал в Думе, что давать свободу и не давать земли — всё равно, что давать тарелку и не класть на неё хлеб. Но большинством решили отправить земельную реформу на тщательную всестороннюю проработку. До сих пор прорабатываем… чччиновнички.
— Пустить. Взять расписку, что по доброй воле вернулись в крепостное сословие и свободны из него в любой момент выйти — и пустить, — Сергей Григорьевич с удовольствием потянулся и встал, — подавай умываться. Завтракать не успею. Лошадей к подъезду через двадцать минут. И смотри, как Мари разрешится, или если, упаси бог, дурно дело пойдёт — тотчас пришли человека.
…Непогожее утро в Санкт-Петербурге способно заразить сплином почище лондонского тумана. Декабрьская погода — то ли снег, то ли дождь, то ли осень то ли зима. Свинцовые, тяжкие облака, свинцовая, густая вода под мостами. Бледные лица прохожих — словно утро прошлось по ним кистью свинцовых белил. Унылые голоса чухонцев-разносчиков, предлагающих фрукты, рыбу и горячие пироги. Почему бы Петру было не основать столицу в Крыму, у самого Чёрного моря — там абрикосы, вино и сплошные восточные пери? А в Петербурге из русских женщин словно уходит жизнь. Князь Волконский вспомнил стайку миловидных модисток из салона мадемуазель Гебль — никакого сравнения с нашими серыми утицами… Ах, кого я хочу обмануть?! В каретном поставце князь держал и коньяк и бокал и лимон и свежую мяту — чтобы не болтали, мол с самого утра пьёт Сановник Империи.
Четырнадцатого декабря 1825 года, таким же промозглым и стылым утром, Северное общество вывело полки на Сенатскую, ныне площадь Победы. Четырнадцатого декабря в полдень князь Оболенский арестовал великого князя Николая Павловича и его брата Михаила. Четырнадцатого декабря в три часа пополудни был подписан указ об отречении в пользу малолетнего Александра, регентами назначались князья Трубецкой, Оболенский, Волконский, Щепин-Ростовский и генерал Милорадович. В пять часов пополудни огласили манифест о свободе и равенстве. В семь часов пополудни в подвале Зимнего дворца прозвучали выстрелы… Предусмотрительный Константин подтвердил отречение ещё раз и, от греха подальше, подался из Польши в Цюрих. Вдовствующих императриц выслали в Пруссию — план Пестеля истребить всю семью революционеры признали чересчур кровожадным. Семилетний император Александр II и великие княжны Мария, Ольга и Александра остались в Петропавловском равелине.
Первого января 1826 года, в праздник Нового года, князь Волконский въехал в столицу — чтобы стать одним из двенадцати Сановников Новой Империи и наставником-охранителем царского дома. Он долго не мог понять, за какие заслуги избран. Но со временем уразумел — это было достаточно тонкой интригой, чтобы удалить князя-регента от настоящей власти. Так же как Щепин-Ростовский получил под начало образование с просвещением, даром, что по доброй воле из книг брал в руки одну Библию. Так же как бешеный Пестель был отправлен усмирять Польшу и погиб от шальной (а случайной ли?) пули в 1828 году. Так же как генерал Лунин после бурных дебатов в Думе уплыл в Америку — комендантом форта Росс и губернатором заокеанских владений. Уже на борту фрегата «Надежда», перед отплытием, старый вольнодумец демонстративно вымыл якобы испачканные в корабельной смоле руки — и никто не посмел возразить…
Неожиданно карета остановилась.
— Предъявите пропуск! — раздался молодой властный голос. У князя вдруг противно ёкнуло сердце.
— Ослеп, детинушка? Это ж Сановник Волконский на заседание едут! — огрызнулся с козел княжий кучер.
— В России все равны. Предъявляй!!!
— Успокойся, Степан, солдат прав. В России все равны нынче, — князь достал из портмонета паспорт нового образца, с циркулями и молоточками, — Получите, любезный.
Солдат искоса проглядел пухлые страницы. Князь улыбнулся в усы — служивый держал документ вверх ногами. Надо, надо будет провести в Думе закон об обязательном обучении грамоте лиц, состоящих на государственной службе. А то, право, перед Европой стыдно.
— Проезжайте.
Солдат козырнул, шлагбаум поднялся, карета въехала на Дворцовую. Князь пригладил усы и достал из поясного кармана золотые часы-луковицу. Парижская штучка — когда открываешь крышку, часы звонят «Марсельезу». До заседания Думы оставалось восемь минут. Когда князь, запыхавшись, ворвался в зал, депутаты уже пели «Отчизны верные сыны». Одиннадцать Сановников Империи заняли свою трибуну, ждали только его, Волконского. Кланяясь и улыбаясь во все стороны, князь лихорадочно думал — что произошло? Острое, нервное лицо Трубецкого осунулось, красавец Муравьёв-Апостол пощипывал усы, Одоевский барабанил по пачке бумаг пухлыми, белыми пальцами, Щепин-Ростовский опустил взгляд. Только Сановник Защиты Отечества, Его Высокопревосходительство Каховский Пётр Григорьевич, лоснился, как кот, облопавшийся сметаны. И старые генералы, ныне фельдмаршалы Милорадович и Раевский были спокойны. Князь вспомнил, как Милорадович на редуте в Бородино завтракал под пулями, как в одиночку вышел к полкам на Сенатскую и, напомнив солдатам славные дни, рявкнул «Россия за вас, братцы!». Именно этот невозмутимый, хитрый как змей, старик решил судьбу восстания.
Заседание оказалось мирным на удивление. Обсудили аграрный вопрос в Могилёвской губернии: депутат от «вольных хлебопашцев» поднял вопрос о несправедливой оценке «откупных земель». Постановили: запретить могилёвским помещикам продавать землю крестьянам больше, чем втрое дороже рыночных цен. Похоронили кодекс о возвращении польскому языку статуса второго национального — слишком свежа была память о мятеже в Варшаве. Господин Демидов-младший в третий раз поднял вопрос о налоге на импорт предметов роскоши: дамских туалетов, тканей, вин, мебели и драгоценностей. «Кавалергарды» дважды заворачивали сей нелепый закон, как утесняющий свободы дворянства. Теперь, похоже, заводчик умудрился создать коалицию с промышленниками и аграриями… С перевесом в три голоса новый налог прошёл. Князь Волконский осторожно взглянул на соседей — не за этим ли его срочно вызвали в Думу? Нет, похоже, депутатские дрязги не волновали Сановников. Благообразный купец с роскошной бородой до пупа, поднял вопрос о правах инородцев в Российской империи. Ему тут же начали возражать с мест, честя поочерёдно русофилом и христопродавцем. Как бы не выщипали бороду уважаемому оратору — случалось всякое. Третий час пополудни… Перерыв в заседании. Карету!
В крепость его пустили без проволочек — солдаты и офицеры Петропавловки знали его в лицо, впрочем, как и все служащие, до последнего поварёнка. Князь Волконский поставил строжайшим условием, что самолично подберёт людей, имеющих доступ к отпрыскам рода Романовых. Он, как никто, понимал важность этих детей для Империи, для будущего России. Законный наследник престола делал переворот легитимным. Надлежащее воспитание императора гарантировало стране просвещённое и справедливое царствование, монархию разумно ограниченную конституцией. Лучшие учителя наставляли его в римском праве и греческой драме, математике и словесности, военном деле и плотницком ремесле, следили за умеренным образом жизни, скромной пищей и строгой закалкой мальчика. Спустя пять или восемь лет (регенты до сих пор спорили, в 18 или 21 год Александр Николаевич примет скипетр и державу), своевольный кудрявый отрок с грустными голубыми глазами станет первым поистине всенародным царём свободной России. О воспитании и обучении великих княжон тоже заботились с надлежащим усердием, средняя из них — Ольга — обещала стать столь же умной, сколь и прелестной. Но сердце князя Волконского принадлежало юному императору, он любил Александра как сына — и отрок отвечал ему искренней дружбой.
Отстранив караул, князь вошёл в императорские покои. Он улыбнулся, увидев, как вскочил из-за парты Александр, готовый рвануться навстречу, издать мальчишеский вопль «Ура! Дядя Серёжа приехал!!!» — и как подошёл к двери, чеканя шаг, оттягивая носок, как кивнул головой: bonjour, prince. Царская кровь, царственное величие… молодец мальчик! Волконский обнял императора, взъерошил мягкие кудри:
— Рад служить вашему величеству. Какие новости, Саша?
— Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!Вот дерзец! Ошеломлённый князь глядел на воспитанника, словно впервые видел, а тот явно наслаждался произведённым эффектом.
— Цитируем мятежника Пушкина? Эмигранта и бунтовщика Пушкина? Ай-яй-яй, Александр Николаевич, учили бы лучше Одоевцева или Жуковского. Откуда только взяли сие предерзостное творение?
Император вскинул голову:
— А кто может мне запретить? Я самодержец всея Руси, кого хочу, того и читаю.
Волконский посмотрел Александру в глаза, смотрел долго, пока отрок не опустил взгляд.
— Не сердитесь, Сергей Григорьевич, я учусь. Математику успеваю, фортификацию успеваю, латынь занудную тоже зубрю, как раб. Давеча прочитал, наконец, Шекспира, «Ричарда 3».
— Похвально. И что же вы вынесли из этого чтения?
Император слегка побледнел:
— Помните двух маленьких английских принцев, заточённых в Тауэре? Я невольно задумался об их судьбе…
— Что за мерихлюндии, Саша?! — почти искренне возмутился Волконский, — это декабрь вгоняет вас в тоску. Скоро Рождество, праздник и ёлка с подарками. А весной переедем в Павловск, будем на яхте кататься, рыбу удить, на охоту мы с вами выберемся ваше Величество, маневры устроим…
— Обещаете?
— Честное княжеское! А сейчас давай глянем, что у тебя с учёбой.
Быстро проглядев тетрадки и устроив короткий экзамен отроку, князь Волконский откланялся. Он не раз задумывался, что ждёт юного императора, когда тот войдёт в возраст и станет опасен. Ходил слух, будто спешно овдовевший князь Оболенский намерен в будущем взять в жёны старшую из великих княжон, Марию, а за тем и принять помазание, но Волконский не хотел этому верить. Одно дело — прервать жизнь диктатора и тирана, ещё при жизни старшего брата прославившегося кровавыми подвигами, и совсем другое — казнить или держать в заточении ни в чём не повинного, благородного юношу. Если быть честным, императорские покои сильно смахивали на тюрьму. Хорошо, что коньяк в поставце ещё оставался — и бог с ней, с мятой. После обеда любой дворянин имеет право немного выпить.
…Карету резко тряхнуло. Кучер соскочил с козел и с бранью бросился вперёд. На брусчатке, чудом избежав копыт лошадей, лежала женщина. Князь Волконский выглянул в окошко — неужели бомбистка? Год назад злоумышленник покушался на самого Рылеева, но погиб при взрыве и сообщников не нашли. Нет… Кучер оттаскивал женщину, та плакала и протягивала какой-то конверт — скорее всего прошение. Волконский вышел из кареты принять бумагу, заплаканное с тонкими чертами лицо просительницы показалось ему знакомым. Графиня Воронцова, боже мой, что с ней стало. В карете он быстро вскрыл письмо — да, Елизавета Ксаверьевна в очередной раз просила о милости разделить судьбу мужа и отправиться в Сибирь вслед за ним. После скандальной выходки мадемуазель Шаховской, невесты и жёны упрямых монархистов словно сошли с ума — Дума удовлетворила более двадцати прошений и отклонила почти сто — под предлогом слабого здоровья женщин и малолетства детей.
Подле въезда на площадь, у шлагбаума топтался под зонтом сияющий как медный грош Прохор.
— Князь Сергей Григорьевич, радость! Сынок у вас, и Мария Николаевна живы. Доктор сказал, благополучные роды.
Князь перекрестился — год назад Мари потеряла ребёнка, и семейный врач не рекомендовал ей больше рожать. Слава богу, в этот раз обошлось.
— Вели заказать молебен. Всей челяди в доме выдай по рублю, и мужчинам по чарке водки. Да смотри, не скупись, знаю я тебя, эконома…
Словно камень с души спал. Посветлев лицом князь Волконский вошёл в здание Думы, и тотчас его перехватил лакей.
— Велено проводить в Бархатный кабинет!
Бархатный — потому что стены обиты зелёным тиснёным бархатом, и у двенадцати венских стульев бархатные, мягкие спинки. Всё-таки чутьё не подвело — беда стряслась и скорее всего немалая.
Все Сановники были в сборе. Беспокойный Рылеев, вечно всем недовольный Фон Визен, основательный Муравьёв, седой Тургенев… Волконский удивился — как они постарели за эти пять лет. Пылкие юноши, безусые поручики и корнеты выглядели тридцатилетними умудрёнными жизнью мужчинами. Подполковники и генералы, ветераны Отечественной войны, в одночасье превратились почти в стариков — беспощадно время прорезало лица морщинами, ожесточило глаза.
— Проходите, князь! Обойдёмся без церемоний.
Председательствовал по очереди (случайно ли?) сам Каховский. И к делу приступил безо всяких обиняков:
— Братья, печальная весть. Раскрыт заговор против свободы и равенства, против самой России. Бунтовщики хотели свергнуть законно избранное правительство, освободить якобы заключённого императора и восстановить в России самодержавную монархию. Был заключён союз с французскими эмигрантами и изменниками, негодяи хотели прикрыться именем высланных немок Романовых, тексты их прокламаций сочинял всем известный хулитель Пушкин.
Милорадович вздохнул с места:
— Говорил я вам, братья, не надо этого щелкопёра выпускать из России, а вы: свобода, свобода! Вот и освободили на свою голову.
Каховский коротко кивнул, соглашаясь, и продолжил:
— Благодаря чести и совести братьев, оставшихся верными Союзу Мира и Благоденствия мы узнали имена бунтовщиков и сумели выжечь язву в самом начале, до того, как она отравила столицу. Изменники схвачены, заперты в равелине и надеются на публичное слушанье, дабы огласить свои взгляды с трибуны. Я предлагаю — повесить.
— Кого повесить? — ехидно поинтересовался Рылеев.
— Подполковника Анненкова — руководителя и вдохновителя заговора, Иосифа Поджио, лейтенанта Завалишина, лейтенанта Арбузова и капитана Свистунова. Штабс-капитан Торсон дал показания и помог раскрыть обстоятельства дела, потому заслужил помилование. Есть возражения?
Испытующий взгляд Каховского был холоден как лёд. Но Муравьёв-Апостол стойко выдержал поединок:
— Я возражаю. Да, они оступились. Но оступились как мы когда-то, взыскуя славы и добра. Анненков всегда был романтичен и пылок, защищал угнетённых и рвался отстаивать справедливость. Он молод.
— Представьте братья, что случилось бы с нами, не поспей Милорадович на Сенатскую? Или поддайся я приступу лихорадки… по нам тогда петля плакала, — выступил Трубецкой, — я предлагаю Сибирь. Пожизненно, с лишением прав и титулов.
— Двадцать лет, — неожиданно возразил Оболенский, — это всё-таки наши братья. Есть возражения?
Один за другим Сановники качали головами и складывали пальцы особым знаком тайного общества. Двадцать лет за попытку декабрьского восстания. Князь Волконский остался последним. Каховский ждал. И Рылеев ждал. Как давным-давно на собрании Общества они ждали решения о восстании и цареубийстве.
— Я против! Я отказываюсь судить наших братьев за то, что однажды совершили мы сами. Я дворянин, офицер — против…
Дверь захлопнулась. Волконский отпустил карету и отправился домой пешком, под пронзительным невским ветром. Иполлит Муравьёв застрелился. Бестужев застрелился. И Кюхельбекер тоже. А ему остаётся жить — ради страны, ради детей, ради долга, однажды взваленного на плечи. «В России все равны» — Волконский улыбнулся, вспомнив давешнего солдата. Ради этого стоило выйти на площадь в обозначенный час. От Синода к Сенату. Да, князь?
Жил да был брадобрей
Начала войны Мосес Артурович не запомнил. Неудачное обострение язвы загнало его на больничную койку. Когда сбросили бомбы на Москву, Минск и Новосибирск, он лежал под ножом. Пока ракеты жгли Одессу, Киев и Львов, он жарко бредил и санитарки связывали беднягу простынями, чтобы не навредил себе. По счастью начальник госпиталя распорядился перевести людей в подвальное бомбоубежище ещё при первой тревоге, поэтому у больных был куда больший шанс выжить, чем у здоровых. И Мосес Артурович свои шансы использовал во всей полноте… Смерть любимой Марточки заставила его пожалеть о крепости здоровья, но оставались сын Георгий и дочка Натуся. Сын был следователь, во время неразберихи, оставшейся в хрониках как Смоленская резня, он железной рукой наводил порядок и в итоге оказался в команде военной администрации города. Дочка же всегда была хрупкой, болезненной, а ужас первого дня войны лишил её речи и уложил в постель — она перестала вставать и почти не ела. Только плакала, когда начали выпадать волосы — роскошные, чёрные как смоль кудри. Мосес Артурович сам обстриг свою девочку, пообещав, что всё отрастёт. И ошибся. Волосы выпадали у молодых, старых, здоровых, больных… кто-то брился наголо, кто-то повадился торговать париками, собранными из загодя срезанной «красоты». В любом случае Мосес Артурович остался без работы. Он был парикмахер. И отец его был парикмахер и дед и прадед… Много-много поколений узкоплечих, низкорослых, длинноносых армян с ножницами, бритвами, щётками и секретами — чем освежать кожу, как пускать и останавливать кровь, удалять мозоли, завивать локоны «чипцами», замешивать хну и басму, на чём настаивать репейное масло. А после войны людям были нужны жизнь, тепло, хлеб, оружие и лекарства, тем паче, что стричь теперь стало нечего.
По-немецки основательная Марточка оставила семье запасы пищи месяца на четыре. Крупы, чай, сахар, варенье, консервы и сухофрукты. Кое-что можно было попробовать выменять на старинное блюдо и ложки из почерневшего серебра. Сын не ел и почти что не появлялся дома — власть в городе надо было держать, как взбесившуюся собаку — за горло. Мародёры, рейсеры, бандиты, заезжие гастролёры — ходили слухи, что в Смоленске запасов еды и бензина лет на пять с небольшим. Удивительно даже, с какой скоростью дичали люди, лишившиеся правительства и хотя бы видимости закона. Не прошло и недели после конца войны, как ходить по ночам стало опасно, впрочем, стреляли мало, экономя патроны. Телевидение не работало, радио сходило с ума от радиации, мобильная связь умерла. А вот электричество, воду и канализацию удалось сохранить. Очень много было больных — обожжённых, пострадавших от облучения, тотчас пошёл первый виток лучевых болезней, через месяц началась эпидемия собачьей чумы — болезнь мутировала и перешла на людей. В городе перестреляли почти всех собак, но было поздно.
Первое время Мосес Артурович варил кашки на электроплитке, кормил, умывал и носил на горшок Натусю, читал раз за разом одну и ту же «Голову профессора Доуэля», огорчаясь судьбе несчастной Брике, экономно курил сигареты по три в день в три приёма и залечивал плохо заросший живот. Когда шрам затянулся толстой розовой кожицей, парикмахер договорился с пожилой соседкой, что она будет днём присматривать за Натусей, и отправился в госпиталь, вкалывать санитаром. При больнице — значит при еде, при витаминах, при лекарствах и относительно безопасно, так говорил фронтовик, дед Мосеса, который со своим медсанбатом дошёл до Берлина. Риск подцепить заразу конечно присутствовал, но риск умереть от голода или отсутствия антибиотиков был несомненно выше. В свои сорок четыре Мосес Артурович был вполне крепок, труда и крови он не боялся, а сочувствие к людям не растерял. Поэтому в госпитале его ценили. В свободную минутку он всегда соглашался срезать мозоли, побрить тех, у кого ещё росли бороды, и постричь ногти лежачим больным — за сущие копейки, а иногда и бесплатно. Врачи любили расторопного санитара, медсёстры смотрели сочувственно вслед доброму, трезвому, работящему вдовцу, но куры никто особо не строил — знали, что у мужчин не всё ладно, да и лысых голов стеснялись. Больше года в Смоленске почти не рожались дети, а из тех, кто родился, большинству лучше было б не быть зачатыми. Но со временем малышей стало больше, часть из них выживала и даже обзаводилась нежными, кучерявыми младенческими шевелюрами. Спустя три года Мосес Артурыч тихонько пустил слезу, собираясь стричь в первый раз прелестного белокурого мальчика, руки чуть-чуть дрожали — от волнения и от счастья.
Немая Натуся со временем встала на ноги, начала потихоньку прибираться в доме, обстирывать себя и отца, готовить немудрящий обед… Как же славно, что вокруг Смоленска уцелели поля и фермы. Первый урожай сожгли, потом привыкли — всё вокруг было если не «горячим», то «тёпленьким». У коров и овец тоже были проблемы с отёлом, зато овощи-фрукты на удивление дали в рост, на картошке с капустой можно было вполне сносно выжить, да и хлебушек был. Электричество стало дорого, вода дорога, бензин и вовсе на вес золота. Заводы по производству сельхозинвентаря, чулочная фабрика и «Аналитприбор», на котором наладили выпуск дозиметров, как-то жили и давали хлеб рабочим, госпиталь тоже держался. Алмазный завод обнесли дочиста в первую же зиму… господи, кому сейчас нужны алмазы? У Георгия в СЧК каждый месяц кого-то расстреливали за грабежи и разбой. «Когда приходит голод, уходит стыд» повторял дедову поговорку Мосес Артурович и качал головой. Он завёл себе мягкую шляпу и не снимал её круглый год, только в госпитале меняя на аккуратную белую шапочку.
Через четыре года после войны сын женился на дочери смоленского предводителя. Была славная свадьба, с водкой, мясом, сотней гостей и даже приглашённый оркестр наигрывал танцы. Георгий звал их обоих, но Натуся наотрез отказалась появляться на людях, да и Мосес Артурович засиживаться сверх вежливого не стал. От первых лиц города пахло кровью, а этого запаха парикмахер нанюхался в госпитале. Через пять лет и один месяц невестка родила сына, Артура — и мальчишка получился почти здоров. Ещё через год неожиданно вышла замуж Натуся — проклятье «никому не желанной старой девы» миновало её. Санитарка из госпиталя сосватала своего двоюродного брата. Правда парень был тоже немой, но зато работящий — столяр, печник и на все руки мастер. А вот причесать единственную дочь на свадьбу не вышло, пришлось покупать парик — и об этом отец жалел куда больше, чем о бедном столе и тихом веселье.
Праздник кончился, начались будни. В маленькой двухкомнатной квартирке стало тесно, молодые общались друг с другом молча, замечали только друг друга, и это слегка обижало старика. Детей у Натуси не получалось — к худу или к добру, но она не беременела. Муж кормил её досыта, хозяйство совсем поправилось, тяжкий труд Мосеса Артуровича перестал быть настолько нужен. Да и, будем честны, добросердечной, сочувственной всякой боли натуре парикмахера, тяжело давалась работа в госпитале, в окружении мук и смерти — а умирали многие. …Осторожный Мосес Артурович начал с малого — повозился на кухоньке, вспоминая советы деда и рецепты покойной жены, побродил по оврагам и склонам, благо пустые кварталы зарастали с невероятной скоростью. Четыре месяца каждый вечер он обкладывал Натуськину голову тёплым полотенцем, вымоченным в репейном масле, на лицо шла другая маска из распаренных трав. И случилась чудо — худосочная дочка стала розовощёкой, кожа засияла, ушли морщинки из уголков рта и глаз, а самое главное — начали отрастать волосы. Не такие кудрявые и густые, очень медленно… но дочь была счастлива. И отец тоже — светлая мысль наконец-то сложилась в его голове. Парикмахерская работа делает людей красивее — и молодых и старых и дурных и хороших. Даже древней старухе хочется выглядеть женщиной. Сразу после войны людям было не до волос — болезни, голод, пограничные стычки. А теперь стало легче, сытнее, порядок какой-то установился в городе. Появилась лишняя крошка, случайная монетка, которую не жаль отдать мастеру, чтобы выглядеть лучше. Мосес Артурович всегда считал, что у счастливых женщин добрые мужья и весёлые дети. А любая капелька счастья, любая улыбка помогает выздороветь от войны.
Неизвестно откуда он добыл своего Бурана — в городе почти не осталось собак, тем более таких крупных. Но добыл, подкормил и даже научил возить маленькую тележку с инструментом, снадобьями и прочей поклажей. Золингеновские опасные бритвы остались ещё от деда, ножницы были свои, вместо крема для бритья подошёл мыльный корень, вместо красок для париков — настои луковой кожуры, ромашки, ревеня и скорлупы грецких орехов. От чирьёв, зуда и лучевых язв — порошок из зверобоя с шалфеем и подорожником, мазь календулы на нутряном сале, от мозолей, трещин и воспалений — кора дуба, для лучшего укрепления здоровья — облепиховый сок. И конечно, не обошлось без репейного масла — напоследок из госпиталя Мосес Артурович вместо денег взял целый ящик пустых пузырьков от лекарств. Добрый зять смастерил два складных стула и лёгкий тент. Парикмахер дождался весны — десятой весны после первой бомбардировки — и работа пошла.
Он со своей тележкой беспрепятственно разъезжал по городу, таскал её по единственному мосту через Днепр, в солнечные дни, случалось, устраивался у старинной кремлёвской стены — от кирпичей фонило, но мощь красноватых, поросших мхом стен, казалась успокоительной. «Стрижка-бритьё-косметика!!! Ррррепейное масло для ррроста волос!» Куда бы Мосес Артурович ни пришёл со своей переносной цирюльней, очень быстро к тележке вставала очередь. Желающие побриться подставляли щетинистые щёки под блестящее лезвие с золотыми готическими буквицами, женщины раскупали краску для париков, репейное масло и другие снадобья. Редкие счастливицы заказывали «мне модельную стрижку, пожалуйста» и млели под взглядами завистниц, пока мастер сооружал из жиденьких, мягких волос умопомрачительные причёски. Уличных воришек и мелкую шушеру отпугивал внушительный вид Бурана — всклокоченная чёрно-рыжая шерсть и жёлтые клыки придавали свирепости в общем добродушному псу. Рейсера посерьёзней его тоже не трогали — мало кому хотелось связываться с отцом Георгия Сарояна, третьего человека в городе. …Сын пробовал говорить с ним, убеждал оставить промысел — мол, позоришь имя семьи. Кроткий Мосес Артурович просто сказал, что по его, отцовскому мнению кровавый хлеб позорит имя семьи, а честным парикмахерским делом зарабатывали деды и прадеды. И он, Мосес, пока что отец и старший мужчина в роду. Он не учит Георгия, как управлять людьми, так пусть и сын не суёт нос в его ножницы, много воли взял. Слепому нет дела, что свечи подорожали. Сын подёргал щекою, но промолчал. После этого разговора отца с дочерью перестали приглашать в дом к молодым Сароянам.
Вскоре Натуся освоила нехитрое искусство варки масла и мазей, сбора, сушки и растирания трав. Лавку сделали тут же, в первом этаже дома. Зять помог обустроить помещение, собрал из осколков стекла два окошка, приколотил над входом вывеску и засел с женой вместе торговать немудрящим товаром. Предприимчивая Натуся было хотела обзавестись «чёрными» лекарствами через связи мужниных родичей, но тут Мосес был непреклонен — ворованным в его роду торговать никто никогда не будет. Сам он по прежнему колесил по Смоленску, а следующим летом, как подсохли дороги, начал выбираться к окрестным сёлам и городкам. На старости лет в нём проснулась тяга к бродяжничеству, перемене мест. Он убеждал родных (да и себя тоже) что основной целью его путешествий были лекарственные травы, коренья и «чистые» продукты, которые удавалось выменивать у сельчан, но куда важней ему было засыпать под открытым небом, видеть аистов, слушать ночных соловьёв и трескотливых кузнечиков. Ему нравилось подогревать над огнём куски хлеба, насаженные на ветку, гладить по мягкой шерсти верного пса, смотреть в небо и думать о бренности всего сущего. Женщины в деревнях были проще, выглядели здоровей, чем измученные всевозможными хворями смолянки, их визит парикмахера особенно радовал — сидя под ножницами всякая норовила порасспросить о делах в стольном городе и рассказать о своих, сельских новостях. Случалось и письма просили передавать в город, родственникам. Глядя, как хорошеют, оттаивают усталые женские лица, Мосес Артурович тихо радовался и, случалось, в задумчивости мурлыкал под нос любимую песенку:
…Жил да был брадобрей, На земле не найти добрей…Узнав о его хождениях, сын убедил старика обзавестись винтовкой на случай встречи с волками или шальным медведем и сам преподнёс отцу охотничий карабин с выправленным разрешением. Мосес Артурович поворчал, но подарок принял. Он знал, что на человека у него рука не поднимется, а вот защитить себя и Бурана от волков или одурелого от жары кабана может и вправду придётся. Да и выглядел карабин роскошно, было чем похвалиться перед соседями — уважает сын старика отца, любит. Гладкоствольная «Сайга» с полированным тёмным прикладом… она чуть не стоила жизни мирному парикмахеру. Дело было в июле, аккурат под летнее солнцестояние. Они с Бураном заночевали в березняке не доходя сельца Верхнее — уж больно славный выдался вечерок, тёплый, светлый, пронизанный птичьим пением. Умилённый Мосес Артурович углядел в лесу мать-лосиху с тупомордым детёнышем и пока не заснул, всё вздыхал. Он скучал по внуку, старые руки ждали мальчат и девчушек — обнимать, тискать, доставать из карманов припасённые сладости, неторопливо рассказывать прадедовские армянские сказки и укладывать спать, подтыкать одеяло под тёплые спинки…
Разбудил парикмахера лай собаки. В серых утренних сумерках он увидел, как к костровищу подошёл вооружённый мужчина, за ним ещё несколько — большинство в камуфляже, все с автоматами. Буран попробовал броситься, защищая хозяина и имущество, его срезали одной пулей в раскрытую пасть. Мосес Артурович понял, что к волоску его жизни поднесли бритву. Прикрыв глаза, он стал беззвучно читать «Отче наш», потом попросил у бога защиты и благополучия для детей. Рейсеры тем временем распотрошили тележку, запахло репейным маслом и травами. Двое заспорили из-за оружия, третий прервал их «Атаману подарок будет». Потом парикмахера взяли за грудки и рывком заставили сесть. Одутловатый, какой-то бугристый мужик с татуированными руками и по младенчески беззубым ртом посмотрел Мосесу Артуровичу в глаза:
— Жид?!
Мосес Артурович мотнул головой:
— Армянин.
— А я говорю, жид пархатый, — рявкнул рейсер.
— Армянин я.
— Мусульман?
— Православный. Крещёный, — дрожащими пальцами Мосес нашарил под рубахой старинный серебряный крест. Бандит сильным рывком сорвал украшение с шеи старика:
— Подходяще. Ну, молись, армянин, перед смертью, раз ты крещёный. Батюшки исповедовать уж прости нету.
Он поставил старика на ноги, толкнул в сторону берёз и достал из подсумка нож. Мосес глухо вздохнул:
— Покурить бы на дорожку отсыпал, прежде чем убивать.
Чуть помедлив, беззубый достал, портсигар и бросил в траву самокрутку. Наклониться поднять её, а затем встать, не показывая, что колени трясутся, было делом нелёгким. Но как же сладок был крепкий табачный дым… Один из рейсеров, шрамолицый и злой на вид, подошёл к беззубому показать добычу. Золингеновские бритвы и ножницы вызвали интерес.
— Дед, а зачем ты с собой эти штуки таскаешь? Кто ты вообще такой, почему в лесу спишь? — лениво спросил беззубый.
— Я мирный старик, парикмахер, — хриплым шёпотом выдавил Мосес, — хожу по деревням, людей стригу, масло для волос продаю. Чем я вам помешал, товарищи военные?
— Уважает… — хохотнул беззубый, — Товарищи! Военные! И не соврал, дед, мы служилые люди Божьего Атамана Ильи-Пророка. Военные. Скоро край будет наш, пусть тогда кто попробует слово вякнуть. Парикмахер, говоришь… Баб стрижёшь?
— Был мужским парикмахером. Причёсываю, стригу, брею, крашу, педикюр могу сделать, мозоли срезать, кровь пустить, чирей вскрыть, банки поставить или пиявок, — (тут Мосес врал — пиявок он никогда в жизни даже в руках не держал).
Беззубый поскрёб в затылке.
— Мозоли говоришь… А за бородою умеешь ухаживать?
— Всё умею, — твёрдо сказал Мосес Артурович, он почуял, что пахнет жизнью.
Две недели он волокся вслед за отрядом. Угнаться за здоровенными мужиками лет на двадцать его моложе, было тяжко. Помогало только ясное понимание — отстанет — убьют. По дороге собрали дань с двух сёл и пожгли отдалённый хутор. У Мосеса сердце кровью обливалось от предсмертных воплей скотины и криков детей, но сделать он ничего не мог. Наконец, ввечеру пятнадцатого дня пути, они добрались до места.
Деревня Спас-Углы была огорожена мощным сосновым тыном с воротами. На башенке стоял часовой, за забором надрывались собаки. Вернувшихся рейсеров встретили радостным шумом, навстречу выбежали женщины, дети, за ними степенно вышли взрослые мужики. Часть отряда осталась у ворот разгружать добычу и отвечать на приветствия. Беззубый потащил пленника дальше, к трёхэтажной, разукрашенной искусной резьбой хоромине. На крыльце уже ждал гостей батюшка-атаман. Мосес Артурович обомлел — он забыл, что на свете бывают такие волосы. Рыжая грива Божьего Атамана Ильи Пророка свисала до того места, где у женщин бывает талия, роскошная борода прикрывала живот. Подойдя к ступенькам, беззубый склонил голову:
— Благослови батюшка, твоими молитвами живы вернулись.
Атаман хлопнул ручищей по плечу беззубого:
— Благословляю! Докладывай… хотя нет, погоди. Это что за жидок с тобою?
— Не жид, батюшка атаман. Армянин крещёный. Парикмахер.
— Борода моя тебе, босорылому, спать не даёт?! Сгубить решил божью благодать?! Христопродавец!!! — налившись кровью вдруг заорал атаман. Беззубый пал на колени:
— Упаси боже, батюшка! Этот, — он ткнул в Мосеса Артуровича, — за волосами ухаживать умеет по всякому, чесать как надо, маслом мазать, чтобы росли лучше… Мозоли срезает!
— Мозоли? — атаман утих так же быстро, как и взъярился, — мозоли это хорошо… Эй ты, жидок, звать тебя как?
— Мосес Артурович. Я армянин, — парикмахер задумался на мгновение, — Ваше Превосходительство!
Атаман хохотнул:
— Ишь, ловок… Превосходительство, хорошо сказал. Мосес… Мойша что ли? А говоришь, что не жид. Ладно, пойдёшь в дом, к бабам, возьмёшь, что тебе нужно. И чтоб через час у меня на пятках ни одной мозоли не было. А порежешь или сбежать задумаешь — пристрелю. Пошёл!
Атаман наградил парикмахера тычком в спину и повернулся к беззубому:
— Докладывай, Ангел!..
По счастью в хоромах нашёлся тазик, на кухне подходящий маленький нож и горсть соды, горячей воды тоже было не занимать. Осмелевший парикмахер вышел во двор, нащипал подорожника, листьев берёзы, ромашек… И минут через сорок Мосес Артурович чутко сидел рядом с пышущим паром тазом, в который Илья-Пророк соизволил поставить свои вонючие ноги — похоже, батюшка-атаман с рождения их не мыл. Клиент остался доволен. Осмелев, Мосес Артурович робко попросился на волю, за что получил по морде хозяйской дланью. «Служить будешь, человека из тебя, Мойша, сделаем!» повелел атаман. «Хату ему, бабу в жёны и за ворота не выпускать!» Гогочущие рейсеры тут же притащили одноглазую, тощую как берёза, немолодую вдову. Божий Атаман Илья-Пророк торжественно обвенчал её с новым мужем и велел до утра не показываться ему на глаза.
Неожиданную жену звали Аграфеной, у неё была довольно большая, но совершенно разваленная халупа на южном краю села, подле тына, курятник с пятком плешивых кур, огородик и пятеро деток. Тринадцатилетняя красавица Любава, две подлёточки, веснушчатые близняшки Лёлька и Лилька, десятилетний дурачок Юра, и только начавший ходить Пашка. Когда потешный кривоногий пацанёнок приковылял поздороваться с новым дядей и, поломавшись для виду, согласился пойти «на ручки», Мосес Артурович в первый раз за две недели перестал жалеть о своём приключении. Он подхватил тёплого, чумазого малыша, неловко тронул губами макушку в младенческом белёсом пуху, и отвернул лицо, пряча подступившие слёзы. «Ишь, ирод… детишек любит» — умилилась хмурая Аграфена.
Брака как такового у них не вышло — то ли стар был Мосес Артурович, то ли «лучёвка» сделала своё дело, то ли дети во сне ворочались, то ли сама вислогрудая, высохшая супруга не прельстила — бог весть. В остальном же на удивление они сладились, поутру новобрачная встала первой, чтобы подать мужу завтрак — жалкую, маленькую яичницу (половину Мосес всё равно скормил Пашке). Заев угощение чёрствым хлебом Мосес Артурович прошёлся по хате, высматривая, что тут можно отладить, но взяться за молоток не успел — примчался парнишка от атамана, мол парикмахера требуют, расчесать драгоценную бороду перед утренней службой. Приказали — так приказали. Покорный Мосес Артурович подровнял, подмаслил и уложил роскошную бороду Ильи-Пророка, попробовал взяться за гриву и отступился — мол, после бани бы, с маслом репейным да частым гребнем и то заботы часа на два. Атаман легко согласился — на днях свадьба, перед ней банька, тогда и расчешешь. А пока ступай молиться со всеми честными хрестьянами.
Служба прошла на площади, перед хороминой. Жители Спас-Углов собрались приложиться к иконе Спаса, обменяться с соседями братскими поцелуями и послушать короткую, но весьма энергичную проповедь Ильи-Пророка. Атаман пообещал скорое процветание и наступление божьего царства, красочно описал, что именно сотворит небесное воинство с врагами и нехристями, не признающими последнего из пророков, скупо похвалил Беззубого-Ангела за успешный рейд, приказал выпороть за нерадивость пастуха Якова и повелел начинать хоровой гимн во славу Христа, Богородицы и Пророка. Все сельчане истово повторяли за атаманом слова кощунственной молитвы. Мосес Артурович удивился — похоже люди и вправду сочли святым этого вшивого, неопрятного рыжего жулика. Когда народ разошёлся — кто на работы, кто за добычей, кто охранять границы, — его снова позвали в хоромину. Четырём жёнам Пророка тоже нужен был парикмахер — посоветовать кремы и маски для лица и волос, срезать мозоли и поухаживать за ногтями. Три жены были веселы, щебетали и наперебой выхваляли мастера, четвёртая уныло сидела в углу, обхватив руками живот. «Выгонят её завтрева, — радостно сообщила Мосесу Артуровичу самая молодая, — у ней в пузе детки не держатся, троих скинула».
Так и вышло — на следующий день перед службой несчастную бабу со всеми пожитками спихнули со ступенек хоромины с наущением возвращаться к родне. Днём парикмахер причесал на девичник молодую невесту — пышнотелую тихоню лет шестнадцати с жиденькими, но длинными русыми волосами. Вечером собственноручно вымыл голову атаману, намазал репейным маслом, вычесал гребнем вшей, выстриг несколько колтунов и посоветовал впредь собирать кудри в косы хотя бы на ночь. За что и был наказан — Илья Пророк тут же повелел Мойше впредь каждый вечер заплетать ему волосы, а заодно чесать пятки перед сном. После бани начался мальчишник во всей красе — атаман с приближёнными гуляли, пили чистый, как слеза, самогон, и хвастали подвигами. Вскоре Мосеса Артуровича затошнило — не от выпитого, от баек. Он терпеть не мог запаха крови и полагал жизнь человеческую самым ценным из божьих даров. К тому же с молоком матери впитал уважение к женщине, к чуду зачатия и рождения. Очень сильно хотелось уйти, но пришлось дожидаться, пока Пророк налакается как свинья и отправится спать. Под присмотром бдительного охранника он заплёл атаману волосы на ночь, и убедился, что причёска не помешает пьяному. Можно было отправляться домой. У ворот парикмахера остановила кухарка, вручив солидный кусок свинины и бутыль самогона — за труд.
Довольная Аграфена покормила мужа тёплой картошкой, вознамерилась налить рюмочку, но Мосес Артурович отказался. Вместо этого он велел бабе выйти с ним до курятника и там, подальше от чужих ушей стал расспрашивать — кто таков Божий Атаман, откуда взялся и почему мужики его слушают. Оказалось, Его Превосходительство объявился в деревне через месяц после войны, во главе небольшого, но хорошо вооружённого отряда. Захватить власть в селе, где половина людей еле таскала ноги, было несложно. Но держать под дулами автоматов толпу сельчан Илье показалось делом неблагодарным. Он заявил, что избран богом, небесные ангелы хранят его от радиации и нашёптывают пророчества о конце света и скором пришествии Христа. В доказательство он предъявлял безупречную шевелюру, железное здоровье и, казалось, неиссякаемую мужскую силу — а ведь в деревне первый год после войны почти никто из мужиков не мог.
Ей, Аграфене, тоже выпало попробовать благодати — только сыночек родился глупый. А у других и здоровенькие рожались, да и до сих пор рожаются — половина деток в селе Ильичи. Пашка, он от второго мужа — первый умер в Смоленске, он свекровь навестить поехал — там и остался. А со вторым, Шуркой-пришлым, её атаман у колодца венчал. Хорошо жили, только Шурка крут был — и ногами бивал и кулаком проходился по пузу. Один разок не досмотрела — дурачок в суп чихнул — так Шурка его порешить хотел, еле-еле собой прикрыла, он по лицу ботинком вдарил, с тех пор глаз высох. Застрелили его у Гагарина, когда Пророк в дальний набег ходил. Вернулся б — и Пашку не доносила б. А так огородиком пробавлялись, грибами, Любавка с семи лет помогала везде, раньше и козочка-кормилица блеяла, так о прошлом годе сломала ногу пришлось зарезать… Да, а Илья-Пророк правду чуял — где что творится, откуда враги придут, какая погода будет. Больных, случалось, руками лечил, кому помогало. Когда собаки из лесу попёрли — загодя велел изгородь ставить, тын уже потом выстроили. И никто село не жёг, не грабил, живность не уводил. Наоборот, вся округа Спасо-Углы почитает столицею, Пророку кланяется, дань шлёт. У них даже два рабочих трактора есть и армейская бронированная машина, бензин Ангел выменивает в Покровке, на мясо. А пушки чугунные местный умелец отлить в яме придумал. Одна взорвалась, остальные стреляют — редко, но метко, отбиться пока хватает. Так что дай бог Божьему Атаману Илье-Пророку долгой жизни…
На следующий день была свадьба. Рейсеры гуляли шумно, мужики держались скромнее. Невеста счастливой не выглядела. Почему — Мосес Артурович понял, увидев её наутро после брачной ночи — заплаканную, избитую, с вырванными волосами. Похоже, мужу супруга не угодила. Илья-Пророк повадился бить её каждый день, а после первого выкидыша выгнал вон и взял новую жёнку, из пленных. Той повезло больше — она забеременела тотчас и через несколько месяцев уже гордо носила острое пузико. Жизнь в селе шла своим чередом. Пару раз случались пограничные стычки, взбунтовалась деревня Грязищи и рейсеры выжгли её дотла. Кто-то рождался, кто-то умирал, кого-то пригоняли вместе с коровами и лошадьми из других областей. Пророк читал свои проповеди, пару раз в месяц и вправду впадая в припадки то ли ясновидения то ли безумия. Однажды во время приступа он разоблачил заговор, троих мужиков и бабу вытащили из толпы и тут же, на глазах у всех расстреляли. Унылый Мосес Артурович каждый вечер заплетал атаману волосы, умащал драгоценную бороду и по отдельному повелению чесал пятки, пока повелитель не соизволит заснуть. С атаманскими жёнами было проще — у трёх старших закучерявились отрастающие шевелюры, мягкие и красивые — за одно это они готовы были носить чудо-мастера на руках.
С Аграфеной всё было ладно, пару раз она попробовал прикрикнуть на мужа, но быстро увяла — ссориться парикмахер терпеть не мог, но и от своего мужского главенства в семье отказываться не собирался. Дом отстроился, печь обмазали глиной, щели в брёвнах заткнули, крыльцо подновили и разбухшие рамы подрезали. Дети отчима полюбили, малыш Пашка вскоре стал называть папой, дочерям он велел говорить «дядя Мосес». Стало сытнее, под Рождество Атаман от щедрот подарил молочного поросёнка и пожилую, но вполне ещё дойную козочку. Единственным горем в семье стала смерть дурачка Юры — девчонки недосмотрели, он наелся снега в мороз, начал маяться горлом и в неделю сгорел от лихорадки. Мосес Артурович чувствовал, что здоровье начинает сдавать, пару раз у него приливала к голове кровь, иногда по утрам не сразу получалось встать из-за тяжёлой одышки, но он надеялся успеть поставить Пашку на ноги и выдать дочерей замуж. Незаметно Аграфенины дети стали ему родными.
В конце августа новая жена Пророка собралась, наконец, рожать, мучилась больше суток. Когда атаману показали, что появилось на свет, он велел закопать живьём и роженицу и младенца. По счастью, дитя не прожило и часа, а мать Ангел осторожно прирезал, прежде чем засыпать землёй. На утренней службе Пророк возвестил, что уродливые младенцы — плод совокупления женщины с дьяволом. Двое мужей после этого пристрелили своих несчастных отпрысков, а один до смерти забил жену, вынуждая сознаться в измене. Божий Атаман тем временем уже присмотрел новую невесту. «Тестем мне станешь, Мойша, Любаву вашу женой возьму, подросла девка. Кто б мне раньше сказал — в родичах жидок будет». «Я армянин» в тысячный раз повторил Мосес Артурович. И в тысячный раз получил по затылку хозяйской суровой дланью. Любава, узнав о сватовстве, той же ночью попробовала повеситься, мать, выйдя во двор по нужде, едва успела вытащить её из петли. До утра девочка плакала, закатываясь в истерике, как младенец. Отец сидел подле неё, гладил по вздрагивающим плечам и думал. Если семья бежит, их догонят. Если бежит одна Любава — далеко она не уйдёт, а мать с сёстрами скорей всего расстреляют. Уходить имело смысл поутру, с пастухами — мало ли за каким делом бабы в лес собрались на заре. Главное, не брать с собой слишком много вещей. Дети, дай бог, ещё живы, вряд ли Георгий сделает для новой родни слишком много, но ради отца поможет. А не он, так Натуся — по крайней мере приютит и поможет встать на ноги. Девочки вскоре начнут зарабатывать сами. Выживут… Ах, я старый дурак, надо было их ремеслу учить!!!
Любаве он велел наряжаться в меру, быть с атаманом приветливой, благодарить за честь, но от матери не отходить ни на шаг. Аграфене — обменять козу на хоть какую берданку, а поросёнка на пса — мол, муж сбрендил на старости лет, на охоту ему, дураку, приспичило. И чтоб выла погромче! Для верности он поставил жене синяк, небольшой, но заметный, а потом долго просил прощения. Из еды велел заготовить сала, муки, щепоть соли, туесок мёда — всё лёгкое, сытное. В сентябре в лесу с голоду не пропадёшь. Лёльке с Лялькой по девичьему легкомыслию не было сказано ничего — разболтают. Пашке тем паче ничего объяснять не стали, он даже радовался — отец стал с ним больше играть, чаще брать на руки и учить, мол ты, сынок старший мужчина в доме. К свадьбе готовились десять дней. Накануне для Любавы собрали славный девичник. Атаман же, по старой своей привычке, вымылся в баньке, созвал дружков и напился до полного свинства. Пока мужики гуляли, Мосес Артурович перемолвился словом с молодым пареньком из сельчан. Тот давно сох по Любаве, глаз с неё не сводил, и по слухам, сам хотел прислать сватов в конце октября — да вот не успел. К тому же по счастью парень был сиротой… Мосес Артурович объяснил ему просто — хочешь девочку нашу спасти, а может и в жёны её взять — уходи. В Смоленск. Там защита и власть. На рассвете постучишь к Аграфене, уговоритесь, где найдёте друг друга в лесу — и веди её с детьми в стольный город. Только по тракту не ходи — если искать начнут, так по Смоленской дороге. Ты хороший солдат, сынок, ты справишься. А погони за вами дня два точно не будет — это я тебе обещаю, как парикмахер.
Когда налитого самогоном по самое горлышко атамана втащили в спальню, Мосес Атрурович последовал за ним — заплести Его Превосходительству драгоценные волосы и почесать пятки. Охранник закрыл двери опочивальни снаружи и минут через десять, судя по звукам, сам захрапел словно боров. Осталась сущая мелочь — связать пьяного скота так, чтобы тот не смог и пошевелиться. Верёвочные, прочные петли на руки, на ноги, руки к ногам, кляп в зубы и ещё прикрутить к кровати, чтобы не рыпался. Когда парикмахер попробовал вставить кляп, атаман проснулся и даже укусил врага за палец, но закричать не успел. Новую петлю Мосес Артурович набросил на шею и слегка затянул, объясняя, что будет, если Пророк начнёт дёргаться. Острый ножик был заточен заранее. Такой случай — избавить больную землю от отвратительной, грязной, кровавой, развратной свиньи. Мосес Артурович медленно провёл острым лезвием по бычьей шее атамана, с наслаждением наблюдая, как меняется ненавистное лицо, как страх искажает черты. Потом достал ножницы. Щёлк! Щёлк! Щёлк! Рыжие с редкой седою нитью волосы падали на кровать и на пол. Обнажалась шишковатая голова с тёмно-красным родимым пятном на макушке, беспомощный маленький подбородок, тонкие губы, обвислые щёки… Не ограничившись стрижкой, старый парикмахер начисто выбрил Пророка. Волосы, чуть подумав, собрал в наволочку, скатал и засунул в сумку с инструментом. А потом взял заранее припасённую сажу, развёл своей же мочой, обжёг на свече иголку и наколол на лбу атамана бранное слово. Он помнил, как делали татуировки «крутые» пацаны в драчливом ереванском дворе. Напоследок Мосес Артурович плюнул врагу в глаза, затем уложил на бок, старательно прикрыл одеялом и задул свечку — если кто глянет, решит, мол спит батюшка. Проснувшемуся было охраннику, он сказал то же самое: почивает наш благодетель, велел не беспокоить, пока сам не встанет.
Чтобы не вызывать подозрений, он вернулся домой. Дети спали. Аграфена, тихонько плача, собирала вещи. Надо было сжечь волосы — осторожно, чтобы запах не разбудил никого и не привлёк внимание. Написать письмо было не на чем, да и нечем, поэтому Мосес Артурович ещё раз убедился — Аграфена точно помнит улицу, дом, квартиры и фамилии тех, к кому стоит обратиться за помощью. Он дёрнул жену к себе на скамью — посидеть рядышком на дорожку. Похоже, прав был Илья-Пророк — слюбилось, хотя и не так как с покойной Марточкой, да и брак остался фиктивным. Но эта некрасивая, сухопарая, старая женщина стала ему дорога. С первыми петухами Аграфена подняла детей. Выдала каждому по корзинке, подвязала себе под кофту мешок с едой, велела посытнее поесть и потеплее одеться. Сонный Пашка сперва расплакался, но Мосес его успокоил, пообещав, что в лесу обязательно встретится настоящая белочка, лисичка а то и лосёнок. Как только стало светлеть за окнами, в дверь постучался давешний паренёк. Парикмахер велел жене выдать парню винтовку, встретиться за околицей и слушаться так, как слушалась бы меня, Мосеса. Увидев враз засиявшее личико старшей дочери, парикмахер понял, что сделал правильный выбор. Лишь бы дошли. Парень канул в светлеющих сумерках, Мосес Артурович последний раз расцеловался с семьёй. Скрипнула дверь, звякнула цепь конуры, сонно взбрехнул Барбос. Вздохнула калитка… Всё.
Он вышел за ограду спустя пару часов после своих. Сказал, что отправился в Патрушево, там охотник взял в капкан барсука, а для мази нет лучше барсучьего жира. Пошёл по тракту, за мостом свернул в лес и дал петлю, выходя в сторону большой Смоленской Дороги. Прогнозов, чем конкретно кончится дело, он дать не мог. С вероятностью Ангел, увидев опозоренного вождя, попытается перехватить власть. Выдумает брехню, мол, подменили диаволы нашего пророка на какого-то мерзостного уродца, лысого как все мужики, да ещё и со срамным словом на роже. Тогда погони скорее всего не будет. С вероятностью Пророк придумает повод, как сказаться больным и хотя бы до зимы не показываться на глаза людям при свете. Тогда погони тоже не будет — по крайней мере сразу. Единственный опасный вариант — что Илью найдут связанным часика через три, и найдут охранники, а не старший помощник. И тогда единственным выходом для атамана будет отыскать подлеца парикмахера и прилюдно казнить самой страшной казнью, какая только взбредёт в его полоумную голову. Ненавидеть его Пророк сейчас должен люто, примерно так же, как Мосес Артурович ненавидел его весь этот год. И искать будет в первую очередь его, а не сбежавшую невесту. Остался сущий пустяк — оставить след, чтобы семья успела уйти.
Прохладный, пряный, припахивающий далёким дымком сентябрьский воздух бодрил старого парикмахера. Красные ягоды придорожной рябины выглядели до невозможности аппетитно. Мосес Артурович вспомнил, что еды он с собою почти не взял. Зато ножницы с бритвами не забыл — значит будет, чем заработать… Вдалеке раздались стук копыт, мерный скрип колёс и сдавленный визг поросёнка. И вправду — какой-то полузнакомый селянин из Елина ехал к тёще в Зозулевку, отвезти подарок на день рождения. Он охотно согласился подбросить старого парикмахера до развилки и не захотел брать платы. Нет так нет. Мосес Артурович забрался в телегу и устроился поудобней на сене. Добросердечный крестьянин угостил попутчика яблочком, похвалившись, что урожаем с яблонь нынче можно хоть овраги засыпать. Парикмахер поддакивал и кивал, но вскоре провалился в тёплую дрёму — так уютно было свернуться в сене, нюхать, как пахнут травы и вспоминать сквозь сонные волны любимую песенку:
…Жил да был брадобрей…
Детское время
Тощий дроид, шатаясь, бродил по пустому кафе. В окна дула метель, сквозь разбитые стекла нанесло снега, не осталось ни одного целого столика, и ни крошки съестного — что не растащили люди, подобрало питерское зверьё. «Грелка» у бедолаги должна была разрядиться годика два назад, но, похоже, дроиду перепадала кой-какая органика. Сим-Симыч поморщился. Хорошо, если перепрошитый криворукими русскими хакерами выродок кибертехники ел деревяшки, крыс или дохлых кошек — случалось и с трупов состреливать дураков. В дроидов — переносчиков чумки кэп не верил, но оставшиеся без хозяев, дезориентированные биомеханизмы зверели. Могли и напасть, заунывно бормоча «Батарея разряжена. Смените батарею. Батарея разряжена».
На ствол скорострела, показавшийся из пролома, дроид не среагировал. Он лавировал между столиками, наклонялся к каждому, по-лакейски изогнув спину, и что-то льстивое бормотал — не иначе, спрашивал: что угодно дамам и господам? Выстрел развернул нелепое тело к стойке, уронил на промерзший пол. Добивать бедолагу Сим-Симыч не стал — дроиды не чувствуют боли. А патроны нынче в цене. Перешагнув через грязные зубья стекла, кэп вошел в кафе, осторожно присел на диванчик, когда-то бывший зеленым. Мальчишкой он любил забегать сюда по субботам с друзьями, угоститься разноцветным мороженым в старомодных креманках — дроидов ещё не было, каждый сам нес от стойки покрытое испариной лакомство. Они медленно слизывали тающую вкуснятину с ложечек, болтали про космос, девочек и робототехнику, мечтали наперебой — кто кем станет. Не стали. Полного огней и витрин города Петрограда тоже не стало, и маленького кафе и семьи.
В чумной год погибла половина взрослых и все дети до семи лет. Старики выживали чаще и выздоравливали полностью, молодые сплошь и рядом оставались дергунами или калеками, уцелевшие малыши становились разносчиками заразы. Тех, кого пощадила болезнь, добили морозы, голод и радиация — поняв, что справиться с эпидемией невозможно, правительство сбросило «грязные» бомбы на три очага. Границы областей окружили кордонами, не рассуждающие солдаты-дроиды стреляли во всех, кто пытался пробраться наружу. Болтали, что защита помогла мало и в центральной России такой же ад. Величественное «говорит Москва» до сих пор раздавалось в эфире, но вещание велось откуда-то из Сибири. От Европы вестей не слышали, Штаты изредка пробивались сквозь помехи. Китай замолчал первым. Уцелела одна Австралия — звонкий крик кукабарры каждое утро возвещал «мы живы». На чапыгинской телевышке четыре часа в сутки работало «Радио Петроград», по утрам и вечерам в уцелевших квартирах люди собирались у радиоточек — и это было единственным, что объединяло горожан.
Самому Сим-Симычу хорошо повезло, он переболел одним из первых, ещё работали больницы, были врачи и лекарства. И отделался легко — тиком на правой щеке. Жену Машу сбила машина во время бегства, сын был с ней — это тоже оказалось удачей. Когда блокада замкнулась, бригады стали отстреливать калек, больных, детей, а заодно и родных, которые пробовали защитить семьи.
Умереть от голода кэп не боялся — старенький «стучок», катер «Пушкин», когда-то игрушка для туристов, оказался спасением Сим-Симыча и его разношерстной команды. Речной транспорт остался единственным регулярным сообщением в городе, на катерах и лодках по каналам перевозили грузы, товары, письма и немногих безрассудных пассажиров. Претендентов на суда тоже хватало, но до сих пор команда отбивалась успешно. С «грелками» было сложнее — уцелевшие запасы батарей подходил к концу, поговаривали, что через пару лет всем придется перестраивать моторы под топки. Музейный цех Кировского завода уже работал на угле и пару. Но пока что катера плавали, радио бормотало, а по Невскому пару раз в день проезжали уцелевшие электромобили. Жизнь тянулась своим чередом.
На зиму «стучок» подогнали на причал Петропавловки. Под охраной съезжинских братков можно было не беспокоиться, что какой-нибудь гастролер снимет стекла, открутит ручки или вытащит «грелку» из гнезда. Стоять в Гавани выходило дешевле, но василеостровские пацаны были в доле с портовыми, тамошние суда щипали догола, а случалось, и угоняли. Пока держался лед, команда промышляла кто где — механик Муха перебирал моторы, чинил уцелевшую технику, силач Илья разгребал завалы, Тим и Серый охраняли торговок на Сытном рынке, бывший ветеринар Шурик подрабатывал квартальным врачом, брался даже за операции — никого лучше от Зоопарка до Большого проспекта не выжило.
Сам Сим-Симыч мог бы, свесив ноги, всю зиму сидеть на сундуке — перестроенная из коммуналки трехкомнатная квартира, где поселилась команда, до чумного года принадлежала ему, катер тоже, артель выбрала его старостой и отстегивала двойную долю от общака. Но он знал — от безделья пропадает охота жить, легко ослабеть, потерять власть, имущество, а следом и сдохнуть в одиночестве, как перемерли друзья и соседи. Поэтому кэп ходил на промысел — обшаривал дальние, заброшенные кварталы, искал «грелки», железки и всякий хабар. Действовал осторожно, чтобы не попасть на глаза бригадам, выбирал старые заводы, пустые дома, гаражи. Сама жизнь потеряла для него смысл, но умирать просто так Сим-Симычу казалось расточительной глупостью. В царство небесное он не верил.
…От Крестовского острова до Съезжинской пехать порядочно — через парк, вдоль проспекта, огибая воронку бывшего стадиона. Над головой круглилось черное, полное колючих звезд небо — городской свет больше не мешал им. Холод усилился, Сим-Симыч успел замерзнуть, почем свет браня ветхий термокомбез. Проход через Крестовский мост стоил горсть табака, соли, луковицу или патрон — тролли устроились хорошо и плевать хотели на возмущение горожан. На Большом проспекте по тротуарам бугрились сугробы, протоптанная десятками ног тропка серела посреди улицы. У приземистого, похожего на склеп, кинотеатра «Молния» толпился народ, вывеска тускло мерцала — не иначе старик Гургенов починил аппарат. Наморщив лоб, Сим-Симыч попробовал вспомнить, когда он в последний раз видел фильм — и не вспомнил. Сходить, что ли? Суета это все, Семен.
Окна квартиры едва светились. По молчаливому уговору, батареи экономили, обходясь для бытовых нужд лучиной или коптилками. Оглядевшись — не привязались ли чужаки — Сим-Симыч нажал код, поднялся на пятый этаж, задыхаясь от крутизны черной лестницы, и открыл дверь магнитным ключом. Силач Илья уже вернулся с работ. С ним была женщина.
От возмущения у кэпа не нашлось слов — по молчаливому уговору, приводить посторонних в дом запрещалось, и якшаться с бабами тоже. Где женщины — там ссоры, драки, лишние хлопоты. А потом она забрюхатеет, родит, потому что выкидыш устраивать некому, придет бригада, пшикнет сосунка и всю честную компанию заодно. Позволить себе растить детей в изоляторах могли только крупные квартальные общины. Мужики из команды по нужде стучались к торговкам с Сытного — те охотно пособляли за небольшую плату. Но чтобы в дом?!
Насупленный Илья поманил командира в коридор.
— Она в подвале сидела, ребята откопали. Припас, вещички — всё забрали, зашибить хотели.
— И зашибли бы, — мрачно отозвался Сим-Симыч. — Без жилья и припаса зиму не пережить, только мучиться будет зря.
— Жалко их, — вздохнул Илья. — Пропадут.
— Их? — взвился Сим-Симыч. — Сколько ты сюда баб приволок, дурень?
Илья помотал головой. По его виноватому лицу было видно — дело не в бабах. Сим-Симыч смягчился:
— Давай, колись! Кореша что ли встретил?
— Не-а. Диану.
Эту что ли клячу Дианой зовут? Имя совершенно не подходило бледной, полуседой женщине.
Легкий, скачущий топоток раздался из кухни. Не веря своим ушам, Сим-Симыч шагнул туда. По несвежему линолеуму катился маленький красный мяч. А за ним прыгала девочка. Живая девочка, не старше трех лет. Белокурые кудри, голубые кукольные глаза, неумытые розовые щёчки, пухлые ножки в желтых ботиночках, платье в цветочек с белым воротничком. Она беззвучно смеялась, пытаясь поймать мяч. Увидев чужого, малышка не испугалась. Подбежала, уставилась снизу вверх и — Сим-Симыч не успел среагировать — ухватила его за палец потной ладошкой.
— Дя-дя! При-вет!
…Иммунитет к чумке держится год. Если девчонка заразна, это конец!
— Ди здорова. Мы два года не выходили к людям, — спокойно, даже слишком спокойно произнесла женщина. — Вот, смотрите!
Перочинный ножик полоснул кожу запястья. На пол закапала чистая красная кровь. У больных она с первого дня становилась густой, почти черной.
— Вы переболели? Давно? — выпалил Сим-Симыч, лихорадочно вспоминая все, что знал о чумке.
— С божьей помощью болезнь миновала нас, — глаза женщины вспыхнули.
— Да плевать на нас богу, — пробормотал Сим-Симыч и выругался, не стесняясь ребенка. — Убирайтесь отсюда, пока я вас не пристрелил.
— Мы погибнем, — сказала женщина.
— Это не мое дело!
За прошедшие годы кэп научился жестокости. Он пшикал беспредельцев и психов, валил собак и ел их, выковыривал из черепов дроидов годные «грелки». Выставлял из команды на верную смерть — за воровство, за драки, за бесполезность. Случалось и добивать безнадежных. Зачем щадить чужую бабу?
Притихшая девочка отпустила его руку. От ребенка пахло конфетами и сладким шампунем. С ума сойти — откуда сейчас шампунь? И хорошая такая малышка — ни капризов, ни слез… Нет, нельзя.
— Я кому сказал — убирайтесь!
Лицо женщины стало отчаянным, худые кулаки сжались:
— Я была старшим менеджером станции «Горьковская» и имела доступ ко всем служебным помещениям. У меня есть коды.
— Докажи!
— Дайте мне бумагу и ручку.
— Обойдешься, бумагу на тебя тратить, — Сим-Симыч протянул женщине обгорелую щепку лучины. Она отбросила назад длинные волосы, зажмурилась на секунду и уверенно стала рисовать на столешнице схему станции. Вестибюль, эскалаторы, платформа, депо, служебные помещения.
— Там, за вагонами склад. Три ряда дверей — на служебке, в депо и на складе. Без кода вы его не возьмете, только гранатами. А взрывы повредят «грелки» и оставшуюся там технику.
В задумчивости Сим-Симыч погладил щеку, унимая надоедливый тик — склад метро это не один десяток, а то и не одна сотня «грелок», богатство по нынешним временам.
— Думаете взять коды силой? — женщина засмеялась коротко и обидно. — Обману — мне терять нечего, а вас зажмет между дверями или смоет пожаркой. По хорошему выгодней — вы получите «грелки», мы останемся живы. Не хотите — уйдем. И, поверьте, найдем, кому предложить…
Насупленный Илья подвинулся ближе к женщине, большая рука дернулась — приобнять — но так и не легла на угловатое плечо, обтянутое шерстяным свитером. Похоже, уйдут они вместе.
— Зачем силой? Самые правильные решения — простые решения. Ментоскоп — и готово дело, все скажешь, что хочешь и что не хочешь.
Женщина слегка побледнела, заозиралась, прикидывая расстояние до дверей. Повинуясь безмолвному приказу, девочка подбежала к матери, ухватилась за подол.
— К сожалению, у нас таких железок нет, — как ни в чем не бывало продолжил Сим-Симыч. — Подожди, пусть решает команда.
Из мужиков первым явился Муха, на удивление трезвый. Узнав о ребенке, он среагировал моментально — и совсем не так, как ожидал кэп. Старый брюзга, брызжа слюной из перекошенного рта, заявил, что скорей сдохнет сам, трать-тарарать, чем отпустит на холодную улицу, так её, малыша, что он, трампамам, мужик, а не покрышка от гальюна, а чумкой два раза не болеют. Тим и Серый, синхронно пожав накачанными плечами, отнеслись к новости безразлично — «грелки» годно, будет на чем катер гонять, лодочку прикупить, жратвы хорошей, выпивки старой, а не самогона с Малой Пушкарской. Здорово ли дите — пусть наш лепила решает. Если неладно что — тут же сами пристрелим. А на нет и суда нет.
Пухлый, улыбчивый Шурик потянулся к ребенку с искренним любопытством — вблизи видеть живых детей, родившихся после Чумного года, ему ещё не доводилось. То и дело суетливо вздергивая непослушные рукава рубахи, он осмотрел малышку с ног до головы, помял живот, потрогал шею, попросил раскрыть рот и последить за пальцем. Белокурая Диана подчинялась ветеринару безропотно, закашлялась, когда тот полез ложечкой в горло, но и здесь не заплакала. Когда её отпустили — метнулась к матери, повисла на шее, крепко вцепившись ручками в свитер и спрятав лицо.
— Совершенно здоровый, спокойный, упитанный ребенок, — констатировал Шурик, намыливая над тазиком короткопалые руки. — По хорошему бы сдать анализ крови, сделать рентген, но я ничего криминального не нахожу.
Мрачный Сим-Симыч поглядел на команду и сплюнул на пол, предчувствуя недоброе. Но решение было принято.
Женщину звали Галей, она оказалась неразговорчива, расторопна, услужлива и в то же время отстранена от всех. Она делала свое дело, отмалчивалась, иногда тихонько молилась. Единственное, что всерьёз интересовало её, зажигало весельём глаза — девочка. Чтобы снизить риск заражения — мало ли кто что на ногах принесет — им отгородили отдельную комнату с лоджией, мужики туда не входили, а Ди не выпускали наружу. По вечерам, когда темнело, Галя открывала балконную дверь и выпускала малышку подышать свежим морозным воздухом, посмотреть на улицу.
Днем женщина хлопотала, как птичка — перестирывала груды белья, яростно колотя рубахами и кальсонами по старинной стиральной доске, которую сама же приволокла с чердака, отмывала загаженные полы, возилась на кухне. Из лежалых круп, грубой муки, подмороженных овощей, уличных птиц и пойманной в Неве рыбы она творила нечто сногсшибательное. Как дразнили аппетит поджаристые окуньки, золотистой грудой возвышаясь на блюде, как шипели на чугунной сковороде пышные, кисловатые ржаные лепешки, как булькала и оглушительно пахла шурпа из голубей — кто б мог подумать, чертовски вкусно! Завтраки и обеды были у команды не в чести, но ежедневно в восемь вечера по радио мужики собирались вместе, неторопливо ели, слушали новости и скрипучую музыку с антикварных «пластов». Раньше кто-то неизменно запаздывал или отсутствовал, но стряпня новой жилички быстро приучила к порядку.
Через три дня, оставив девчушку под присмотром Ильи, Сим-Симыч, Серый и Галя пошли к метро через Александровский парк. Деревьев там почти не осталось — зима, мороз. В развалинах Зоопарка ухало и заунывно стонало — вырвавшиеся из клеток питомцы по слухам дали потомство, звероподобные дроиды тоже должны были уцелеть. Вот только любоваться на милых пушистиков никто особенно не спешил. К ржавым воротам стаскивали бесхозные трупы, дохлых дроидов и прочую дрянь — все исчезало за ночь. Мюзик-холл походил на обломанный клык, планетарий обвалился вовнутрь, театр все ещё стоял, нависая мрачными стенами. Ветер гулял вдоль сугробов, забирался под одежду, дыхание стыло в воздухе. Вместо вестибюля Горьковской возвышался снежный холм, переходов было не отыскать. Стая ворон, облюбовавшая синий купол мечети, поднялась в воздух и сделала круг над прохожими. Посерьёзневшая Галя долго таскала мужиков за собой, рыла снег, всматривалась в темные пятна и, наконец, заявила, что отыскать вход под снегом она не в состоянии. Подходящий, казалось бы, повод взять её вместе с чадом и отправить, откуда пришла. Но кэп не стал этого делать. Глянул на присмиревшую женщину и махнул рукой — ждем весны.
Прогулка по морозу не пошла Сим-Симычу впрок, он опять закашлял, задрожал всей щекой и неделю просидел дома, сам не заметив, что обосновался на кухне. Одинокому капитану нравилось смотреть, как проворные женские руки соскребают чешую, выщипывают перышки, трудятся над тестом, тоненькими лохмотьями спускают бурую кожуру. Всего делов — сварить кастрюлю картошек, перемять с луком, добавить яичного порошка, ложку масла, обвалять в крупчатке, экономно, чтоб ни пылинки зря не пропало — и в самый жар на сковороду. Пальчики оближешь!
В бабьем плане Галя Сим-Симыча не восхищала — худа, тощие ноги с большими ступнями, узкие бедра, жалкая грудь, тонкий рот, длинный нос, с хрящеватым подвижным кончиком. Она была хорошей теткой и золотой хозяйкой, истово создавала вокруг уют, но женского очарования ей судьба не отсыпала. А вот Ди как-то незаметно вползла в сердце. На душе теплело, когда из угловой комнаты слышался резвый топот, неразборчивое бормотание, мурлыканье над игрушками или лакомствами.
Малышка вообще никогда не плакала, не ныла и не скулила, как часто бывает с детьми. Она просто была, играла, водила пальчиком по стеклу, разглядывала детские книжки, выменянные Мухой на пару щук и протертые (кто бы поверил!) самогоном для дезинфекции. Повеселевший Илья таскал любимице то яблоко, то луковку, то свежее куриное яйцо — где только отыскал? Он часами простаивал у открытой двери, показывая целые представления сосредоточенной девочке. Пару раз Сим-Симыч отгонял от себя дурную мысль — силач хочет охмурить тетку и в одиночку попользоваться складом «грелок»… Нелепо — в городе шансы выжить у одиночек мизерны.
Тим и Серый распилили полку от тумбочки и сделали дитю кубики — пусть балуется. Любопытный Шурик все пробовал рассмешить малышку, каждый день мерил ей температуру, приставал к матери с расспросами — когда, мол, девочка пошла, когда начала гулить, когда заговорила, не гуляла ли Галя по «горячим» районам, не болела ли во время беременности. Злой с похмелья Сим-Симыч допытывался у ветеринара, в чем дело — не урод ли какой малышка, не мутант ли? Кэп не верил, что радиация могла навредить кудрявому чуду, но мало ли — медицине виднее. Шурик шутил и отмалчивался.
Своим чередом зима перевалила через хребет Нового года. Тридцать первого для ребенка поставили елочку, украсили, чем под руку подвернулось, положили под ветки резную куклу и неуклюжую лошадку-качалку. Сим-Симыч не поскупился, подключил квартиру на целый день к «грелке», в доме стало светло и тепло, заработала фильмотека, забегал по углам пыхтящий маленький пылесос. Увидев его, Диана засмеялась. Галя — когда только успела — сделала всем подарки, кому носки, кому перчатки. Илье достался такой пушистый и толстый шарф, силач так краснел, обматывая сюрприз вокруг могучей шеи, что остальным ненадолго стало неловко. Но заминка прошла, и начался праздник. Хитрый Шурик, как оказалось, пользовал от мочекаменной богача, хозяина единственного на Сытном рынке мясного прилавка — не лотков с собачатиной, крысами и кошками «под кролика», а витрины с говядиной, свининой и тощими синими курами. Поэтому на столе благоухали запеченные Галей прямо в коже свиные рульки и топорщила облитые жиром лапы целая курица в окружении целого моря искусно сквашенной с яблоками капусты, россыпи картошки в мундирах и хрустких огурчиков. У Мухи оказалась припасена засоленная ещё с осени лососина. Тим и Серый достали две бутылки «прежнего» вина и бутылку водки на березовых почках. Илья приволок банку меда и конфету ребенку. Мужики балагурили, ели в три горла, похваливая хозяйку, пили умеренно, возглашали длинные тосты. За окнами постреливали, нестройно пели, из метронома бодро играло радио. То ли от вкусной пищи то ли от светлых комнат на душе становилось по-новогоднему радостно и легко. Хмельной Муха подытожил общие мысли — он поднялся, покачиваясь, с минуту свистел и хлюпал, потом смирил судорогу:
— За будущее. За жизнь.
Мужики посмотрели на румяную, перепачканную медом Ди, дремлющую на коленях у принаряженной Гали. И сдвинули стаканы.
…В феврале-марте как всегда ожидали голода и не ошиблись. Зимой подвоза почти не было, немногие фермеры решались гнать в Питер обозы с провизией, в мороз и метель, мимо волков, бригад и одичавших дроидов. На улицах тарахтело короткими очередями, собаки валили и грызли запоздалых прохожих, охотники караулили и били собак, а на прилавках Сытного рынка появилась подозрительно дешевая парная свинина. Поглядев поутру на окровавленный снег во дворике, Сим-Симыч настрого запретил команде выходить на улицу поодиночке или без оружия, а Гале — выгуливать девочку на балконе. Бесшабашный Шурик решил, что его это не касается — кто захочет трогать врача? Пошел в соседний дом к припадочному, замешкался до темноты. Охотники вывели его до подъезда, подождали, пока раззява наберет код, дали Шурику по голове и вломились на черную лестницу. Дома была только Галя с дочкой. Оказалось, что тетка палит без промаха — вернувшись, мужики оттащили к Зоопарку два трупа. В конце марта Тим и Серый не поделили хабар с бармалеями. У бригады был самодельный гранатомет, они осадили подъезд. Сим-Симыч с мужиками отстреливались из окон, попеременно суля старшему бармалею виру за мировую и неприятности в случае продолжения огня. Уговорились на трех «грелках» и трех четвертях самогона. Вернувшись с переговоров, кэп набил виновникам морды и на месяц урезал паек. После инцидента в сейфе осталось две целых «грелки» и пять початых. Еле хватит начать сезон.
Гале никто ничего не объяснял, она сама подошла к Сим-Симычу. Попросила ещё чуть-чуть подождать — грязь, мокреть, есть риск плывунов. Незаметно пожав плечами, кэп не стал спорить. Куда больше его интересовало, как «стучок» пережил зиму. Едва у берега потемнел лед, Сим-Симыч метнулся в крепость и три дня подряд перебирал, драил и смазывал маслом плавучее сокровище. У него уже чесались руки выйти на реку, пронестись с ветерком вдоль набережных. Брызги в лицо, тихий рокот мотора, дрожь металла, хохочущие рожи мужиков, одурелые чайки разлетаются прочь — лепота! День начала навигации для команды всегда был праздничным. Раньше «пушкинцы» звали на хату портовых, грузчиков, матросов с других «стучков», гребцов с лодок и до рассвета гуляли вволю. В этом году, посовещавшись, решили сами завалиться в компанию — не стоит чужим видеть Ди. Мужики все больше привязывались к потешной девчушке. Ворча в усы, Муха притащил ей первую мать-и-мачеху, Ди вставила золотистые цветы в кудри и с полчаса не могла оторваться от зеркала, любуясь собой — истая женщина. Неуемный Илья где-то добыл беленького котенка, чтобы «дочке» было не так одиноко в детской, но звереныш через несколько дней исчез бесследно.
Весна девяносто второго пришла поздно, но быстро — за считанные дни могучие сугробы превратились в ноздреватые грязные кучки, зазеленели газоны и чахлые огородики, разбитые в скверах, набухли смолистые тополиные почки. Граждане и гражданки потащили в кошелках неизменную серебристую корюшку, следом крались оголодавшие за зиму уличные коты. Воробьи на кустах орали как оглашенные, бродячие псы очумело носились по городу и грызлись между собой из-за сук. Тим явился домой с поцарапанной физиономией и долго лыбился, словно медаль получил. Хлопотливая Галя вопреки всем запретам выходила из дома в Александровский парк и всякий раз возвращалась с корзинкой травы — сныти, крапивы, одуванчиков, кислицы, щавеля. Она рубила зелень в мелкую крошку, солила, добавляла выращенный на окошке зеленый лучок, заливала душистым подсолнечным маслом и подавала с картошкой. Наскучившие сладковатые клубни обретали совсем другой вкус, мужики уминали за обе щеки. У Мухи перестали кровоточить десны и опухать ноги, старик немного приободрился.
В середине апреля Галя сказала, что пора спускаться в метро. Земля подсохла, ночи стали короче, ещё немного и придется ждать до осени. Вентиляционные шахты у вестибюля наглухо завалило, в переходы соваться опасно, там потолок и стены держатся на соплях. Но за мюзик-холлом ближе к протоке есть водосток с люком — если достать защитку, можно пройти в туннель. Планирование и подготовку операции Сим-Симыч взял на себя. Раздобыл карту, свечей, настоящий фонарь, резак с газовым баллоном, выменял на «грелку» три костюма химзащиты, сам решил обойтись болотными сапогами, макинтошем и противогазом. Из НЗ вытащил две окаменевшие от старости шоколадки и некрупную фляжку золотистого коньяка.
— Выходим после вечернего радио. В туннель пойдут Тим, Серый, я и Галя. Шурик с Ильёй патрулируют у «Стерегущего». Муха в резерве. Сигнал СОС — три выстрела подряд. Если до утра не сигналим — делайте дневку, ждите. На второй день можете хоронить. Ди в доле. Есть вопросы?
Мужики кивнули, соглашаясь — если мать погибнет, ребенок получит её долю в общаке. Только Муха разорался, почему его оставляют. Он плевался, краснел и бурчал неразборчивое, пока Галя не попросила его позаботиться о ребенке, если вдруг она не вернется. На этом старик размяк.
Малышку Ди уложили спать раньше обычного. Мужики в кухне без аппетита глодали обжаренную в тесте корюшку, пока Галя напевала старинную колыбельную песенку про усталые игрушки. Закончив есть, выпили по одной за почин дела, больше не стали. Радиоточка наигрывала меланхолическое: Старый отель, двери свои открой. Старый отель, в полночь меня укрой… Выгребая из бороды крошки, Сим-Симыч подумал, что в полночь они уже будут на станции. Песня закончилась, прозвенели знакомые позывные. Рюкзаки уже были собраны, оружие проверено. Сам Сим-Симыч взял короткоствол, Илья, Тим и Серый предпочли автоматы, Шурик сунул в кобуру переделанный пистолет, Галя оружие брать не стала.
— Вы ж не бросите женщину на съеденье подземным крысам, — пошутила она, но в глазах промелькнул испуг.
«Не доверяет», — подумал Сим-Симыч. «Правильно делает».
— Все, мужики, присядем на дорожку и айда.
Весенний воздух одуряюще пах свежестью, особенной апрельской чистотой. Чавкая сапогами по грязной дорожке парка, Сим-Симыч вспоминал чумной год, пропитавшую все склизкую трупную вонь — желающих прикасаться к мертвым не находилось, даже собаки не жрали падаль, а дроиды ещё не разрядились. Так что живность, расплодившаяся в Зоопарке, приносила Петроградской стороне ощутимую пользу. На Гражданке трупы жгли, на Васильевском падаль бросали в море — смердело до самой Гавани.
Впереди бахнули выстрелы, раздалась брань. Сим-Симыч метнулся и разглядел в сумерках темную тушу, похожую на собачью, но приземистее и массивнее. Мужики столпились вокруг, нервный Шурик пнул тварь в бок и тут же схлопотал от кэпа:
— Охренел? Вот прыгнет, сцука, откусит кой-что и будешь знать. Цел?
— Цел конечно, Семен Семеныч.
Кэп достал драгоценный фонарик, посветил в четверть силы. Животина походила на росомаху, выстрелы разворотили ей грудь. Может дроид оголодавший, а может и настоящий зверь — кто их сейчас без лаборатории разберет?
— Пошли, мужики, пока местные не задумались — что это мы здесь делаем?
— Цветочки собираем, — фыркнул Тим и замолк, почуяв, что кэп злится.
— Вот откроем мы склад, наберем… сколько там «грелок» могло быть, Галя?
— Сто двадцать — сто пятьдесят, — бесцветным голосом ответила женщина.
— Так вот, наберем «грелок», поднимемся наверх, а тут нас бригада цоп за ушко да на солнышко. Потому что услышали, просекли, выпасли. А мы как куры глупые тут расквохтались. Бросай падаль, вперед!
Они свернули за мюзик-холл, без удовольствия слушая, как что-то большое ворочается и плещется в узкой протоке. Решетка намертво заржавела. Тим с Ильёй попробовали вытащить прутья, богатырской силушки не хватило. Утомленный их потугами Сим-Симыч плюнул и решил проблему газовым резаком. Прикрутив вентиль баллона, он скомандовал одеваться, закрепил на узле решетки веревку и первым спустился вниз.
Свечи оказались плохой идеей — в затхлом и сыром туннельном воздухе они поминутно гасли, почти не давая света. Пришлось обходиться одним фонарем. Серый, как самый опытный боец замыкал колонну, прислушиваясь к темноте за спиной, Галя шла второй, как безоружная, Тим смотрел вперед, держа автомат наизготовку. Сим-Симыч вел, не желая доверить кому-то драгоценный источник света. На удивление, тоннель оказался пуст — ни крыс, ни радиации (счетчик прятался в рюкзаке) ни завалов. Рейд начинался благополучно, вот только вода, достигающая колена, оказалась страшно холодной, мышцы сводила судорога.
Они шли минут двадцать, потом коридор раздвоился. Галя сняла прорезиненные перчатки и уверенно свернула направо, проводя рукой по стене. Искала она недолго — под пальцами вспыхнула синим светом панель. Ладони женщины вспорхнули над кнопками, набирая нужную комбинацию. Дверь открылась, натужно хрипнув. Перед группой открылся туннель метростроя, неловкий Тим тут же споткнулся о рельсы и зашипел от боли.
— Куда дальше, Галя? — осторожно спросил Сим-Симыч. Только теперь он до конца поверил — эта немногословная баба действительно что-то знает.
— Снова направо, — чуть помедлив, произнесла женщина. — Пойдем по рельсам, я поведу. Если не сложно, посветите мне под ноги.
Темные, словно покрытые лохмотьями копоти стены производили давящее впечатление. Сим-Симыч не боялся подземелий, но ему сделалось неуютно. И в ушах звенит все сильнее. И ноги дрожат на рельсах…
Полузабытый рокот раздался из туннеля, что-то могучее с ревом ворочалось там. Первой среагировала Галя:
— Товарищи, все к стене! Прижмитесь к стене и не двигайтесь ни в коем случае.
Сим-Симыч отпрыгнул в сторону, сорвал рюкзак, швырнул в сторону и распластался вдоль мягкой, склизкой стены. Тим и Галя последовали его примеру. Оторопевший Серый замешкался и чудом успел спастись.
На них надвигался поезд. Сияющий и гремящий, похожий на древнее чудище, настоящий поезд метро. Кэп успел удивиться — он был уверен, что движение прекратили в первый Чумной год. Потом мимо помчались вагоны и мысли ушли, остался голый страх — стоять под мощным потоком воздуха буквально на волосок от смерти, не имея возможности что-либо сделать, помочь себе. Слева что-то неслышное трясущимися губами бормотал Тим, повернуть голову вправо казалось немыслимой задачей. Чтобы справиться с паникой, Сим-Симыч начал громко считать до ста, перекрикивая рев двигателей. На девяносто семи мимо промелькнул последний вагон. Все остались живы, целы и невредимы.
Галя приободрилась, её голос потеплел от радости:
— Получилось! Если поезда до сих пор ходят, значит, рабочие целы, прошивки не повреждены и склад в порядке! Мы пользовались официальными дроидами, у которых после полной разрядки тела отключаются и разлагаются, как трупы.
Неумело улыбающийся Тим похлопал женщину по плечу:
— Слышь, я думал, ты гнала все про «грелки». Молоток баба! Уважуха!
— Я не люблю врать, — тихо проговорила женщина, без нужды поправила капюшон и продолжила после паузы: — Надо идти дальше — не знаю, сколько локомотивов курсирует по маршруту, и успеем ли мы увернуться от следующего.
— Галя права, — растирая некстати «тикающую» щеку, подтвердил Сим-Симыч. — Нечего чаек считать, вперед. Рюкзаки на радостях не забудьте!
Вестибюль станции был покрыт толстым слоем нехоженой пыли. Ни дорожки крысиных следов, ни следа человека. В центре зала тускло светилась одна-единственная уцелевшая люстра. Каждый шаг поднимал серые облака, несколько раз из-под них проступали кости, облаченные в истлевшую одежду. Сим-Симыч споткнулся о дамскую сумочку, поднял её, раскрыл — розовый суперфон на цепочке, мертвый планшет, кошелек с карточками и бесполезными деньгами, какие-то пестрые штучки в потускневших упаковках. Ничего ценного. Иногда люди брали с собой раритетные бумажные книги, которым, в отличие от электронки, не страшны ни облучение, ни взрывная волна. У них с женой хранилась дедовская фамильная библиотека, но перед рождением сына кэп своими руками перетаскал на помойку тяжелые пачки, чтобы освободить место для детской. Зачем держать дома лишние пылесборники, если любой текст можно найти в э-формате и закачать к себе? Это был один из немногих поступков в жизни, о которых кэп жалел до сих пор.
Дойдя до конца перрона, они поочередно спрыгнули с платформы и продвинувшись немного вперед, свернули в боковой туннель. Галя по-прежнему возглавляла группу. Она не вздрогнула, когда прямо в воздухе загорелась надпись «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещен», а вложила руку между светящимися перекладинками буквы «П» чтобы сканер считал отпечатки пальцев. Маленькое реле выползло из стены, Галя без запинки ввела код. Двери распахнулись, негромко гудя.
Они попали в огромный, тускло освещенный зал. Несколько поездов стояли в депо, как драконы в стойлах. Какие-то люди в одинаковых тускло-зеленых робах суетились вокруг них как муравьи, что-то вкручивая, ввинчивая, меняя и покрывая краской. Судя по тому, что ни один из рабочих не поздоровался и даже не повернул голову полюбоваться, кто там пожаловал, это были дроиды.
Пряча волнение, Галина стерла пот со лба и нажала на кнопку у входа. Третье реле заблестело искрами света, цифры совпали, открылась дверь в маленький кабинет. Уютная мебель, африканская маска на стенке, большая семейная фотография в голографической рамочке, выключенный монитор, аккуратная, чисто умытая, хорошо одетая женщина средних лет за столом.
— Здравствуйте, дорогая Галина Викторовна. Здравствуйте, товарищи! Проходите! Желаете чаю или кофе?
Оторопевшие мужики не знали, что и подумать. Тем временем женщина моментально вскипятила воду и вот уже на пожелтевшем от времени столе стояли фарфоровые чашечки с затхлым, судя по запаху настоящим чаем. Сим-Симыч сперва смутился, но вовремя обратил внимание на безукоризненную точность, с которой женщина наливала воду и отмеривала ложечкой заварку из контейнера. Перед ними был дроид. Не простой, а золотой, высшей категории, узко специализированный. Хозяйка тем временем достала из буфета блюдечко с окаменелым печеньем, и, предложив гостям откушать, вперила взор в начальницу.
— Разрешите доложить, Галина Викторовна! Ремонт подвижного состава осуществляется в штатном режиме. Движение перекрыто, поезда ходят от станции Петроградская до станции Невский проспект. Сигнал о чрезвычайном положении действует. Необходимо экстренное пополнение запасов батарей ГРИ, дополнительные поставки ремонтного оборудования и штатное обновление комплекса задач у рабочего коллектива.
— Подскажите, сколько осталось батарей? — слегка побледнев, спросила Галя.
— Шесть полных, двадцать восемь задействованных, — сияя идиотской гордостью, ответил дроид.
— Ключи, пожалуйста!
— Сию минуту, Галина Викторовна.
Дроид протянул связку плоских магнитных ключей. Бледная Галя положила их на стол и жалобно попросила мужчин:
— Оставим её?
Сим-Симыч покачал головой — дроиды не люди, а полупустую батарею можно использовать дома, в особенности зимой.
— Код два-двенадцать а-икс, подготовьтесь, необходимо заменить батарею.
— Слушаюсь, Галина Викторовна!
Дроид покорно приблизился к Гале и раскрыл черепную коробку. Женщина достала из гнезда гладкий, тяжелый шар батареи, и, порывшись пальцами в ячейке управления, нажала на кнопку деактивации. Пустое тело тяжело шлепнулось на пол.
Они вернулись в депо. Не задумываясь, Галя отдала Тиму ключи от склада, и пошла вдоль вагонов, останавливая дроидов. Требуется замена батареи, код два-двенадцать а-икс. Нерассуждающие биомеханизмы покорно склоняли пыльные головы и раскрывали черепа. Сим-Симыч и Серый вытаскивали «грелки» одну за другой. Шесть полных батарей ГРИ, двадцать разряженных. Восемь осталось в поездах — ни у кого не поднялась рука остановить могучие механизмы. Кроме «грелок» Тим нашел на складах полезный хабар — машинное масло, ремонтный инструмент, гайки, шайбы, два термокомбеза, пачку чая и коробку настоящего сахара.
Обратный путь был печален. То и дело подтягивая тяжелеющий с каждым шагом рюкзак, кашляя и дрожа от свирепого холода, Сим-Симыч представлял себе, как умрет станция. Через несколько недель погаснет свет, встанут в туннелях обессилевшие поезда, пыль захватит убежище и заполнит ещё одну клетку бывшего города.
— Семен! — шмыгнув носом, негромко окликнула его Галя. — Я не знала, что резервы почти исчерпаны. Это слишком мало — шесть «грелок».
— Ничего, бывает, — криво улыбнулся Сим-Симыч. — Живем дальше.
— Нам уйти?
— Не говори глупостей, — неловкой от усталости рукой кэп коснулся плеча женщины. — Куда вы с малышкой одни денетесь? Ей расти надо, кушать нормально, ещё годика три — и учиться пора. Вот не знаю, пашет ли сейчас хоть одна школа.
Поникшая Галя отстала. Стыдно ей, видите ли. Добытых батарей хватит на одну навигцию и на одну зиму. А там или ишак сдохнет или падишах или сам он вперед ногами вниз по Неве отправится.
Команда без проблем прошла обратный маршрут и поднялась наверх. Уже светало, над землей поднимался белесый пар. Поразмыслив, Сим-Симыч решил не стрелять — послал Тима завернуть к дому патруль, а сам с мужиками и Галей повернул к дому. Его трясло, и озноб все не унимался.
К восторгу малышки Ди, утром в доме зажегся свет, включилось полное отопление, пылесос заюлил по комнатам. Только взрослые этому не обрадовались. К вечеру все, кроме Мухи и девочки, лежали в постелях, натужно кашляли, исходили горячечным кислым потом. На следующий день свалился старик. Квартира превратилась в лазарет, полный беспомощных, перепуганных пациентов. И никаких лекарств, никакой подмоги — бак воды, скудный запас провизии, банка меда и сушеные листики молодой мать-и-мачехи. Изнывающий от слабости и болей во всем теле Сим-Симыч ненадолго придя в чувство, прокусил себе губу. Вид алой, спокойно каплющей крови немного успокоил его.
Недуг усилил тики и дрожь, никто кроме Гали не мог подняться с постели. Трясущийся как желе, обезголосевший Шурик сумел-таки втолковать остальным план лечения — как можно больше пить, потеть, охлаждать голову, поколачивать пальцами грудь, чтобы откашляться и переворачиваться с боку на бок в кровати. Галя через силу по утрам кипятила питьевую воду, медленно обмывала больных и выносила общий горшок, а потом целый день лежала, хрипло дыша.
Если бы не Ди, они бы все могли умереть. Но ещё не умеющая толком говорить малышка с недетской сообразительностью приняла на себя уход за больными. Смешно переваливаясь, она разносила воду, кормила их с ложечки медом и разболтанной в воде мукой, меняла компрессы, подавала бутыль помочиться. Готовить еду и стирать она конечно же не могла, но этого от неё и не ждали. Иногда Ди останавливалась посреди комнаты, и напевая на своем языке немудрящий мотивчик, танцевала под него, вызывая улыбки на заросших, потных физиономиях.
На пятый день больным стало хуже, температура поднялась до сорока градусов, жар сменялся ознобом, лихорадочный сон бредом. Маленькая сиделка сбивалась с ног, выполняя противоречивые просьбы. Ища прохлады, Тим хотел выйти на улицу из окна, но Илья успел навалиться ему на ноги и остановить — бедняга был слишком слаб, чтобы скинуть грузную тушу. Ночь тянулась бесконечно. К утру мужиков охватила испарина, мышцы расслабились. Больные уснули и спали сутки.
Очнулись все, кроме Мухи — слабыми, тощими, но здоровыми. Старик еще три дня бредил, исходя кашлем, хрипло призывая к себе «внучку», потом затих навсегда. Следовало бы стащить его к Зоопарку, но мужики, сами едва передвигаясь, вырыли во дворе яму и похоронили там друга. А потом поднялись домой, чтобы выпить и помолчать. Через пару дней команда вернулась к работе. Надежда на склад не оправдалась, надо было выкручиваться дальше, искать средства для проживания, делать запасы. Ресурсов в городе становилось все меньше, а число претендентов на них сокращалось медленно.
Избавившись от болезни, Шурик неожиданно для товарищей стал замкнут, отдалился от команды и целые дни пропадал в городе. Похоже поражение в борьбе с хворобой сделало его пессимистом. Остальные, невзирая на все невзгоды, радовались — теплой весне, яркой зелени, тому, что остались живы. Благодарные мужики носили малышку на руках и закармливали сластями, она мурлыкала свои песенки, не отдавая никому предпочтения. Сим-Симыч сокрушался — ребенок совсем не растет, ему нужно питание, воздух, солнце. Он уже строил планы, как бы исхитриться войти в одну из крупных общин. «Стучок» не самый плохой взнос. А там, глядишь, и новые малыши у Гали с Илюхой появятся. Будем жить!
Дело шло к навигации. Команда целый день проводила на катере, ремонтировала изношенные скамейки, конопатила щели, заново красила борта и каюты. Вместо Мухи Сим-Симыч взял Костика — хромоногого молодого парнишку с правильными руками и фантастическим чутьем к технике. Неуемная Галя бродила по окрестностям, думая, где бы поудачней разбить огород. Ей хотелось отборного желтого картофеля, рыжих хрустких карандашей моркови и розовых, как поросята свеколок. На балконе в ящике из-под посылки уже зеленели укроп, салат и редис. Казалось, все налаживается.
Последним апрельским утром Сим-Симыч заскочил домой средь бела дня — забыл отвертку вместе с жилетом. Он не думал кого-то увидеть дома, и возня в детской комнате напугала его — вор? Бандит?
«Нет, нет, не хочу» в голос кричала Ди, что-то упало и звякнуло. Пинком распахнув дверь, Сим-Симыч увидел Шурика с пробиркой в руках и девчушку, забившуюся в угол, между тумбочкой и батареей. Ветеринар сиял.
— Мы богачи, кэп. Просто не представляешь, какие мы богачи! Вот, смотри!!!
Пробирка мерцала тусклым, переливающимся светом.
— Я нашел реактив. Обшарил развалины двух больниц и нашел! Эта пакость — не человек.
— И кто же она, по-твоему? Мутант? Выродок? Невинность, потерянная торговкой на куче рыбы? — медленно проговорил Сим-Симыч.
— Дроид. Элитный дроид, редкая птица. Их выпускали для фильмов и модных показов, для семей миллионеров. На третьем канале такая же кукла вела передачу «С добрым утром, малыши». Помнишь?
— Предположим, — согласился Сим-Симыч. Они с сыном смотрели эту дурацкую передачу по воскресеньям, и отец не понимал, что мальчишка нашел в этой слюнявой глупости, почему неотрывно пялится в телеэкран, где трехлетняя девочка взрослым голосом вещает взрослую ерунду.
— Это очень дорогой дроид, и совершенно не поврежденный, не перепрошитый и даже не разряженный. Его получится продать, я навел справки. Главное — не повредить товар.
— Ты уверен?
— Конечно! Видишь сам — она не растет, не говорит, не плачет и никого кроме хозяйки не любит. Замечал, кэп?
— Предположим, — согласился Сим-Симыч. Слова ветеринара до отвращения походили на правду.
— В крови у дроидов есть особый фермент, позволяющий отличать их от человека. Когда Тинкельман и Якушкин конструировали первые биомеханизмы, они встроили маркер в геном. Поэтому тест на человечность выявляет дроидов — обработка реактивом вызывает свечение, — приплясывая на месте, продолжал Шурик.
— Покажи-ка, — двумя пальцами Сим-Симыч зажал пробирку, потом ковырнул порез на больной щеке и капнул в сосуд своей кровью. Свечение усилилось!
— Я, по-твоему, тоже дроид? А по пупу не хохо? Она — ребенок — ходила за нами, пока мы тонули в собственном поту. У тебя совесть вообще есть?
Суровый взгляд кэпа мог пригвоздить ветеринара к полу, но тот вывернулся.
— Это вторичная реакция, разложение гемоглобина! Ну что ты как баба, кэп — она дроид, биомеханизм, игрушка, безмозглая и бессмысленная, ты таких стрелял сотнями. Нам заплатят хорошие бабки в Смольном, мы купим катер, два, три! Я знаю, где достать лекарства — аспирин, обезболивающие, антибиотики. Я же хочу как лучше для всех, Семен. Чтобы мы с мужиками выжили. И Гале этой… да ей тоже выделим долю.
— Приговорку такую знаешь — хотели как лучше, а получилось как всегда, — пробормотал Сим-Симыч.
— Хотеть не вредно, вредно не хотеть, — отбрил Шурик. — Понимаешь… а вдруг мы сможем уехать отсюда? Это враки, что границу стерегут без просвета, за деньги можно найти проводников и убраться из этого гнилого городишки к чертовой матери! Жить нормально, ходить на работу, покупать в магазине свежий хлеб и сосиски, пить пиво, а не бурду. Не бояться, что какой-нибудь гопник пристрелит тебя на первом же углу.
…Да, это было соблазнительно. Сим-Симыч представил себе квартиру с теплым полом, телеэкраном во всю стену, автоповаром, прачечной, пылесосом, механическим массажером и электронной читалкой. Работа с девяти до пяти, супермаркет, пикники на природе, новая жена и новые дети. Интересно, хоть где-то кроме Австралии осталось такое счастье?
— Не ссы, кэп, я поделюсь со всеми, клянусь! Помоги только запаковать куклу.
Он действительно стрелял дроидов сотнями, а до Чумного года обходил их стороной, избегал как прокаженных — идиотские, жалкие подобия людей. Мерзость! И Диана, кудряшка Ди — тоже робот, её улыбки, гримаски, доверчивый жест, с которым она прижималась щекой, стоило взять на руки — программа, забитая в прошивку? Медленно повернув голову, Сим-Симыч посмотрел на малышку — она покорно висела в руках ветеринара, не отбивалась и не кричала. Словно бы понимала происходящее. По щекам малышки змеились две влажных дорожки…
Шурик ошибся, повернувшись к капитану спиной.
Команде Сим-Симыч сказал вечером, что обиженный невесть на что врач переселился на другой конец города, к бабе, которую давно навещал и все такое. Правду знали лишь несытые твари из Зоопарка. И Ди — чудесная малышка с белокурыми локонами, пухлыми ножками и шрамом на голове — там, где должно было открываться гнездо под батарею.
Откуда Галя взяла Ди — купила, украла, нашла в развалинах или полном мертвецов доме, — кэп не стал спрашивать. Он вспомнил семейную фотографию на стене кабинета. Из голографической рамки глядели улыбающийся мужчина в белом костюме, красивая, гордая Галя и кучерявая пухлая девочка, не старше двух лет. Когда-то старший менеджер станции Горьковская имела семью и ребенка, была счастлива. Чумка ранила её, но не сломила. Она заслужила счастье.
С уцелевшей командой Сим-Симыч отпраздновал навигацию, подождал пару дней, а потом вызвал к себе Галю и посоветовал им с Ильёй перебраться в деревню, прочь от питерской суеты, сырости и вечной уличной грязи. Маленькому ребенку в городе всегда угрожает опасность, мало ли кто захочет обидеть его, убить, похитить. Не стоит дразнить собак, подвергать лишнему риску и себя и других. А на дальних хуторах люди не задают вопросов — лишь бы от работы хозяева не бегали, свой хлеб растили, а на чужой не зарились. Удивленная Галя взглянула в непроницаемые глаза Сим-Симыча, хотела что-то сказать, но не стала. Только поклонилась ему в пояс, как кланяются царицы.
Молодые записались в районной книге и в середине мая на попутной телеге, спрятав Ди под грудой пустых мешков, уехали в деревушку с непроизносимым финским названием — там оставалось много ничейных домов. Услужливый фермер получил термокомбез, болотные сапоги и совет держать язык за зубами. Тим и Серый отработали лето, а осенью ушли из команды, искать новой жизни. Сим-Симыч нанял новых матросов, следующей весной прикупил второй «стучок» и зажил припеваючи — носил новодельную косуху и кожаные штаны, носился по каналам, выжимая из мотора всю возможную скорость. Вместо местного самогона пил натуральный грузинский чай в скверной упаковке, девяносто первого года выпуска — похоже, Шурик был прав, торговцам удалось наладить канал связи с Большой землей. Неожиданно для себя кэп начал много читать и собрал небольшую библиотеку, принимая старинные книги в оплату проезда наравне с овощами, патронами и другой расхожей валютой. Умные люди стали редкостью в городе, слишком много усилий тратилось на выживание. Поэтому книги заняли нишу достойных собеседников — по вечерам Сим-Симыч полюбил брать томик Достоевского или Лескова и, вооружившись отточенным угольком вместо карандаша, с удовольствием спорил с автором.
После отъезда Ди он отчаянно скучал по отцовству, но жениться ещё раз не решился. Вместо этого завел собаку — точнее подобрал на окраинном пустыре осиротелого лопоухого щена. Назвал Рексом, часами возился с ним, приучал давать лапу и приносить мяч, в хорошие дни выгуливал по Петроградской и рассказывал умному псу — каким прежде был город. Рыжий Рекс вываливал язык, свешивал одно ухо, ставил торчком другое и внимательно слушал «папу». Иногда, после плотного ужина или тяжелого дня кэпу снились кошмары чумного года, но с каждым годом все реже, реже…
Илья и Галя хорошо потрудились. Первый год дался им нелегко — огород побило морозом, кролики передохли, соседи косились на чужаков, и помогать не спешили. Зиму перемогались на рыбе, грибах и сушеных ягодах, Илье пару раз удалось завалить в лесу одичавших подсвинков. Со второго года наладилось — вовремя посадили капусту, лук и картошку, вовремя проредили, обобрали гусениц с грядок, научились отогревать землю в заморозки и доить пожилую козу. Под зиму завели ледащую корову, подлечили и выправили её. Галя до самых родов ходила за ней, как за ребенком, обмывала вымя теплой водой, подкармливала жмыхами. Едва оправившись, снова поспешила в хлев. В марте корова принесла складную телочку, которую тоже оставили в хозяйстве. К огороду добавилось поле — громада (десяток мужиков, восемь баб, три подростка и один упрямый старик) вместе растила рожь и овес, пахала, сеяла, жала и делила урожай по числу работников. По счастью у них уцелел механический трактор, на который деревня мало что не молилась.
Могучий Илья стал хорошим работником, деревенские его уважали, но порицали за трезвость. Сильная, хваткая Галя работала наравне с мужем. Жизнь в деревне оказалась куда трудней, чем казалось старшему менеджеру станции Горьковская. Но она справилась, как справлялась всегда, даже лучше — казалось, все, к чему прикасаются её проворные руки, оживает, начинает цвести и плодоносить. Не забывала она и Сим-Симыча, дважды в год собирала посылки, переправляла с захожими фермерами: лук, картошка, варенье, сало, небольшое письмо с неизменной благодарностью в конце. Обещала второго сына назвать Семеном — если родится мальчик. Но навестить капитана ни Галя, ни Илья не спешили. По городу они не скучали.
Маленькая Диана оставалась такой же румяной милашкой, но пухлость и мягкость сошли с ловкой фигурки, белокурые кудри выцвели, голубые глаза от этого казались ещё ярче. Она усердно хлопотала по дому, бесстрашно совала чугуны в печку, пасла козу и корову, кормила кур, возилась с цыплятами, щенками и младшим братом. Через год, к всеобщему удивлению Ди сама научилась читать по найденному на чердаке погрызенному мышами томику Ленина. Деревенские бабы не могли на неё нахвалиться — мамина помощница растет, хозяюшка, умница! Деревенские мужики ахали, как ловко она обращается с цифрами, моментально высчитывая, сколько должен захожий фермер-посредник за две туши говядины, двадцать мешков картошки, восемь лука и кисет табака, с учетом прошлогоднего долга за соль и гвозди. Если выдавалась минутка, Ди играла сама с собой, танцевала и пела песни без слов, как поступала раньше.
Она любила дождливыми вечерами сидеть у окошка избы и наблюдать, как по стеклу катятся капли дождя, как ветер налепляет на мокрую гладь пестрый осенний лист, как проступает неяркое закатное солнце и хромоногий паук торопится хоть немного согреться. Когда созревали ягоды, она часами могла низать странные бусы из черники, брусники, толокнянки и недозрелой рябины. Венков не признавала, но вплетала в косички цветы и перья, сколько ни запрещай. Ей нравились и костры — Галя с Ильёй по осени жгли ботву и садовый мусор, а Ди всегда подходила и долго стояла, протянув руки к огню. Малышке было не с кем дружить, и она этим не тяготилась. Детей-ровесников в деревне после Чумного года вообще не уцелело, но, глядя на Галю, окруженную малышами, ещё две бабы решились родить. Жизнь продолжалась.
В сентябре девяносто пятого у Дианы выпал первый молочный зуб.
Крутится-вертится шар голубой
Jingle bells, jingle bells, jingle all theyуу хрррш! Заводная ёлочка врезалась в стену и остановилась там, скрежеща ветками. Тим мотался по комнате, не находя себе места. Минуты еле ползли, ему страшно хотелось спать. Взрослые шумели и смеялись у себя в зале, Фед резался в «звездных рейнджеров», огрызаясь на брата, стоило тому подойти. За окном сыпал противный снег — не пышные хлопья, а морось пополам с дождём, никаких прогулок, никаких обещанных лыж не жди.
Подарки уже куплены, спрятаны в кладовой — наверняка ерунда, новая куртка или энциклопедия. У Тима защипало в глазах, он всхлипнул от обиды, но реветь не стал. Он взрослый, десять лет… почти десять. И мужчины не плачут.
За окном вспыхнули брызги салюта. В зале хлопнула пробка шампанского, раздалось многоголосое «С Новым Годом». Нарядная мама открыла дверь.
— Федя, Тима, пойдемте, посмотрим, что принес Дед Мороз! Да оторвись ты от своей глупой стрелялки!
Не дожидаясь брата, Тим поскакал вперед. Подарки лежали под ёлкой в больших пакетах. Папа стоял поодаль и хитро улыбался, по его круглой физиономии было видно — он ждет восторгов. Ну, скажу я спасибо, скажу.
Так и знал! Унылая обучалка «дружок, повторяй „чииз“». Крейсер на батарейках — словно трехлетнему. И ещё что-то. Коробка. Тяжелая, плотно упакованная коробка в синей бумаге. Аквариум? Трёхмерный пазл? Или?!!
Бумагу он рвал руками, с коробки второпях сдёрнул сенсор, пришлось разрезать пластик. Плёнка отклеивалась кусками, бокс оказался тяжёлым и гладким на ощупь. Инструкцию после. Всё после.
— Погоди, Тима, осторожней с игрушкой! Давай отнесем в детскую, поставим как следует. Да стой же!
Мама не понимает.
Кнопка мягко подалась внутрь. Бокс медленно заурчал, наполняясь светом, крышка сделалась тёплой, замигала сенсорная панель. Плексигласовые стекла стали прозрачными. «Тук!» словно первый удар сердца. В магнитном поле начала оборот планета. Его планета.
…В классе был общий визор на полстены. На уроках экран работал большой доской. На переменах по нему крутили рекламу детских роботов, петов «неотличимых от настоящих животных» и прочей дорогой ерунды. «Планет-бокс» показали между русским и психологией, Тим запомнил и день и час. Голубой шарик висел в подсвеченной пустоте, медленно поворачиваясь. Раз — изображение увеличилось, стали видны контуры континента, змейка большой реки, покрытая снегом равнина. Два — сменились цифры панели, подул ветерок, поднялась буря, смерч, ураган. Три — небо снова расчистилось, стало мирным. Четыре — появилась счастливая мордашка мальчика, который благоговейно заглядывал в куб. «Даёшь планету в каждый дом!» запестрел слоган, механический голос забубнил о последних исследованиях российских ученых, несомненной пользе игрушки и уникальных возможностях удивительного устройства. Тим почти не слышал. У него появилась мечта.
В электронном дневнике засияли десятки, исчезли жвачки с ковров и царапины с панелей. Робоняню перестали стричь и раскрашивать. Даже скандалы с Федькой сошли на нет. Тим ставил на место ботинки и тапочки, научился запускать посудомойку, каждый день чистил зубы. И рассказывал маме с папой, какая замечательная штука «планет-бокс», как игрушка поможет ему учиться и сильно-сильно обрадует.
Ко дню рождения папа с мамой подарили любимому сыну пушистого пета с мягкими лапами и щекотными белыми усами. В первый раз в жизни Тим не заревел от обиды. Но и участвовать в празднике отказался — залез на второй ярус кровати, завернулся в одеяло и замолчал. Ни торт, ни гости, ни любимая бабушка не заставили покинуть убежище. Пета пришлось вернуть — именинник игнорировал дорогую игрушку. Три месяца, оставшихся до Нового года, Тим вёл себя хорошо, мало разговаривал и много рисовал. Мама отвела его к смешливой румяной тете доктору, поиграть на компьютере и ответить на кучу странных вопросов. Потом попросила подождать за дверью и долго спорила с врачом. Тим не стал спрашивать, о чём. Он потерял надежду. И вдруг — сбылось.
…На передней панельке двенадцать кнопок и маленькое окно. «Включить». «Изображение». «Температура». «Ветер». «Осадки». «Вулканическая активность». «Скорость вращения». «Сила тяжести». «Магнитное поле». «Освещенность». «Состав атмосферы». «Катаклизмы». Чёрный квадратик наверху — ячейка для корма. Бутылки воды и флакона с солями хватает на год. Инструкция: не трясти, не ронять, активировать не реже раза в неделю. Чем больше внимания уделяете вашему питомцу, тем успешнее он растёт…
— Отдай! Отдай пожалуйста!
Долговязый придурок Фед выхватил плексигласовый куб и подняв вверх, разглядывая:
— Не жадничай, посмотрю и верну. Ишь какая штука чудовая! Крутится, вертится. И кнопочки всякие понатыканы — ну-ка?
Брат нажал на что-то наугад. С минуту ничего не происходило, потом шар изнутри наполнился точками ярких взрывов, свет сделался алым.
— Ай, жжется!
Тяжёлый куб с грохотом упал на пол. Перепуганный Тим рванулся к нему. На секунду он поверил, что игрушка потухла и умерла. Но куб светился по-прежнему сильно. И голубая планета медленно вращалась внутри. Сверху у самой кормушки Тим заметил небольшую трещинку.
— Цел подарок? Мать башку за него оторвет, они с папкой отпуска отменили. Видишь, крутится твоя хрень, как новенькая. А ты нюни распустил, баба!
Опустив бокс на пол, Тим выпрямился, стряхнул со лба потные кудри и спокойно сказал:
— Тронешь мою планету — убью. Дождусь, когда заснёшь, возьму нож с кухни и убью. Понял?
Фед отступил на шаг.
— Взбесился, клоп? Давно не получал?
— Тронешь мою планету — убью, — повторил Тим и неумело выругался.
— Ну ладно, ладно, — примирительно пробурчал брат. — Шуток не понимаешь. Я что пацан сопливый в игрушки играть? Спать вали!
Придерживая бокс одной рукой, Тим кое-как забрался по лестнице. Шкаф подошел для подарка — тихо, темно, не жарко. Инструкцию разложил на постели, но прочитать не успел — усталость свалила его мгновенно. Мальчик видел во сне, как управляет космическим кораблём, рассчитывает курс, пробивается сквозь атмосферу и приземляется, наконец, на зелёный луг неизвестной планеты.
Утро первого января оказалось сонным. Папа с мамой не выходили из комнаты до полудня, Фед болтал с кем-то по новенькому мультифону. Нетерпеливого Тима никто не трогал. Первым делом он заклеил трещину пластиком, протер салфеткой прозрачные стенки, расставил вокруг бокса голографии с космосом, звёздами и галактиками — пусть всё будет по-настоящему. Потом нажал на первую кнопку.
Удивленному Тиму показалось, что он спускается на самолете к самой поверхности. Сначала появился маленький континент, потом стало видно горные хребты, каменные долины, длинный пустой берег моря, белый ровный песок — здорово бы пробежать по такому, наследить, прыгнуть в воду и плавать до изнеможения — это не школьный бассейн! Изображение двигалось пальцем, как на планшете, Тим изучал рельеф, пока глаза не устали, заглянул и на дно океана и на вершины, покрытые снегом. Интересней любого кино!
Папа с мамой уже проснулись, позвали обедать, потом предложили прогулку — первого января в Сокольниках проводили хорошую детскую ёлку. Веселый Фед отказался — они с друзьями собрались погудеть в клубе. Тим, недолго думая, пожаловался на тошноту. Мама захлопотала, принесла минералки, заставила робоняню немедленно взять анализы — вдруг мальчик заболел. Папа ничего не сказал, только подмигнул Тиму — он хорошо знал сына. Родители переглянулись, повеселели и ушли одни, брат тоже не задержался.
В пустой квартире всегда есть особое очарование. Начинают сами собой скрипеть двери и половицы, робот-уборщик с урчанием ползает по полам, каплет вода из крана, мигают лампочки сенсоров, оконный свет складывается в причудливые узоры. Самое лучшее время в доме, Тим всегда любил его. Но сегодня он не стал прислушиваться к шорохам и шумам. Планета занимала всё внимание мальчика. Он попробовал только одну кнопку — а что делают остальные?
Зачем нужна сила тяжести и что меняет состав атмосферы, разобраться не удалось. В школе этого точно не проходили. Вулканическую активность запускать страшно — куб прочный, но вдруг не выдержит? А вот скорость вращения… Повинуясь циферкам на реле, голубой шарик планеты то крутился как детский волчок, то почти останавливался, зависая в пространстве безо всякой опоры. Тим приблизил изображение — прежде мирные волны бились о берег с неслышным грохотом, превращая тихий пляж в месиво из камней. Красота ушла, стало страшно. Тим вернул показатели к норме, уменьшил масштаб и, не задумываясь, нажал на следующую кнопку. Пусть на планете тоже будет зима!
Яркий свет, заполняющий куб, потускнел, тучи сгустились, плексиглас стал холодным, на мгновение покрылся изнутри морозным узором. Потом изображение прояснилось. На глазах у Тима огромное море начало замерзать. Покрываться у берега тонкой корочкой, застывать сперва крошкой, потом цельным зеленоватым льдом. Кое-где волны пробивали себе дорогу, но с морозом было не совладать. Пошел снег — крупные мягкие новогодние хлопья…
— Тима, ты кушал?
Мама пришла! И за окнами совсем темно — наступил вечер.
— Маа, иди сюда посмотри!
— Нравится? По лицу вижу, что да. Придумал, как назовешь планету? — улыбнулась довольная мама. От неё пахло духами и ещё чем-то сладким.
— А это нужно?
— Думаю да. У всех игрушек есть имена.
— Тогда… я назову её Вьюга, можно? Смотри, там внутри снег идёт!
— Согласна, мой хороший — замечательная игрушка. Но ты устал и глаза опять красные. Смотри, не засиживайся, и давай все-таки поедим.
— Маа, снег настоящий!
— Конечно настоящий. Тебе рыбу или котлету?
Тим вывернулся из-под маминой ладони — я взрослый! — и побежал на кухню. С мамой ему повезло, но каких-то вещей она, как и все девчонки, не понимала.
На следующий день мальчик впервые кормил планету. Пёстрые соли растворялись тонкими ленточками, парили, медленно опускаясь. Из воды тут же захотелось устроить дождь, Тим тронул кнопочку и потоки ливня смыли раскрашенный снег. «Жаль, что в Москве так нельзя» — нажал на сенсор и солнце, лужи, гулять без шапки, а потом июнь и каникулы. Пусть хоть на Вьюге начнется весна.
Тим выставил температуру +20, приблизил изображение и стал разглядывать мокрые камни долины. Они высыхали на глазах, исходя белесым парком, рассеянный свет играл на булыжниках и валунах, отблескивал на разноцветных полосках глины. Кое-где по земле расползались зелёные пятна солей. Не хватало лишь бабочек и цветов. Но в планет-боксах встроенной жизни не было и, к сожалению, быть не могло.
Планшет валялся под рукой, но Тим сел рисовать планету карандашами на настоящей бумаге. Он представил себе и сказочных зверей и птиц и рыбок и огромные деревья с пышными кронами. А вдруг на Вьюге у всех кустов белые листья или у лошадей восемь ног? Альбом закончился раньше, чем иссякла фантазия. Фед нашел потом рисунки и смеялся над ними, а папа, наоборот, похвалил.
На следующее утро выпал январский снег, густой, мягкий. Повеселевший папа тут же потребовал «Айда на дачу!» и вся семья улетела за город. Два дня они катались на лыжах, лепили снеговика, сбивали с крыши сосульки. Откуда-то взялась мохнатая собачонка — живая, не пет, мама кормила её и даже смогла погладить. И Федька на свежем воздухе вдали от противных дружков вёл себя по-хорошему, помогал маме и не спорил с отцом. Тим даже обрадовался, что у него есть старший брат.
По вечерам все вместе сидели у маленького камина, грели руки, смотрели в огонь. Мама пела под караоке, отец рассказывал космофлотские байки. Они начинались одинаково «заходит второй пилот в бар», но и взрослые и дети смеялись от души. Потом все расходились по комнатам — на даче у Тима была отдельная детская. От стен вкусно пахло сосной, от постельного белья свежестью и сны на старой кровати всегда снились волшебные. Счастливый Тим снова сажал корабль на каменистое плато Вьюги и в компании верного пета отправлялся в неизведанные земли.
С боксом за время отсутствия мальчика ничего не случилось. Тим немного переживал за неё, но куб светился так же ярко и показатели не изменились — кроме размеров. «При должном внимании и уходе ваш питомец может вырасти до одного метра» писали в инструкции. Когда Вьюга станет большой, бокс разрешат держать на полу или увезут на дачу? Дома лучше — за волнами, песком и снегом можно наблюдать без конца.
Что бы ещё попробовать? Ветер! Страшная буря совсем как в рекламном ролике поднимала огромные массы воды, срывала белые шапки с гор, по долинам гуляли смерчи. Казалось, плексиглас выгибается от напряжения и на стеклах вот-вот появятся пенные брызги. «Я король ветра!» — тихонько произнёс Тим и засмеялся от счастья. Снизу что-то сердито буркнул Фед, но мальчик не обратил на брата внимания.
Составить карту планеты оказалось не так легко — он четырежды рвал рисунки и дважды стирал на планшете файлы. Наконец замедлил скорость до минимума, сфотографировал — и дело пошло. На Вьюге нашлось место океану Мороженого и морю Кваса, Драконьим горам и горам Зубастиков, пляжу Камушки и реке Буль. Два больших континента стали Мамерикой и Папландией, неприглядный скалистый остров землёй Федькина, голубая долина — долиной Бабушки, а огромная гора, не снимающая снежной шапки — пиком Тимура Завоевателя. Не все названия прижились, половина забылась сразу, но давать имена оказалось здорово — словно ты мореплаватель или космонавт, первопроходец на новых землях.
Каникулы кончились незаметно. В школьном аэробусе наперебой хвастали, кому что подарили — пета-тигрёнка, мультифон, интерактивную книжку. Толстому парню из параллельного класса родители вручили билет в настоящий Луна-парк. Представляете, какой там батут? А американские горки? Тим не выдержал:
— Мне подарили планету. Настоящую, она вертится и на ней снег идёт.
— Тимка, ну ты крутой! Щедрые у тебя прэнты! А в школу возьмешь полукать? Чур я с тобой сижу! Мы же друзья, Тим, дашь мне первому?
Одноклассники загалдели наперебой. Тим смутился. Он учился средне, дрался плохо и до прошлого года плакал из-за любой обиды. Друзей в школе у него не было. Раньше не было.
— Не, пацаны, принести не смогу — не дотащу! Да погоди ты, почему сразу врёшь? Приходите в гости — все посмотрите, и поиграть дам. Ты, ты, ты… хорошо, Серый, и ты тоже.
До конца дня Тим наслаждался неожиданной славой. Его хлопали по плечу, угощали конфетами, подарили наклейку с крейсером и дали потрогать выпавший зуб. Когда второгодник Сырок, которого вот-вот должны были перевести в спецшколу для хулиганов, отвесил Тиму дежурного пинка, одноклассники больше не гоготали. Наоборот! Проныра Махмуд подставил подножку, а близнецы Сидоровы деловито навешали поверженному врагу «лещей».
Дома мальчика ждала робоняня с обедом, взрослые ещё не пришли. По-хорошему, разрешение следовало спросить до того, как приглашать ребят. Но Тим был уверен — мама согласится. Она часто расстраивалась — у Феди полно друзей, даже девушка уже есть, а младший вечно один. И тут гости, целых четверо — конечно она обрадуется. Что бы такое выставить для начала, чтобы пацаны ахнули?
Увеличить масштаб! Движением пальца Тим подвинул изображение, выискивая любимый пляж Камушки. Там плескались тихие волны, скалы тянулись в небо, образовывая причудливые арки. Белый песок покрывал берег — и на нём отпечатывались следы. Кто-то трёхпалый гулял здесь, переворачивал гальку, прыгал с места на место. Машинально Тим переместил картинку. В море плавали рыбы. Неуклюжие, тупомордые рыбы с короткими, торчащими плавниками. Скалы покрывал сочный мох, долина заросла какой-то курчавой зеленью, проползла гигантская сороконожка быстро-быстро перебирая лапками. Что за чудо?
В презентации не было ни намёка на живность — только картинки и сладкий голос, рассказывающий о назначении тех или иных функций. Пожав плечами, Тим полез в Паутину. «Планет-бокс», исключить рекламу, исключить магазины, исключить… нет, оставить. Вот свинство! Ну и что, что несовершеннолетний!
Отец свой бук паролил на совесть, даже Феду не удалось вскрыть. А у мамы не хватало фантазии «Елена-18—4» или «4—18» — и готово. «Планет-бокс». «Крах надежд человечества». «Неудачный эксперимент». «Люди не боги — в чем причина провала российских ученых?».
…Попытка реализовать идею великого Циолковского имела шанс на успех. Учёные всего мира с неослабевающим интересом наблюдали за смелым экспериментом. Профессор Крапивин разработал действующую модель геоида, способную автономно функционировать благодаря использованию явления электромагнитного отклика ядер атомов, вызывающего… Тим перещелкнул страницу.
…Столкнулись с неочевидной проблемой. По достижении определенных размеров наступала стагнация — геоид стабилизировался и переставал развиваться. Все способы стимулировать дальнейший рост планеты оказались тщетны. Ни в условиях Земли, ни в лабораториях Лунаграда, ни на борту космической станции не удалось достигнуть значимых результатов. В руках ученых оказался многофункциональный тренажёр, позволяющий моделировать процессы терраформирования, однако ситуацию с перенаселением нашей планеты разрешить не удалось. Расход бюджетных средств… ошибка в расчётах… в добровольное изгнание на астероид… Разработка обучающей игры имела успех. И всё.
Ни странички про рыбок, мох или шустрых сороконожек. Аккуратный Тим стёр из памяти бука все следы серфинга, вернулся к себе в убежище и стал думать. Жизнь на Вьюге — это здорово и прекрасно! Там появятся леса и прерии, страшные чудовища и милые зверушки, а может быть даже люди — целый народ, с которым можно дружить. У них всегда будет солнце, лето и хорошая погода. А дальше… А дальше, оборвал себя Тим, придут взрослые и всё испортят. Учёные начнут разбираться, почему ожила Вьюга. Они поставят бокс в лаборатории, станут ставить эксперименты. А потом вытащат планету наружу и распотрошат, как лягушку. Журналисты заявятся к нам домой, начнут задавать маме с папой вопросы, напечатают всякую чушь. У бабушки опять поднимется давление, ей вызовут «Скорую» и упекут в больницу на целый месяц. И он, Тим, останется один, без самой-самой важной мечты. Кукиш!
Маме с папой ни слова. Фед наверх не полезет. А пацаны растреплют в два счёта. Что же делать?
Шмыгнув носом от огорчения, Тим посмотрел на бокс — планета Вьюга безмятежно вращалась, подставляя свету голубые бока. Темнели контуры континентов, проступали из-за облачных завес моря, на обоих полюсах посверкивали белые шапочки снега. Эврика! Если на Вьюге начнется зима и снег засыплет всё толстым слоем, мальчишки ничего не заметят.
Пригасить свет, добавить влажности, снизить тектоническую активность, усилить ветра и напоследок уменьшить температуру. По совету из презентации — в три приёма, чтобы резкое оледенение не раскололо геоид. Придвинув изображение, Тим наблюдал — метель укутывает холмы, застывает море. Никто ни о чём не узнает!
Поутру Вьюга напоминала большой снежок. Исчезли горные цепи и синие змеи рек, побелели долины. Никакой жизни здесь не разглядел бы и профессор… как там его? Тим улыбнулся и с легким сердцем поспешил в школу. Ему было, что предъявить товарищам.
Хлопотливая мама надела любимое домашнее платье, ласково встретила гостей в прихожей, проследила, чтобы все помыли руки. У мальчишек при виде молочных коктейлей, пирожных и натуральных фруктов, громко заурчало в животах. С угощением расправлялись минут сорок. Потом немного поиграли в настолки, Эдик, озираясь — не слышит ли мама — рассказал неприличный анекдот, братья Сидоровы смешно изобразили разговор кошки с собакой. Дальше откладывать было некуда.
Тим отвел одноклассников в детскую и осторожно спустил бокс с верхнего яруса. Все по очереди потрогали холодные стенки, поглядели, как действуют кнопки, полюбовались снежными бурями и ледяными вершинами. После недолгих, но энергичных переговоров каждому из гостей разрешили разочек нажать на «Ветер». Мальчишки остались разочарованы — Тим видел их недовольные мины и перешептывание. Вряд ли одноклассники захотят дружить с жадиной. Но и травли не будет — он ведь выполнил обещание.
Едва дождавшись, когда последний гость пробурчит «Спасибо-до-свидания-Лен-Ванна», Тим бросился к себе наверх. Потепление запускалось так же осторожно и медленно — если поспешить, осыплются скалы и реки выйдут из берегов. Первыми от снега освободились острова близ экватора. До боли в глазах Тим вглядывался в изображение, но видел только остовы мёртвых лесов и снулую рыбу. Бурый мох клочками свисал со скал, по пустой земле текли грязные ручейки. Неужели он сам погубил жизнь на Вьюге?
Этой ночью мальчику снились кошмары — иссохшие сороконожки танцевали вокруг него, кружились в хороводе, держа за плавники рыб с вывалившимися глазами. Мёрзлые деревья горели синим пламенем, оставляя на земле уродливые пятна. Маленькие крабы щёлкали клешнями и подпрыгивали — за что? За что? Два раза он вскакивал с криком, потом робоняня заставила питомца съесть таблетку и пришёл глухой сон. Поутру Тим едва не проспал, Фед два раза стучался снизу, прежде чем разбудил брата.
Пацаны в школе больше не предлагали дружбы, но и враждебности не выказывали — всё пошло своим чередом. На уроках Тим отвечал кое-как, на рисовании к ужасу педагога изобразил похороны сверчка. Завтрак есть отказался, обед отдал соседу. Безразличие охватило мальчика, он чувствовал себя преступником.
Дома Тим скинул ботинки в прихожей, не стал вешать куртку и убирать рюкзак — ну и пусть мама ругается, мне всё равно! В комнате пнул кресло, смахнул на пол рубашки брата — а чего он разбрасывает? Ну вас всех, ненавижу!
Светящийся бокс стоял на своём месте, планета мирно вращалась. По привычке Тим тронул кнопки — как там живёт белый пляж Камушки? Ничего не изменилось — лента берега, гладкий шелк спокойного моря, грозные скалы. Кое-где камни осыпались, обнажая гранитное ложе. Пустота и покой. Лишь песок кое-где шевелится — фиолетовый, длинный червяк высунул к свету безглазую голову, изогнулся, словно осматриваясь, и тут же снова ввинтился в землю. Ползун наверняка был противной тварью, скользкой и ядовитой, но Тим обрадовался до слез. Он обнял плексигласовый куб словно живого зверька, прижался щекой к тёплой поверхности — у нас всё получилось, хорошая планета, хорошая! Я никогда больше так не буду!!!
Ещё два дня жители Вьюги не торопились показываться на глаза, даже мох еле-еле расползался по мокрым камням. А на третий — вдруг началась весна. Бурно тронулись в рост леса, зазеленели заливные луга, заплескались в волнах рыбы — и крохотные, еле заметные и огромные, словно лодки. По пятнистому мху забегали длинноногие, мохнатые пауки и разноцветные многоножки, гигантские черви упоенно объедали леса, а потом лопались и из них вырастали фантастические колючки. Смотреть в куб оказалось куда интересней, чем пялиться в визор!
Каждый день Тим подсыпал соли, подливал воду, регулировал климат и проглядывал всю планету с плюса до экватора — что творится в его владениях, кто ещё появился. Вот откуда ни возьмись, взялись змеи, вот в южных болотах защелкали зубами чешуйчатые чудовища, похожие на крокодилов. Вот на маленьких островах близ экватора, тут же названных Земноводными, появились ползучие рыбы, вылезающие на берег, чтобы понежиться на свету. А вслед за ними выползли — да так и остались — большелапые круглые черепахи. Они ворочались, расшвыривая песок, сталкивались панцирями в драке, кусали друг друга за неуклюжие когтистые пятки. Потом ссыпались в море одна за другой. А наутро песок закипел — тысячи крохотных черепашек шустро-шустро перебирая ногами, заспешили к воде. Счастливый Тим тихо смеялся, любуясь торжеством жизни. В этот день он опоздал в школу.
Первую двойку за год он принес, когда появились цветы. На континенте Мамерике в долине Бабушки синела целая цепь озёр, переплетенных тонкими реками. И вдруг от одного к другому понеслось, вспыхнуло на воде хрупкое пламя розовых лепестков. Над ними в пропитанном светом воздухе затанцевали стрекозы. Тим был уверен — вот-вот из ниоткуда возникнут бабочки.
Встревоженная мама видела — сын потерял аппетит, мало спит, скверно учится. Фед не знал, что и думать — младший братишка перестал приставать к нему с вечным «ну поиграй!» и рисовать на страничках карикатуры. У папы как всегда не хватало времени — совещания, рейсы, планерки. Но и он наконец заметил — Тим уходит из общей жизни.
На весенние каникулы мальчику подарили билет в детский творческий лагерь в Ялте. Семь дней рисунков и музыки, плавания и игр на пляже, походов по горам и прогулок на настоящей яхте. «Поедешь один, как взрослый» — сделав значительное лицо, пообещала мама. «Поснимаешь мне горы — двадцать лет не был в Крыму» — попросил папа. Брат отозвал в сторонку, шепнул «с девчонкой наконец поцелуешься». Вот ещё глупость!
Взять с собой Вьюгу не разрешили, и Тим возражать не стал — вдруг уронит или украдут? Он попросил маму следить за боксом, каждый день активировать, подсыпать корм и ни в коем случае не трогать ни одной кнопки. Пообещал каждый день звонить и слать фотографии, ни с кем не драться, не купаться без взрослых, не играть на деньги, не… не… не… Собрать вещи было минутным делом, отказаться от маминых пирожков и конфет в дорогу — куда более долгим. Папа на флаере ловко облетел пробки, привез Тима на Курский вокзал и сдал с рук на руки проводнику. Через пять с половиной часов скоростной поезд прибыл в Симферополь. Тима, ещё трех мальчишек и девчонку из Москвы подхватил улыбчивый и совсем молодой вожатый.
Ян — так звали веселого парня — залихватски водил воздушное такси. С облетом Медведь-горы, прыжком над морем, подъёмом до облаков и скоростью, от которой закладывало уши. Перепуганная девчонка ухватила Тима за рукав и сидела, не говоря ни слова. Тощенькая, нескладная, похожая на большеглазого пета из мультиков. Громкое имя Ариадна совсем не подходило к такому ничтожному существу. Но от пальцев, вцепившихся в тонкую ткань, почему-то стало тепло.
Их расселили в комнатушки по двое, в соседях оказался унылый толстяк, постоянно что-то жующий. Всё что его интересовало — жратва, четыре или пять раз в день кормят, дают ли фрукты, разрешают ли передачи из дома. Тим даже не стал запоминать его имя. В остальном оказалось неплохо — уютная койка, пододеяльник с разноцветными рыбками, питьевой фонтанчик, балкон, с которого видно море.
Вечером были занятия — детей собрали в огромном зале со стеклянными стенами, выдали краски и большие листы настоящей бумаги. Арт-терапевт — рыжеволосая девушка в переливчатом платье — сказала «Сегодня рисуем воображаемую планету. Представьте себе другой мир, дети, пошлите вашей фантазии горячий привет из космоса!». Недолго думая, Тим провёл толстой кистью широченную зеленую полосу — это будет трава, пустил по небу восьмикрылых жуков, посадил на поляне летающую тарелку с ушастыми инопланетянами. Добавил двухголового дракончика и решил, что сойдет. У других тоже получалось так себе — жёлтое море и небо в горошек, корабль, похожий на стриженую сосиску, красные кляксы и подпись «сдесь вайна».
У соседки всё было по-другому. Изумрудные змейки на светлой поляне среди золотой травы, над ними бабочки с человеческими лицами, вокруг цветы самых причудливых форм, вырастающие один из другого, выпуклый ультрамарин неба и одинокая звезда, вбитая над горизонтом. Тонкие пальчики Ариадны твёрдо держали кисть, девочка не останавливалась, не замечала ни детей, ни преподавателя. Её планета рвалась наружу, застывала брызгами красок, впечатывалась в податливую бумагу. Ошарашенный Тим шагнул ближе, пытаясь разглядеть чудо — и задел локтем банку с грязной водой. Бурое месиво вылилось на бумагу, девочка ахнула. Училка всплеснула руками: разве можно портить чужую работу, немедленно извинись и выйди!
— Он не хотел, — спокойно сказала Ариадна. — Тимур не виноват. Можно ещё бумаги?
Раз — грязную воду сбрызнули прямо на пол. Два — новый лист наложили на старый.
— Помоги мне! Прижми пожалуйста!
Три — белый ватман покрылся причудливыми разводами. Так же невозмутимо Ариадна поменяла воду, прополоскала кисти и начала рисовать заново. Получилось ещё причудливее и ярче, цветы налились алым и голубым, звезда засияла. Тим стоял за спиной девочки, не в силах пошевелиться. Он знал, что совершил чудовищную, непростительную ошибку. И заслужил наказания, брань, обиду, что угодно, кроме спокойного «помоги». Перемазанная красками Ариадна обернулась к нему, улыбнулась чуть-чуть:
— Нравится?
Отшагнув от стола Тим кивнул, попытался что-то сказать и выбежал вон, через пустой коридор к выходу. Свежий солёный воздух слегка отрезвил его. Мальчик не понимал, что происходит, хочется ему плакать или смеяться, носиться по мокрому, пустынному парку, снова браться за кисть и рисовать неправильный профиль девочки, слишком высокий лоб, тонкие волосы, в которых играет солнце. «А-р-и-а-д-н-а» вывел он прутиком по земле, носком ботинка стёр написанное и вернулся в корпус.
Оставшиеся шесть дней они не расставались.
Ариадна была с лунной базы. «Там нельзя ссориться. Обидишь человека — и уйти от обиды некуда и сказать некому, а назавтра ты с обиженным рядом плечом к плечу шлюзы чинишь, с кислородом работаешь. Ссора запросто стоит жизни. Поэтому мы такие». Девочка мало разговаривала, её не нужно было развлекать, утешать, выслушивать дурацкие рассказы «Вася любит Дашу, Даша Яшу, а мне купили модного пета и новые туфельки». Настоящее, сияющее лицо Ариадны проступало, когда она бралась за кисти или прыгала с вышки в бассейн, а потом долго плавала, словно счастливая рыбка. Тим находил для неё ракушки и куриных божков на берегу, оставил вкусный апельсин с ужина, рисовал портреты в планшете. Мальчишки пробовали дразниться женихом и невестой — мимо денег. Они с Аридной ни разу не целовались, и даже на прощальной дискотеке не танцевали. Стояли в углу, перебрасываясь короткими фразами о погоде и прочитанных книжках. Тим хотел рассказать Ариадне про Вьюгу, но застеснялся и промолчал.
Поутру он не успел попрощаться — за подругой прилетели родители и забрали ещё до завтрака. Оставался, конечно, бук и коммуникатор и призрачная надежда на следующий день рождения выпросить билет в Лунаград. Но в тот день Тиму было паршиво. В поезде он залез на верхнюю полку и угрюмо валялся там, глядя в стену. С отцом, прибывшим его встретить, едва поздоровался — и поэтому не отследил виноватых глаз.
Дома собралась вся семья — Фед, бабуля, дядя с тетей, годовалый племянник Шурка. Мама сделала кучу салатов, испекла любимый пирог, брат расщедрился, подарил старый мультифон, по которому удалось в тот же вечер поболтать с Ариадной. Затеяли игру в крокодила, бабуля раздобыла из необъятной сумки старинную забаву «лото». Уставший от суеты Тим заснул за столом, не добравшись до койки.
Наутро выяснилось — планеты больше нет.
— Игрушка мешала тебе учиться, сынок. Ты замкнулся, перестал разговаривать с братом и звонить бабушке, приносил двойки. Мы за тебя беспокоились. Поэтому отдали планету в хорошие добрые руки, к мальчику, который будет с нею играть. А тебе купим новую, если закончишь год на «отлично».
Мама обещала о ней заботиться. Кормить. Ухаживать. Мама.
— Не огорчайся по мелочам, родной. Забудь, давай поговорим о другом. Воспитатели заметили, ты подружился с девочкой в лагере. Расскажи, какая она и кто её родители?
Встать оказалось легко. Бросить матери площадное поганое слово — ещё проще. А вот пощёчины от отца он не ждал — в доме детей никогда не били. Прижав ладонь к горящему лицу, Тим убрался к себе, как наказанный щенок. В голове вертелись обрывки свирепых мыслей «отомщу!», «убегу!», «убьюсь!». Было слышно, как хлопнула дверь — раз, два. Мать с отцом ушли на работу. Робоняня суетилась внизу, предлагая питомцу то воду, то успокоительную таблетку. Пыхтел робот-пылесос. Капал кран. …Если б Фед тогда не вернулся из школы, всё могло бы кончиться очень плохо. Но брат успел вовремя.
— Слышь, Тимка, хватит нюни распускать. Слазь, кому говорят. Живо!
Фед стащил братишку с кровати, отвел умыться, заставил выпить горячего молока.
— Пошли в гараж, дятел. Никуда прэнты твою планету не отдавали. Спрятали до поры, мать продать потом думала. Подбери сопли, ты же мужик!
Ключа от гаража у Феда не было, но он с легкостью подобрал код. Вьюга стояла в дальнем углу помещения, за стеллажами, прикрытая какими-то коробками. Стены слабо мерцали, тусклый шарик планеты еле вращался. От ящика тянуло тоскливым, тяжёлым холодом.
— Фед, она умирает! Её убили!
Выругавшись, брат встряхнул Тима за плечи:
— Это игрушка, слышишь ты, психопат! Просто игрушка. Сломалась — починим, в мастерскую отправим, у неё гарантия есть. Не наладят, так обменяют. Да погоди реветь, давай разберёмся!
Отстранив брата, Фед поднял ящик, смахнул с него пыль рукавом и понёс наверх, в дом. В детской поставил на пол, сел напротив, задумчиво поскрёб в затылке.
— Тимка, дай-ка сюда инструкцию. Смотри… вот! Активировать раз в неделю. Чем эту фигню активируют, кнопка где? Вода нужна? Тащи воду, и корм тоже тащи. Сюда засыпать? Вот, сейчас чёртов ящик откроет ротик и сделает ам. Я кому сказал — откроет ротик?!!
Рассвирепевший Фед стукнул по плексигласу кулаком, зафиксировал пальцем панельку, влил в отверстие воду, сыпанул солей. Потом отвернулся к мультифону — кто-то мигал, требуя немедленно поговорить. Понемногу успокаиваясь, Тим лег на пол, положил голову на руки и стал наблюдать. Он задремал ненадолго, устав от слёз и переживаний. А когда снова открыл глаза — планета светилась ровно, уже набрав обороты. Словно ничего и не произошло.
— Глянь, заработало? А ты боялся, брательник! Разнюнился вместо того, чтобы воевать. Понял, зачем нужны старшие братья?
— Нет.
— Давать умные советы! Заруби себе на носу — любую фигню можно исправить, если делать, а не расползаться дерьмом по стеночке. Ботаник ты у меня. Ничего, подрастёшь — поумнеешь. Драться тебя поучить, что ли?
Ухмыляющийся Фед взъерошил Тиму волосы — всё-таки он любил брата.
— Покажешь игрушку?
Тим проворно подхватил бокс.
— Нет. Это тайна.
— Тайна так тайна, — добродушно согласился Фед. — Вдруг у тебя там картинки с голыми бабами спрятаны, а брательник? Да не дуйся так, шучу!
Под хихиканье брата Тим поднял бокс к себе, на второй ярус. Включать обзор не хотелось, но мальчик заставил себя. Увиденное ужаснуло его. Вымершие леса груды рыбьих скелетов и черепашьих панцирей на берегах островов Земноводных, дохлые пауки и прочая мерзость. Нет, планета не умерла — кое-где сохранилась чахлая зелень, ползали ящерицы, в морях по-прежнему плавали прозрачные медузы и создания, похожие на акул. Кнопка «Дождь»!!!
Запоздай помощь ещё на день или два — не осталось бы ничего живого. Вспомни он о Вьюге днем раньше — часть погибших удалось бы спасти. От его, Тима, воли, капризов, забывчивости, детских выходок зависела судьба целой планеты, любая мелочь приводила к большим несчастьям. А ведь он ещё маленький и не может отвечать даже за себя — иначе бы уже сидел в лунном лайнере, считая часы до встречи. Что же нам делать, Вьюга?
Шмыгнув носом в последний раз, Тим обнял прохладный куб, прижался ладонями и щекой к плексигласу — прости меня, прости, пожалуйста. Показалось, что внутри бьётся большое живое сердце, слишком большое и настоящее для дурацкой коробки, что стены готовы лопнуть. А Фед говорил — игрушка… «Я — Багира, пантера, а не игрушка человека». Тиму вспомнилась старинная детская книжка, он глубоко вздохнул — и понял, что знает выход.
Когда родители вернулись с работы, Тим начал с того, что попросил у мамы прощения — отдельно за то, что назвал её площадным словом и отдельно — за вытащенный без спросу планет-бокс. Он объяснил, что хотел подарить дорогую игрушку девочке, с которой познакомился в лагере, и страшно расстроился, что не сможет выполнить обещание. Ушлый Фед конечно заметил скрещенные за спиной пальцы Тима, но встревать в разговор не стал. А мама растрогалась до слёз. Она долго обнимала сыночка, гладила по упрямой, взлохмаченной голове и говорила, что ни капельки не огорчилась. Надо только познакомиться с папой и мамой девочки… но если у них есть работа на лунной базе и средства на детский лагерь под Ялтой, наверняка они достойные люди.
В отцовский кабинет он стукнулся поздно вечером. Угрюмый отец сидел за буком, на стене как всегда мерцала звёздная карта. От покаянных слов сына, у папы сделалось такое виноватое лицо, что Тиму стало стыдно. Слушая витиеватые оправдания, мальчик пообещал себе обязательно рассказать родителям правду. Потом. Когда всё закончится.
— Па… у Ариадны скоро день рождения. Можно мне слетать на Луну?
— По-моему кто-то позавчера вернулся из Крыма. И на Новый год получил подарок в половину моей зарплаты. Не смотри на меня сиротливым воробушком, хорошо? Билет до Лунаграда я позволить себе не-мо-гу! Позвони ей, поздравь, открытку пошли. Есть же бук, мультифон.
— Есть, — уныло согласился Тим, — а толку.
— Ты вообще не спросил — согласимся ли мы сделать девочке такой дорогой подарок? Разрешат ли её родители? — раскрасневшийся папа отёр со лба пот.
— Разрешат, — робко улыбнулся Тим. — Когда ты был вторым пилотом, ты же подарил маме колечко с лунным камнем, и бабуля ничего не сказала.
— Что-то ты темнишь, приятель, — с сомнением произнёс папа. — День рождения я найду на страничке, и с ним ты, скорее всего, врешь. Планет-бук можно отправить почтой, и за неделю посылка до Луны доберется. Но тебе ведь нужно полететь самому?
Тим потупился.
— Настолько нужно, что ты выдумаешь любую чушь, лишь бы встретиться со своей Ариадной. Или решил поиграть в Тома Сойера и сбежать на лунные шахты?
— Ну уж нет! Па, ты представляешь себе меня — в шахте?!
— Не представляю, ты и уборщика запрограммировать не сумеешь, — папа наклонился и пристально посмотрел Тиму в глаза. — Так что ты скрываешь?
— Всё равно не скажу, па.
— Ох, уж эти влюбленные. Ладно-ладно. Погодь!
Достав мультифон, папа с минуту водил пальцем по списку, о чём-то думая. Потом решительно ткнул в нужный номер.
— Салют, Бернардыч! Говорить можешь? Да, ничего серьёзного. Как твои, что с «Викторией»? Подлатали? Слушай, такое дело. Твой грузовичок до Лунаграда летает? До моря Бурь, значит. А оттуда на катере сколько? Сделай доброе дело, по гроб жизни буду обязан. Прихвати моего пацана на Луну. Любовь у него, понимаешь.
Выдержать бой с мамой оказалось неожиданно просто. Для порядка она, конечно, поохала, попереживала немного, но возражать не стала. Даже выбрала в Паутине прелестный кулон с переливчато-розовым ариаднитом с Венеры. И настояла на пирожках в дорогу.
На борт «грузовичка» оказавшегося огромным космическим транспортом, Тима вместе с планетой доставили в ящике из-под бананов — совсем как в книжках. Папа с Бернардычем, он же капитан Марк Бернардович Винтерхальтер почему-то долго смеялись, упаковывая мальчишку вместе с подарком в контейнер. Экипаж корабля без особого интереса отнёсся к новому пассажиру — у второго пилота была мигрень, суперкарго проигрался на бирже и оглашал каюту беспрестанными жалобами, а робототехник вдохновенно учил уборщиков, жалобно мигающих лампочками, танцевать вальс. Тим услышал «хорошо, не ночная бабочка», и мельком удивился — зачем на корабле бабочки? Потом его усадили в кресло и пристегнули ремни. Экипаж тоже занял свои места, перебрасываясь шуточками и незлой бранью.
Сначала ничего не происходило. Тим сидел неудобно и не мог разглядеть ни циферок на экране, ни положения рук капитана, ни выражения его лица. Потом корабль словно бы провалился в упругую мягкую яму, пол завибрировал, еле слышно загудели двигатели. Мягкие ремни врезались в тело, руки и ноги сделались тяжёлыми, уши заложило. На минуту стало трудно дышать, словно грудь придавило подушкой. Но испугаться Тим не успел. Пришло восхитительное чувство лёгкости, парения в пустоте — словно в крови закипели мириады газовых шариков. Жаль, что ремни фиксируют — было бы здорово пролететь по рубке, цепляясь за поручни, как заправскому космонавту… Мимо Тима проплыла чашка кофе, оставляя за собой цепь коричневых пузырьков, кто-то выругался «вес включи, олух царя небесного» и всё вернулось на круги своя.
— Не тошнит? — заботливо поинтересовался Бернардыч, отстёгивая ремни. — Голова не кружится? Наш человек, весь в папаню. Вась, покажи ему наши владения.
Неразговорчивый робототехник провел мальчику короткую экскурсию, объяснил, где гальюн, душевая, камбуз. И напоследок показал предназначенную Тиму каюту, точнее ящичек с койкой, тумбочкой, в которую тут же спрятали планет-бокс, и крохотным экранчиком визора. Лететь предстояло три дня. О завтраках, обедах и чрезвычайных ситуациях оповещает экран. Можно читать аудиокниги, смотреть кино. Нельзя показываться на остальной территории корабля без разрешения капитана. Лёгок на помине, Бернардыч!
Бородатый капитан улыбнулся из визора:
— Юнга Тимур Дубровин, прошу на капитанский мостик.
Конечно же кэп шутил, но на миг мальчику показалось — он и вправду юнга на космическом корабле. И когда-нибудь сможет стать капитаном.
Вслед за робототехником Тим пробрался по узкому коридорчику с поручнями на стенах, мимо крохотной оранжереи, откуда пахло огурцами и мокрой землёй. Тускло мигали лампочки в стенах, зловеще синим светились панельки анализаторов — кислород норма, радиация норма, сила тяжести 1G. Из какого-то закутка вышел пет, полосатый, пушистый, с недоброй мордой.
— Проснулся, тунеядец! Не любит старта, всякий раз прячется, — с нежностью произнес робототехник. — Хочешь погладить?
Неосторожный Тим протянул руку — и тут же отдёрнул, едва сдержав крик. На пальце краснела нешуточная царапина.
— Ты б его ещё за хвост дёрнул. Осторожненько надо, ласково, с уважением — корабельный кот всё же, значительная персона.
Робототехник присел на корточки, протянул животному ладонь. Пет бы тут же запрыгал, изображая любовь и преданность. От кота сантиментов ждать не приходилось, он брезгливо потёрся о человека щекой и удалился, гордо подняв толстый хвост.
В обзорной каюте было темно — чтобы ярче светили звёзды сквозь прозрачные стены. Тим видел фотографии, фильмы, но не догадывался, насколько же это красиво на самом деле. Мириады огней, словно облако сказочных светлячков, огромный простор, абсолютная чернота. Человек в ней — как крохотная пушинка, незаметное семечко. Но из семечка вырастает огромное дерево, а корабли достигают звёзд!
— Смотри, юнга! Каждый, кто поднимается в космос, должен увидеть Землю.
Голубой бок планеты с ползущими по нему белыми облаками Тим много раз наблюдал по визору. И не понимал, почему космонавты так восхищаются — пока не увидел своими глазами.
— Вот Сибирь — Обь, Енисей. Это пятнышко — озеро Байкал, самое чистое в мире. Бывал когда-нибудь в тех краях?
Тим помотал головой, не отрывая взгляд от планеты.
— По берегам огромные седые скалы, древние как динозавры. В синей воде отражаются облака. На камнях сидят маленькие тюлени, усатые и с круглыми глазами. Живые тюлени, представляешь, и совсем не боятся людей. Одно из последних на планете не загаженных, светлых мест.
— Ещё Крым, — вставил Тим.
— Да, и тайга и леса Амазонки — иначе бы мы все давно вымерли. Земле трудно приходится, юнга и сверху это хорошо видно, — Бернардыч коротко вздохнул и сменил тему. — Тебе удобно в каюте? Смотри, без спроса дальше гальюна ни ногой. Если что понадобится — звони, ляжешь спать — обязательно пристегнись. Обратно сам доберешься?
— Конечно, Марк Бернардович!
— Так точно, капитан — так положено отвечать юнге. Понял?
— Так точно, капитан, — ответил Тим. Его немного задело, что с ним обращаются как с мальчишкой, но взрослых не перевоспитаешь.
Найти каюту оказалось не таким простым делом — Тим дважды сбивался с дороги, забредая то на склад, то в какую-то тёмную аппаратную. Вывел его недовольный кот — подошёл, из вежливости потерся о штанину тёплой мордой и последовал дальше, оборачиваясь — следует ли за ним глупый маленький человек.
Осмотреть временное жилище не заняло много времени. Кроме мягкой койки с пристяжными ремнями, и намертво привинченной к полу тумбочки, обнаружился потайной шкафчик в стене, выдвижной столик с углублениями под тарелку и чашку. Коллекция фильмов на визоре была скудной — Бернардыч или кто-то из экипажа озаботился ввинтить фильтр 12+. Фед бы наверное смог взломать код, Тим даже не стал браться.
Планет-боксу перелет совершенно не повредил. Целая и невредимая Вьюга неторопливо вращалась, проплывали зеленые континенты, колыхались моря. Вот Драконий хребет, разделяющий Папландию надвое, вот острова Земноводных, вот заросшая пестрым ковром цветов долина Бабушки. Тим приблизил на максимум — наконец-то! Белокрылые бабочки кружились над озером, танцевали над розовыми цветами, рисовали в туманном воздухе удивительные узоры. Они были совсем не такими, как Тим их когда-то нарисовал — и всё-таки настоящими. Страшно захотелось потрогать хоть одну, уговорить посидеть на пальце. Мама однажды рассказывала про божьих коровок и смешную песенку, которую пели, чтобы жучок раскрыл крылья и поднялся высоко-высоко…
В последний раз Тим прошелся по континентам и океанам от полюса до полюса. Поглядел на черепах, нежащихся в песке, на смешных ящерок с белого пляжа, на стада серебристых рыб и коралловые поля. Расставаться было безумно жаль, но другого выхода он не видел.
Стыковочный шлюз находился на другом конце корабля, вдали от жилых помещений. Скафандры, если верить Паутине, держали в промежуточной камере, в боксах и без замков, чтобы при аварии не тратить драгоценных секунд на возню с сенсорами. Сумеет ли он управиться со скафандром и выйти в открытый космос — вопрос отдельный. Но должен суметь!
Бернардыч был бы плохим капитаном, если б не знал, что творится у него на корабле. Строгий голос застал Тима у самого шлюза:
— Стоять, юнга! Что это ты здесь делаешь посреди ночи?
Тим поднял взгляд на потолочный визор и решил сказать правду. Почти всю правду. В крайнем случае, капитан его отругает и закроет в каюте до самой Луны. Тогда они с Ариадной придумают что-нибудь вместе.
— Капитан, можно с вами поговорить по одному очень важному делу?
— Марш ко мне, там и поговорим.
Через десять минут Тим сидел в рубке с чашкой какао и внимательно слушал. Ему было немного стыдно за своё ребячество. Нет бы сразу объясниться с Бернардычем — он понимает.
— Тебя бы размазало об борт, вздумай ты выйти в открытый космос на такой скорости. Или оборвало бы трос — а в скафандре больше пары часов не протянешь. Вы физику в школе учили? Нет? Ладно, тогда простительно, — капитан расхаживал по каюте, машинально поглаживая бороду.
— Что же мне делать? — тихо спросил Тим.
— Думать. Прежде чем что-то делать — подумать, зачем оно тебе нужно и как лучше всё осуществить. Ты хочешь отпустить на свободу свою планету?
— Да. Она в боксе как в клетке сидит. И из-за любой глупости может сломаться и умереть.
— А в космосе ей, значит, будет лучше?
— Не знаю… наверное.
— Так не знаешь или будет?
— Ей будет лучше на свободе, — твердо сказал Тим.
— Хорошо. Как твоя Вьюга откроет ящик?
— В смысле?
— Как планета сможет выбраться из клетки? Я же говорю — думать надо заранее. Мы надколем плексиглас по углам, а потом, в вакууме атмосферное давление изнутри разорвёт бокс. И твоя Вьюга окажется на свободе. Наш грузовик построен ещё до соглашения о чистоте пространства, поэтому в нём есть мусорный люк, отстреливающий всё ненужное в космос. Загрузим твою планету — и пусть летит навстречу своей судьбе!
Мудрый Бернардыч не стал уточнять, что несчастная игрушка превратится в ледяной шарик, бесцельно странствующий по космосу, или войдет в атмосферу Земли, чтобы сгореть дотла. Но зачем разрушать иллюзии? Дети должны мечтать, тогда из них получаются настоящие космонавты.
Долгие проводы — долгие слезы. Взволнованный Тим собственноручно положил бокс в контейнер и бегом вернулся в рубку. Капитан отправил команду «опорожнить», проверил датчики и включил визор. Сейчас из камеры уйдет воздух, потом откроется люк, и ничего уже не изменишь, не передумаешь. «Божья коровка, улети на небко, там твои детки… Получилось!!!» Тиму казалось, что он кричит, но у него пропал голос. Плексигласовый бокс взорвался тысячами осколков, свободная планета Вьюга отправилась в своё первое путешествие.
Бернардыч чуть заметно пожал плечами, глядя на счастливое лицо мальчика. Подрастёт, всё поймет сам. Потом застучал по старомодной клавиатуре пульта, корректируя курс — корабль опаздывал к Луне на четыре с половиной минуты.
* * *
Джамп!
Перегрузка вдавила Тимура в кресло. В глазах потемнело, к лицу прилила кровь, желудок скрутило спазмом. Ничего, переживем — главное не промазать мимо орбиты. Иначе придётся делать ещё прыжок, а к ним за шесть лет работы в дальнем поиске Тимур так и не привык. Недовольный Матрос всем весом плюхнулся на колени к хозяину и улёгся, помахивая хвостом — ему тоже не нравился резкий старт. Впрочем, невесомость кот любил ещё меньше.
Управление по контролю категорически запрещало животных на кораблях, предписывая пилотам обходиться благонравными петами, не требующими к тому же ни кислорода, ни пищи. Поэтому любой уважающий себя капитан держал на борту зверя, птицу, в крайнем случае длиннохвостую марсианскую ящерицу. Тимур долго летал один — он не любил рисковать чьей-то жизнью, а джамперы возвращались отнюдь не все. Но Матрос, тогда ещё крохотный, похожий на комок грязно-рыжего пуха, попался под ноги в пассажирском зале лунного космопорта. Сонный диспетчер сказал, что котёнка потеряли или оставили пять дней назад, никто за ним не пришёл и по-хорошему давно пора вызвать санитарную службу. Недолго думая, Тимур подхватил находку за шкирку, невзирая на когти и сопротивление, посадил в безразмерный карман рабочего комбинезона и унес к себе на корабль.
На вопрос «Где на Луне покупают кошачий корм» перемазанная красками Ариадна долго смеялась — домашних животных под куполом вообще не держали. Через час она уже стояла у джампера с бутылкой восстановленного молока и коробкой белкового фарша. Когда перемазанный, сытый малыш уснул у девушки на коленях, она улыбнулась Тимуру — вот и матрос в экипаже, будет, кому за тобой присмотреть. Как и многих детей Луны, Ариадну настигла «стеклянная болезнь», хрупкость костей. Сопровождать жениха в поисках подходящих для жизни планет она не могла, но и требовать «оставайся со мной» не хотела. Поэтому свадьбу отложили до тридцатого дня рождения девушки. К тому времени Ариадна надеялась стать популярной художницей, а Тимур — сесть за руль собственного грузовичка и курсировать от Земли до Марса или пояса астероидов. А пока дальний поиск, видеосвязь раз в три месяца, свидания дважды в год. С другой девушкой стоило бы беспокоиться — станет ли ждать, сохранит ли чувства. С Ариадной всё решилось с первого дня.
В воображении возник уютный коттедж на берегу моря Бурь, разрисованные снаружи гидропонные теплицы, щекастый малец в прыгунках, парадная сервировка в гостиной… С сервировкой он переборщил, в их доме всегда будет пахнуть красками, обедов придётся ждать, а роботов программировать самому. И кофе в постель любимой жене носить, хотя бы по воскресеньям! Жаль, что придется жить за стеклом, не видеть живого неба, но на Земле люди тоже перебрались под купола. Брысь, зараза!
У Матроса кончилось терпение, он выпустил когти, намекая «неплохо бы пообедать». Тимур не без труда скинул увесистого кота с колен — кто б мог подумать, что пушистый комочек окажется натуральным мэйн-куном — и пошёл на камбуз за фаршем.
Череда рутинных забот заполняла время: проверить оранжереи, бак с белковой культурой, уровень кислорода и радиации. Поменять фильтр в водоочистителе, отрегулировать комбиварку и придумать что-нибудь повкуснее на ужин. Заглянуть в почту — иногда сообщения доходили через пару минут, иногда — через пару недель. Помотаться на тренажере, чтобы мускулы не превратились в кисель. Погонять по каюте кота, посветить ему красным лазером. Самое важное — не валяться без дела, не унывать, не скучать.
На минутку Тимур заглянул в каюту полюбоваться подарком Ариадны — живой картиной. Мальчик сидит на подоконнике, ветер трогает занавески, на улице ночь и звезды. В руках ребенка — синий шарик, окутанный светом. Бьют часы, поднимается ветер, маленькая планета улетает высоко-высоко…
Скорее всего, единственный геоид звезды София Ротару из созвездия Орион на самой границе галактического дрейфа, окажется таким же унылым и бесполезным, как десятки его предшественников — ядовитая атмосфера, смертоносная радиация, невыносимый холод или жара, кислотные озёра или бешеные вулканы. Десять лет свободного поиска дали два результата, относительно пригодных для жизни. Валькирию, третью Кеплера, почти полностью покрывали первобытные, тёплые океаны. На Кохаве, четвёртой Глизе-581, двадцать месяцев из двадцати двух длилась зима. Терраформировать Марс выходило куда выгоднее, уже год поговаривали, что дальний поиск пора прикрыть. Поэтому никаких особенных ожиданий Тимур не питал. И не нервничал. Не глотал кофе, не накручивал на пальцы длинные волосы, не приплясывал в такт бодрой музыке, не смотрел на часы… Пора!
Корабль достиг расчётной точки и с легкостью перешел на орбитальный полет. Ни капельки не волнуясь Тимур включил полный обзор. Перед ним простиралась планета — зелёная, голубая. С белыми лентами облаков, океанами, полярными шапками, густолиственными лесами и цепочками круглых озёр. Горные хребты драконьими гребнями прочерчивали спины двух континентов, горстки экваториальных островов походили на крошки хлеба, рассыпанные по скатерти. Очертания материков показались смутно знакомыми — словно кто-то рисовал их неумелой рукой на карте, сделанной из тетрадного листика.
…Хвала тем, кто сочиняет инструкции. Не задумываясь, Тимур запустил код «Эврика-249». Даже если минуту спустя в поисковый корабль врежется метеорит, до Земли долетит сигнал — пригодная для жизни планета найдена в системе звезды София Ротару, сообщил о находке Тимур Дубровин. На втором обороте корабль распахнул люки, в атмосферу ввинтились зонды-анализаторы.
Два часа Тимур не находил себе места — то расхаживал по каюте, то бесцельно полировал кнопки, то сидел и гладил притихшего Матроса. Приборная панель ровно мерцала, экран визора оставался тёмным, тёмным… пошло! Кислород — есть! Двадцать четыре процента, больше чем на Земле. Вода — есть H2O! Растительность — есть. Животный мир тоже есть — камера зафиксировала перепуганных четвероногих, врассыпную разбежавшихся с места посадки зонда. Температура — плюс тридцать, плюс восемнадцать, минус двадцать один.
Это значит — города и поля, лошади и собаки, моря для дельфинов и дома для людей. Это возможность разгрузить Землю, очистить её от векового мусора, восстановить почву и воду, заново высадить вымершие леса. Жить под открытым небом, дышать воздухом, спокойно растить детей. Чудом выпавший второй шанс. Неожиданный новогодний подарок для всех землян. И задача предстоит непростая — стать пришельцами в чужом краю, потеснить местных птиц и зверей, не вредя им.
Тиму вспомнилась детская игрушка, давным-давно подаренная родителями. Воображаемый мир, придуманные цветы и бабочки, черепашки на пляже. Старик Бернардыч удачно тогда подыграл взволнованному мальцу, помог прорасти зёрнышку славной мечты. И теперь Тимур, стал Колумбом, первопроходцем новых земель, капитаном новых морей. А бедный ледяной шарик потерялся в просторах вселенной, был подхвачен космическим ветром — и уплыл далеко-далеко. Для игрушечной планеты — не самая плохая судьба.
Сообщение Ариадне кануло в темноту, оно может дойти через пару минут или несколько дней. С новостями всегда так — чем срочнее, тем дольше запаздывает. Остается лишь ждать… но зато после рейса они поженятся.
Нарочито медленно Тимур завершил дневные дела. Выключил «солнце» в оранжерее, подсыпал еды коту, снял показания с датчиков, проверил связь с зондами, принял душ. Получилось даже накрыть праздничный стол, с салатом из свежей зелени, почти настоящей на вкус клубникой и маленькой шоколадкой. Осчастливленному Матросу тоже перепал кусочек — корабельный кот, как и его хозяин до неприличия любил сладости. После ужина — «Десант на Сатурн», классика, пересматривать можно до бесконечности. И на покой.
Завтра, вопреки всем инструкциям, он посадит корабль и пройдет по новой земле. В скафандре, в биозащите, но своими ногами по белому песку пляжа и упругой траве лугов. Поищет следы костров, разглядит тропы у водопоя, услышит, как поют птицы и шумит незнакомый лес. Он, Тимур Дубровин, назовет новую землю планета Вьюга. И однажды научит сына дарить свободу.
Небо и земля
«О да, мы из расы завоевателей древних» Н. ГумилевСинева — самое яркое, что сохранилось в памяти. Сахарное крошево льда на гладкой воде, рыхлые пряди тумана у подножья голубых гор, искристый простор ночи. Космос он чёрный, на Венере неба не видно, на Марсе красные облака наползают на бурые скалы. На Ганимеде станции прячутся под ледяной корой, на айсбергах посреди тусклого океана. А здесь — жизнь!
Сквозь прозрачное дно быстролета виднелись луга и пустоши, каменистые холмы, утёсы, поросшие цветастым мхом, неторопливые стада бурых овец. Ещё сто лет назад здесь был лёд. Мальчишкой Иван мечтал стать мелиоратором и чистить долины от вечной мерзлоты, но когда он получил аттестат, в Паамуте уже цвели сибирки. Зато оба трудовых года удалось посвятить программе «Винланд». Вместе с такими же упрямыми, восторженными юнцами Иван составлял графики температур и ветров, ухаживал за клеверными лугами, пас овец, принимал ягнят. В свободное время бродил по пляжам и плоскогорьям до полного изнеможения, пил из родников, собирал в тундре ягоды, подражал голосам морских птиц и далеким крикам китов. Наставник тревожился за него — сверстники разбрелись по компаниям, разбились на парочки, а Иван держался особняком. И не спешил рассказать о своих друзьях…
Быстролет замедлился. Левой рукой Иван набрал посадочный код, правая поднялась, нащупывая несуществующий шарик дистанционного пульта… Планетарные катера требовали молниеносной реакции, а здесь ошибешься сам — подхватит автопилот. Внизу лоскутным одеялом пестрел посёлок, тянулся к небу острый шпиль старинной церкви, поблескивали антенны. По улицам, маленькие как муравьи, бродили ручные олени. Коттедж, неотличимый от деревянного, стоял последним в ряду — словно Иван и не уезжал отсюда. Новый владелец, климатолог Тойво с непроизносимой финской фамилией, отчалил в гости на материк и любезно предоставил дом прежнему жителю.
Дверей в поселке не запирали. Иван вошел в тесноватый предбанник, заставленный пыльной аппаратурой и агрегатами непонятного назначения. Климатолог, похоже, не завел робочиста, и аккуратней не стал. Даже свет не наладил, пришлось включать лампу вручную. И комната не изменилась — узкая койка, оленья шкура на стене, коллекция минералов на полке, старомодный экран в полстены. Зеленый огонек мигал: непрочитанные сообщения. Два. От Тойво с небрежным извинением за первозданный хаос и просьбой чувствовать себя как дома. И от детей: Уэйн и Лёнька наперебой объясняли — пааа, у леммингов эпидемия, нужно делать прививки, подмешивать пробиотики в корм, Лизхен в лаборатории днюет и ночует, до послезавтра не жди.
…Старшая дочь через год станет взрослой, и с пробирками ей комфортнее, чем с людьми. Её мать, Эльзи, тоже замкнутый, непростой человек, лишний раз и слова не скажет. Смешливая, кучерявая Майра, подарившая ему Уэйна и малышку Меган, нравилась Ивану намного больше, прошлый отпуск он провел с ними в Шанноне. Вспомнились круглые щеки и веселые лучики у глаз подруги, запах цветочных духов и шелковые платочки на шее — милая, милая. Майра вернулась на Марс, когда Меган исполнилось пять. А Ленточка больше никогда никуда не вернется…
«Отставить!» скомандовал Иван. «Прошлое — прошлому!». Он открыл окна, распаковал рюкзачок, пошарил на кухне, загрузил в автоварку штрих-баранину с натуральной овощной смесью и выставил таймер. Потом проверил печатный стан и задал размеры — нужно было бельё и носки. Всё остальное пряталось в кладовой, на верхней полке — льняные штаны, мягкая, выношенная рубаха, ботинки и куртка из желтоватой штрих-кожи, собственноручно связанный свитер из собственноручно состриженной когда-то овечьей шерсти. Одноразовую одежду Иван бросил в утилизатор и досадливо отмахнулся от вежливой просьбы заказать новый костюм. Возбуждение охватило его, как всегда в первый день на Земле. Хотелось бежать, прыгать, кататься по траве, плыть по невыносимо холодному озеру, с плеском рассекая воду. Гренландия. Моя Гренландия.
Рассовать по карманам мелочи — минутное дело. Ножик, огниво, свечка, помятая кружка, моток веревки — без неё в здешних пустошах никуда. И горсть камешков — тускло-оранжевый арсенит, фиолетовый кристалл лунного аметиста, крапчато-серая галька с побережья Северного моря. Нужна ли карта? Навряд ли, ноги помнят переплетения троп и проходы в скалах.
Иван зашнуровал ботинки, снял коммуникатор с запястья, мельком глянул на себя в зеркало — настоящий суровый викинг. Челюсть вперед, грудь колесом потертая куртка грубо заштопана на плече. Не хватало только кудрей и щетины, но за три месяца волосы не отрастут. Пошарив в кладовке, Иван отыскал полосатую шапку. Теперь хорошо.
На окраине поселка мохнатым клубком грелись на солнце псы. Завидев чужого, они залаяли для приличия, потом один за другим подошли обнюхать. Синеглазые симпатяги хаски порой свирепели не хуже волков — Ивану случалось находить растерзанных оленят — но сейчас звери были сыты и дружелюбны. И устоять против их обаяния мог разве что человек без сердца. Разве можно не потрепать мягкие уши и пушистые шеи, не погладить по спинам, не подставить ладонь коричневому мокрому носу? Молодой дурашливый пес увязался следом за человеком и сопровождал его с километр. Потом сел, почесался, тихонько гавкнул и потрусил назад — летняя тундра его не прельщала.
Проезжая дорога окончательно заросла — чтобы сберечь почву, старались летать или ездить с упряжками. На покрытых низкой травой холмах сгрудилось стадо овец. Силуэт высокого пастуха, его маленькая бородка и широкие, когда-то могучие плечи показались Ивану знакомыми. Сколько же ему лет? Тридцать четыре года назад старик уже выглядел древним, как скалы.
Эсперанто патриарх не понимал (или не хотел понимать), пришлось вспомнить полузабытый датский. За памятливость Иван получил кружку теплого молока и черствую краюху. Кисловатый, ржаной вкус, наполняющий рот слюной, был вкусом детства — никакие изыски автоварок не сравнятся с хлебом, выпеченным на огне. Наверняка в избушке у старика стоит печка, такая же древняя, как он сам. По вечерам пастух подсовывает полешки в приоткрытую дверцу, греет натруженные ладони, помешивает вилкой мясо, аппетитно шипящее в сковороде. И никаких ледяных дождей, фонящих астероидов, суточных вахт…
У маленького озерца, похожего на девичье зеркало, одинокий школяр маялся с удочкой. Глядя, как неумеха в очередной раз зацепился крючком за штаны, Иван шагнул к нему, но вовремя остановился и только приветственно помахал рукой. Если б ему кто-то помогал возиться с огромными ржавыми ножницами, он никогда бы не научился стричь овец. И ведь мальчишкой злился до слез — есть печатные станы, на которых за полчаса создается любой наряд, есть заводы органики, на которых шерсть можно производить тоннами, есть машинки для стрижки в конце концов, зачем вкалывать до кровавых мозолей?! А потом понял.
Ручеек, втекавший в озерцо, спускался со скалистой возвышенности. То перескакивая через препятствия, то осторожно обходя шаткие камни, Иван начал карабкаться вверх. Впереди ждал узкий проход между могучими валунами, а за ними долина, усеянная моренами, покрытая мягким мхом. На полпути пришлось сделать привал — штифт в ноге напомнил о себе. «Выйду в отпуск — наращу настоящую кость» в очередной раз пообещал себе Иван и рассмеялся. Он уже на Земле и потратить три месяца на больницу — слишком большая роскошь. С мальчишками договорились слетать в Техас, посмотреть на диких мустангов и индейский лагерь в прерии. Меган ждет-не-дождется поездки в московский кукольный театр, мечтает увидеть механические часы с танцующими фигурками. Хотя бы недельку хочется отдохнуть всей семьёй у теплого моря, поплавать с дельфинами. Леночкиных родителей тоже надо бы навестить. И к матери заглянуть… если она оторвется от своих драгоценных неудобочитаемых фолиантов ради сына. А всё свободное время, как в юности, бродить по тундре, любоваться на шхеры и морских птиц.
Опираясь о камни, Иван поднялся, пошевелил ногой — боль утихла. Тепло навевало дремоту, хотелось растянуться на мху и смотреть сладкие сны. Успеется! Над головой еле слышно перекрикивались чайки, где-то внизу тявкал песец, слышался шум воды. Дорожка становилась всё уже, местами приходилось идти, прижимаясь к скалистой стенке, перебираться через завалы, сползать с выступов. Иван почувствовал, что дыхание начинает сбиваться. Во внеземелье проще — умный скафандр следит за обменом веществ. А здесь приходится самому.
Вход в долину казалось стал ещё теснее, весенние ручьи нанесли мусора и песка. Наметанным глазом Иван приметил голубой осколочек лазурита — щедрость гор не иссякла. Наклонив голову, он осторожно протиснулся в удивительно неудобный лаз навстречу голубоватому свету. И тут началось.
По скале зашуршали мелкие камешки, потом застучали осколочки покрупнее, прогрохотал увесистый валун. Заорали перепуганные птицы, вздрогнули стены. Раздалось свирепое, поражающее воображение рычание — издавать такие звуки мог только огромный, голодный хищник. Буквально из ниоткуда возникла огромная смрадная пасть, усеянная многочисленными зубами. Чудовище подкатилось к Ивану, готовое наброситься, растерзать, вырвать сердце из бедной груди… И расхохоталось.
— Что, испугался Белая голова?
— До дрожи, — соврал Иван. — Пропусти меня, наконец, старый мошенник!
Вслед за другом он выбрался из гранитной ловушки. Отряхнулся — мелкий сор набился за воротник. И только потом обнял холодные, жесткие плечи, похлопал по шершавой спине.
— Ты всё такой же крепыш, Кривой!
Довольный трётль приосанился:
— Я стар, как эти холмы, ещё немного — и рассыплюсь белым песком. Мыши копошатся у меня на спине, птицы вьют гнезда на голове, бесстыжие улитки обгрызают пальцы, Белая голова — они едят меня, а не я их! Кстати…
Стараясь не засмеяться, Иван наблюдал, как меняется морщинистая физиономия трётля из важной и грозной превращаясь в просительно-жалобную, как широко раскрывается красный глаз посреди лба и скорбно опускаются уголки жабьего рта.
— Ты ведь не забыл обо мне, приятель? Гуляя по Тропе Духов ты помнил — истосковавшийся, дряхлый Кривой ждет в милой долине, где прошла твоя юность?
Нарочито неторопливо Иван запустил руку в кармашек, пошарил там, подбросил в воздух блестящий кристалл лунного аметиста. Трётль, словно пес, подхватил подачку в воздухе и зачавкал, пуская маслянистые слюни.
— Вы, люди, ничего не понимаете ни в хорошей пище, ни в подлинной красоте. Окажись я там, где растут вкусные камушки — корни в скалу пустил бы!
— Полетели, Кривой! Мой быстролет в поселке, до канадского космопорта час, до Луны две недели пути — и пируй себе на здоровье.
Физиономия трётля сморщилась, он повернулся к собеседнику задом и выразительно приподнял хвостик. Ни один из немногочисленного скалистого племени ни разу не соглашался подняться в воздух, зайти в поселок, сдать анализы или допустить к себе ученых с их пробирками и иголками. Спустя полвека после того, как разбуженные и очень сердитые трётли забросали камнями команду мелиораторов, потревоживших их покой в долине Канак, почти ничего не изменилось. Самые молодые из каменных скандалистов, те, кто не помнил ни викингов ни зеленых лугов, начали понемногу выходить к людям, менять куски лазурита и грубые резные фигурки на овечье молоко, помогали сторожить отары, дразнили неугомонных собак. Старики же по-прежнему держались поодаль от шума и суеты, опасаясь — вот-вот снова загрохочут ненавистные колокола и злые человеки с железными топорами, плугами и мотыгами начнут выживать их с насиженных мест.
Чем Иван привлек ворчливого трётля, осталось тайной. Но они дружили почти сорок лет — с того дня, как мальчишка-школяр потерял в сугробе коммуникатор и вывихнул ногу, пытаясь достать аппарат, а нескладный каменный урод вытащил человека до трассы, и ничтоже сумняшеся сел на дорогу, чтобы остановить снегоход. Иногда Кривой казался Ивану младшим братишкой, порой — упрямым и хитрым зверем, изредка стряхивал напускное юродство и становился мудрым как отец. Мог и напакостить — когда им с Майрой захотелось провести медовый месяц в палатке на берегу тихой гренландской шхеры, через день туда собрались песцы, лемминги, гнус и мошка со всей округи. Обнаружив в котелке теплый привет от белой полярной лисички, подруга в то же утро собрала вещи.
— Эй, уснул, бездельник? — трётль больно ущипнул Ивана за ухо. — Пошли, что вкусное покажу.
Под лакомствами у третлей подразумевались весьма странные вещи — заношенные ботинки, к примеру, зеленые стекла (белых они не ели), покрытый плесенью сыр, перекисшее молоко. Но у Кривого и вправду нашелся сюрприз. Пролезть сквозь крохотное отверстие в скальной выемке оказалось немыслимо, даже руки туда проходили с трудом, но разглядеть удалось. Огонек свечи отразился в тысячах острых граней, заплясал золотом на багрянице — за толщей породы таилась великолепная гранатовая щетка.
— Чудно, а? Помирать буду — съем напоследок, — горестно вздохнул трётль. — Будет что вспомнить там.
Неподдельное уныние в голосе друга насторожило Ивана. Он внимательно оглядел бугристую каменную тушу, и увиденное его не обрадовало. Сланцевые пластинки, покрывающие бока и спину потускнели, потрескались, пальцы ног искрошились и в приоткрытой пасти явно не хватало зубов.
— Ты, Кривой, загибай да не загибайся! Захворал что ли или седалище на камнях отморозил?
— Старый стал. Мы, трётли, с годами скидываем шкуры — пока есть что сбрасывать, мы линяем, когда нет — застываем, превращаемся в валуны. Пришло моё время. Хорошо, хоть увиделись напоследок, Белая голова, прилетел порадовать друга, побаловать. Кстати?
Крапчатая галька из Северного моря легла в подставленную ладонь. Трётль шумно принюхался.
— Треской пахнет. Бородатые парни с севера любили ей закусить.
— Галькой?
— Треской, дурень. Стыдно смеяться над умирающим.
Тихий стал. Не бранится, не ставит подножки, ни паука, ни навоза в щётку не подложил. Может доктора к нему вызвать? Или ветеринара? Так ведь не дастся, старый баран.
Кряхтя и охая, трётль взгромоздился на здоровенный валун, разлёгся, подставил солнышку бурое брюхо.
— Расскажи мне, что творится там, наверху, Белая голова. Видел ли ты Медведицу, которая заглатывает луну, а потом выплевывает её? Встречал ли гордых альвов на серебристых драккарах — они уплыли в небо, и никто больше не слышал про них?
— Там холодно и темно, Кривой. Или холодно и светло. Невидимые лучи пронизывают твое тело, отравляют кровь, острые летучие камни стремятся пробить насквозь борт лодки, роботы сходят с ума и крушат станции вместо того, чтобы рыть шахты.
— Роботы это трётли, у которых не отросла душа?
— Не совсем так — самоходные механизмы делают люди. А вы плодитесь сами.
— Есть такое, — довольно подтвердил трётль. — Я четырежды почковался и все мои отпрыски до сих пор грызут камни. А вам нужны ваши хюльдры, в одиночку не справиться. Глупое устройство и сами вы дураки.
— Не ворчи!
— Буду! Зачем вам, жадными людям нужно летать дальше неба, делать города на Луне и вытаскивать камни из этого… пояса. Вы же их не едите, и дома строите из невкусной пластмассы. Вам всего мало, вы рветесь вперед как бородатые парни с севера — где они теперь, что осталось от их мечей и овец?
— Понимаешь ли, трётль, это вечное свойство людей — идти дальше, брать за шкирку новые земли. Когда мы остановимся, мы умрём. Окаменеем.
— Подумаешь, — кивнул тролль. — Станем родичами, будем рядом валяться на пустошах, пугать песцов и овец, грызть слюду — она вкусней леденцов. Кстати?
Иван достал кругляш арсенита.
— Это последний, прости.
Высунув длинный язык, трётль облизнул подарок, причмокнул, но есть не стал.
— У твоей хюльдры волосы тоже рыжие. Тоскуешь по ней?
— Майра брюнетка и мы до сих пор встречаемся. Передавала привет, говорит, никогда не забудет.
— Та которую я выжил с острова? — трётль сделал неприличный жест. — Тюлень ей брат, рукомойке — воду из ручьев кипятила, яблоки щёткой чистила, парным молоком — видано ли? — брезговала. Не-ет, ты грустишь о другой.
…У Лены действительно были огненные волосы, того всепобеждающего оттенка, который удается увидеть лишь на зреющих апельсинах или летней шубке лисы. Она родилась тонкокожей — легко краснела, легко обижалась по пустячному поводу. Заподозрить в ней великолепного навигатора, способного чудом вывести корабль из потока метеоритов или дотянуть до базы на честном слове и остатках горючего, мог только другой штурман. Иван тогда управлял автоцехом по сепарации и в обогащении руд разбирался лучше, чем в людях. Ему казалось, что любви, нежности и покоя вполне хватает для счастья, что ребенок удержит его Ленточку дома. Лёньке едва исполнился годик, когда рванул Ганимед — потепление привело к наводнению, станции затопило. Земля объявила призыв резервистов, вывозить оборудование и людей, Лена пошла добровольцем. И не вернулась.
— Да, я тоскую, мне её не хватает.
— Рад бы сказать, что пройдет, но у вас не проходит, — сочувственно вздохнул трётль. — Люди не лебеди, но хюльдра она на всю жизнь.
Хотелось ответить резко, но Иван сдержался — трётля рубинами не корми, дай поскандалить вволю.
— Ты и в самом деле дряхлеешь, Кривой. Давай я из поселка лекаря позову, пусть поглядит, чем помочь.
— Овце под хвост пусть глядит, а помирать не мешает. И ты не мешай. Лучше выполни мою последнюю волю.
— Чем порадовать страждущего трётля? Минералов у меня больше нет, кружку ты есть не станешь, а ботинки я не отдам.
— Даже лучшему другу? — с надеждой спросил трётль.
— Даже лучшему другу.
— Тогда расскажи мне сказку, Белая голова. Длинную словно хвост Ёрмунгарда.
— Хорошо, — улыбнулся Иван. — Будет тебе сказка.
Довольный Кривой перекатился на пузо и разлегся, раскинув лапы. Чешуйчатая, потрескавшаяся пятка оказалась совсем рядом, но Иван удержался от искушения провести по ней прутиком. Интересно, боятся ли трётли щекотки?
— Далеко-далеко, на самом краю галактики жил-был… корабль. Небольшой такой межпланетный корабль. Переправлял людей туда-сюда, перетаскивал грузы, доставлял металл с рудников…
— И вкусные камушки, — уточнил трётль.
— Хорошо, самоцветы тоже возил. Корабль звали… как же его могли звать?
— Свиное Рыло? Большой Пук?
— Нет, Кривой, корабль звали S-4823 AX, и ему это совершенно не нравилось. Он тосковал о настоящем имени — «Стремительный», например, «Бесстрашный», «Бесповоротный» в крайнем случае «Томпейн» или «Адмиралнахимов». Но никто — ни капитан, ни команда, ни пассажиры — не задумывался, мечтают ли корабли об именах.
— Вот балбес! Кто мешал ему самому назваться или семью попросить? Меня вот Кривым прародитель назвал, да, — зевнул трётль.
— Будешь перебивать — сам придумывай, — огрызнулся Иван.
— Умолкаю.
— Прослышал однажды S-4823 AX, что в Магеллановом облаке, за белым гигантом, за чёрной дырой прячется древний-древний межзвёздный крейсер. В трюме у крейсера камера, в камере анабиозка, в анабиозке старик с бородой до колен. Если этого старика разбудить да поговорить ласково, он любое желание может исполнить.
— Понял! Это ваш глупый бог от людей убежал подальше!
— Кривой!!!
Трётль закрыл пасть корявой лапой и, наконец, заткнулся.
— Подумал S-4823 AX, поскрипел электрическим мозгом, взял да и сел на планету. И входной люк приоткрыл заманчиво. Часа не прошло, как школяр короткоштанный внутрь забрался рычажки покрутить да на кнопки понажимать. А S-4823 AX того и надо. Дверь захлопнул, с места за атмосферу рванул — только его и видели. Полетел к Магелланову облаку. Год летит, два летит, десять. Мальчишку гидропонной вкуснятиной потчует, учиться заставляет, зарядку делать, книжки читать, чтоб не рос дураком. За шесть лет из костлявого пацаненка красавец вымахал, хоть картину пиши. У пульта управления научился стоять, астероиды ковшом, подхватывать, фильтры чистить. Кино смотрел вечерами в рубке, в мяч играл сам с собой, анализатор гонял, пока вахта не кончится… тьфу, прости.
Долетели они до Магелланова облака, обогнули белый карлик, миновали чёрную дыру, маячки поисковые подключили — и вправду в темноте да пустоте старинный крейсер висит. Наш S-4823 AX пришвартовался к нему, манипуляторами шлюз приоткрыл, мальчишка внутрь юркнул. В трюм забрался, камеру нашел, анабиозку вскрыл — а там девица-красавица, коса до колен. Мальчишка не будь дураком её в щёчку чмокнул, а она глаза ах — и открыла, зарумянилась вся. И говорит… эй, трётль.
Кривой мирно похрапывал, по-детски подложив под щеку каменную ладонь. Сыновья тоже засыпали быстро, так и не дождавшись, чем кончится сказка. Иван потянулся, покрутил головой, встал, чтобы размять затекшие ноги, вдохнул полной грудью влажный воздух. В тускнеющем вечернем свете на спине трётля стала заметна зеленая сеточка, в трещинках показался сочный молодой мох. Скоро начнётся линька, осыплются каменные пластины, трётль как весенний олень будет чесаться о валуны и браниться до изнеможения. Старый мошенник!
Скала ещё хранила тепло. Иван привалился спиной к камню и сел, глядя в небо. Вокруг тихонько копошилась мелкая живность, пищал комар, закричала спросонья птица, прошуршал камешек. Здесь оставался дом, место, куда хочется возвращаться из любых странствий. Там ждал труд — настоящий, веселый, опасный труд.
Солнце зашло за скалы и скрылось из глаз. Розовая пена облаков потускнела, по небу разлилась синева, прочерченная белым штрихом быстролета. Звезда мигнула и вспыхнула над горизонтом. Это была Венера.
Сказка о потаенных дверцах
Городской чайке
— А этот зверек почем? — корявый палец покупателя ткнулся в самую крупную банку. Иссиня-черная многоножка метнулась вперед, стукнулась об стекло и яростно зашипела. Зубов в маленькой пасти было достаточно. Покупатель отпрянул.
— Тысяч восемь, но я бы вам не советовала. Зверушка кусается, плохо идет к рукам, ест только парное мясо. Неплохая ловушка в офис или сейф, но в дом с детьми ее брать не стоит. Посмотрите лучше на этого чудика.
Многоножка была обещана Борьке в машину, поэтому я осторожно переключила клиента на милейшее существо — огромные глаза, крохотный любопытный нос, изящные лапки и ореол невесомой дымчато-серой шерсти… лучше не уточнять, откуда я его доставала.
— Само изящество. Сама грация. Королевская… — я запнулась… Да, Королевская Аналостанка.
Извлеченный из банки чудик тут же стал обнюхивать человека. Трогательно и деликатно коснулся ладони холодным носом, тронул серебряным коготком… и бесцеремонно полез на руки.
Клиент созрел. Немудрено — чудик был необыкновенно ласков и, что важнее для домашнего любимца, питался грязными мыслями. Я вспомнила сальный взгляд пузатого любителя редкостей, как он пялился в вырез моего платья — да, пожалуй вся семья будет рада покупке. И стоил зверек недорого — я его не ловила, малыш сам попросился вылезти. Я улыбнулась, взяла деньги, быстренько рассказала — чем кормить, как ухаживать, почему, если чудик начинает себя вести, следует срочно вызывать или меня или Бориса Булатовича, — и выставила мужика за дверь вместе с покупкой. Не люблю чужих в доме.
Кстати, забыла представиться — я Саша. Двадцать семь лет, не замужем, не была и не собираюсь. Я умею застенчиво моргать и надувать губки, наклонять голову, крутить локон и задавать вопросы тоненьким голоском. Тогда мужчины думают, что я красивая дурочка, и начинают любить меня и спасать. Они неправы в обоих смыслах. Три языка, калькулятор между ушей, пояс по тэквандо и полная независимость в жизни. А еще я умею выманивать и ловить чудиков…
Крайняя банка все-таки сорвалась. Мохнатый гаденыш подпрыгнул чуть не до потолка, попробовал цопнуть меня в плечо, не прокусил, оттолкнулся от платья, скакнул на кухонный шкаф и проскользнул в вентиляцию — только пыль полетела клочьями. Вот зараза! Чудики в банках загомонили, толстая тварюшка, больше всего похожая на шерстяную жабу, начала раскачивать домик. Я шикнула на кунсткамеру и пошла за веником. Будем знать, что в вентиляционной решетке тоже есть ход — давно подозревала, все руки не доходили проверить.
…Забавно вышло — Учитель говорил, что до трети городских жителей может чувствовать тонкие планы полиса. Особенно восприимчивы дети до двенадцати лет, старики с помутившимся разумом и творческие натуры. Но мало чуять, надо видеть, верить и понимать. Мне повезло. Детство в старинном доме, где у каждого темного уголка свой характер. Скрипучие половицы с тусклым рисунком старого дерева, ржавые трубы, гудящая газовая колонка, стекло в коридорных дверях с выпуклым мелким тиснением. Когда грустилось, было славно сидеть в темноте и на ощупь исследовать прохладные, бессмысленные узоры. Многослойные обои — если обрывать аккуратно, по листику, удавалось добраться до старых газет, даже с ятями — и угадывать по обрывкам, что писали сто лет назад. Я часто оставалась одна — мама работала, я болела — и с утра до вечера в моем полном распоряжении были все таинственные подстолья, шершавые кирпичи стенок в ванной, витые ножки стула «модерн», пыльные дырки между подоконником и батареей. Запахи пищи, бумаги, красок, чужих духов. Звуки, стуки, скрипы и шорохи, невнятные голоса, бормочущие околесицу на чужих языках. И на все это — флер лихорадки, проницательное чутье больного. Картинка долго не складывалась. Помог случай — для другого ребенка он бы мог стать последним.
Город. Июнь. Мне было почти девять лет. Я вынесла мусор и стояла в парадной с двумя ржавыми грязными ведрами. Мелкая жизнь на прилипших к донцам клочках газеты была неинтересна, я разглядывала сложный плиточный узор пола. Завитки волн — я уже знала слово «дорический» и пробовала сопоставить наш дом и историю аргонавтов. Ухнула дверь подъезда, вошел мужчина. Незнакомый, большой. Я вежливо улыбнулась — мама учила меня улыбаться людям. Мужчина приблизился, расстегнул штаны и стал мочиться в ведро. Он глядел на меня отвратительными злыми глазами, я слышала как звенит о жесть вонючая струя, как разлетаются брызги. Лифт все не ехал. Двери ближних квартир молчали. Я поняла — сейчас будет что-то плохое. Ужасное. Жуткое.
Мужчина протянул ко мне руки. Я сильно-сильно прижалась спиной к двери лифта… и прошла сквозь нее. Внутри было глухо и мрачно. Высоко над головой светила желтая лампочка, свисали витые тросы, клубилась пыль, внизу темнела пропасть без дна. Мгновение неподвижности, невесомости тела — еще секунда и начнешь падать. Я хотела жить. И побежала наверх по тросам, продралась сквозь нелепую паутину и густой, как сметана, воздух. Движение длилось, я уже начала задыхаться. Вдруг тишину прорезал лучик дневного света. Я вцепилась в него, как в канат и вывалилась из шахты. По счастью лифт застрял на нашем этаже. Дверь кабины была открыта.
Я позвонила в квартиру, вышла мама. Я сказала, что бросила ведра внизу, потому, что какой-то мужчина в них помочился. Мама спросила, как. Я объяснила. Мама вызвала милицию. Что было дальше с виновником моего пробуждения — не знаю и знать не хочу. Осталось ощущение бега и боль в руках — тросы оказались жирными и колючими. До двенадцати лет я никому не рассказывала, как спаслась. А потом пошла в студию — рисовать. Там был Учитель. Он понял. Он все понимал. Борька, когда не ерничает, похож на отца…
Я очнулась и поняла, что тоскую над веником. Лень-матушка поперек меня родилась. А стекла, Сашура, сами полезут в мусорку? Банку жалко — в персиковых пятилитровках чудикам хорошо. Идеально подходят старые и прозрачные, из-под соков или компотов, с широким горлышком и пластиковой, немытой крышкой с банки варенья. В огуречных зверушки чахнут, а если в посуде что-то перебродило, начинают бузить или спят сутками. Ловля чудиков — тонкое мастерство, каждый финт надо вынюхивать на интуиции и другому охотнику он, скорее всего, не подойдет… Я закрыла ведро крышкой, по привычке проверила дверцу под раковиной — тишь. По ночам оттуда лезут мелкие крысоватые тварюшки. В чистом доме такие подъедают мелкие крошки и сор, но стоит развестись бардаку — жиреют и сами начинают пакостить по углам. Пару раз в затрубье заводились чудики большие и мрачные. На них звался Борька — по уговору я не выманивала никого, кто бы не помещался в банку, а недобрая тварь на полгода не меньше может испортить настроение в доме.
С батареи на пол спрыгнул Мартын. Потерся о ножку стула, заглянул в миску, подошел и требовательно мяукнул. Проголодался, мальчик. Я наклонилась погладить по мягкой шерсти, в очередной раз подивилась разнице ощущений — от прикосновения к чудику, даже мохнатому и теплому, всегда стыли руки. А кот был родной и грел. Мартын заурчал. Хороший… Сухой корм кончился, паштет он съел утром. Я предложила коту ломтик вялой колбаски. Мартын понюхал из вежливости и повернулся ко мне хвостом. Не хочу на мороз! Где джинсы?! Риторический вопрос для квартиры, в которой живу одна. Банки в шкаф… вроде все питомцы бодры и сыты.
Носки-штаны-рубашка-свитер-деньги-мобильник. Звонок. Слушаю. Да, Боря! Когда? Ну, знаешь… Абонент отсоединился. Два часа восемь минут. В два сорок радость моя привезет очередного клиента. За полчаса обернусь… А варианты? Ботинки-куртка-ключи. Вперед. Я захлопнула дверь без оглядки и побежала по коридору.
«Не так» я заметила уже на площадке. Линолеум не коричневый, а розоватый. Зеркало между лифтами. Вместо «сдыгр аппр» неизвестного грамотея, стену украшает слово из трех букв. И за окном солнце — зимнее, белое. Стало чуть неуютно — ребята рассказывали, так бывает, если выходишь не в ту дверь. Может вернуться? Лифт подъехал вовремя и разрешил колебания. В кабине все было на месте, если не приглядываться к кнопкам. Царапины, надписи, выпуклости, сигаретные ожоги и пятна маркеров делали рисунок панели неповторимым, как узор пятен на шкуре жирафа.
Лифт опускался медленно, с рокотом, словно тяжелый, неповоротливый шмель. Я слушала дом. На восьмом красная злая ссора. На пятом тяжело, неудачно заболевает ребенок… дошколенок, а сил совсем нет. На втором… я прыснула в кулак — пожилая зануда-училка из девятой квартиры занималась с кем-то любовью и сияла на весь подъезд. А у нас она была старой девой. Первый этаж. Ступенек на одну больше. Коврик вместо половика у лестницы. Что на улице? Страшно. Я распахнула дверь и с зажмуренными глазами шагнула навстречу солнцу. Снег ударил меня в лицо.
Увы. Добро пожаловать в реальный мир обратно. Учитель говорил, выпасть в смежный пласт полностью и надолго удавалось редким счастливчикам. Почти никто из них не вернулся. Можно понять, я бы тоже не стала думать — что меня в Москве держит? Был бы рядом Мартын, да еще телефон — Борьке звонить. Вот и лабаз, даже очереди не видно. «Королевскую Кошку», «Рыбный завтрак»… да, и хлеб, пожалуйста.
Напротив подъезда, загораживая проход, торчала холеная красная иномарка. Борькин «Форд» жался поодаль. Сам Борька колдовал над домофоном. Высоченный, нелепый, дубленка расстегнута, шапка сбилась, перчаток и вовсе нет. Я знала его лицо наизусть.
Клиентка красовалась рядом и производила впечатление. Норковая шубка по середину бедра — лоснящаяся шкурка богатства. Высокие желтые сапоги на безупречных ногах. Пальцы в брюликах. Простая с виду прическа — гладкий шлем платиновых волос. Легкий загар, нежные скулы, пухлые детские губы. И голубые глаза — злые и цепкие. Мне вообще не нравились женщины рядом с Борькой, а эту куклу я невзлюбила с первого взгляда. Но бизнес есть бизнес.
Я впустила гостей. Мы поднялись наверх в тесном лифте. Дама стояла спиной ко мне, тонкий запах ее духов заполнял кабину. Борька втягивал воздух, потешно водя кончиком хрящеватого фамильного носа… Черт, а она его зацепила.
Разуваться дама не стала. По квартире прошлась вальяжно, окинула мебель рассеянным взглядом — как писали в любимой книжке: «Молодые особы без единого слова дают понять, что считают вас чудачкой». Я провела ее в кухню. Борька помог спустить на стол банки. Растревоженные чудики пищали и гомонили. Я из вежливости отошла на пару шагов в сторону — пусть клиентка спокойно рассмотрит товар. Дама брезгливо покосилась на обитателей моей кунсткамеры, потом обратилась к Борьке:
— Арсений Павлович отрекомендовал, что вам можно доверять в самых щекотливых вопросах.
Борька широко улыбнулся. Я насторожилась. Не люблю клиентов с рекомендациями — они желают странного и устраивают проблемы.
— Так вот — я замужем. Мой муж прекрасный человек, обеспеченный, умный, тактичный. Редкой женщине так везет в браке, — на лице у клиентки читалось «есть чему позавидовать, дорогуша».
— Вашего мужа можно поздравить с таким сокровищем. Хороший бриллиант требует дорогой оправы, не так ли, — Борька лепил комплименты с грацией слона в пункте сдачи бутылок.
— Вы совершенно правы, — улыбка дамы стала ярче, — моего мужа можно поздравить. Проблема вот в чем. Он много работает, постоянно занят и совершенно не следит за здоровьем. И уже далеко не молод. Я волнуюсь за мужа, — дама облизнула будто бы пересохшие губы и многозначительно глянула на Борьку.
…Импотент что ли? Вряд ли такую фифу колышет, встает ли у старика в постели. Или срочно нужен ребенок?… Я попробовала поймать Борькин взгляд, но он неотрывно пялился на красотку. И крутил в руке уже обгрызенный карандаш — кажется, нервничал.
— Мне хотелось бы убедить мужа быть внимательней к своему здоровью, — взгляд клиентки метнулся в угол, голос чуть дрогнул.
Я решила вступить.
— Обратите внимание, этот малыш светит жизненной силой на всех обитателей дома. Если ваш муж чувствует себя усталым, ему сразу станет легче, — чудик, похожий на кактус с глазками, проигнорировал покупательницу, я взяла следующую банку, — А вот забавная зверушка — она способствует плодородию и деторождению…
Нетерпеливым кивком дама отмела идею стать хозяйкой апельсиновой лапушки. (А жаль — чудька способствовала плодородию всех обитателей дома, включая муравьев, тараканов и других чудиков).
— Понимаете… — тут клиентка замялась, — мне хотелось бы, чтобы муж сам осознал необходимость лечения. В самой лучшей, самой дорогостоящей клинике — я ничего не пожалею.
— Понимаю, — подойдя ближе к даме, Борька кивал с видом мудрого аксакала, — продолжайте.
— Мне сказали, есть такие зверушки, которые помогают, — неожиданно дама некрасиво, пятнами покраснела, — совсем безопасные. Нужно принести ее в дом и человек начинает тревожиться. Волноваться. Беспокоиться.
— Да, конечно, — Борька был весь внимание. Я начала звереть — неужели ради смазливой фифы он сделает подлость?!
Дама продолжила:
— Человеку начинают сниться странные сны, слышаться голоса, видеться несуразности… И он сам понимает, что ему необходимо лечение.
Красивые Борькины губы изогнулись в усмешке, он положил карандаш на столешницу и приблизился к даме вплотную:
— Короче говоря, вы хотите свести с ума надоедливого старика-мужа?!
— Да, — дама моментально совладала с собой, похоже ее кто-то неплохо вышколил, — Мне необходимо отправить его лечиться, пока этот выживший из ума козел не переписал завещание. Что я буду должна вам за помощь?
— А чем вы готовы платить? — с расправленными плечами и гордо поднятой головой цыганистый Борька и впрямь походил на падшего ангела.
— Десять тысяч сейчас и тридцать по окончании дела? — клиентка зашевелила губами, подсчитывая, — Растаможенный «Форд-эскорт»? Коттедж в Подосинках? Хотите что-то еще?
Роскошный бюст дамы распирал блузку. С такой внешностью мудрено сомневаться в собственной неотразимости.
— Наденьте шубку! — галантным жестом Борька протянул клиентке норковое великолепие.
Послушно набросив мех на плечи, дама повернулась на носочках, как манекенщица — кажется, она решила показать товар со всех сторон…
— И убирайтесь к чертовой матери! — густой баритон заполнил кухню, Борька был бесподобен. Я прыснула в кулак. Клиентка онемела.
— Здесь почтенное заведение. Мы продаем зверей. Вам нужны бандиты. Вон! — Борька наступал на даму, та пятилась. Чудики верещали. Мартын нацелился под шумок пометить сумочку дуры, я его оттащила — и так неплохо.
Уже в прихожей дама попробовала козырнуть:
— Придурки, я все расскажу Арсюше!
Монументальный Борька расхохотался фифе в лицо:
— Арсений Павлович, девушка, непременно узнает, как пользуются его именем и рекомендациями. Уж меня-то он слушать станет! — тут Борька грозно нахмурил брови и сделал величественный пасс рукой. Даму сдуло.
Дверь захлопнулась. Я повисла у Борьки на шее. Опять провел, негодяй!
Потом мы сидели на кухне и пили остывший чай из любимых Борькиных синих чашек. Я рассказывала всю неделю, которую мы не виделись, Борька поддакивал и кивал. Со знанием дела осмотрел новых питомцев, похвалил многоножку, посетовал на апельсиновую зверушку — хороша чудька, только в доме, куда она попадет, Ноев Ковчег расплодится. К шерстяной жабе он приглядывался дольше прочих, постучал по стеклу, спросил, хорошо ли ест — а ела плохо, и подвел резюме — выпустить. Не приживется. Я согласилась — зверушке было явно неуютно в неволе, и приручаться она не хотела. Жаль — чистить сны умение редкое.
Я взяла банку и отнесла ее в спальню, к изголовью кровати. Борька снял крышку. Робким движением жаба подкралась к выходу, моргнула янтарными зенками, выскочила и исчезла, будто всосалась в стену. Мы вернулись на кухню выпить рюмочку коньяка за здоровье освобожденной тварьки. Тусклый зимний закат рассыпал желтые пятна по стенам кухни. Мы молчали — нам было уютно молчать вдвоем. Редкий час тишины и покоя, тепло родного плеча… Но, как водится, зазвонил телефон. Борька тут же засобирался. Многоножка без всякой приманки согласилась на переезд и сидела за пазухой смирно, даже зубки не скалила.
Я проводила друга до лифта и вернулась в пустую квартиру. Мартын прыгнул мне на колени. Веселей тосковать, гладя зверя по мягкой шерсти. Мы познакомились в студии — мне было тринадцать лет, Борьке семнадцать. Мы ни разу не расставались. И ни разу за эти годы не смогли сделать шага навстречу друг другу. Случалось, он оставался у меня ночевать, бывало — спали в одной палатке, из каких геморроев вытаскивали друг друга — лучше не вспоминать. Понимание с полуслова. Доверие. Верность. И ничего больше. Захотелось еще коньяку… Нет, Сашура, лучше поставить бутылку в шкаф. Близится полнолуние — чудики чуют фазы луны и ночная охота может оказаться удачной. Значит надо поспать.
Мягкое одеяло спаситель от всяких бед. Нежная простыня тешит кожу. Запах лаванды дает покой, можжевеловый дух напоминает о лесе… Лисьи лапы, листьев ласки, без опаски, без огласки, ветер носит, север стынет, кто попросит — не покинет, кто покинет — выйдет вон, дольше века длится сон… Время. Я открыл глаза моментально. Темнота. Тишина. Четыре двенадцать ночи.
Тени на потолке. Шорох пыли. Запах морозца с балкона. Дзынь воды о дно раковины. За стеной мирно спят соседи. За другой — лестница — больная, ветхая. Руки. Размять, растереть, разбудить каждый палец. Приманки — огонь, вода, щепотка земли, пара капелек крови, кусочек хлеба, старинные безделушки — чем больше рук помнит вещь, тем лучше. Разложить по ходам и щелкам. Уйти в тень. Выждать. И отправиться проверять двери.
У бетона шершавый вкус, от него зудит кожа, но иначе до лестницы не дотянуться. Пальцы проходят сквозь серое крошево, дальше ход, пыльный и ржавый. Ступени необыкновенно гулки, сквозь стены виднеются звезды, иней стынет на грязном железе. Шорох, цокот когтей, хвост скребет по полу… крыса. Никого.
Следующая дверь, за шкафом в спальне — любимая. Кажется, раньше здесь жили дети и кто-то сумел открыть проход в детский мир. С лужайками и ромашками, безоблачным небом и радостным синим морем, с конфетами на кустах и мячиками на грядках. Будто бы он огромный, но до задней стенки всегда можно достать рукой. И ни разу отсюда не приходили дурные и гадкие чудики — только забавные существа, похожие на плюшевые игрушки. Но сегодня там было пусто.
Из-под ванной тянуло затхлым холодом. Ладони стало покалывать. Я взглянула. Там текло, чавкало и воняло. Далеко, в слизистых, гнилых междутрубьях колыхалась отвратительная медуза с длинными цепкими щупальцами. Одно потянулось к двери, но я отскочила вовремя. К черту! Забить проход намертво и не морочиться, кто оттуда полезет.
Крысотварьки на кухне разбежались при моем появлении. Я постояла в центре, послушала, потом обошла помещение со свечой… И здесь никого. Охотничий азарт уступил место досаде. Похоже, сегодня мне не везет. Я сполоснула руки и прошлась по дому еще раз. Внимательно, чутко, кончиками пальцев брать ощущения на расстоянии, прикасаться, не допуская к коже. Всегда поражалась, как звук становится вкусом, шершавость — влагой, сопротивление материала — цветным пятном. А когда получается снять все разом — вникаешь и можно работать. Но, похоже, сегодня мне ловить нечего…
— Мартын, в чем дело?
Кот крутился возле кладовки, скреб лапой дверцу и заунывно мяукал. Не в привычках зверюги было мешать мне охотиться. Крыса что ли забралась с лестницы? Я проверила наспех руками, заглянула со свечой внутрь — все в порядке. Мартын не унимался. Я предложила ему еды, потом прикрикнула. Не помогло. Захотелось включить верхний свет. В коридоре почуяла странность. Прислушалась. Плач. Скулеж то ли младенца, то ли детеныша. Значит, будем в темноте разбирать кладовку.
Вся прихожая оказалась завалена разнообразным барахлом и старьем, когда я наконец докопалась до источника беспокойства. Точнее нащупала что-то горячее и за шкирку потащила наружу без особенных церемоний. Секунда — и в руках оказалось голокожая, когтистая тварь, сморщенная, дрожащая и рыдающая. Она цеплялась за все подряд тонкими лапами и хвостом, плача, совсем, как человек. Я включила свет и оторопела. Ну и уродец! Сероватая кожа в бугорках, бородавках и складочках. Мутные крохотные глаза без ресниц. Два ряда мелких желтых зубок в пасти. Почти паучьи гибкие ножки. И большой вздутый живот. Много чудиков прошло через мой дом, но такого видеть не доводилось. Звереныш жался ко мне, гадостный и несчастный. Невольно захотелось утешить его, пожалеть, погладить… что я и сделала. И улыбка сама собой вылезла на лице, когда чудик перестал всхлипывать.
Мартын вертелся вокруг и орал, будто от него прятали ломтик рыбы. Я наклонилась показать добычу и удивилась второй раз. Невозмутимый кот, относившийся к тварькам с горделивым презрением, обнюхал чудика и даже лизнул его в морду. Малыш в ответ засопел и тронул Мартына мокрым черным носом. Чудеса!
На кухне зверек с равной радостью отдал дань и вчерашней картошке и ломтику колбасы и капустному листику. Наконец, я вручила ему кусок сахара и посадила в уютную банку из-под морса. Чудик спокойно обнюхал жилище и свернулся клубком на подстилке. Я пошла варить кофе. День насмарку. Похоже, чудик из бесполезных, купить его могут разве что за уродство. По шоссе за окном замелькали суетливые легковушки, прошла колонна грузных снегоуборщиков, дворники загрохотали баками, наполняя мусоровоз. Близилось утро. У кровати на тумбочке ждала книжка — приключения плоскогрудой, безмозглой американки в жестоком мире. Еще можно поваляться часочек… Я щелкнула выключателем. Неожиданно чудик снова заплакал. Он скребся в стекло и тянул ко мне тонкие лапки.
Стоило открыть крышку, малыш тут же прыгнул на руки. Такой горячий — как человечек. Под ладонью тельце зверька казалось бархатным и живым на ощупь. Он смешно хрюкал, цепко обхватив мои пальцы, терся о свитер приплюснутой мордочкой. А потом моментально уснул, расслабился, стал тяжелым. Надо было положить зверька в банку, но я не смогла. Вдруг уродцу одному страшно? Или он боится темноты? Кто знает, откуда беднягу занесло в мою кладовую…
В спальне чудик проснулся, обнюхал кровать, деловито пописал в носовые платки на тумбочке и лег на подушку, словно всегда там жил. У Мартына на морде было написано — разбудить бы нахала да задать ему трепку, но кот стерпел и ушел спать в изножье постели. Прибрав за зверьком, я еще с полчаса валялась, делая вид, что читаю. Странное ощущение — стало тепло на душе. Может, я слишком долго спала одна? Надо будет заняться… при случае… как-нибудь…
Солнце вошло в мой сон, словно фрегат в Каперну. Я открыла глаза и улыбнулась прежде, чем поняла, что новый день меня радует. Тело было послушным и сильным, мысли — ясными. Я повернула голову — чудик тоже проснулся и моргал на меня удивленными глазками. Я погладила малыша, он лизнул мне руку жарким язычком и осклабился — кажется, пробовал улыбнуться. Под локоть тут же ткнулся ревнивый Мартын. Я погладила и его. Завтракать, дети! Кошачий паштет вполне устроил обоих, зверье дружно чавкало у одной миски, пока я умывалась и приводила себя в порядок. Корм чудикам, бутерброд мне. Какие планы? А никаких! Неожиданно захотелось послать к черту привычный порядок дня почти деловой женщины. Что я и сделала.
Ванну с ароматической смесью — волшебной, безумно дорогой прихотью. Кинешь шарик размером с яблоко в теплую воду — он расплывается опаловым блеском и пахнет, как счастье. Кожа становится шелковой, душа — легкой, мысли тают, словно капельки пены на белом кафеле.
Фильм в проигрыватель. «Унесенные ветром»? «Ирония судьбы»? «Зорро»? Что-нибудь прелестное и сентиментальное — погрустить и порадоваться, отдохнуть от обыденной круговерти. Саша тоже человек, даром, что видит сквозь стены.
Надоело бездельничать? Будем считать долги. В каждом доме со временем копится куча неспешных дел. Склеить чашку, отчистить до блеска (снаружи, не изнутри) пожилую чугунную сковородку, стереть пыль с книжных полок, перебрать фотографии в старом альбоме, залатать покрывало и любимый халат. С удовольствием делать то, что приятно, что хочется прямо сейчас.
День кончается? Можно выскочить в магазин — по обветренной темной улице, мимо шального снега и бродячих собак, мимо ничьих теней вдоль обочин, мимо поздних, пустых автобусов и одиноких прохожих. В суете супермаркета набросать в тележку пестрых оберток и ярких баночек, прицениться к пузатому ананасу, добавить булочек с хрусткой корочкой и пакет заграничного сока, расплатиться на кассе — и назад в родное гнездо.
Уже за полночь, развалясь на постели — с одного боку чудик, с другого тарелка с пирожными, впереди на тумбочке стакан сока, в ногах Мартын — я включила мобильник. Восемнадцать неотвеченных сообщений. Четыре от Борьки. Одно критичное. Остальные… проще стереть. Я отправила бодрую смску, что впала в нирвану — Борька поймет. И задумалась. Холодным потом прошиб испуг. Руку к стене, проверяем, трогаем — все на месте. Дверь я чуяла безошибочно, как и раньше. Что изменилось? Будто в ответ чудик ткнул меня мокрым горячим носом. Я машинально положила ладонь на доверчивое брюшко. Да. Малыш весь день ходил за мной следом. Наблюдал, что я делаю, хрюкал что-то невнятное, иногда просил есть или подставлял мордочку приласкаться. И при этом зверек не был назойлив. Смешно… И просто. Малыш подвинулся ближе, от горячих боков пахло мятой и старостью — как из бабушкиного сундука. Сон пришел незаметно.
В девять утра меня сдернул из койки звонок с городского. У мамы случилось несчастье. Куртка-деньги-телефон-вперед!
Не хочу описывать этот день. Промолчу. Было больно и страшно — от каких мимолетных глупостей зависит жизнь человека. Проклятые бумажки, чертовы равнодушные выродки…
Дом остался последней крепостью, я буквально ползла от лифта. Раздеваться не нашлось сил — прямо в ботинках на койку. Слезы брызнули сами. Целый день приходилось держать лицо, делать вид, контролировать ситуацию. Тонуть в море чужих эмоций, видеть жадные, грязные мысли, боль, ужас — и не мочь ничего изменить. Бывают неисправимые беды — когда деньги теряют цену, старание бесполезно — остается лежать, выть в голос и лупить кулаками стены. Мартын сидел под кроватью и выходить боялся. А Малыш вылез. Он грел меня этой ночью, вылизывал слезы, сопел, тормошил, трогал лапкой — пока не хватило сил встать. Я бродила по дому сомнамбулой — выдала чудикам корм, поменяла подстилку в банках, перемыла посуду, вымела пол. И плакала, пока оставались слезы. Учитель говорил, нельзя держать боль в себе, пусть течет, сколько хочется. Правда, Малыш?
…Все проходит — ушли и черные дни. Я взглянула в окно — первый мартовский день оказался на удивление солнечным. Чудики в банках устроили переполох — свет им явно не нравился. Новенький шерстолап погрозил мне кулачком и пробурчал явную гадость — похоже тварька из говорящих. Тысяч двадцать, не меньше. Мартын и Малыш гоняли по коридору мячик. Чудик отъелся, кожа на пузике натянулась, глазки прочистились и оказались зелеными, как крыжовник. Он подружился с котом, научился приносить книжки с полок и прятаться в шкаф, когда я охочусь. Он понимал меня. А я была ему нужна. Мобильный пискнул, я взяла трубку. Слушаю. Да, Боря! Когда? Ну, знаешь… Ботинки-куртка-ключи. Вперед. Я захлопнула дверь без оглядки и побежала по коридору.
* * *
Дверь за Сашей закрылась. Чудик выждал немного — а вдруг вернется. Человечишка отличалась рассеянностью и забывала дома всевозможное важное барахло. Рыбка для Мартына была припрятана на балконе. Кто еще мог ему помешать? Малыш сел на лапки у кладовой, сложил губы хоботком и затянул заунывный напев. Ему ответили быстро — экскурсанты ждали сигнала. Один за одним выходили они из двери, голокожие и тонконогие. Крутили приплюснутыми головами, шумно втягивали воздух, любопытство играло в маленьких, юрких глазках. Малыш коротко поклонился, дождался почтительного ответа — это было приятно — и повел гостей по квартире.
С гордостью хозяина он демонстрировал сосуды для сбора и стока воды, кладовые с неведомым урожаем, чудовищ в стеклянных клетках. Смертельный номер — игру с ужасающим хищником стоило оставлять напоследок — всякий раз публика млела. Малыш бросал зверю мяч, дразнил того длинной веревкой, рычал на него, кормил из рук и напоследок целовал в некрасивый розовый нос. Сходство твари с представителями более совершенной расы поражало воображение. Потом Малыш собирал плату и провожал гостей к выходу. Он знал, за спиной шепчутся — как же повезло одинокому старому дураку — без малейших усилий наткнуться на золотое дно и сделать из него аттракцион.
Он усмехался — с детства над его фантазиями смеялись, дразнили пустышкой и считали редкостным неудачником. Пусть завидуют, если им от этого легче. Товарищи по ремеслу пару раз уже предлагали перекупить дело — за круглую сумму, надо сказать. Малыш отказывался и загадочно молчал на все вопросы. Сплетни множились, любопытство жгло языки — что за глупость, какое чванство — торчать в отнорке пространства, отказываться от богатства и уважения. А правда была проста — впервые в жизни Малыш оказался на своем месте. Его питомица так нуждалась в тепле…
Настоящая девочка
— Ей нужна её кукла! — постаревший от переживаний, большой грузный мужчина вышагнул из палаты. Холодный запах болезни выплеснулся за ним и растаял в воздухе.
Нарядная дама всплеснула руками:
— Скажи, что игрушки в палату нельзя, врачи запрещают. Придумай что-нибудь, Олле!
— Она знает, что скоро… — мужчина тяжело сглотнул. — И хочет куклу. Где её вещи, Альма? Сейчас же поеду и заберу.
— Ты так устал, милый. Давай, я принесу тебе кофе? — промурлыкала дама.
— Что с игрушками нашей дочери? — помедлив, произнес Олле.
— Когда ты ушёл к своей шлюхе, я вынесла к контейнерам все барахло. И подарки тоже. Ида не вспоминала…
— Она с трех лет не расставалась с куклой! Она боялась темноты, понимаешь? А ты впустила страх в её сны.
— Ещё скажи, что это я виновата в болезни Иды. Я, а не твои измены, враньё, предательство!!!
— Мама! Мамочка! — еле слышно раздалось из-за двери.
Олле с силой развернул бывшую жену и подтолкнул к двери.
— Ты нужна Иде! А я что-нибудь придумаю.
В городе осталось три антикварных магазина, торгующих ветхой отрыжкой времени. В тесных залах толпилась резная, изъеденная жуками мебель, матово отблескивали мутные зеркала, потемневшие картины затягивала паучья сеть кракелюр. Куклы там тоже были — томные фарфоровые красавицы в бархатных платьях и кружевных панталонах, деревянные умильные ангелочки, белотелые пупсы. И ни одной англичанки — тряпочной, кроткой Долли в расшитом чепчике. Вислоносый грек из «Лавки Древностей» развел руками — нет, не встречал. Посмотрите на «блошке», пройдитесь по сэконд-хендам, но вряд ли, вряд ли, скажу я вам, молодой человек…
На экране смартфона красовалось «not found». Заказать игрушку с Озона заняло бы три дня, ковры и палатки с рухлядью выносили на Перинную улицу по четвергам, сегодня кончался вторник. И ни один врач не скажет, будет ли Ида в сознании послезавтра. Олле знал, что он скверный отец, навещавший дочку хорошо если раз в месяц — слишком непросто вилось гнездышко новой семьи. Если он сейчас не найдет эту клятую куклу, то никогда себе этого не простит. Оставался последний выход…
Вилла стояла на том же месте, годы не изменили здание. Чуть приземистей стал фасад, шире раскинули ветви вязы и груши, ещё гуще разрослись сорняки. Могучую кованую решетку украшал огромный замок, но Олле помнил секрет. Неприметная калитка держалась на простецком засове, дорожку расчищали совсем недавно — значит хозяйка жива.
В тёмном доме светилось одно окно. Женщина сидела положив острый подбородок на руки и неотрывно следила за пляшущим огоньком свечи. Пламя очерчивало тугие косички, подхваченные лентами у висков. Настойчивый звон колокольчика не напугал её, не удивил.
— Доброе утро! Как любезно, что вы заглянули на чашку чая!
— Здравствуй… те, фрекен. Почему утро, если солнце едва зашло?
— Потому что! Стоит закрыть глаза и ночь куда-то девается. Наступает доброе утро… если конечно его не разозлить хорошенько. Знала я одного паренька в Лиссабоне — его звали Юхан и он подрабатывал разозлителем! Стоило часам в ратуше пробить полночь, он забирался на водонапорную башню и во всю глотку кричал про утро разные гадости!
— И помогало? — саркастически осведомился Олли.
— Нет конечно! С рассветом в Лиссабоне опять наступало доброе утро.
Хозяйка отступила в дом, давая гостю дорогу. Олле вгляделся в измятое, веснушчатое лицо, заметил беззубый рот и белёсые, жалкие волосы. Спина осталась ровной, туфли так же болтались на тощих ногах, а вот пальцы, удерживавшие подсвечник, уже немного дрожали.
— Погоди-ка… Сейчас узнаю — ты Олле-никогда-не-сяду-в-школе! Ты так не любил учиться, что стоял все уроки, чтобы после звонка сразу выскочить на переменку. Как поживаешь, благополучна ли твоя бабушка? — лицо хозяйки приобрело светский вид, она достала откуда-то веер и начала им обмахиваться.
— У меня нет бабушки, — нехотя улыбнулся Олле.
— Ай-яй-яй! А кому же ты пишешь письма в каникулы? Никому? Бедняжка, надо срочно накормить тебя плюшками! Знаешь, кто лучший в мире изготовитель плюшек?
— Мне нужны не плюшки, а помощь. Одна девочка потеряла любимую куклу. Она очень тяжело заболела, плачет и не может заснуть без своей Долли.
— И что же это за кукла?
— Простая, мягкая, очень старая. В кружевном чепчике и льняном платье, у неё нарисованное лицо, бантики на туфлях и пятно от вишни на юбке, — Олле вспомнил, как они с дочерью ели сочные ягоды, срывая их прямо с веток, и замолчал.
— Выпей чаю, приятель! Чай с плюшками — лучшее средство от всякой хандры.
Вслед за хозяйкой Олле прошел в большую захламленную кухню. Электричества не было. Хозяйка заметалась, зажигая одну за другой разноцветные свечи в самых невообразимых подсвечниках — горшках, вазах, треснувших блюдцах, консервных банках с выцарапанным узором. Откуда-то запахло тёплыми булочками с корицей — так аппетитно, что в животе заурчало. Олле покорно сел за пыльный стол, молча взял чашку чая и принялся за плюшки.
От сладкой сдобы и вправду становилось теплей на душе, тени метались по стенам, словно кадры из детского мультика. Даже песенка заиграла: ах мой милый Августин, Августин, Августин… мальчишкой, в августе он больше всего любил дождливые вечера. Валяться на чердаке слушать, как в шорох воды вплетается тяжёлый яблочный стук, мечтать о море, голубых островах и хлопанье мокрого паруса над головой. Из капитанов вырастают владельцы бензоколонок, из космонавтов бездельники, из робингудов — руководители корпораций. Олле тоже мечтал — а стал неплохим мерчандайзером и паршивым отцом. И, живя в двух шагах от моря, месяцами не находил времени послушать, как бьются о набережную серые волны.
— Просыпайся, приятель! Доброе утро вот-вот настанет.
Из распахнутого окна пахло пряным осенним садом, тихий свет колыхался над кронами. Солнце ещё не появилось, над землёй стояла белёсая дымка, из неё проступали рыжие и розовые цветы. Шустрый зверь — то ли кошка, то ли лиса — проскочил по дорожке, сшибая боком росу. Глухо ударилось оземь яблоко. Зашелестела листва, стряхнула ночную сырость, чужие сны. Где-то (в городе? В центре?) запел петух.
— Ещё чаю? — тоном салонной барышни спросила хозяйка.
— Нет, спасибо, благодарю. Я спешу, времени совсем мало. Долли нашлась?
— У моей тетушки в Калифорнии раз жила свинка Долли. Такая умная, что сама приносила газеты с почты. Но не могла удержаться и надкусывала спортивные новости — обожала футбол. Хочешь поиграть в мяч?
— Я СПЕШУ!
— Бежишь впереди стрелок, — хозяйка сердито встряхнула косичками и почесала нос. — Марш отсюда. Как пойдешь — погляди под старым пнём у ворот. Под старыми пнями иногда попадаются интересные вещи!
Покрытая крупной росой трава скользила под туфлями, Олле упал прямо в грязь. Но его это не остановило. Под вторым от калитки пнём отыскался лёгкий свёрток с чем-то мягким внутри. Прижимая к груди находку, Олле помчался в больницу. Остановился он лишь на минуту — на набережной — в крапчатый парапет бились волны и заунывные чайки орали о парусах.
…Новые гости упорно стучали в ворота, однообразно выкрикивая: отзовитесь! Отзовитесь или мы вызываем полицию.
Хозяйка поспешила навстречу в чём была — босиком, в огромной ночной рубашке, отделанной ветхим кружевом, с распущенными как у ведьмы волосами, небрежно прикрытыми драным чепчиком.
— Уважаемая фру! — начал один из гостей, мужчина в приличном до безобразия сером костюме.
— Фрёкен, — поправила его хозяйка. — Девочки не выходят замуж!
— Уважаемая фрекен! Вы опять не впустили фру Ёнссон из «Домашней помощи», мотивировав это штормом вокруг усадьбы.
— Да, припоминаю. Поднялся сильный ветер, в воздухе просто мелькали вилы, грабли и садовые тачки. А флюгер так крутился, что спица перегорела, и петушок улетел. Не встречали? Медный маленький петушок с царапиной на крыле?
— Уважаемая фрекен! Вы воспрепятствовали герру Блуму из «Электрической компании» проникнуть в вашу усадьбу и наладить работу счётчиков. Вы выкинули его через забор, фрекен!
— Блум — скверный мальчишка! Он нацелился запустить руку в мой чемодан и назвал меня старой крысой! Я хотела его отшлёпать, но решила отправить домой к мамочке — пусть Блума оставят без сладкого.
— Эрик Блум почтенный уважаемый человек, у него безупречный послужной список. Постыдитесь, фру…
— Фрекен, — с невинной улыбкой поправила хозяйка. — Всё ещё фрекен.
— Уважаемая фрекен издевается над вами! — вступила в разговор невозмутимая дама в белом плаще. — Уважаемая фрекен прекрасно знает, что дело о её дееспособности через три недели будет рассматриваться в городском суде. Социальные службы подали прощение об опеке. И если уважаемая фрекен будет по-прежнему валять дурочку, её ждет комфортабельный дом престарелых со всеми удобствами.
— А я могу взять с собой господина Нильсона? — поинтересовалась хозяйка.
— Это ваш муж? Партнер?
— Это её обезьяна. Дохлая обезьяна. — процедила дама.
— Нет? Тогда я никуда не поеду, — хихикнула хозяйка. — До свиданья, спасибо, что навестили.
…Пока я вышвыриваю незваных гостей за ворота и плачу золотом, бояться нечего.
У хозяйки хватало дел. Нужные вещи бесприютно валялись по городу, мокли под дождём и выцветали от солнца. За одними потом кто-нибудь приходил, другие годились для подарков, третьи с некоторым сожалением приходилось потом выбрасывать — места для всех потрепанных жизнью манекенов, одиноких калош и пожилых чемоданов не хватало даже на вилле. Старые книги хозяйка относила приятелю-греку, а он дарил ей огромные, отполированные морем раковины. Бисер и пуговицы доставались говорливой тетушке, рукодельнице с Перинной улицы, инструменты забирал Расмус-бродяга. Мишек, кукол, самосвалы и грузовики она раздавала детям. Вот только с каждым годом всё трудней становилось отыскать для игрушек хорошие руки. Мальчики и девочки взрослели раньше, чем становились большими. Старушке Долли удивительно повезло — малютка Ида ещё любила её.
Улицы городка пахли бензином и яблоками, на плитках мостовой ещё виднелись следы дождя. Маленькая тележка хозяйки поскрипывала и подскакивала на выбоинах, широкая юбка, сшитая из лоскутов, мела землю.
— Как вы элегантно одеты! — незнакомая девица щёлкнула смартфоном и подскочила полюбоваться, протянула любопытные руки к пышным оборкам. — Изумительный образец бохо-стиля! Подскажите, кто ваш модельер!
— Я, — подмигнула хозяйка. — Я изобрела «бохо».
— Вот это удача! — девица снова нажала на кнопочку, выбирая удачный ракурс. — Мадам, вы изумительно сохранились для ваших лет! Скажите, правда ли «бохо» — производное от «бохемиан», стиль цыган?
— Нет конечно! Если развернуть полотно тончайшего батиста и в безлунную ночь высоко-высоко подбросить его при восточном ветре, то раздастся звук «боххх» — тихий вздох очарованной ткани. Послушай, как шуршат твои юбки, рассекая лавандовые поля, как струятся по ветру ленты…
— Прекрасно, мадам! Когда планируете новую выставку?
— В день святого Прогульщика, после полдника.
— Обязательно забегу взять у вас интервью!
— Ты мне веришь? — удивилась хозяйка.
— Конечно! Все-все-все записала и вставлю в статью. Бог говорит «боххх». Я лучшая!
Девица исчезла раньше, чем хозяйка пришла в себя от удивления. Что за странные люди появляются в городе!
Худенький мальчик на остановке трамвая выглядел одиноким и очень заброшенным. Он безостановочно жал на кнопки электронной игрушки, облизываясь от волнения.
— Послушай, ты страшно болен! — обратилась к нему хозяйка. — У тебя острая конфетная недостаточность и нехватка клубники со сливками. Хочешь, исправим это?
Мальчик не сказал ни слова, только вжался в скамейку и втянул голову в плечи.
— Погляди, какая чудесная катушка из-под зеленых ниток! Её можно вертеть на карандаше и надеть на бечевку, сделать колеса для корабельного орудия или барабан для подъёмника. Попробуешь?
Вздрогнув, мальчик промычал: ннннеее.
Хозяйка задумчиво дернула себя за косичку. Потом запустила руки в тележку и достала кое-что интересное. Воздух заполнили красные шарики, яблоко, сломанный телефон и голова пупса. С удивительной ловкостью хозяйка перебрасывала предметы у себя за спиной, отбивала локтями, коленками, даже носом. В блеклых глазах мальчика заискрилась робкая тень веселья, он попробовал улыбнуться, но тут же сник. Из часовой мастерской вышла строгая пожилая фру в твидовом костюме и золотых очках. Осенний листок коснулся было её завитых, безупречно уложенных волос, устыдился и упал наземь.
— Баабушка, помоги! — противным голосом закричал мальчик. — Злая старуха хотела меня увести, предлагала конфеты и всякий мусор! Я не виноват!
— Привет, Анника! Как поживаешь? — весело спросила хозяйка. — Кажется, моя пилюля на тебя не подействовала?
Они устроились в уютном кафе у окна — чтобы видеть, как подступающий дождь брызгает на стекло, а люди раскрывают зонты, словно надеясь улететь подальше от непогоды. Чёрный кофе в крохотных чашечках изумительно пах, миниатюрные пирожные казались кукольными. Мальчик Калле — самый младший из внуков фру Анны — набил рот и уставился в телеэкран, одним глазом косясь на причудливую подругу бабушки. Официантки тоже посматривали неодобрительно, но молчали. У хозяйки разболелась нога, она ёрзала по диванчику, пытаясь устроиться поудобнее и при этом внимательно слушать. Муж фру Анны скончался три года назад, ей поставили скверный диагноз, но лечение помогло. Старшая дочь — региональный директор, младшая — преуспевающий офтальмолог, внук — не этот, а Каспер, — последний год в колледже, снимался в рекламе, для молодежной моды, оплатил почти всё обучение, но налоги так высоки… Двое самых долговязых налогов перегородили улицу, нахально сверкая кожаными боками. Один дёрнул из асфальта фонарный столб, другой ухватил телефонную будку. Верзилы собрались поиграть, но такую игру не разрешили бы и на Веселии. Ухватить одного за пояс, придержать и второго — будете ещё хулиганить, гадкие налоги, будете, будете?
— Будете ещё кофе или подать вам счет? — брезгливо осведомилась официантка. — Столик заказан на полседьмого.
Задремавшая было хозяйка открыла глаза и увидела, что Фру Анна достала кредитку:
— Я заплачу. Золота здесь не берут.
— Расскажи, как там Томми?
— Герр Томас Сеттергрен здоров и прекрасно себя чувствует. Перевыборы прошли успешно, сел в кресло мэра на третий срок. Разорвал очередную помолвку — корыстная невеста покусилась на его миллионы. Пополнил коллекцию новым антиком из Стамбула. Единственный сын — в Христиании, курит травку, живёт в сквоте, рисует бабочек и знать не желает отца.
— Он не спрашивал обо мне?
— Нет, ни разу.
Обниматься на прощанье давно не принято. Фру Анна ухватила за руку сонного внука и исчезла в трамвае. Тележка хозяйки залязгала дальше по мокрым плиткам — клип-клап. Оставалось заглянуть ещё в одно место — добропорядочные жители обходили квартал Хюсбю стороной, а она любила веселый народец с кожей всех оттенков свежего шоколада. Её давно уже не пытались грабить — серьёзные парни, увешанные блестяшками и оружием, первым делом учили заезжую шпану не подходить к седой маджнуне и никогда с ней не спорить. Громогласные отцы и хлопотливые матери относились к хозяйке любовно, угощали лепешками, персиками и ужасно наперченным мясом. А детишки обожали и её саму и тележку, полную волшебных вещей. Золотых колокольчиков родичам Момо больше не перепадало, но почти совсем новым куклам, ярким грузовикам и футбольным мячам они радовались так же бурно, как и островитяне. Стоило запустить в воздух пестрые шарики, как чумазые малыши собирались в кружок и бешено аплодировали, пританцовывая от счастья. Ещё лет десять назад хозяйка без устали подбрасывала в воздух визжащую детвору. Теперь ей лучше давались фокусы.
Этим вечером квартал Хюсбю полнился звонким смехом, восторженными возгласами. Обычно здесь дребезжала и перекатывалась заунывная музыка, раздавалась многоязычная брань, плакали малыши, вопили женщины. У хозяйки не хватило времени удивиться — она всё ещё была любопытна. Торопя тележку, вдруг ставшую неуклюжей, она поспешила на звук. И чуть не споткнулась.
Посреди улицы шлёпала по мокрым листьям дочерна загорелая синеглазая девочка лет десяти с выгоревшими волосами цвета соломы. Из одежды на девочке, несмотря на прохладу, были синие шорты, кожаная жилетка на голое тело и браслеты почти до локтя. Смуглая рука сжимала толстый брезентовый поводок. На поводке шел лев. Точнее, ещё котенок, лапастый и кругломордый. Но показывал зубы, порыкивая на толпу, он вполне по-взрослому.
Одним прыжком хозяйка оказалась на пути удивительной парочки — только косички подскочили. Присела на корточки, протянула львёнку раскрытую ладонь. Звереныш огрызнулся, потом шумно втянул воздух и понюхал протянутую руку.
— Если ты меня укусишь, то и я тебя укушу. А будешь паинькой — получишь кое-что вкусное. Твой лев любит косточки? — обратилась хозяйка к девочке.
— Ещё бы! Не ложится в постель, пока не получит хорошей, сахарной кости. Я тоже люблю погрызть косточки, но мама не разрешает — говорит, мы уже не в Африке.
— Ты бывала в Африке? — удивилась хозяйка.
— Я там родилась. Ты разве не читаешь газет?
— Нет, представь себе. Целых два раза ходила в школу, но до сих пор не научилась читать.
Лицо хозяйки сделалось таким виноватым, что девочка рассмеялась.
— И я не ходила в школу. Мои мама и папа фотографировали диких зверей в саванне, я росла с леопардами и гиенами, и училась охотиться, а не скучным буквам. Мои друзья, Зои и Химба, переехали сюда из Намибии, и мы с Бваной собрались навестить их. Давай ты дашь львенку косточку, и мы пойдем. Уже пора, папа будет сердиться!
— Все папы сердятся, когда дети опаздывают, — хозяйка лихорадочно раскапывала содержимое тележки — стеклянный шар со снегом и домиком, акулий зуб на цепочке, золотая монета — не то. — Когда мы с папой попали в ко-ра-бле-кру-ше-ни-е и оказались на необитаемом острове, я однажды пошла за кокосовыми орехами. Только влезла на пальму — внизу крокодил, с воттакими зубищами! Я семь раз кидалась в него кокосами, пока не попала по голове! А папа на меня ужасно рассердился — почему не попала с первого раза? И поставил в угол пещеры на целые полчаса.
— Ну ты и врушка, а ещё бабушка! — укоризненно покачала головой девочка.
— Я? — захлопала ресницами хозяйка. — Да, я преувеличила. Зубы были не воттакущие, а воттакие. И вообще крокодил не пришел. А кораблекрушение было по правде. Нашла!
На морщинистой ладони хозяйки оказалась большая, сверкающая жемчужина. Девочка ахнула от восторга, обитатели Хюсбю дружно присвистнули и зацокали языками.
— Возьми, это жемчуг с Веселии. Им так здорово играть в шарики.
— Спасибо! На!
Девочка протянула хозяйке браслет из слоновой кости. Он едва налез на веснушчатую старую руку.
— Ты уже сделала мне подарок, охотница. Скажи, как тебя звать?
— Типпи. Типпи из Африки. А тебя?
Лязг трамвая заглушил имя.
Дорога домой оказалась совсем лёгкой. Повеселевшая хозяйка прыгала через лужи к вящему ужасу запоздалых прохожих и перекидывала тележку из руки в руку. День задался, да что там день — год! Годы… Знакомые собаки смотрели хозяйке вслед и задумчиво тявкали — разве можно взрослому человеку вести себя как дурашливому щенку?
Кто-то успел побывать на вилле. Ощупав засов, хозяйка почувствовала — он не заперт, а едва задвинут. Палую листву на дорожке топтали чьи-то неуклюжие ноги, консервную банку со свечкой отшвырнули пинком. Приподняв тележку, хозяйка на цыпочках подкралась к дому. А вот и гость!
Белый призрак выплыл из тени грушевых деревьев и гнусаво расхохотался, потрясая невидимыми цепями. Не задумываясь особо, хозяйка запустила руку в тележку. В потустороннего гостя полетел драный сапог. Глухой удар, обиженное ойканье — из-под простыни (снятой с хозяйкиной веревки, конечно же) показался толстенький старичок, лысый и хмурый.
— Я так не играю! — недовольно пробормотал он.
— На обиженных воду возят, — довольная хозяйка показала гостю длинный язык. — Твои фокусы видно аж из Стокгольма, в следующий раз лучше спрячешься. Не дуйся, пошли пить чай. У меня и плюшки поспели и варенья целый погреб наварен.
— А приторного порошка не найдется? — осторожно поинтересовался гость.
— Есть конфеты и шоколад, — хмыкнула хозяйка.
— Ты не будешь мне вместо родной матери?
— Нет конечно. Я слишком молода для таких глупостей.
Хозяйка накрыла чай на веранде. К ночи дождь стих, показался ломтик луны, подуло теплом — ветер переменился. Бродячие коты кружили под ногами, требуя ласки и угощения. Гость прихлёбывал чай из блюдечка, шумно лопал варенье прямо из банки, пробовал шутить, но смеяться никому не хотелось. Наконец хозяйка не выдержала.
— Карлсон, у нас проблемы? Давай, рассказывай.
— Они сломали мой домик. Мой чудный уютный домик, вместе с крышей, трубой и самой столетней пятиэтажкой. Прощай, маленький одинокий петух, прощайте сушеные вишни и тысяча миллионов паровых машин.
— Твой домик ломали уже три раза. Дальше!
— В магазинах перестали продавать правильный шоколад и леденцы на палочке. Даешь продавцу пять эре и получаешь одну противную конфетенку, а не кулёк сладостей.
— На пять эре давным-давно даже фантика от карамельки не купишь. Дальше!
— Я приехал сюда на такси.
Хозяйка уронила чашку. Облитый чаем кот взвыл и ретировался в кусты. Карлсон утер перемазанное вареньем лицо и повторил:
— Я приехал сюда на такси. Разучился летать.
— Как?
— Просто. Проснулся однажды утром и понял, что кнопочка не работает. Я пенсионер, нелепый и никому не нужный.
— Ты мужчина в самом расцвете сил! — возразила хозяйка.
— Нет. Я устарел, как пластинки и парусники. Дети больше не смотрят в окна и не слышат шума пропеллера. Они не грустят о настоящих щенках, требуя на Рождество электронную «как живую» игрушку! Им запрещено лазать по крышам, устраивать переполох и разговаривать с незнакомцами. И не дай бог проговориться, что в гости летает маленький толстенький человечек с пропеллером — станут пичкать лекарствами для послушания. Слышала про такие?
Хозяйка поморщилась.
— А ещё я повстречал Малыша. Няня каждый день возит его коляску в парк и назад. Малыш седой, он давным-давно не встает и ни с кем больше не разговаривает. Только смотрит на небо и шевелит губами, совсем беззвучно. Он обещал, что не будет взрослым!!!
— И постарел. Да и мы с тобой на юнцов не похожи. Но я решила, что стану старой в тот день, когда разучусь прыгать на одной ножке. А этого никогда не случится!
— Ты нужна им? — с надеждой прошептал Карлсон.
— Томми и Аннике? — спокойно переспросила хозяйка. — Нет, давно нет. Они почтенные жители мирного городка. Но ведь есть и другие люди. Не все становятся взрослыми, вырастая. И не все растут паиньками. А малышня из Хюсбю вообще не желает ходить в школы. ….Знаешь что?
— Ммм? — спросил Карлсон, запуская ложку в новую банку варенья.
— Перебирайся на виллу. Уютная крыша, прекрасный сад и никаких серьёзных господ в серых костюмах. Устроим представление — помнишь, ты жонглировал булочками? Прогуляемся к парку на островах — в дуплах дубов и вязов попадаются удивительные вещицы. А когда надоест все на свете — перемажемся в джеме и подеремся подушками! Или каждый уйдет в свой угол — считать слонов, пока не соскучится.
— Мммм! — ответил Карлсон.
— Вдвоём нас отсюда не выкуришь. А потом и другие подтянутся.
— Устроишь дом престарелых для книжных детей?
Хозяйка ответила грубым жестом.
— Что тогда?
— Мы с тобой чуть не сели в ловушку для взрослых. Будто однажды наступит день — и чудеса кончатся. Ты окажешься для них слишком старым, слишком усталым, слишком серьёзным. Ни один человек на свете не захочет слушать твои истории, играть с тобой, делать глупости. Книжку поставят на полку, чтобы больше не открывать.
— Так и есть, — вздохнул Карлсон и слизнул со щеки варенье.
— Это пыль. Просто пыль на стекле. Чем больше пыли, тем противнее мир вокруг, тем меньше смотришь по сторонам, пригибаясь к земле. Перестаёшь радовать и тебе больше не радуются, считаешь золото — и чемодан пустеет. А на самом деле чудеса никуда не девались — ты их не видишь, а они есть! Понимаешь?
— Почти.
— Сегодня я встретила настоящую девочку. Босую, лохматую, вредную и веселую, с настоящим живым львом на настоящем поводке! Её никто не придумал, она гуляла по улице сама по себе. А не загляни я в гетто — никакой Типпи бы со мной не случилось.
— Честно встретила?
— Не поверишь — да!
— Хорошее имя, — заявил повеселевший Карлсон. — Как ты думаешь, Типпи захочет подружиться с мужчиной в самом расцвете сил?
— Не знаю. Зато уверена — в городе полным-полно мальчиков и девочек. Не все разучились смотреть в окно. И по крайней мере одна малышка скучала без своей старой куклы.
— Дай подумать… Мне кажется, на вилле очень уютная крыша. И печная труба на ней есть и луну хорошо видно. Жаль до улицы далеко и шалить будет трудновато, но я что-нибудь соображу.
Довольный Карлсон нажал на кнопку посреди живота. Пропеллер затарахтел — сперва тихо, потом сильнее.
— До Стокгольма и назад. Прилечу — займусь домиком.
Хозяйка вопросительно посмотрела на гостя. Тот кивнул.
— Да. Я обещал вернуться.
…Мотор набирал обороты. Толстый смешной человечек поднимался в небо над засыпающим городом. Последний трамвай, дребезжа от усталости, ехал в парк, кто-то забыл на сиденье ящик с душистыми пряниками. Торопились с работы чересчур занятые взрослые, не дождавшись их засыпали в кроватках дочки и сыновья. Прайд котов с Королевской улицы заключал перемирие с псами Зеленой площади, вожаки отчаянно торговались за кафе и помойки. Большой грузный мужчина мерял шагами больничные коридоры — врач сказал, есть надежда. Счастливая Ида, вся в иголках и трубках, дремала, прижимая к груди старую Долли — ей казалось, что на тропическом острове она носится в салочки с негритятами, и без разрешения прыгает прямо в морской прибой. Львенок Бвана свернулся у постели любимой подружки и рычал, видя во сне много-много сахарных косточек. Господин Сеттергрен, уважаемый человек, мэр, заперся у себя в кабинете, пускал кораблики в дорогущем аквариуме, фальшиво напевая «Шагают шведские солдаты». На стене кабинета висел портрет веснушчатой девочки с нахальными косичками в разные стороны.
В тёмном доме светилось одно окно. Маленькая старушка в огромной ночной рубашке расплетала перед сном косы, поглаживала браслет из слоновой кости, неотрывно смотрела на раскаленный фитиль свечи. Ей почудилось — на рассвете мокрый гравий стукнет в окно: просыпайся, пойдем играть!
Где-то в столовой шумно вздыхала лошадь, люстра в гостиной скрипела под тяжестью проказливой обезьянки, гулкий голос отца повторял: собирайся, «Попрыгунья» вот-вот отчалит. Пламя отбрасывало причудливые тени — словно кадры из детского мультика. И смешное, колючее слово имбирной водой холодило язык — ку-ка-рям-ба!
Алоха Оэ
Первый шаг — в море. Подол рясы моментально промок, теплая вода охватила усталые ноги, пропитала ремешки и подошвы сандалий, тронула ноющие колени, подобралась к животу. Сестра Марианна неловко улыбнулась и тут же укорила себя за суетность. Её ждал ад.
Вокруг стонали, орали и плакали. Восемь лодок выплюнули обреченный груз прямо в волны. Вдоль берега тянулась полоса кораллового песка, но не у всех оставались силы пройти жалкую сотню метров. Одна большая старуха уже всплыла, словно оглушенная взрывом рыба. Привычным движением Марианна проверила пульс — всё. Другая женщина споткнулась, но упасть не успела — соседи подхватили её и повлекли на сушу. А вот у малыша-полукровки помощников не нашлось, кроме немолодой белой вахине. Усадив на бедро ребенка, монахиня побрела вперед. Тяжелый серебряный крест оттягивал шею, саквояж бил в бок, ноги вязли. Кудрявый мальчик доверчиво прижался к спасительнице, на переносице у него виднелась первая складка будущей «львиной морды».
…Раньше миссия представлялась совсем другой. В строгой приемной Ордена, Марианна грезила о прелестных деревушках под сенью пальм, кротких девушках в белых одеждах, хоре миссии, возглашающем «Аве, Мария» под огромным иссиня-черным небом, под божьими фонарями — недаром именно на островах так ярко горит созвездие Южный крест. Нет, монахиня не была белоручкой — побывала и в приютах для брошенных матерей, и в рабочих кварталах, и в странноприимном доме, пересидев вспышку тифа вместе с паломниками. Но миссионерство виделось ей непаханой нивой, ждущей только семян. А оказалось все так же, как и в Нью-Йорке, только грязнее. И страшнее — смерть смердела из язв, помахивала культями, вываливала язык из гниющих ртов. Отец Дэниел уже болен. И её, Марианну Хоуп, ждет та же участь. Господи, сохрани!
— Сестра, скорее! Нужна ваша помощь!
Грузный мужчина в круглых очках, бесформенной шляпе и заношенном облачении вошел по колено в воду, приветственно махая беспалой рукой. Голос у него оказался звучным, как колокола Сен-Лазара. В лицо Марианна старалась не смотреть пристально. Запах… в тифозном бараке смердело хуже.
Истощенная туземка, скорчившаяся на песке, истекала кровью. То ли выкидыш то ли поражение матки. Размер алого пятна не оставлял сомнений — положение очень серьёзно.
— Отнесите её в хижину! Женщина не собака, чтобы лежать на улице. Дайте мыла, воды, чистые полотенца!
— Прикажете заказать операционную и вызвать анестезиста с наркозом? — в голосе священника прорезался нехороший сарказм. — Во всем Калаупапа вы не найдете ни одного полотенца и ни одного куска мыла.
«Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», — подумала Марианна, но ничего не сказала.
В жалкой хижине не нашлось даже свежей подстилки. Выглянув наружу, монахиня подозвала женщин, попросила их нарезать веток. Услужливый подросток приволок откуда-то кусок тапы и натаскал три ведра пресной воды. Духота ударила в голову, острый запах крови и мятой зелени вызывал тошноту. Холод на живот не помог, больная быстро теряла силы. Повторяя про себя «Блаженны непорочные в пути», Марианна делала своё дело — обтирала потное лицо женщины, поила её, меняла перепачканные листья. Улыбка, не сходящая с бледных, искусанных губ, поразила монахиню:
— Ты веришь в Христа, чадо? — спросила Марианна.
— Нет, — с трудом пробормотала полинезийка и снова выгнулась в мучительной судороге. — Тангароа даст мне тело акулы и вернет свободу. Я боялась, пока плыла, боялась долгой смерти, гнили, мерзости. А теперь ухожу легко. Алоха оэ, добрая женщина, ищи меня в океане.
Из последних сил больная приподнялась на постели и начала петь — легким голосом, маленькими словами, словно волны стучатся в гальку. Этого диалекта, в отличие от пиджин-инглиша и таитянского, Марианна не знала. Оставалось только твердить молитву, надеясь, что бог простит умирающую язычницу — она не ведает, что творит. …Отошла. Мира её душе.
Монахиня обтерла кровь с тела, прикрыла ноги одеждой. Из-за стен хижины грянули барабаны. Священник заглянул внутрь:
— С похоронами лучше поторопиться. Здесь жарко, трупы разлагаются быстро.
— Откуда вы узнали, что больная отдала богу душу?
— Море сказало. Поживете здесь — и научитесь слышать.
Двое полинезийцев с носилками протиснулись внутрь. Тело женщины усыпали цветами, оставив открытым только лицо. Процессия двинулась вдоль побережья, потом свернула к подножию горы. Барабаны стучали, девушки хором пели псалмы. Глядя на белые платья и изуродованные лица, Марианна едва не плакала.
— Позвольте помочь вам, мисси?
Давешний подросток протянул руку к её саквояжу. Марианна разглядела его — нет не мальчик, юноша, почти мужчина. Чуть раскосые, кофейного цвета глаза, высокие скулы, приплюснутый нос, мягкий рот. Доверчивая улыбка — из-за неё подросток смотрелся младше своих лет. И никаких признаков болезни — пышные кудри, чистая кожа, свежий запах — здоровые юноши пахнут морем и молоком, а девушки — полевыми цветами. Что он делает в этом месте?
— Окей. Только будь осторожен — там внутри хрупкие… вещи.
Новомодное изобретение — стеклянная трубка с иглой и смешным немецким названием «шприц». Пузырек морфина для обезболивания самых тяжелых. Спиртовка и колба. Спринцовка. Скальпели. Бутыль бесценной карболовой кислоты. Йод, хина и каломель. Свертки бинтов. Карманное зеркальце — подарок человека, о котором следовало забыть двадцать лет назад…
— Это наше кладбище, сестра. Скромно, правда? — гулкий голос священника вывел монахиню из размышлений.
Длинные ряды холмиков, украшенные крестами или грубо обтесанными камнями, действительно выглядели непритязательно.
— Тринадцать лет назад мертвых бросали в грязь. Живые валялись в хижинах и ползали по улицам, пока не отдавали богу душу, крысы и свиньи пировали на трупах. Не было ни школы, ни госпиталя, ни церкви. Даже крещеные молились акулам и украшали цветами идолов.
— А теперь они несут цветы Мадонне? — вырвалось у Марианны.
— Да, — подтвердил отец Дэниел. — Не все, но многие. Видите — девушки прикрывают грудь, мужчины не расписаны глиной. Они знают «Отче наш» и больше не путают Христа с Тангароа. Я вчера исповедал двоих.
— И похоронили?
— С миром. Здесь остров смерти, сестра. И вы знали это, когда просились на Калаупапа. Впрочем, вас Бог спасет. Красивый крест…
— Узнав о нашем похвальном желании, генерал Ордена переслал его с Мальты, как символ миссии. Внутри креста частица мощей святого Лазаря.
— Где же остальные миссионерки? Основали школу для девочек или приют для кающихся грешниц? — в голосе отца Дэниела прозвучала обида.
— Одна не перенесла дороги. Другую поразила тропическая лихорадка. Третья вернулась в Нью-Йорк, к своим беднякам. Сестры Пэйшенс и Эванджелина основали больницу на Самоа — там ужасающая смертность и людям нужна помощь, — спокойно произнесла Марианна.
— Здесь помощь тоже нужна, — вздохнул отец Дэниел. — А вы я вижу, крепкий орешек.
— Хрупкий бы уже раскололся под вашим суровым взором.
Священник протянул изувеченную руку, монахиня, не изменившись в лице, поцеловала пастырский перстень.
— Мы сработаемся, сестра Марианна Хоуп. Вы умеете дарить надежду. Такие люди нужны в колонии.
— Куда отнести вещи мисси, отец Дэниел? — раздался знакомый уже молодой голос.
— В новую хижину подле церкви, Аиту. Не играй в дурачка, ты же сам её строил.
Юноша склонился в шаловливом поклоне и пустился бежать.
— Счастливчик, — сказал отец Дэниел и попробовал улыбнуться. — Из немногих здоровых на острове. Мы прибыли в один год, Аиту был с отцом и двумя братьями. Я заболел через четыре года. Семья мальчика уже на кладбище. А он вырос, как ни в чем не бывало. Добрый, честный, всем помогает.
— Господь справедлив. Он знает, кого спасти, — наставительно произнесла Марианна.
— Здесь нет справедливости, — возразил отец Дэниел. — Только муки и смерть… и жизнь вечная.
Хижина оказалась просторной и скудной. Пара кувшинов, пара кокосовых чашек, пара циновок, стол. Удивительно красивая раковина — крупная, розовая, словно сияющая изнутри. Марианна поднесла её к уху и услышала перестук — внутри был жемчуг, десяток настоящих черных жемчужин. Подарок островитян — вряд ли священник оставил бы подношение сестре милосердия, тем паче, что он-то должен был знать подлинную цену вещей. Горсть жемчуга. Лодка полная мыла и полотенец, круп и консервированного молока, Библий и катехизисов, нужных лекарств… Здесь должны быть контрабандисты, они как коршуны кружат там, где пахнет нуждой.
Марианна думала, что она сразу уснет, но усталость так истомила её, что дрема не шла. Поворочавшись на жестком ложе, монахиня вышла навстречу жаркому вечеру. Густой аромат цветов скрадывал прочие запахи, ночные бабочки медленно порхали в воздухе, где-то плакал ребенок, кудахтали куры. Внизу за двумя витками дороги шумело море раз-два-раз-два-раз-аааааааааххх. Услышав стон волны, Марианна поняла, о чем говорил отец Дэниел. Упокой, Господи, отлетевшую душу.
…Колокола подняли монахиню к заутрене. Привычка вставать затемно укоренилась с юности — Марианна выросла в католической школе и, за исключением года в Нью-Йорке, жила по строгому расписанию служб. Белая церковь оказалась уютной, а наивные иконы местной работы поразили до глубины души — недостаток мастерства полинезийцы возмещали яркими цветами и сложными узорами. У подножия статуи святой Филомены красовались дары — лодочное весло, кукла, несколько костылей, маска в форме человеческого лица. Значит не все так плохо?
Когда служба закончилась, Марианна обратилась с вопросом, и отец Дэниел подтвердил надежды монахини:
— Изредка болезнь отступает на годы или десятилетия. Язвы рубцуются, пятна сходят, раны покрываются новой кожей. Весло принес Мауи — Господь исцелил его и ещё восемь лет он ходил в море за рыбой для всей колонии, пока не утонул. А кукла — дар красавицы Таианы. Девочке уже семнадцать, и она до сих пор здорова.
— Что помогло?
— Я не знаю. Они мазались желтым бирманским маслом и кокосовым молоком, принимали морские ванны, грелись на солнце — как и многие сотни тех, кто не выздоровел.
— Вы не участвовали в лечении, святой отец?
— Нет, конечно же, нет. Я построил госпиталь, где беспомощные могут получить перевязки, еду и покой. Но исцеление тел не моя стезя. Вы, сестра, разбираетесь в этом лучше. Пойдемте!
Две длинных хижины, крытых соломой, выглядели неплохо. О кроватях для больных можно было и не мечтать, но подстилки оказались свежими, в комнатах жгли благовонную смолу, еду готовили в чистом котле, а помощники-гавайцы работали в меру сил. Заведовал ими белый фельдшер — Ян Клаас, бывший боцман корабля с сомнительной репутацией. Как узнала впоследствии Марианна, епитимью до конца дней прислуживать прокаженным, на него наложили в Гонолулу. Чем провинился рыжебородый голландец, не ведал даже святой отец. Давешний мальчик Аиту тоже был здесь — разносил еду и помогал больным.
Первым делом — уборка. Лежачих вынесли в тень пальм, ходячие выбрались сами. Марианна собственноручно протерла щелоком полы и стены, проследила, как выбивают циновки и роют (о, эти белые!) две выгребные ямы для нечистот.
Лекарств почти не было. Сок плодов ноны, кокосовое масло, порошок из листьев ти, свежая зола, рыбий жир и несколько пузырей-грелок. Желтое бирманское масло в небольшой бутыли — Ян объяснил, что это дорогое лекарство, его дают за плату. Запасы из драгоценного саквояжа показались Марианне смехотворно бедными. Любыми способами следует наладить доставку помощи!
Приходящих больных оказалось немного. К вящей радости монахини случаи выглядели простыми. Марианна выпустила гной из огромного ячменя на веке у младенца, соорудила бандаж для грыжи изнуренному рыбаку, с помощью вездесущего Аиту успешно вправила вывих лодыжки старухе. Ампутация выгнивших пальцев пугала, но пациент держался спокойно — грузный мужчина неопределенного возраста, со стертым болезнью лицом.
— Я ничего не чувствую, мисси. Уже давно! Просто отрежьте их.
Пробормотав про себя «Отче наш», Марианна взялась за скальпель. Аиту крепко держал больного. Крови не было, словно нож кромсал вяленую рыбу. От смрада замутило, но тошнота быстро прошла. Не экономя драгоценный йод, монахиня обработала культи, не пожалев бинта, наложила повязку. Прием окончен!
С двумя лежачими вопросов не возникало — у одного вконец отказали ноги, другой ослеп и лишился пальцев. Им требовался лишь уход. У китайца, не знающего ни слова на пиджин, оказалась малярия — вот где пригодится хинин! А смуглая толстуха, с удивительным аппетитом поедающая больничную кашу, показалась монахине попросту симулянткой. Понаблюдаем… Одно радует — сегодня здесь никто не умрет.
Марианна надеялась отдохнуть в школе, но там ей стало ещё хуже. Дети как дети — шумят, щипаются, ябедничают, хором повторяют за священником буквы алфавита и слова псалмов. Если закрыть глаза, ничем не отличается от приходской толкучки в Бронксе. А открывать почему-то не хочется. Лишь несколько малышей выглядели здоровыми. Пока здоровыми.
Спустя несколько лет и её тело превратится в груду гниющей заживо плоти. Марианна мечтала служить Господу изо всех сил. Теперь груз показался слишком тяжел. Но отцу Дэниелу приходилось тяжелее уже сейчас. Опытным взглядом монахиня видела знаки боли — сжатые губы, дрожь в пальцах, скованность движений. Когда последний ученик вышел из класса, священник буквально осыпался на пол. Слава богу, что саквояж всегда под рукой — сделать инъекцию Марианна могла бы и с закрытыми глазами. Вскоре тяжелое тело расслабилось, дыхание стало ровнее. На несколько минут священник потерял сознание. Поверхностный осмотр не выявил ничего, кроме жара и желтизны кожи, а раздевать мужчину Марианна не рискнула. Она склонилась над ним, выслушивая дыхание. Отец Дэниел открыл глаза. Сел, осторожно потер правый бок, улыбнулся, на мгновение помолодев. И вспомнил.
— Вашего лекарства хватит на всех, сестра? На каждого, кто корчится на подстилке в хижине, сутками сидит в море, прыгает с Акульей скалы, чтобы смертью унять невыносимые муки?
— У меня около двадцати доз для самых тяжелых случаев.
— Тогда запомните, сестра Марианна — никогда больше так не делайте! Я живу вместе с прокаженными, ем их хлеб, крещу их детей, рою им могилы, как они однажды выроют мне. И пока лекарств не хватает на всех, мне они не нужны.
Гордыня или ангельское смирение? Впрочем, святому отцу можно все. Утомленная Марианна не стала спорить, она вернулась в свою хижину, скоротала за молитвой сиесту, а после отправилась бродить по острову. Внимательный взгляд монахини выискивал лица особой, хищной и хитрой породы. Закон есть закон, дорога на остров ведет только в один конец, но везде и всегда находятся хитрецы, пролезающие сквозь щели. За плату — достойную, щедрую плату конечно же.
Чутьё привело её к главной площади поселка, где в тени отдыхали мужчины, беседовали о своём старики и копошились пыльные куры. Угрюмый, толстый как гора таитянин, возлежал под навесом, пил перебродивший сок пальмы из разрисованного калебаса и плевал красным в красную пыль. Он отказался назвать своё имя, отказался брать деньги и назначил плату — любовь белой женщины. Так ли она нежна под одеждой, как рассказывают тане с больших лодок? Будь на месте Марианны чопорная Эванжелина, она бы уже бежала к священнику, квохча и охая. Будь здесь Пэйшенс, дело бы кончилась оплеухой. Но монахиня не зря потратила годы в Бронксе. В её необъятном саквояже таились сокровища. Жестянка с леденцами, горсть разноцветных стеклянных шариков, деревянный бычок на пружинках. И чудо чудное — калейдоскоп с переливчатыми картинками.
…Любовь белой женщины! Человек-гора хихикал, взвизгивал и хлопал в ладоши, поворачивая игрушку, ловя солнечные лучи, чтобы стеклышки ярче блестели. Заскорузлое лицо стало нежным, как ветка дерева, с которой сняли кору, глаза засияли. Господь на небе, изыщи он секунду взглянуть на островок в океане, тоже бы улыбнулся — в каждом мужчине до смерти живет мальчишка. Довольная Марианна достала из потайного кармана тощую пачку долларов, присовокупила две самых больших жемчужины и рассказала, куда именно стоит пойти в Гонолулу, чтобы продать товар и купить товар за честную цену. В маленькой лавочке на улице Колетт недалеко от госпиталя уже пятнадцать лет прятался от товарищей по оружию Джон Гастелл, бывший конфедерат, который так и не научился стрелять в людей. Плохой солдат оказался хорошим торговцем и заслужил доверие миссии.
Пока человек-гора, пыхтя и охая, вытаскивал из сарая непрочную на вид лодку-каноэ и проверял снасти, Марианна устроилась в тени пальмы и занялась письмами. Два в Нью-Йорк — отцу Франциску с просьбой о вспомоществовании и дорогуше Дейзи Кларк, подружке по пансиону и единственной дочери преуспевающего фабриканта — с той же просьбой. Два в Гонолулу — смиренное королю и гневное губернатору. Одно на Самоа — у сестер найдется, чем поделиться. И список, точный подробный список, чтобы этот любитель белых женщин с пользой потратил деньги. Читать он конечно же не умеет, но среди продавцов наверняка найдется хоть кто-то грамотный.
К вящему удивлению Марианны, таитянин достал из необъятных складок набедренной повязки веревку и начал вязать узлы, неохотно поясняя «ткань», «рис», «саго». Слова «хинин» и «йод», впрочем, звучали для него околесицей — отчаявшись объяснить, Марианна показала флаконы и оборвала с них этикетки для образца. Одутловатая физиономия посредника не внушала ей доверия, но честный контрабандист — оксюморон. На всякий случай монахиня припомнила витиеватое ирландское проклятие и пообещала своему Ганимеду, что акулы сожрут его за побег и обман. Брезгливое лицо таитянина перекосила усмешка:
— Я прокаженный, мисси. Мне некуда бежать. А акулы меня все равно сожрут, рано или поздно.
Проводив взглядом утлое суденышко, Марианна отправилась к хижине. «Домой» — в первый раз за множество лет у неё появилось место, которое позволительно назвать домом. Она шла оскользаясь на влажной глине, оступаясь о корни, спотыкаясь о камни ни наконец поняла, что смертельно устала. Жара, путешествие, переживания навалились на спину тяжелым грузом. Обитатели колонии удивленно смотрели на пошатывающуюся, еле бредущую женщину, но никто не предложил помощи. И когда Марианна упала на серый песок у порога дома, ей показалось, что она больше не поднимется — голову сжало обручем, руки налились свинцом, по спине перетекала боль. Не хватало сил ни перевернуться, ни достать воды, ни заплакать. Только пестрые мошки ползали перед лицом, суетливо толкали песчинки, выискивали себе пищу, да взбалмошный попугай орал с пальмы.
Вскрытый кокос, полный свежего сока, показался ей даром ангелов. Заботливый Аиту успел и здесь — неужели выслеживал?
— Вы слишком долго были на солнце, мисси, и очень мало пили. Здесь нельзя не пить. Позвольте, я помогу.
Не успев возмутиться, Марианна почувствовала, как руки юноши прикоснулись к её одежде. Аиту ослабил пояс и воротник рясы, снял покрывало, положил на ноющий затылок что-то прохладное. И начал разминать, растягивать и разглаживать ноющие бугры мускулов, ставить на место косточки. Дикое, странное ощущение. Марианна не помнила, чтобы кто-то когда-то прикасался к её телу столь непозволительным образом. Но ничто в ней не возмутилось — наоборот, это было приятно, как погрузиться в купальню посреди жаркого дня. Кровь быстрей побежала по жилам, мышцы расслабились, боль ушла. Но подняться не получалось — тело стало расслабленным, легким как перышко, сладкая дрема отяжелила веки. Незаметно для себя монахиня провалилась в короткий сон. И проснулась здоровой, освеженной и полной сил.
Терпеливый Аиту сидел рядом с ней, прикрывая от солнца листом пальмы.
— Как ты это сделал, чадо?
— Ломи-ломи-нуа, лечение телом и духом. Мой род — кахуна, посвященные Тангароа с рождения. Прадед превращался в акулу, дед ходил босиком по углям, братья видели вещие сны, а отец исцелял руками. Он мял людей как глину и собирал заново, выдавливая болезнь вместе с потом. Он не успел научить меня всему, но я очень старался.
— Ты крещен, Аиту? Ты веришь в Христа, нашего спасителя?
— Да, мисси. Моё церковное имя На-та…
— Натаниэль?
— Да, мисси. Я ношу крест, выучил «Кредо», хожу в церковь по воскресеньям и не хожу без одежды — это грешно.
— И не зовешь демона Тангароа, когда лечишь руками?
— Нет, мисси. Только когда проплываю в лагуне над Глазом Свиньи — там злой водоворот.
«Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его». Марианна вспомнила житие святого Венсана де Поля — многотерпеливый преподобный учил священников не начинать службы с «Отче наш» и не спать со своими служанками.
— Прости, если вопрос причинит боль. Почему твой отец не смог исцелиться сам и помочь братьям?
По живому лицу Аиту пробежала тень.
— Он заразился, когда лечил соседей. Тангароа не в силах справиться с недугом белого человека.
— А с какими недугами умеешь справляться ты?
— Умею вправлять суставы, складывать сломанные кости, возвращать внутренности на место, унимать боль. Знаю, как вернуть сон, вернуть радость, прибавить сил. Отец провожал умирающих, я не умею.
— Пока не умеешь, чадо. Ты слишком юн для такого груза. Постой… ты помогаешь в больнице, чтобы учиться?
— Да, мисси. Я видел, как белый тане давал больному горькие пилюли и жар прошел. Я видел, как вы, мисси, ткнули иглой отца Дэниела и ему стало не больно. И человека с отрезанной ногой видел — он должен был умереть от заражения, но умер, спустя десять весен, от проказы.
Отвернувшись к морю, Марианна ухмыльнулась — она вспомнила, как подглядывала за сестрой Гоноратой, зашивающей рану бродяжке, и как умолила суровую монахиню обучать её азам медицины. Жаль, женщинам запрещено получать патенты врачей.
— Как же ты очищаешь раны?
— Червями, мисси — они выедают больное мясо и не трогают здоровое.
— А если рана расположена на животе?
— Прошу у Тан… у Христа легкой смерти. А что делаете вы, мисси?
— То же самое. Но если кишки не повреждены, пробую обеззаразить рану и зашить её шелковой ниткой.
— О-без-что?
Помянув царя Давида в третий раз, Марианна рассказала Аиту о невидимых зверюшках — микробах, живущих вокруг людей. Он захлопал в ладоши и тут же удрал мыть руки. Что ж, все знания, которые есть у одной старой монахини, мальчик получит. Жаль, врачом ему не стать — математика и латынь. И «цветной» в альма матер. Немыслимо! Но за неимением шелковой бумаги, пишем псалмы на оберточной. Когда Аиту вернулся, Марианна показала ему гравюру — анатомический рисунок внутренностей. И до темноты, с грехом пополам подбирая правильные термины на пиджин, рассказывала, как устроено изнутри тело человека. Едва неуклюжий серпик луны поднялся над морем, к хижине прибежал перепуганный насмерть юноша чуть старше Аиту — его молодая жена собралась рожать первенца, а старухи отказались помогать чужачке. Помянув добрым словом акульего бога, Марианна подхватила саквояж и поспешила на выручку.
Маленькой китаянке пришлось нелегко — первые роды, крупный плод, страх. Но в свой срок на свет появилась красивая смуглая девочка. Внимательный осмотр не выявил никаких признаков проказы. Может быть ей повезет? Марианна помолилась о здравии, убедилась, что роженица вне опасности и отправилась отдыхать с легким сердцем.
Поутру монахиня проснулась к ранней мессе и целый день провела в трудах. И следующий день. И следующий за ним — словно кто-то влил молодое вино в старые меха. Марианна поспевала повсюду — лечила, утешала, молилась, показывала, как кроят платье и пишут буквы, убирала к венцу невесту, шила саван, варила суп в большом котле, сидела с отцом Дэниелом, когда воспаление печени снова свалило его. Силы били ключом, их хватало на всё и ещё оставалось на занятия с Аиту — юноша впитывал знания как земля воду. За считанные дни он выучил четыре действия арифметики, подобрался к дробям и угольком на доске вывел первое «esse». Esse homo — не чета иным белым. Но кесарю кесарево, у Марианны давно уже хватало мудрости не менять то, что не менялось.
Через две недели приплыла лодка. Будь благословен, жирный старый жулик! Четыре Библии в переводе на гавайский. Бинты, йод, хинин, карболка, каломель, камфара, сахар, мука, рис, саго, мыло и простыни — пусть враги веры Христовой спят в тропической хижине без простыней и москитной сетки. И бочонок карибского рома — капелька алкоголя дезинфицирует воду, придает сил ослабевшим и останавливает злокачественный понос. Из-за бочонка, пузатого и соблазнительного, и начался бунт — на острове давненько не водилось спиртного, а любопытные глаза туземцев тут же заметили выпивку.
Марианна перевязывала больного в мужской хижине госпиталя, когда раздался многоголосый шум. Разношерстная толпа подвалила из леса, вооруженная кто во что горазд — палки, пращи, камни, дубинки, утыканные острыми раковинами. Разгневанные мужчины орали на нескольких языках разом, Марианна понимала их через слово. Что-то про проклятых белых людей, которые привезли на острова китайских кули и приманили ненавистную проказу. Про месть и справедливость, о которой давно забыли. Про то, что добрая выпивка облегчает боль и радует душу, а жир вытопленный из головы европейца, заживляет лепрозные язвы. Марианна захлопнула дверь хижины и торопливо подперла её аптечным шкафом.
Снаружи разнеслись крики и страшная брань. Рыжебородый боцман Ян Клаас не стал искать правых и виноватых, его тяжелые кулаки равномерно отвешивали удары. На мгновение показалось, что страх перед наказанием отрезвит бунтовщиков. Но взметнулись и опустились дубинки, раздался жуткий хруст ломающихся костей. Потом сквозь плетеную стену просочилась тоненькая змейка дыма. Лежачие прокаженные взвыли от страха.
«Они сожгут меня заживо, вместе с больными», — отстраненно подумала Марианна. И вздрогнула — звонкий голос Аиту убеждал соплеменников опомниться, не карать тех, кто потратил жизнь на возню с обреченными, не гневить ни Христа ни свирепого Тангароа. Справедливость существует, бог слышит нас и отвечает, как может. У нас есть друзья и родные, море и белый песок, цветы лехуа, песни птицы ививи, жемчуга и раковины. А у Христа на кресте никого не было, даже отец оставил его.
Звук удара прервал горячую речь. Упал. Убили! Одним рывком Марианна отодвинула шкаф от двери, выбежала наружу, готовая драться за юношу как волчица бьется за своих щенков. Слава богу!
Отец Дэниел уже стоял над упавшим, протянув перед собой распятие, словно щит. Гулким и властным голосом он повторял псалом — ничего больше, только слова Давида.
…Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои…
С каждой строкой вокруг становилось темнее. Ветер ударил в колокол, стрелы дождя хлестнули по обезумевшим людям, град заставил пригнуться. Заводилы отступили на шаг, на два… побежали, бормоча что-то о гневе белого бога. Марианна метнулась к Аиту, припала ухом к груди, выслушивая дыхание, погладила спутанные мокрые волосы. Жив. Жив!!! Сотрясение мозга, пара синяков, может быть небольшая горячка. Боцману Клаасу повезло куда меньше — осколки ребер проткнули ему легкое, несчастный харкал кровью. Оставалось менять холодные примочки и надеяться на благополучный исход.
С помощью перетрусивших служителей-туземцев Марианна и Дэниел перетащили раненых в госпиталь. Одному из бунтовщиков Клаас сломал челюсть, другому нос, третий споткнулся на мокрой траве и вывихнул ногу. Гневные лица стали виноватыми и просительными, прокаженные устыдились.
— Они как дети, — сказал отец Дэниел. — Утром ломают игрушки, а вечером просят у них прощения. Пар вышел, теперь на острове надолго воцарится покой.
Взволнованная Марианна всю ночь просидела рядом с больными. Клаасу стало хуже, пришлось извести на него две ампулы драгоценного морфия. К утру боцман впал в беспамятство. Аиту же, наоборот, спал здоровым сном молодости. Марианна не могла насмотреться на точеные черты лица, длинные пальцы, сильные мышцы шеи. Завиток волос свернувшийся на щеке соблазнял её — поправить, убрать за ухо. Все равно же придется сменить компресс, обтереть горячую кожу, ощутить легкое дыхание, нежное, сладостное…
Тем же вечером Марианна бесстрашно прошлась по хижинам, поговорила с родителями и собрала группу из девяти подростков, желающих изучать медицину. Она заново начала лекции по анатомии, гигиене, антисептике и латыни — с последней дела обстояли плохо. Но ученики компенсировали неуспехи старанием, они радостно бинтовали, накладывали лубки, промывали язвы и поочередно дежурили в госпитале.
С Аиту она больше не оставалась наедине, и ничем не выделяла его из числа учеников. Юноша сперва стал стараться ещё больше, потом отдалился, ушел в себя. А монахиня опасалась называть болезнь по имени, промолчала даже на исповеди — всё уйдет, само сотрется из памяти. Время лечит. Тем паче, что появился новый повод для беспокойства. Через несколько дней после бунта, во время купания Марианна обнаружила плотные красные пятна на коже обеих молочных желез. Не оставалось сомнений — проказа добралась и до неё. Оставалось ждать следующих симптомов — болей в суставах, лихорадки, апатии, утолщения кожи на лбу. И смерти, постыдной, хотя и мирной.
Марианна так часто разглядывала себя в карманное зеркальце, что отец Дэниел невольно обратил на это внимание. Он задал вопрос — двусмысленный, кто бы спорил. Он был бы плохим священником, если бы не заметил взаимной симпатии Адама и Евы — какая разница, сколько им лет и что за пропасть их разделяет. Вместо правильного ответа Марианна указала на зловещие пятна. Отец Дэниел попросил посмотреть. Монахиня устыдилась — ни разу в жизни она не показывала мужчине грудь. Но священник ведь не мужчина…
Смех отца Дэниела напоминал хриплое карканье ворона:
— Сестра моя, бедная напуганная сестра! Это всего лишь опрелость, от жары и тесной одежды. Испросите у своего ордена разрешение носить легкое облачение, а до тех пор присыпайте больные места саговой мукой и промывайте дважды в день крепким чаем. А проказой вы заразиться вообще не можете.
Устыженная Марианна сперва не осознала, что именно сказал священник. Ей хватило ослепляющей радости «я здорова!». Но нужные слова колючками проросли из сознания.
— Почему вы уверены, что я не могу заболеть? Существуют люди, невосприимчивые к лепре? Как вы их выделяете, святой отец и почему до сих пор не рассказали об этом мне?
— Все проще, сестра. Искушение подстерегает нас там, где мы об этом даже не думаем. Двадцать с небольшим лет назад, когда я только собрался нести слово Божье в Калаупапа, меня вызвали к генералу Общества Иисуса. Петер Ян Бекс был бельгийцем, моим соотечественником и хорошим человеком, он хотел защитить меня. И предложил взять реликвию. Ту, что сейчас украшает вашу шею.
Я владею святыней? Марианна прикоснулась к тяжелому серебряному кресту. Старинная вещь дивной работы, но что в ней особенного?
— Вашей реликвии, сестра Хоуп, исполнилось семьсот лет. Внутри — подлинные мощи святого Лазаря и великая сила двух крыльев церкви. В 1170 году палестинский король Амори (вы даже не слышали о таком) заказал святой крест для единственного сына Бодуэна. Девятилетнего наследника трона Святой земли поразила проказа — подлые египтяне прислали в подарок принцу красивый плащ, в котором прежде спал лепрозный больной. Папа Римский тогда помолился над этим крестом, и Византийский патриарх помолился тоже — мачеха Бодуэна была родом из Константинополя, она сжалилась над пасынком и попросила о помощи императора. И реликвия обрела огромную мощь. Тот, кто носил её, не снимая, был защищен от проклятой болезни, лепра отступала… как оказалось, на время. Юный Бодуэн надел крест и почувствовал себя лучше. Но у него был друг, паж из благородной семьи. Мальчик заразился, принц узнал и не слушая никаких возражений, перевесил спасительную реликвию на товарища. Бодуэн стал королем и умер от проказы. Мальчик вырос, стал рыцарем, женился, продолжил род. Крест передавался от отца к сыну, пока орден Иезуитов не отыскал реликвию. Генерал настаивал, чтобы я защитил себя от страшного риска. Я отказался — это было бы не по-христиански. Генерал заявил, что однажды я передумаю. Он ошибся.
— Отец Дэниел, вы поступаете глупо, — сгоряча ляпнула Марианна. — Кто как не вы творит чудеса, кому ещё доверяют несчастные, обездоленные люди! Живой и здоровый вы сможете сделать для них намного больше.
— Христос тоже поступал глупо, — мягко улыбнулся отец Дэниел. — Он мог бы бродить по Палестине, проповедовать, учить и лечить. И никакого креста.
— Я прошу вас! — Марианна упала на колени. — Будьте благоразумны! Защитите себя и снимите с меня эту ношу.
— Нет.
Отец Дэниел развернулся и ушел из часовни. Марианна заплакала в голос и не могла унять слезы до ночи. Ни молитва, ни море, ни прогулка по горным тропам не дали успокоения — святая вещь пудовой гирей давила на грудь. Она, Марианна, может спасти любого человека на острове. Ребенка, женщину, старика. Самого отца Дэниела, если упрямца удастся уговорить. Страшные язвы зарубцуются и исчезнут, плоть станет теплой, душа оттает. Мальчик с гниющими веками станет видеть, маленькая китаянка выкормит дочку грудью, жирный прокаженный жулик станет жирным здоровым жуликом. Или она сама продолжит помогать людям, облегчать страдания обреченных, не рискуя собой, не страшась болезни. Где справедливость? Кто должен решать, кто подбросит монетку? Господи, вразуми.
Не в силах справиться с переживаниями, монахиня отдалилась от людей. Она посещала госпиталь, утреннюю мессу и вечерние занятия по медицине. Все остальное время Марианна проводила на уединенном пляже, глядя на воду и круг за кругом читая псалмы. От «Блажен муж, иже не ходит на совет нечестивых» до «извлёкши меч у него, обезглавил его и снял позор с сынов Израилевых» — и снова, и снова.
Сухой сезон сменился дождливым, больных стало больше — малярия, трофические язвы, элефантиаз, воспаления легких и почек. Из Гонолулу прислали новых больных и благодарственное письмо от короля, из Самоа — лодку от сестер, с лекарствами и бинтами. Щедрая приятельница из Нью-Йорка перевела на счет миссии целых сто долларов. А безвестная библиотекарша из Оклахомы самолично обошла город и собрала полторы тысячи. Впору было задуматься о строительстве нового госпиталя — не хижины, а нормального деревянного дома, с кроватями и тюфяками, с удобной кухней и маленькой операционной. И выписать из Штатов хотя бы одного хирурга, настоящего, опытного врача.
Отец Дэниел начал сдавать. Он уже не мог достоять службу, два мальчика-туземца поддерживали его под руки. Проказа перешла на лицо, зрение таяло, гулкий голос стал невнятным, скрежещущим. И узлы на руках и ногах побледнели. Опытная Марианна знала, что этот признак сродни «маске Гиппократа» — священнику оставалось недолго. Ещё два раза она пробовала переубедить отца Дэниела, и всякий раз получала епитимью — пастырь хотел до конца разделить участь паствы. Тяжесть ноши пригибала Марианну к земле. Ещё недавно она ощущала себя юной и полной сил, теперь же держалась исключительно на молитвах. В минуты слабости монахиня доставала зеркальце, разглядывала исчерченное ранними морщинами лицо, а затем открывала секретную крышечку, чтобы полюбоваться на старую фотографию. Он никогда не состарится. И не приедет в царство Аида. И не будет решать — кому жить долго и счастливо, избавленным от проклятия, а кому умирать, разлагаясь ходячим трупом.
…Самоубийство Таианы потрясло общину. Девушку любили все в поселении, от мала до велика. Она сохранила здоровье, была отзывчивой, доброй, милой и могла бы взять себе любого мужа. Но предпочла прыгнуть вниз со скалы Камаку и разбиться о острые камни. Осматривая тело, Марианна поняла причину — страшную, глупую ошибку застенчивой девушки. У неё началось витилиго — загадочное заболевание, при котором по телу идут белые пятна. Даже в Библии упоминается схожий симптом. Но Таиана едва умела читать и вряд ли смогла бы сопоставить цитату из скучнейшей книги Царств и собственную болезнь. И предпочла умереть до того, как проказа заберет свежесть и красоту.
Хоронить самоубийцу на кладбище по закону не полагалось. Отец Дэниел конечно бы отыскал выход, но он уже трое суток лежал в горячке. И жители проводили девушку как островную принцессу — усыпанное цветами каноэ с пробитым дном ушло в лагуну на радость акулам и демону Тангароа. Как водится на похоронах, юноши и девушки плясали и пели, потрясая гирляндами душистых цветов, люди постарше играли на барабанах и дудках, без устали отстукивали такт ладонями. Многие плакали, но тут же переставали — чем горче рыдать по покойнику, тем тяжелее ему спускаться в мир мертвых. Марианна обратила внимание на Аиту — юноша плясал веселее всех и пел громче других, его лицо застыло керамической маской идола.
Слезы пролились потом, на пляже, у корней старого дерева ти. Опасаясь за юношу, монахиня проследовала за ним, крадучись как заправский охотник. И услышала то, что обычно слышат на исповеди. Аиту и Таиана давно любили друг друга. Они собирались пожениться, ждали лишь выздоровления отца Дэниела, чтобы объявить о помолвке и через месяц перебраться жить в одну хижину. Но Аиту все испортил. Во время ловли тунца крючок намертво зацепился за губу глупой рыбы, и товарищи стали подтрунивать — дурная примета, у твоей вахине появился возлюбленный. Вернувшись в гавань Аиту нашел Таиану в кокосовой роще и увидел, что та в слезах. Ослепленный ревностью он задал вопрос. И девушка, захлебываясь рыданиями, подтвердила — да, появился повод, я разрываю помолвку и ухожу от тебя. Безумец, он поверил и от обиды пошел искать утешения у первой девчонки, носившей цветок за ухом. А Таиана солгала, она всего лишь хотела уберечь возлюбленного… Где справедливость, почему бог так жесток?
Ослепленный горем Аиту рыдал как младенец. И Марианна была ему матерью, она сидела с ним рядом, взяв на колени голову, гладя потные волосы — все пройдет, все однажды закончится. Мальчик, бедный мальчик, дитя моё… Чуткие пальцы монахини нащупали выпуклое пятно на лбу между бровей. Маленькое и плотное, размером с даймовую монетку — можно даже не брать анализ. Где справедливость?!
— Ты уезжаешь. Сегодня. Сейчас. Я договорюсь насчет лодки, дам письмо и деньги. Ты здоров и выглядишь здоровым, никто не узнает, откуда ты в Гонолулу. Джон Колетт поможет тебе подготовиться к колледжу и откроет подписку, чтобы помочь первому хирургу Гавайских островов. Не знаю, сможешь ли ты выучиться на врача, но постарайся — ты же видишь, твоим сородичам нужны хорошие доктора. И никаких возражений, никаких слез! Вставай.
Ошеломленный Аиту покорно поднялся.
— Я не хочу уезжать. Кто поможет вам в госпитале, кто станет кормить больных и менять им повязки? Разве я плохо работал, ленился, воровал, прикидывался больным? Это несправедливо! Зачем вы отсылаете меня, мисси?
— Затем, что справедливость на свете все ещё существует, — Марианна сняла с груди серебряный крест и надела на шею юноше. — Поклянись никогда не снимать его, а на смертном одре передать сыну. И помни, что спас тебя Христос, а не акулий бог.
— Это слишком щедрый подарок, мисси!
— Клянись или останешься гнить на проклятых островах, — рявкнула Марианна.
— Клянусь, — сказал Аиту. — Клянусь, матушка.
…Толстый жулик-таитянин опять попробовал завести песню про любовь белой вахине, но юла с музыкой его вполне устроила. Для гарантии Марианна добавила маленькую жемчужину. Набросать пару строк письма оставалось минутным делом. Монахиня пронаблюдала как пройдоха демонстративно громко собирается на рыбалку к дальним скалам и громогласно зовет бездельника Аиту помочь с сетями. Как отплывает от берега хрупкая лодка-каноэ и крикливые чайки провожают её к горизонту — прочь, прочь отсюда! Как поют девушки, сидя у полосы прибоя, выплетая розовые венки. Как хрипло дышит в темной хижине отец Дэниел, как жадно пьет кисловатый сок ноны, утирает холодный пот с вздутого лба, читает Библию — наизусть, потому что строчек не разобрать. А вокруг утлой лачуги кружат усталые ангелы, вперемешку с птицами ививи и огромными пестрыми бабочками, и духи деревьев наигрывают на флейтах, унимают боль и тоску.
Aloha ’oe, aloha ’oe O ka hali’a aloha i hiki mai Ke hone a’e nei i Ku’u manawaСладкие воспоминания возвращаются ко мне, снова принося привет из прошлого.
Вот только прошлого не существует. Есть сегодняшний день. Есть свобода. Есть божья воля и божья ладонь и возможность служить, трудиться, как подобает Марфе, молиться чистой посудой и выметенными полами. Ей, Марианне, никогда не давалось капризное богословие. Она умела только работать и собирать плоды, чтобы раздать их потом на площади.
Марианна раскрыла саквояж в поисках носового платка. Заветное зеркальце выскользнуло из рук, ударилось о нагретый валун и разбилось на тысячу мелких брызг. Не иначе, на счастье!
Отец Дэниел прожил ещё два месяца и отошел в мир иной тихо, во сне, как праведники. В день похорон лагуну Калуапапа заполонили акулы, словно устраивали парад. В тот же год король заложил памятник «апостолу прокаженных». Если приедете в Гонолулу, можете увидать скульптуру на одной из площадей города — бронзовый постамент, толпа недоверчивых, осторожных детей и священник, благословляющий их.
У доктора медицины Натаниэля Хоупа, звавшегося когда-то Аиту, судьба сложилась тяжело, но успешно — здоровья и радости ему было не занимать. Юноша потратил шестнадцать лет, обивая пороги, зубря наизусть учебники, практикуясь под присмотром опытного ординатора в Нью-Йоркской клинике для «цветных». Но получил и защитил свой диплом, стал хирургом, вернулся на родину, преодолел все препоны и с годами возглавил госпиталь в колонии прокаженных. Филигранной работы крест на тяжелой серебряной цепочке островитянин носил всю жизнь и согласился передать сыну лишь на смертном одре. Сын Натаниэля, тоже известный врач, вручил украшение внуку. Внук вырос атеистом и однажды отдал крест в музей колонии, но в залах вещи никто не видел. Говорят, реликвия вернулась обратно, в подвалы Ордена, где и лежит, дожидаясь своего часа.
Упрямая Марианна дотянула до восьмидесяти трех лет. До глубокой старости она кормила, лечила, учила и слушала прокаженных. Пока доктора не появилось, ей самой поневоле пришлось воевать с лепрой, лихорадками, переломами и малярией. Когда в колонию пришли врачи, опытная сестра оставила за собой женскую консультацию. Она приняла сотни детей и десяткам из них помогла обустроиться в жизни. Когда возраст все-таки взял свое, перебралась в монастырь в Гонолулу. Последние месяцы Марианна вовсе не разговаривала, лишь улыбалась пространно, поводила в воздухе тонкими слабыми пальцами. Монахиня считала грехи, всякий раз сбиваясь со счета.
Проказа так и не коснулась её.
Беженцы
— Салям алейкум, дорогой! — большая старуха в пестром платке и буром, сплошь вышитом платье вплыла в автобус, таща на буксире сумки, полные снеди.
— Ва-алейкум, ас-салям, Аише, — отозвался шофер. — Как дела, как внучка?
— В Симферополе на кондитера учится. Раз в неделю приезжает домой — тыщи полторы дай, да. Кушать надо, одеться надо. Зато потом устроится при еде, сытая будет, толстая, красивая.
— Ай, не хвали — у меня жена есть. И у сына невеста.
— У той невесты два пацана прицепом. И платок она не носит и варенье не варит и хлеб не печет.
— Третий у неё уже в пузе, потому и женятся, чтобы сыну фамилию дать. Платок и моя Равиля не носит, не крути мне голову. А хлеб наш, заводской лучше — тандыра же не стоит дома.
— Добрый ты, Рамазан…
— Проходите уже, женщина! Не отвлекайте водителя! — крашеная блондинка в городском костюме помогла подняться хмурому первоклашке, протянула водителю горстку монет.
— Вам докуда?
— До Голубинки, пожалуйста, взрослый и детский.
— Нет у нас детских… ладно. Езжайте.
Одышливый грузный автобус заурчал, вздрогнул и вывернул с автостанции, понемногу набирая скорость. Золотой вечер окутывал сонные улицы Бахчисарая, пышные кроны деревьев, пыльные пятиэтажки, выцветшие вывески магазинов. Злое летнее солнце за сезон убивает любые краски. А осенний свет мягок, он открывает цвета как бадьян открывает вкус хорошего чая — медленно, нежно.
Я сидел на переднем сиденье рядом с шофером, всматривался в дорогу. Узнать город не представлялось возможным. А вот контуры скал, похожих на крепости великанов, въелись в память навеки. Сейчас дорога разделится — широкая в сторону Каламиты, поуже — вдоль гор, по маленьким селам, к перевалу на Алистон. По левую руку начнутся виноградники, по правую раньше пасли лошадей, а теперь насадили персиковые сады — жирная земля принесет урожай стократ.
Кабина шофера выглядела уютной. Разговорчивый немолодой татарин — счастливый человек, которому повезло с женой. Спинка кресла покрыта ажурным подголовником, пол — ковриком, связанным из тряпья, откуда-то снизу вкусно пахнет котлетами и домашними пирожками. На стекле закреплена фотография: сверкающая улыбкой женщина обнимает двоих сыновей, нарядный муж положил ей на плечо руку.
— Мои, — ухмыльнулся шофер. — Десять лет свадьбы. Сыновья уже взрослые. Бекир начальник стал, в Ленинграде в милиции, а Ахмет здесь, при нас, арбузы растит, дыни.
— Хорошие сыновья, — осторожно поддержал разговор я. — И жена у вас замечательная.
— Равиля у меня золотая. Работница, хозяйка, и по дому, и во дворе, и с внучкой успевает. А как печет!
— Не то что нынешние вертихвостки, — вздохнул я.
— Ай, дорогой — молодым погулять хочется. На нас тоже старики ворчали. — отмахнулся шофер и резко заложил руль вправо. Дорогу переходили коровы, рыжие и смолисто-черные, сквозь железную стенку слышалось фырканье и утробное, глухое мычание. Автобус замедлил ход, минуя грузные туши.
Закатное солнце подсветило амулеты на переднем стекле — хорошее дело, в путь не ходят без оберегов. Рука Фатьмы на тонкой цепочке, цитата из Корана работы умелого каллиграфа, смешной тряпичный зверек, нарушающий заповеди пророка. Лиловый шар размером с некрупное яблоко, висящий в воздухе словно бы безо всякой опоры, мерцающий изнутри голубыми искрами. Если взять его в руку, почувствуешь тяжкий холод…
— Что вы так дергаетесь-то? Человек войти не успел, а вы газуете, — пахнущая больницей усталая женщина чуть не упала с верхней ступеньки.
— Что вы дверью хлопаете? Написано же — не хлопать! Я тут с пяти утра езжу и каждый хлопает по голове.
— А повежливей можно? Остановки нет, автобус опаздывает, проезд опять подорожал, а ещё и хамов набрали…
— Я здесь двадцать лет езжу, ни одной жалобы. Успокойтесь уже, женщина, езжайте домой и пилите своего мужа!
— Правду говорит. Отцепись от человека, сорока, — встрял пожилой татарин в зеленой феске, неодобрительно оглядев скандалистку, — Мужику своему душу вынимай, если он от тебя, балаболки, до сих пор не сбежал.
— Нет у ней мужа, — визгливо выкрикнула старушонка с передней площадки. — Кольца-то нет, ишь, живет невенчанная с пришлым пьяницей.
— Поругалась Гуля в амбулатории — платят ей мало, а работать приходится за двоих, вот и вымещает на ком ни попадя, — посетовала тетка в белом халате, торчащем из-под плаща.
Скандалистка жалко сморщила некрасивое веснушчатое лицо. Сейчас заплачет, выскочит из автобуса, а он последний, пойдет пешком по горной, дурной дороге…
— Уймитесь, люди, — негромко, но веско произнесла маленькая старая женщина, сидящая у окна. — Дочь у Гули болеет.
Голоса тут же смолкли. У живущих близко к земле, всегда остается совесть — достаточно напомнить, что у соседа беда, чтобы со всех сторон протянулись руки. Автобусная толпа расступилась. Смазливый смуглый парень вскочил с места: садитесь пожалуйста. Пристыженный шофер потупился:
— Простите. День был тяжелый.
— Чего уж там…
Присмиревшая скандалистка уселась, спряталась в мягком сумраке. Автобус тронулся, захрипел, поднимаясь в гору. Я неотрывно смотрел на старую женщину — пристальные голубые глаза, туго заплетенные белые волосы, сильные маленькие пальцы, на указательном правой нет ногтя, только корявый шрам.
— Саша, голубушка, ты облепиху в этом году делала? — соседка, как принято в этих краях, назвала её девичьим, легким именем.
— Баночку залила маслом, чтобы было зимой чем руки помазать. А варить не стала.
— Зря. Я и сахаром заливаю и медом, а потом зимой кушаю с чаем.
— В этот год только варенье из одуванчиков в мае сварила, дочке в Москву, она любит. А больше мне и не надо, прошлогоднее до сих пор раздаю.
…Саша была партизанкой. Прозрачно-худой девчонкой, обстриженной наголо, перепачканной кровью и глиной, последней выжившей из отряда. Она лежала между корней вывороченной сосны на пригорке и отстреливалась от троих немцев, с отчаянием загнанного животного сражалась за жизнь. Я запомнил яростные глаза, дорожки слез на загорелом лице, детское «ой, промазала». Двоих она отправила на тот свет. Третий, боевой офицер, сохранивший белый воротничок на сорочке, стрелял лучше и был хладнокровнее. Прицел уже выхватил потную макушку, осталось спустить курок. Я не вмешался в чужую войну… просто с сосновой ветки вдруг сорвалась шишка, спровоцировав лишний выстрел. А Саша попала в цель. Молниеносно, как хороший солдат, обшарила трупы, забрала патроны, бумаги, сунула в рот липкую шоколадку и побежала вглубь леса, мелькнула и нет её, ищи девчонку в палой листве…
— Садовое. Есть на выход?
Маленькая женщина спокойно прошла к дверям — «участник войны», бесплатно. За ней выбралась давешняя скандалистка. Автобус поехал дальше, вниз-вверх, вверх-вниз по разбитой дороге. Солнце скрылось, контуры гор смягчились, зеленые тополя тянулись к небесным сводам, словно длинные свечи на пиру у Марии Комнины. Кое-где поблескивали одинокие фонари, тихо желтели окна, вспыхивали огоньки сигарет. Блеяли овцы, неохотно возвращаясь в загоны, кукарекали петухи, лаяли псы, стучал молот, тихонько струилась старинная колыбельная, нагоняя сон на младенца:
Geceleri beşiginiñ başında, Baht tolu saatlerini keçirem. Seni sağlam yaşasıñ dep, aynenni, Saña temiz ana sütüni içiremЯсырка Юлдуз качала меня на коленях и повторяла сладкое «айнени» пока сонный ангел не закрывал нам глаза. Она делала дивные лакомства, творила чудеса смуглыми маленькими ладошками — варила орехи в меду, сушила пастилу из шелковицы, засыпала лепестки роз драгоценным сахаром. И пекла хлеб своему маленькому князю — круглые как луна поджаристые лепешки, усыпанные зирой и кунжутом, золотистые, горячие, хрусткие.
— Куйбышево! Стоим две минуты.
Одним прыжком шофер выскочил из кабины, метнулся куда-то в вязкую темноту. Приспичило ему что ли? Немолодой человек, бывает. И времени осталось немного — от Албата — Куйбышева как теперь говорят, до татарского Биюк-Узенбаша, села Счастливого, час верхом. Если скакун горячий — можно быстрее, лишь бы не оскользнуться на обрыве у Османа, там, где живут сарматы, парят над хребтом, раскинув огромные крылья. Ветер в лицо, запах хвои, листвы, осени, дым пастушьих костров и неслышная тень моря…
— Угощайтесь, дорогой. Хлеб наш, местный, нигде такого не делают! Даже у вас в Москве!
Я машинально взял теплую, вкусно пахнущую горбушку. Здесь не убивают хлеб ножом, а, как должно поступать, ломают руками. Кисловатая мякоть растаяла на языке — к чему? Поздно.
— Зачем Москва? Местный я, в Дори, родился, подле Ходжа-Салы. Гаврасы, может слыхали?
— Нет, дорогой — не помню таких. Чагатаевы там поселились, яблочный сад держат, Абдикеевых знаю, Мустафина с дочерями, Айвазов с дедом, Васильева-пришлого. Где ваши там живут?
— Не живут уже. Дом погорел, отец погиб, мать убили — пусть их души будут связаны в узле вечной жизни у Господа. Вот и имени не осталось.
— Ай, беда! — покачал головой шофер. — В девяностые, да? Беспредел здесь творился, такой беспредел, что старики плакали. Хуже нет беды, чем отца с матерью потерять.
Я не стал говорить, что самое страшное — видеть мертвым собственного ребенка. Разговор плелся теснее, беспечного Рамазана следовало разговорить.
— Хуже нет беды, чем бежать из дома, умирать не там, где умирали предки. Вам ли это не знать.
Шофер помрачнел — те, кто родился в Тавриде, врастали в землю корнями, и покинув родные края тянулись назад, как ползучая ежевика возвращается к месту, где когда-то взошла. Ордынец, вылитый ордынец из дома Хаджи-Гирея…
— Да, мы Гиреевы, из бахчисарайских. Деда с семьей выслали, отец вернулся, я тогда молодой был ещё, на митинги, как дурак бегал… Голубинка! Есть на выход? Кто не передал за проезд?
Пьяненький мужичонка попробовал выскользнуть в заднюю дверь, но две женщины загородили ему проход, возмущенно гомоня по-татарски. Похоже, никчемный Леша задолжал всем. И платить ему пришлось — два грязных «десюнчика» скатились в ладонь шофера. И снова дорога — вверх-вниз, вниз-вверх.
Зазвонил телефон — Равиля, жена. По улыбке ясно, по тому, как прижимают трубку к щеке. Кажется, ей тоже повезло с мужем.
— Скоро приеду, милая, соскучился уже — целый день тебя не видал. Шурпа, говоришь? Ай, спасибо. Не пеки, я купил хлеба. Отдохни, наконец, побереги себя. Целую! Аромат — есть на выход?
Мы остались вчетвером — я, шофер и молодая пара на заднем сиденье. Русская девочка и местный мальчик, жених и невеста. Если не поспешат по глупости, будет семья. Как сидят, держась за руки, молча, тихо, только воздух искрит да капельки пота проступили на верхней губе парнишки, изогнутой как тетива лука, с крохотной родинкой справа — не наша ли кровь взошла? В молодости я, не считая, бросал семена в щедрую пашню. Пусть проклятые янычары резали княжий род, не глядя, законный сын или сторонний, кто-то мог уцелеть. Багрянородные отроки обязаны быть живучими, мне ли не знать… Времени мало!
— Интересный у вас брелок на стекле. Магнит, наверное? Местной работы или китайский сувенир?
Удерживая руль правой рукой, шофер протянул левую, и шарик сам вплыл в ладонь. Тотчас искры стали ярче, на поверхности заиграли узоры — словно божьи светлячки плещутся в августовском море, танцуют в теплых волнах, огибая тело пловца.
— Я и сам не знаю, дорогой. В автобусе забыли, вот ждет хозяев.
— Да, случается, люди порой невнимательны. Позволите посмотреть?
Кивок. Я поднял ладонь, и холодная тяжесть наполнила её. До ближайшего дромоса подле исара Кипия три лиги, проход чист. Опасности рядом нет — ни разбойничьей шайки ди Гуаско, ни пехоты наглеца Ломеллини, ни проклятых янычар Ахмет-паши, ни черных собак той-чье-имя-не-называют, ни ночных кровососов-мис, давно забывших о своих человеческих матерях.
— Кто бы мог забыть такую красоту и не вернуться за ней?
Всей пятерней шофер поскреб в затылке, выражая мучительное раздумье. Он колебался. Но недолго — «эффект попутчика». Желание поделиться оказалось сильнее.
— Пассажиры чудные сели, и поездка мутная вышла. Словно приснилось — а не сон. Я проверил, выехал из Бахчисарая с полным баком, до Счастливого десять литров дизеля идет, а у меня двадцать сгорело.
— Может на бензоколонке смухлевали или мотор барахлит или слил кто-нибудь ночью, пока автобус стоял?
Шофер фыркнул от негодования:
— Мотор я сам перебираю, этими вот руками. На заправке мутить не станут, им здесь ещё работать. И воровать по селам не воруют, воры у нас не живут долго.
— Пришлые руки нагрели?
— Нет. Наши местные, земляки, из домов людей взял, только…
— Что? — насторожился я. Что ответит улыбчивый татарин из славного рода Гиреев, что он запомнил, что видел? От легкой кучки сыпучих слов зависит его судьба.
— Не знаю, люди ли это были. Да не смотри на меня так, дорогой, не пью я, тем более за рулем. И не болен — к врачу ходил, думал на старости лет головой тронулся.
— Не люди? — я старательно рассмеялся. — Кому здесь быть? Призракам? Мертвецам? Ит-бакбаши с собачьими головами? Помню я мальчиком был, приятель меня напугать решил — злился, что я у него девчонку увел. Ночью, когда я с рыбалки шел, спрятался у кладбищенского забора, собачью шапку на голову натянул, лицо вымазал. Стал в кувшин дуть — уууу! Потом прыгнул навстречу — а я его на кулаки. Так отлупил, что придурок на всю жизнь зарекся людей пугать. Вот и вам, Рамазан, кто-то голову заморочил. Легко ведь в рейсе человека обидеть, отомстить захотели…
Пусть позлится, покраснеет лицом, подышит свирепо — на пользу делу. Мне нужна правда.
— Слушай, да?! Даже жена не знает, молчал, чтобы не думала — муж рехнулся. А тебе расскажу.
— Слушаю, уважаемый, от всего сердца слушаю вас.
— Три недели назад дело было. Ехал я как сейчас последним рейсом из Бахчисарая в Счастливое, всех развез, пустой встал на площади у магазина. Мотор заглушил, выхожу из автобуса, топчусь, курю на дорожку. Луна надо мной светит большущая как тарелка, вода в речке журчит, в брюхе урчит — ужинать пора, дома Равиля долму сделала, чай заварила, сметану из погреба достает. Вдруг слышу — собаки завыли, залаяли, заскулили, вся улица голосит. Я в кабину за монтировкой — мало ли кабан с гор сошел или волк забрел, недобиток. Выскакиваю, вижу ко мне женщина бежит. Одета как татарки в селе на свадьбу наряжаются, платье расшитое, на шее монисто, на руках браслеты, перстни. А платка нет, волосы заплетены, как у девушки, и ноги босые. Подбегает она ко мне — и бах в ноги, колени обнимает, плачет. Я её поднимаю, спрашиваю по-русски — что случилось. Она головой трясет, говорит что-то не по-нашему.
— Иностранка?
— Местная. Я с ней по-татарски, и она по-татарски ответила, только не чисто, как караимы говорят или греки. Заклинает во имя Аллаха милостивого и милосердного, просит помочь её родне. Беженцы они, гонятся за семьей, вот-вот отыщут и всем конец — детям, старикам, женщинам. Увезти их надо, спрятать в убежище, пока не пришли янычары. Снимает с себя браслеты, мне протягивает. Я гляжу — золото, старое красное золото. Не беру конечно, обнимаю её, говорю, успокойся, сестра, заберем ваших, отвезем куда скажешь и никаких денег не надо — соседи соседям всегда помогут.
— И вы поверили, Рамазан? Взрослый же человек…
— Добрый слишком. Посадил её на переднее сиденье, спрашиваю, куда ехать. Она тычет рукой — по Ленина, потом свернуть в лес, к лесничеству. Грунтовка там паршивая, словами не передать, тем более ночью. Я спрашиваю вежливо так — может ваши из лесу выйдут, чтобы посадить их нормально. А она сердится, кулачком своим звонким по креслу стучит — езжай мол. Ну мое дело маленькое, завел мотор, дал по газам. Равиле позвонил — мол, задерживаюсь, дела. Другая бы браниться стала, а моя слова не сказала. Еду себе, автобус козлит по кочкам, чувствую, ветер усиливается, кабину хлещет со всех сторон. Пассажирка моя сидит, в сиденье вцепилась, пальцы белые, перстни богатые, с камнями, с чеканкой. Красивая, загляденье — рыжая как медь, лицо тонкое, глаза огромные, утонуть можно. На возрасте уже, не девчонка, но и не старая. Увидела, что я на неё пялюсь, аж переменилась. Но промолчала, только рукой махнула — спеши.
— Загадочная история, — понимающе кивнул я. (Мария, гордая — и кланяется земно простолюдину. Значит и мне не сказала, как близко прошла смерть).
— Это только начало. Въехали мы в лес. Я те места знаю, не то что на ПАЗике, на «козле» с трудом проскочишь. Ямы, выбоины, промоины, дорога кренится, колея в землю въелась. А тут автобус покатился легко-легко, словно не лесная грунтовка, а асфальт новенький. Я баранку налево кручу, к лесничеству. И вдруг пассажирка за руль раз! И выворачивает направо, к реке. Сдерживаюсь, чтобы не рявкнуть, повторяю: там только лесные тропы, нет никого и быть не может. Она сердится, кричит «вперед», словно я лошадь. Ладно. Едем вверх к руслу Бельбека — и тут огни справа, много огней, факелов. И стена встает трехметровая, старой кладки. Кручу голову, вспоминаю, там развалины были, землей заросшие, отец мальчишкой ещё могильные плиты видел, я уже не застал. Нынче ж шайтан попутал… замок стоит в три этажа с башнями, как на картинке, знамена под луной вьются. Внутри — крик, плач, овечье блеяние. И песня — словно бы кто-то молится не по-нашему. Разбираю только «Христаус».
— Неужели? — недоверчиво спросил я. (Кипия славный исар, но башня там невелика и стены давно не грозные).
— Аллах свидетель, — почти крикнул шофер. — Ворота увидел, тяжелые, бревенчатые, выщербленные. Остановился. Пассажирка моя наружу и давай стучать в колокол у ворот — выходите, мол. Я обе двери открыл. Смотрю — народ из крепости повалил. И правда — старики, женщины, дети, овцы с ними, собаки. Люди кто по-татарски одет, кто вообще не по-нашему. От автобуса шарахнулись, закричали. Женщина их успокаивать стала, уговаривать, потом крикнула не по-русски, ногой топнула. Взяла деда какого-то в красном плаще, повела за руку, за ними и остальные в салон забились. Как поместились — не знаю, не входит в автобус столько народу, у меня тридцать шесть мест по билетам. Но влезли — кто сидит, кто стоит, кто на полу устроился, детей на руки похватали, овцам на спины примостили. От отары вонь стоит, собаки воют — ад кромешный. И вдруг — барабаны в лесу загремели, дудки задули, пушка бахнула. Я и думать не стал, сдал назад, развернулся и по газам — ннна! Пассажирка давешняя на переднем сиденье скачет как на коне верхом, шарик синий, который ты приглядел, крутит как бешеная, то подбросит, то завертит. Я гоню — и не понимаю, как еду, куда еду. То сквозь чащу, то оврагами, то вдоль склона, то прямиком по воде, колес не замочив. А следом погоня идет, чувствую её шкурой, всей спиной потной. Понимаю — догонят, не пощадят никого, даже тележным колесом мерить не будут.
Пассажирка моя что-то кричит по-своему, женщины волосы распускают, гребни из кос достают, окна в салоне пооткрывали и гребни за собой на дорогу кидают. Я в зеркало глянул — за нами лес встал непролазный, ветки переплелись сетью. Слава Пророку думаю, отвязались. Пяти минут не прошло, снова чертова музыка загремела. Женщины мониста пообрывали, побросали в окошки — град пошел, да такой что быка с ног собьет. По стеклам колотит, по крыше, видимость никакая, чудом с обрыва не съехали. А те, с дудками, хоть бы притихли. Снова не помогло. Тут старик встал, посох взял, поцеловал в навершие и отпустил в люк. Смотрю — и душа в пятки, на дороге змея громадная, шипит, хвостом лупит. Я скорость до ста выжал, лечу, слышу за спиной крик, грохот — и тишина. Мертвая-мертвая. Оторвались.
Я помедленнее пошел, вижу дорога знакомая, едем мы напрямую к Малому Садовому, по бахчисарайской трассе, «жигуленок» какой-то навстречу просвистел, огоньки в домах виднеются. Беженцы попритихли, детей качают, молитвы свои твердят. Мальчик кудрявенький флейту достал, заиграл да так жалостливо, слезы на глаза наворачиваются. Я в зеркало глянул, проверить, чистая ли за нами дорога — а у флейтиста копыта вместо ботинок и рожки на голове растут. Тут пассажирка моя снова твердит «вперед». И по грунтовке наезженной мы выруливаем на вершину Кулле-Бурун. Крепость там «Сиреньская», как отец говорил — и вправду испокон веку там белой сиренью склоны заросли, крупной такой, не во всяком саду найдешь. «Остановка», говорю, «кто на выход». Пассажиры мои по одному осторожненько выбираются наружу, кланяются мне и уходят в ворота у круглой башни — как и не было их. Я потом салон убирать хотел — ни соринки, ни катышка овечьего не осталось. Рыжая красавица вышла последней. Снова золото мне протянула, браслеты кованые. Я не взял — за такое не берут платы. Так она в лоб меня поцеловала и в губы, обняла сильно… и цветами от неё пахло, горькими лесными цветами, Аллах… Ты не думай, я свою Равилю люблю, и ни разу от неё не гулял, но поцелуй этот на всю жизнь запомню. Вот стою на вершине горы, ветер меня, дурака, по щекам бьёт, туман кровь студит. Вокруг ни души, тишь предутренняя, только далеко-далеко барабаны стучат чуть слышно бам-бам, бам-бам.
И привиделся мне вдруг золотой разукрашенный город на перекрестке дорог. Ходит царственный внук по ковровой юрте, пьет кумыс из обкусанной по краям дедовской чаши, рисует карту китайской тушью, чертит стрелки — откуда пойдет конница, где поставить орудия стенобитные. У ног повелителя борзая собака с шелковой шерстью. За тонкой стенкой ржет-беснуется белый жеребец, просит — поехали по степи, обо всем забудем. И пастушья дочка, безвестная и бесценная, подает ароматный чай в фарфоровой чашке, смотрит снизу лукаво, позвякивает браслетами — чья здесь власть, чья воля, великий хан?
Тут и дождь полил, в чувство меня привел. Как я с Кулле-Буруна выезжал на своем ПАЗике, как выруливал — врагу не пожелаю. К утру был дома, выжатый как лимон, Равиля на меня посмотрела и на работу не отпустила, позвонила диспетчеру «грипп у мужа». А шарик этот в салоне нашелся, в бардачок закатился. Вот такая история… Зеленое — есть на выход?
Мальчик и девочка молча выбрались из автобуса, скрылись за поворотом дороги. Мы с шофером остались вдвоем в салоне, в темноте, полной гула мотора, неспешного, но уверенного движения. Звезды выкатились на небо, провожали нас острыми взглядами, прятались за клочками кружевных облаков…
Он свидетель и помнит все. До Биюк-Узенбаша я должен убить этого человека. Безболезненно, незаметно, легко — укол серебряной стрелки, едва царапнувшей кожу. Шофер вернется домой, съест свой ужин, ляжет спать немного раньше обычного и никогда больше не проснется. Мирная, непостыдная кончина — чего ещё пожелать? Жена поплачет и останется тихо вдоветь, младший сын займет отцовский дом, старший внук вскоре станет на дедово место. Я владетельный князь Феодоро, Александр Гаврас, кровный родич базилевсов великого Константинополя, жизнь и смерь всех живущих в долине — в моей руке, в моей воле.
Добрый человек Рамазан не взял платы с Марии, моей дорогой и беспечной сестры — зря, красное золото затмило бы ему взор. Он запомнил дорогу от замка к замку и сохранил клидий, ключ от потайных троп. Добрый человек Рамазан разговорчив, беспечен и раскроет любому секрет последних жителей забытого княжества. Наши враги хитры и коварны, внимательны и жестоки. Они поклялись истребить род Гаврасов до последнего семени, выкупить нашей кровью свою свободу. А мы поклялись выжить, дождаться долгого мира в Тавриде, синего плаща богородицы в синем небе. И держим клятву, поднимаем флаги на башнях, твердим молитвы на языке епископа Иоанна и святого Никиты Готского, оберегаем путников и приумножаем стада, собираем урожай с заброшенных виноградников, чистим колодцы и пестуем родники. И не ссоримся с теми, кто ведет свой род от Лилит и её потомков, от богов Одиссея и веселых духов лесов и рек. Мы плоть от плоти Тавриды, чужие зерна, навсегда вросшие в эту землю. Я щит и меч, можжевельник и башня, я храню свой народ, чту законы и не имею права на слабость… Но мы разделили хлеб.
— Послушайте, уважаемый — может подскажете, где бы мне отыскать ночлег в такое позднее время? Есть в Счастливом какая-нибудь гостиница, гостевой дом, караван-сарай?
— Зачем сарай, дорогой? Гостем будешь, а с утра разберешься, куда тебе надо.
Мы сидели в уютном дворике до утра. Неразговорчивая, но любезная Равиля накрыла стол так, словно ждала дорогого брата. Вопреки заветам Аллаха, Рамазан достал кувшин домашней настойки на шелковице, сладкой и терпкой одновременно. Добрая выпивка развязывала языки и согревала сердца. За эту ночь я узнал о шофере все, принял в себя память заполошной чужой жизни. А на рассвете угостил щедрого хозяина редкостным золотистым вином. Один глоток дарует забвение, смывает с души горькую тяжесть прожитых лет, второй — навсегда стирает дни и недели. Третьего я не дал. Последнюю лозу Диониса какой-то дурак чиновник приказал вырубить тридцать один год назад, заодно с вековыми узенбашскими виноградниками. Запасы почти иссякли, но князь платит долги по чести и самое драгоценное вино в мире не стоит человеческой жизни. Разговорчивый Рамазан никогда не вспомнит ни меня, ни Марию, ни дорогу сквозь осенний перепуганный лес. Я же вернусь домой.
Солнце ещё не поднялось, легкий свет едва тронул вершины гор, пробежался по пестрым склонам, занял розовых красок для облаков. Речка прыгала по камням, с плеском несла сладкую воду вниз в долину, к иссохшей, измученной летней жарой земле. Автобус, покрытый налетом росы, дремал на площади. Я позвал клидий — и лиловый шар наполнил ладонь привычным тяжелым холодом. Все чисто — ни разбойничьей шайки ди Гуаско, ни пехоты наглеца Ломеллини, ни проклятых янычар кровопийцы Ахмет-паши… На остановке у магазина, прямо на бетонном полу, мирно спал местный пьяница, рядом с ним безмятежно дрых черный пес. Я прищурился — так и есть, старый шайтан притворился собакой, собирает дурные слова. Ну и черт с ним! Я вдохнул свежий воздух, пахнущий яблоками и дымом, трижды хлопнул в ладоши. Рыжий конь, верный Сын Грома, унесет меня в замок. Верхогляды-туристы уже разъехались, пора готовиться к осеннему пиру, созывать родичей, примиряться с врагами на одну ночь в году. Стены Дори, пещеры Мангуп-кале ждут своего князя. Вперед!
Детное зелье
Запах яблок пропитал лес насквозь. Сладким духом тянуло из чащи переплетенных, обрисованных солнцем ветвей, с ветхих ковриков палой листвы — осень ещё не вступила в свои права, пестрой осыпи не хватало, чтобы укутать землю. Над головой Кати то и дело краснели плоды кизила, похожие на татарские бусины, с обеих сторон тропы дерзко торчали пучки шиповника. Яблоки подкатывались под ноги, дремали в блеклой траве, мокли в заводях — зеленые, желтые, гладкие и веснушчатые, мелкие, словно галька. И вкус у них был особый — вязкий и терпкий, с толикой нежности.
Тропа упрямилась, то подставляя выпуклый корешок, то скользя жирной глиной. Но Катя пробиралась вперед, отводила от лица ветки, ловила равновесие на бревне, перекинутом через болотину, разувалась и переходила вброд быстрые протоки. Она искала самую старую яблоню в этом лесу.
Бабка Харита сказала: найди. Вымойся в бане, оденься в чистое, не бери ничего вашего — только глиняный горшок, резную ложку и горный мед. Выйди с рассветом, вернись до заката, ступай вдоль Черной реки. Отыщешь дерево, собери с него дикие яблоки, наломай хвороста, набери темной воды, свари варенье и не вздумай попробовать. Дома съешь сама и дашь мужу. И будет у вас ребеночек!
Катя с мужем Сергеем десять лет мечтали о сыне. Врачи разводили руками — здоровы оба, север, климат, езжайте к солнцу. Но и Крым не помог — супруги каждое лето навещали родню в деревне, пили молоко, купались в море и возвращались вдвоем. Катя чувствовала, что муж отдаляется, охладевает, словно вьюги забытого богом городка Лабытнанги студят не только дом, но и душу. Подняться бы в родной Питер или переехать сюда, под Бахчисарай. Нет — деньги, работа, надо.
В последние пару лет муж увлекся пещерами, Катю с собой не брал — не женское дело. Вчера снова уехал на свой Мангуп с компанией развеселых бородатых парней. А Катя по совету соседки постучалась к старухе-гречанке. Морщинистое как пересохшая глина, смуглое лицо бабки казалось добрым, и денег та не взяла — яиц, сыра да пестрый платок… Вот и яблоня!
Мощное дерево, с трещиной поперек ствола и раскидистой кроной, усыпанной золотистыми яблочками, тонкокожими, с хмельным запахом. Бери — не хочу. И очаг поблизости — белесые, плоские камни, сложенные кругом, с растопкой посередине. На одном из булыжников проступали полустертые буквы. Катя не стала всматриваться — солнце уже спускалось.
Она подвинула камни, чтобы горшок стоял прочно, развела огонь с первой спички, налила стылую воду, медленно развела мед. Когда жидкость забулькала, закипая — подсыпала фрукты. Мурлыча под нос колыбельную, Катя помешивала варево, проводила ложкой по шершавому дну и бокам горшка, вынимала лесной сор, отгоняла назойливых ос. Вскоре яблочки стали полупрозрачными, жидкость загустела и запахла так сладко, что у поварихи потекли слюнки. Она подняла ложку — стекающий сироп показался солнечной паутиной.
Смешно сказать: женщина с высшим образованием поддалась суеверию! Катя слизнула липкую сладость, капля варенья, сорвавшись с ложки, впиталась в почву. Боже мой, до чего вкусно! Обязательно надо оставить Сереже — не поможет, так хоть полакомимся.
Убрав теплый горшок в рюкзак, Катя убедилась, что огонь потух, затем, вспомнив детскую сказку, поклонилась яблоне и реке — спасибо. И поспешила домой — идти по лесу после заката ей не хотелось.
В этот вечер муж не вернулся, даже не позвонил. Соседка успокаивала Катю — погода, связь пропадает. И вправду к ночи поднялся ветер. Скрипели окна, вздыхала крыша немолодого дома, шуршала опадающая листва. Потная Катя металась по постели, то сбрасывая с себя простыню, то кутаясь — она дремала вполглаза и никак не могла уснуть. Чужая жизнь пришла из темноты, накрыла женщину перепачканным кровью плащом.
…Савмак был сарматом — могучий, зеленоглазый, с копной волос цвета сохлого ковыля. Ребенком он попал в плен, стал рабом и носил оковы. Юношей — жаждал свободы и получил её, отбил мечом, откупил смертью. Он возвел Город Солнца в степях, там, где зреет виноград и колышется море пшеницы. Четыре года все дети и старики получали хлеб, женщины сами выбирали возлюбленных, эфебов учили владеть оружием, управлять колесницей и сочинять гимны. В Городе не было ни рабов, ни господ, ни нищих, ни богачей. Весной и осенью жители танцевали в честь богини, чье имя нельзя называть вслух, несли в храмы колосья, мед и дикие яблоки — никакой крови на алтарях. Савмака хотели назвать царем, но он отказался. И на солиде, отчеканенном в Городе, написал «Равный среди равных». А потом полководец с холодным именем Север привел легионы в Тавриду…
Поутру, едва солнце стукнуло в стекла, Катя снова сорвалась в лес. Черная речка вздулась, как вена на бицепсе силача, тропу размыло, развезло, засыпало упавшими ветками — и здоровому мужику не пройти. Но Катю словно тащило за руку — вперед, дальше, быстрее.
Время отказалось от власти над старой яблоней, зато буря не пощадила. Огромное дерево рухнуло, как гладиатор, вывороченные корни торчали в воздухе, плоды осыпались в грязь. Катя упала на колени перед мертвым стволом, пальцы зарылись в мягкую почву. И нащупали что-то холодное, плоское, гладкое. Монета! Почерневшая, но прекрасная, с чеканным лицом вождя. Мужчины, который стал прахом, не оставив после себя детей. Катя плакала о Савмаке, пока оставались слезы. Потом подобрала монету и потащилась назад по мокрому бурелому.
Сергей вернулся под вечер, довольный и виноватый. Рассказал о пещерных убежищах готского княжества, привез персиков и вина, подарил перстень с кораллом. Похвалил Катину стряпню, умял полгоршка варенья, подбирая сироп кусками пресной лепешки. Про монету прослушал. Ночью жадно ласкал, говорил сладкое, как перед свадьбой. Потом уснул, словно выключил свет.
Катя долго лежала в пахнущих лавандой простынях, положив тонкую руку на низ живота. Она чувствовала — внутри неё, в бессветной тайне, под биение крови завязывается новая жизнь. Родится сын. Следом ещё сын. И, наверное, дочка — времени хватит.
…Только первенец будет зеленоглазым, с волосами цвета сохлого ковыля.
Остров доброй надежды
…Солнце и соль над пустотой океана, Где птицам неведомо, что такое гнёзда, Медузы прозрачны, а ночные звёзды Отражаются в спинах горбатых китов, и в солёных туманах нет берегов… Рома ВПРДирижабль «Линкольн» разгружался в порту Папеэте. Мисс Джулия Доу сошла на остров последней. Уже поймали и закрепили стыковочные канаты, сбросили шаткие трапы. Покинули борт солидные господа туристы в дорогих белых костюмах, блестя перстнями и цепочками от часов. Спустились — кто величаво и гордо, кто обвисая на плечах горничных — разодетые жены, дочери и подруги нью-йоркских акул биржи. С трудом сполз немолодой священник, за ним — стайка деловитых монахинь. Помахивая чемоданчиками, сбежали братья-комивояжеры — на борту они избавились от половины запаса «французских» духов. Матросы начали осторожно переправлять на сушу чемоданы, корзины, картонки, клетки с собачками и попугайчиками. А Джулия медлила. Сказать по правде, она боялась.
Все началось год назад в нью-йоркской галерее искусств. Выставка «Южный крест» собрала всех городских любителей, ценителей, творцов, продавцов и покупателей живописи. Лучшим экспонатом публика единогласно признала «Розовый закат» он же «Прощание с Папеэте» никому не известного Пэдди ОТула. Простое на первый взгляд полотно — алое солнце в гаснущих волнах, уплывающий парусник и таитянская девушка на берегу. Однако изобилие точных деталей заставляло разглядывать картину как ребус, находя все новые смыслы. Вдохновленная Джулия четырежды возвращалась в музей и всякий раз высматривала что-то новое. Белую бабочку на гирлянде белых цветов, обвивающих плечи туземки. Сгусток туч «будет буря» на горизонте. Красную птицу над крохотным гнездышком, полным разбитых скорлупок. Смуглого юношу в тени пальм — его явно не огорчало отплытие корабля. Золотые монеты, разбросанные по белому песку вдоль прибоя. Каждый образ делал картину глубже, добавлял понимания. Нет сомнения — приди Джулия в пятый раз, она усмотрела бы ещё что-то. Но вместо завистливого созерцания ей захотелось превзойти чужой успех.
Из интереса она стала разыскивать другие картины Пэдди ОТула, нашла одну, в бесплатной библиотеке Бронкса. Заурядный, аляповатый пейзаж прерии с неизменной тушей бизона на заднем плане. Никакого сравнения… похоже, дело в жаркой светописи южных морей, в горячем солнце и щедрой палитре неба. Так у Джулии появилась мечта.
Картинам перспективной художницы давным-давно не хватало тропического буйства красок. Уже много лет она рисовала один и тот же сюжет — вид из окна мансарды сквозь стекло, залитое дождем. Цепкий взгляд Джулии всякий раз выхватывал что-то новое: усталая кухарка гладит уличного котенка, кокетка-горничная глядится в осколок зеркала, негритенок пускает кораблики, крыса крадет яйцо. Всякий обыкновенный двор полон необычных событий.
Работы Джулии пользовались небольшим, но устойчивым спросом. Скромный заработок обеспечивал ей независимость, мансарду она же мастерская, свиные отбивные с горошком, мятные карамельки, шляпки и даже синематограф. Но о путешествии на тропический остров речи конечно же не шло, даже если бы она (ни за что!) отказалась от конфет до конца жизни.
Промозглую, серую нью-йоркскую зиму художница прохандрила. Место пожарников и газетчиков на её картинах заняли бравые моряки и капитаны стремительных дирижаблей. Место городских птиц — попугаи и чайки. Место собак и кошек не занял никто — ни львов, ни гепардов на островах не водилось, там вообще нет хищников, кроме акул. Поместить злобную рыбу в нью-йоркский двор не под силу даже очень богатой фантазии. Оставалось последнее средство.
В канун Пасхи Джулия собрала в прическу пышные рыжие волосы, которые обыкновенно закручивала узлом. Вытащила из шкафа единственное приличное платье, почистила ботинки и поменяла шнурки. Кое-как отмыла пальцы от акварели, угля и туши. Скорчив гримаску, обвела рот полузасохшей помадой, тронула за ушами пробочкой от духов. Надела фамильное кольцо с аметистом, сережки, цепочку с золотым медальоном. Взяла перчатки, платок и зонтик, не стала скакать по лестнице, остановила кэб. И поехала, преисполненная решимости и стыда.
Тетя Зозо не ожидала увидеть дорогую племянницу и уже не надеялась, что та образумится, задумается об устройстве судьбы. Зазвенел колокольчик, расторопная горничная вмиг накрыла легкое угощение — каких-то пять-шесть видов закусок, русская икра в вазочке, свежайшие устрицы, лимбургский сыр, бокал вдовы Клико для юной мисс и кальвадос для старой девы. На десерт Джулия припасла восхитительную историю о прекрасной любви и жестокой разлуке, о соблазнителе с нафабренными усами, чьим чарам она почти поддалась, но ускользнула. Тетя кивала, ахала, всплескивала руками. А потом сказала драгоценной племяннице, что лучшее средство от разбитого сердца — путешествие. Мысли улягутся, тоска развеется, и какой-нибудь состоятельный джентльмен непременно обратит внимание на улыбчивую красотку. Куда бы тебе хотелось, милочка?
Слово «Таити» заставило тетю Зозо измениться в лице — даже у её щедрости были пределы. Однако надежда увидеть единственную племянницу у алтаря, в веночке из флердоранжа, оказалась сильнее. Круглой суммы, выведенной на чеке нетвердой рукой, хватило на то, чтобы пройдохи-клерки из конторы Кука отодвинули стул перед мисс Доу, предложили ей чая с печеньем, за считанный час разработали весь маршрут и связались по телеграфу с аэропортом — пароход стоит столько же, только плыть, мисс, вы будете месяц. Желаете? Правильный выбор.
Четыре дня пути оказались не самыми лучшими в жизни художницы. Облака походили на снежные замки, небесная синь казалась прозрачным морем, виды из пассажирской гондолы кружили голову, но полет на дирижабле вызвал у Джулии первый в жизни приступ морской болезни. Лишь к концу путешествия получилось принять душ и немного поесть. Но все проходит — кончился и полет. До встречи с мечтой оставались считанные минуты. Джулия глубоко вздохнула, решительно поправила шляпку, взяла этюдник и вышла из каюты. Чемоданчик понес стюард.
Ожидания не оправдались. Буйство красок, звуков и запахов ошеломило художницу, солнце впрыснуло в кровь дозу жаркого яда. Джулия ещё не знала, что полюбила Таити на всю жизнь, она осматривалась, не в силах остановить взгляд ни на чем. Непреклонные пальмы, кустарники, украшенные причудливыми цветами, бабочки, огромные как птицы и птички, маленькие, как бабочки. Белоснежное здание порта, стройные колонны, гвардейцы в варварски пестрой форме. Одышливый хрип чугунных ворот. И Папеэте.
Разноцветная, многоголосая, восхитительная толпа. Велосипеды, кэбы, рикши, одинокий простуженный паромобиль. Оркестр с гитарами, барабанами и таитянскими флейтами. Особняки в колониальном стиле, хижины, крытые пальмовыми листьями, белые простые дома. Чванные европейские туристы, величественные японцы, застенчивые китаянки так неловко ступающие на крохотных ножках. И таитяне — никогда в жизни Джулии не доводилось видеть настолько красивых, изумительно сложенных людей. Зрелых мужчин и женщин отличала грациозная телесная полнота, юноши и девушки походили на богов и богинь, нисколько не стесняясь своей ослепительной прелести… Эй, позвольте!
Зазевавшаяся туристка — законная жертва уличных зазывал. С десяток жадных рук потянулось к Джулии, толпа бессовестно окружила её. Предлагали только что сорванные кокосы с соломинкой для питья, пирожки по-китайски и осьминогов по-филиппински, маринованного тунца, масло ти, черные жемчужины, любовные талисманы, место в лучшей гостинице и самого быстрого рикшу в городе. Кто-то уже ухватил Джулию за рукав, кто-то вцепился в ручку старого чемоданчика, кто-то нацелился навешать наглецу оплеух.
— Прочь, акулье отродье, пошли все прочь! Отвяжитесь от барышни!
Невысокий, усатый янки в клетчатом костюме, с тросточкой и пенсне, не выглядел устрашающе. Однако толпа рассосалась мгновенно.
— Эти торговцы сведут с ума даже ангела. Если они снова начнут докучать вам, мадемуазель, скажите «маху ноэноэ!» и покажите пальчиком — вот так!
— А что это значит?
— Вам, красавица, лучше не знать. Позвольте, я провожу вас в уютную маленькую гостиницу, где вы найдете подобающее вам общество и лучшую в Папеэте креольскую кухню. Вы пробовали суп из бамии с креветками и кокосовым молоком?
Блекло-голубые глазки незнакомца блестели так жадно, улыбка выглядела столь сдобной, что Джулия заподозрила нехорошее. Она гордо отвернулась.
— Я не знакомлюсь на улицах, мистер, и не разговариваю с незнакомцами.
Клетчатый господин оказался настойчив.
— Позвольте представиться — Рейнард Тулуз-Лотрек, для друзей просто Рене. Меценат, покровитель искусства, торговец живописью… Вы ведь художница, барышня?
Джулия поняла — достаточно ей покачать головой, и докучный француз исчезнет. Но ей так не хотелось оставаться одной на набережной.
— Джулия Доу, жанровые миниатюры, арт-салон «Ренессанс». (там висела только одна картина, но ведь висела!)
— Вот мы и познакомились! — клетчатый господин улыбнулся ещё слаще.
— Скажите…
— Нет я не родственник. Просто однофамилец. У нас во Франции так много странных фамилий. Мой прадедушка был мосье Каплун, он женился на мадемуазель Фейфер и быть бы его потомкам каплунами с перчиком, но по счастью прабабушка рожала одних дочерей.
Продолжая балагурить, Тулуз-Лотрек увлек девушку в паромобиль, чертыхаясь, завел мотор, и машина запетляла по улочкам. Художница едва успевала поворачивать голову — дворец королей Помаре, гробница старого короля, резиденция епископа, Нотр Дам де Папеэте, мясной рынок — никогда не ходите туда одна, мадемуазель! А вот и приют талантов!
Белый особнячок с башенками и флюгером выглядел вполне мило. Необъятная таитянка в тюрбане и цветастом платье восторженно встретила дорогого Рене и прекрасную новую постоялицу. Цена за номер оказалась доступной, запах готовящегося обеда — восхитительным, стая желтых и тощих кошек — расположенной к дружеству. Из раскрытых окон доносился многоголосый смех, кто-то наигрывал на фортепьяно модную песенку «Мудрая старая совушка» — и неплохо, надо сказать, наигрывал. В тени цветущих лиан расположился красавец мулат с мольбертом, ему позировала юная негритянка. Две танцовщицы упражнялись прямо возле фонтана, в глубине сада кто-то напевал арию — жизнь кипела. Множество рук поднялось, приветствуя господина Рене и его гостью, множество голосов отозвалось «маэва»! Расцеловавшись с хозяйкой, миссис Техурой, Рене попросил принять барышню как родную дочь, и тут же, извинившись, исчез в саду — его ждал неотложный разговор.
К тесноватому номеру под самой крышей прилагалась ванна с благовонным маслом, уютное кимоно с аистами и охлажденный сок лайма. Счастливая и усталая Джулия немного вздремнула, свернувшись на плетеной кровати. Сновидений она не запомнила, но сон освежил её. Чтобы почувствовать себя дома не хватало лишь одного. Джулия раскрыла этюдник, закрепила чистый лист и привычными штрихами набросала контур мансарды, корзину роз у подъезда и мечтательную уличную побирушку. Затем, по совету вездесущей хозяйки художница отправилась на проспект Марешаль. Миссис Техура шепнула ей, что корсетов на Таити не носит даже жена Рокфеллера, а цветастые платья из местных тканей позволяют телу дышать в любую жару.
Магазинчики Джулию очаровали. В пару элегантных салонов она даже не стала заглядывать — туалеты от кутюр товар для богатых туристок. А вот пыльные темноватые лавочки с грудами юбок, парео и набедренных платков для местных модниц порадовали заезжую гостью. Легкая ткань и вправду давала телу прохладу, свободный покрой юбки позволял стремительно двигаться, кожаные сандалии придали упругости шагу. Джулия подумала — и решилась. Ни разу с тринадцати лет она не появлялась на людях без брони из холста и китового уса, без чулок и подвязок… боже, как замечательно!
Видела бы эти наряды тетя Зозо! Но старая дева далеко и Нью-Йорк далеко — словно его и не существовало. Есть только море и солнце, чайки и попугаи, запах цветов лахуа, звонкая перекличка торговцев, птичий гомон, меланхоличное бренчание укулеле. Невероятная синева, бесстыжая алость, молочная белизна, бьющая в глаза зелень. Шершавая фактура кокосового ореха, стершийся песок пляжа, гладкие словно кожа камни горячей лестницы. Груда фантастических рыб на палубе крытой лодки — шипастые, пучеглазые, ярко окрашенные, с причудливыми переливами и орнаментом чешуи — вот бы собрать натюрморт в духе малых голландцев. И лица, лица… Южное солнце шло всем — молодым и старухам, китаянкам, японкам и чернокожим, белым леди и белым совсем не леди. Сияли волосы и глаза, сверкали улыбки, играли плечи и бедра. Колыхались гирлянды из пышных цветов — половина таитянок украшала себя душистыми ожерельями. И мужчины казались смелее, горячее, стремительней, они гордо несли себя, страстно смотрели — и на неё, Джулию, тоже! Но она не искала знакомств.
Небольшое кафе в полинезийском стиле с верандой крытой панданусом не выглядело торжественным и народу в нем трапезничало не очень много. Зато аппетитно пахло дымком и рыбой, свежим хлебом и свежей зеленью. И молодой официант, блистая татуированным торсом, пробирался вдоль столиков, и пожилой лохматый скрипач расположился у бара, выводя «Совушку» — без особенной радости, но с въевшимся намертво мастерством. Джулия выбрала столик у самой набережной, чтобы наблюдать за прохожими. Она быстро расправилась с упоительно вкусным ужином, но уходить не спешила — потягивала кокосовое молоко, слушала музыку и наслаждалась.
На край стола опустилась бабочка, огромная как блюдце. Крылья покрывал сложный узор, похожий на восточную вязь, усики вздрагивали, мохнатое брюшко трепетало. Не наглядеться. У Джулии тут же возник новый сюжет — таитянская девочка бежит по тропинке, разбрызгивая утреннюю росу, а за ней летят бабочки, словно свита крылатых эльфов. Художница протянула ладонь, надеясь приманить южное чудо, но вдруг загремел барабан, второй, третий. Бабочка спорхнула прочь.
Джулия огляделась — на импровизированной полукруглой сцене у дальнего края набережной что-то происходило. К барабанам присоединились скрипки и кларнет-виртуоз. Вспыхнули факелы по краям сцены, служители зажгли лампы с кокосовым маслом. Взметнулась в небо тоскующая мелодия — словно над Папеэте собиралась буря, злой ветер хлестал облака, а берег замер в настороженной тишине, ожидая первых ударов волн. Толпа собралась мгновенно — пестрые птицы, что слетелись на охранительный свет маяка. Джулия тоже встала — ей сделалось любопытно.
Когда пространство перед сценой заполнилось до отказа, скрипки замолкли и барабаны на мгновение остановились. Танцовщица появилась из тумана беззвучия — только звон браслетов на узких щиколотках, да щелчки унизанных кольцами длинных пальцев. Высокая, гибкая, она была одета в серый шифон — многослойные шаровары, тонкий пояс, охватывающий рубаху и огромные рукава, тут же подхваченные ветром. Скрипка снова заговорила, дымные крылья взметнулись в такт. Буря бросала женщину-чайку о скалы, скидывала на гребни валов, кружила в потоке воздуха, угрожала огнями. Несколько раз ткань проносилась так близко от пламени, что казалось — танцовщица вот-вот вспыхнет. Но мелодия всякий раз уводила женщину от опасности, позволяла укрыться в шхерах, кануть в облако, подняться над утомленным миром, парить выше бури и наконец опуститься в доверчивые ладони синей лагуны. Рукава-крылья взметнулись в последний раз, серебряные браслеты смолкли, зрители разразились бешеными аплодисментами. Удивленная Джулия обратила внимание — танцовщица плакала, не скрываясь, размывая слезами грим. И у зрителей то тут то там предательски блестели глаза — у миллионеров, туристов, матросов и рикш, у их жен и подруг. Видимо, здесь не принято прятать чувства… Клетчатый однофамилец Тулуз-Лотрека оказался прав — это стоило видеть.
— Лучший выход Антуанетты, — громко прошептала какая-то сентиментальная дама, склонившись к уху своего кавалера. — Лучший и последний.
— Она любила маэстро Германа всей душой, — подтвердил мужчина и осторожно промокнул платком лицо. — Когда он сочинил свой шедевр, Антуанетта решила сотворить танец. Мы уговаривали, просили, молили…
Толпа колыхнулась, и Джулия так и не услышала, из-за чего танцовщица решила отказаться от волшебства сцены. Жаль, конечно, безумно жаль. С моря потянуло холодным ветром, компания моряков затянула немецкий марш пьяными голосами. Похоже, пора возвращаться.
Наутро, отдав должное кулинарным талантам мадам Техуры и её расторопных служанок, Джулия нарядилась в красное платье, отделанное по вороту причудливой вышивкой, и отправилась в картинную галерею Папеэте. Художницу немного знобило, словно перед экзаменом в колледже — происходило что-то странное, но она не понимала, что именно. Загадочные взгляды прохожих, перешептывания соседей по пансиону, слезы танцовщицы и истерика её товарки, случившаяся вечером во дворе отеля — длинноногая красотка визжала, бранилась как рыночная торговка и топтала ногами какую-то тряпку. Дело в ревности и любви. Или… Джулия не особо любила совать нос в чужие судьбы и тайны. А вот картины она любила и всегда жадно всматривалась в чужие полотна.
В галерее выставлялись в основном копии, списки с работ, сотворенных на острове за последние двадцать лет. И каждое полотно было в своем роде шедевром. Круглобедрая таитянка в цветочном поясе, с младенцем у пышной груди и ягненком, свернувшимся у ног. Катание на досках — юноши смеются, перекрикиваются о чем-то не слышном, но подразумеваемом, девушки в крытой лодке восхищены и лишь у старухи на берегу испуганное лицо — она смотрит на акулий плавник вдалеке. Увы, натюрморт в стиле малых голландцев — груда рыбы на деревянном блюде, расколотые кокосы, свежая зелень. Вариация «Розового заката» Питера ОТула. И далее, далее, далее… словно тропическое солнце наполнило кисти волшебной силой. Джулия улыбнулась — над всего лишь выждать время, и таитянская магия сделает свое дело.
— Время тут не причем, драгоценная барышня! Маэва!
От знакомого, бархатистого, медоточивого голоса Джулия вздрогнула. Клетчатый Тулуз-Лотрек подкрался незаметно и подслушал — похоже последние слова она произнесла вслух.
— Маэва! Мне казалось, мистер Лотрек, что дело именно в солнце, особой мягкой прозрачности воздуха и атмосфере вечного праздника. Нам, художникам, всегда не хватает тепла.
— Так вы не знали секрета? Вы приехали не к великому тахуа на ритуал красных повязок? — Подвижное лицо клетчатого господина сложилось в уморительную гримасу.
Джулия рассмеялась.
— Но ведь вы художница, барышня?
— Да.
— И мечтаете написать свой шедевр? Лучшую в жизни картину?
— Да, — потупилась Джулия.
— Тогда слушайте. Великие тахуа — жрецы Тангароа, отца и покровителя всех таитян. Они знают тайну первого короля острова, длинноухого Тики, который однажды приплыл из океана на крылатой лодке и покорил все земли вокруг. Когда белокожий пришелец захотел власти, тахуа призвал духов дождя, потушил священный огонь и плясал всю ночь, извиваясь в священном танце, царапая тело острыми раковинами. А поутру смочил кровью жертвы повязку из красной материи и завязал четыре узла по краям. Когда Тики поднял обсидиановый меч и направил его на вождей островных племен, он знал, что победит. Перед первой кровавой битвой он развязал узлы на повязке, и Тангароа шествовал впереди воинов. Тики отдал за это лучший день своей жизни — утро, когда он впервые встретил прекрасную Хина-и-ка-малама и одним ударом сразил двух её братьев-великанов, а затем выиграл в камешки право провести с принцессой ночь на берегу лагуны, под огромными звездами…
— Чудесная сказка, мистер Лотрек! Вы такой фантазер! — восхитилась Джулия.
— Я фантазер? — обиделся клетчатый господин. — Дорогая, бесценная барышня, Тулуз-Лотрек деловой человек. Я уже много лет промышляю шедеврами. Изумительными картинами и скульптурами, нотами чудных песен и зажигательных танцев, увлекательными романами и мистическими поэмами. Я меценат, мадемуазель Доу, я помогаю вам, творческим людям, создать лучшее в вашей жизни произведение, а потом покупаю его за хорошие деньги.
— И продаете за очень хорошие? — понимающе улыбнулась Джулия.
— Вы совершенно правы. Хотя гешефты мои и не так велики, как клевещут завистники. Отнюдь не всякий приезжий художник соглашается на ритуал красных повязок, отнюдь не всякий, кто прошел ритуал, рискует развязать узелки. Но смельчаки получают награду сполна. Картины вы уже видели? «Катание на досках» прекрасно — мистер Маккой был первым, кто пошел к великому тахуа и танцевал ночь в темноте, под молчание боевых барабанов. А «Прощание с Папеэте» — моя любимая, не могу насмотреться.
— Моя тоже, — кивнула Джулия. — Если б не «Розовый закат», я бы так и жила в Нью-Йорке.
— И это отнюдь не все. Вы слышали «Алоха оэ»? Королева Лилиуокалани надела красную повязку и сочинила единственную в жизни песню. По ту сторону океана немногие смогут произнести имя правительницы Гавайев, но мелодию знают все.
Aloha ’oe, aloha ’oe! E ke onaona noho i ka lipo…Клетчатый господин немилосердно фальшивил, но песню было ни с чем не спутать.
— А слепой художник, старый мерзавец?! Он отправился на ритуал, уже потеряв зрение, и сам тахуа ничего не заметил. От полнолуния до полнолуния негодяй покрывал фантастическими узорами полы, столбы и стены своего дома, наощупь вырезая цветы, птиц, лесных духов и древних богов. А на смертном одре приказал своей глупой таитянской вахине спалить шедевр.
— И она сожгла дом?
— Да. И ещё имела наглость требовать уничтожения фотографий — я успел отснять интерьеры и сделать открытки. Можно подумать, на них удалось заработать.
Джулия выразительно посмотрела на мецената, тот не отвел глаза.
— Ну так что, милая барышня, подпишем контракт? Хотите нарисовать свой шедевр, лучшую в жизни картину? Портрет возлюбленного, морской пейзаж, натюрморт с фруктами, вид из окна мансарды? А?
— Я подумаю, — помедлив, ответила Джулия. — У меня ведь есть время подумать?
Клетчатый господин кивнул, потирая ручки.
— Время — это единственное, что мы тратим, не заработав. Думайте сколько заблагорассудится, мадемуазель Доу.
Папеэте небольшой город, но кружить по нему можно долго — было бы желание. На ходу ясней складывается мозаика настоящего, четче видится контур. Балансируя по поребрикам и мосткам, перепрыгивая через корни деревьев, любуясь на синие горы и синие лоскуты моря вдали, Джулия бродила по улицам до тех пор, пока новые сандалии не натерли босые ноги. Ей грезились изумительные картины — зимородки урири у горной реки, таитянские мальчики на рыбалке, дикие лошади в чаше долины — белогривые и стремительные. Солнечный город Нью-Йорк в миг рассвета, аэростаты над мачтами, зеркала витрин, гладь асфальта, нечеткие штрихи первых прохожих. Капитан дирижабля в белой форме и белой фуражке с соколом — поднимаясь по трапу он машет рукой той, с которой надеется обвенчаться… и «Джефферсон» не сгорит в воздухе, не обратится в клочья жирного дыма…
Утомленная Джулия нашла приют в сквере недалеко от набережной. Тесные кроны деревьев, уютный полукруг скамеек, мраморная чаша воды из которого пьют краснохвостые птицы — совсем как голуби в Нью-Йорке пьют из уличного фонтана. Семья безмятежных туристов устроилась рядом в тени, прелестная девочка лет пяти играла камушками, её братишка гонялся за бабочками. Компания щеголей оккупировала скамейку, обсуждала проходящих девиц и модели паромобилей. Пышнотелая таитянка уселась подле фонтана на мраморные ступени, без стеснения стала зашивать юбку, собирать торчащие нитки. Бродячий торговец ракушками кружил рядом, взыскуя поживы, торговцу фруктами повезло больше — его товар пришелся по вкусу детям.
Белый мужчина в несвежей рубашке и мешковатых штанах, босой, с грязным красным платком на шее, производил впечатление нищего. Но на плече у бродяги висел этюдник и руки были испачканы в краске.
— Маэва, господа и дамы, доброго дня! Обратите внимание — всего десять долларов! Десять маленьких хрустких долларов, и я подарю вам шедевр! Розовый закат в Папеэте, нарисую у вас на глазах! Интересуетесь?
Туристы покосились на попрошайку и ретировались, прихватив детей. А вот у щеголей новое развлечение вызвало бурное перешептывание — они жестикулировали, показывали пальцами, хихикали. Откуда-то появилась бутылка рома — дешевого рома с липкой этикеткой. После коротких переговоров бродяга кивнул головой, но потребовал аванс. Один-единственный маленький стаканчик выпивки.
Алкоголь преобразил человека. Ссутуленные плечи расправились, в глазах появился блеск, губы упрямо сжались. Унялась дрожь в пальцах, движения стали уверенными. На этюдник встал серый картон, на палитру легли плевочки темперы. Никакого черновика — художник скупыми и точными мазками изображал «Розовый закат», по памяти воспроизводя детали. Кое-что изменилось — печальная улыбка стала мечтательной, у ног девушки вилась кошка — но картина осталась прежней. Мастерству можно было лишь позавидовать. И Джулия завидовала — она впитывала урок, запоминала каждый взмах кисти.
— Он четыре года рисует только закаты, мисс! И только когда пропустит стаканчик. Бедняга совсем спился. Деньги тотчас вскружили ему голову, а друзья и подруги быстро освободили от лишнего груза. Увы, так бывает, когда на маленького художника падает большая слава.
Неожиданным собеседником Джулии оказался красавец мулат из отеля. Он разглядывал девушку с неприличным вниманием — не будь красавец художником, пришлось бы встать и уйти. А сейчас Джулия ощущала, что интерес профессиональный — и это было приятно.
— Разве вам не жаль товарища? — спросила она. — В нем погибает большой талант.
— Уже погиб, — равнодушно отозвался мулат. — У Пэдди ОТула сорвало замки на шедевре, который он умудрился создать, словно курица, высидевшая дракона. Он больше ничего никогда не напишет. И вы, мисс, можете оказаться в той же ловушке. Я видел, кто привез вас в отель. И сам проходил ритуал.
— Неужели? — удивилась Джулия. — И какую картину вы написали, простите… мы не знакомы?
— Вы мисс Доу. Я Горацио Тарлтон, высшая школа изящных искусств, Париж. Родился в Атланте, с отцом уехал в Европу, с друзьями отправился искать вдохновения в тропиках. Усатый жулик купил меня на любопытство. Кстати, полагаю вы поняли, что он такой же Тулуз-Лотрек как я Модильяни? Поляк, может быть венгр, но не француз. И эта его отвратительная манера двигать пальцами, словно что-то завинчивая, безумно бесит.
— Мне тоже сделалось любопытно, мистер Тарлтон. Языческий обряд, огни, духи — вдруг и вправду высшие силы способны изменить путь художника?
— Вы же умная девушка, мисс Доу. Какие высшие силы в наш век науки, телеграфов, дирижаблей и пара? Ритуал — выдумка для туристов, вонючий старик завяжет вам глаза и всю ночь будет прыгать вокруг потрясая палкой с черепом игуаны. А потом подарит на память красную тряпку. Смотрите!
Из кармана изящного пиджака мулат достал скомканную красную повязку с четырьмя узлами на краях. Чиркнул зажигалкой, прикрыл пламя ладонью от ветра, сбросил обгорелый лоскут в урну.
— Пусть дикари пляшут с дикарями. А я возвращаюсь в Париж — пить вино на Монмартре, гулять по Елисейским полям, глазеть на девушек в кабаре — они носят подвязки с алыми кружевами и не просят любви, только деньги. Начну писать портреты — нет ничего интересней, чем заглянуть человеку в глаза и вытащить, что он скрывает.
— Счастливого пути, мистер Тарлтон, попутного ветра и легкой посадки! — вежливо улыбнулась Джулия.
— Я хотел бы писать вас, упрямая и холодная мисс, хотел бы, чтобы солнце отражалось в ваших зеленых глазах, чтобы волосы трепал ветер и мокрое платье дерзко облепляло фигуру. Но ведь если я позову вас в Париж — вы откажетесь?
— Да.
— Истинная американка, — фыркнул мулат и удалился, не прощаясь.
Джулия не стала провожать его взглядом. Она остановила первого встречного рикшу, доехала до гостиницы и закрылась в номере. Лучшим способом выплеснуть переполняющие чувства оставалась работа — дождь на стекле, неуклюжая побирушка, груды роз и опавшие лепестки. От картины художницу отвлекли вопли и слезы — крутобедрая негритянка-натурщица собирала разбросанные по двору вещи, громко сетуя, что подлец Горацио выгнал её, как кошку, позабыл даже день, когда они встретились.
Клетчатого господина не пришлось долго ждать. Едва Джулия собралась на утреннюю прогулку, одышливый паромобиль уже пыхтел у ворот. Согласие художницы не удивило Тулуз-Лотрека, требовалось лишь соблюсти формальности.
— Что за экзальтация, мисс Доу? Никакой крови! Заводские чернила и писчая бумага, ваша роспись и честное слово не продавать шедевр никому кроме меня. Согласны? Вот и умница.
Подготовка к ритуалу оказалась пугающей. На крытой туземной лодке Джулию отвезли к удаленному скалистому берегу. Сутки пришлось провести в хижине из пальмовых листьев, без ванны, еды и питья. От своей одежды тоже пришлось отказаться. Две покорные таитянки с поклоном преподнесли гостье широкую белую рубаху и плащ, вытканный из крапчатых пышных перьев. Запах кокосового масла, которым следовало умастить тело, вызвал у Джулии тошноту. Великий тахуа оказался лоснящимся голым стариком, татуированным с ног до головы — бедра прикрывала алая повязка, все остальное было расписано. От грохота барабанов и дыма костров тотчас разболелась голова. Но Джулии было не занимать упрямства, раз выйдя в дорогу, она намеревалась продолжить путь до конца.
Когда великий тахуа протянул руки, художница вспомнила лучший день в своей жизни.
…Канун Пасхи, ей исполнилось пять. Нарядная, пахнущая духами мать взяла дочь с няней в гости к другу-художнику — заказать портрет маленькой Джулии. В мастерской пахло красками, маслом, нагретым деревом, благовониями и табаком. Мать куда-то исчезла вдвоем с другом, няня пригрелась в кресле и задремала. А она, Джулия, добралась до мольберта и начала открывать тюбики с красками — сперва робко, выдавливая по капельке, после щедро, размазывая ладонями густое разноцветное счастье. Синяя полоса, белая, алая, снова синяя — но другого, задумчивого оттенка. Унылой девочке на холсте так пойдет веночек из желтых лохматых пятен, похожих на одуванчики. У раненой лошади нужно закрасить кровь — она не должна течь, даже на картине. А на белой стене мансарды так красиво рисуется огромное солнце! Маэва…
На глаза легла повязка из колючей и плотной ткани, руки тахуа затянули и закрепили узел. Барабаны загрохотали, звук, кружась, поднялся в небо, следуя пути дыма от священных костров. Джулию подняли на ноги и вдруг стали бросать, толкать, перекидывать из одних рук в другие, поднимать над землей и ронять на траву. Сделалось страшно, голова закружилась. Чтобы освободиться достаточно снять повязку… не дождетесь. Сжав зубы до хруста, Джулия покорилась десяткам рук, расслабилась, перестала думать — словно она волан, украшенный перьями, невесомая игрушка нарядных барышень.
Барабаны умолкли разом, тишина подкралась как огромный зверь. Клубы вонючего дыма окутали Джулию, она закашлялась, скорчилась у земли, потом вспомнила — это гасят огни. Пришло время слепого танца.
Кто-то взял художницу за руку, за самые кончики пальцев, заставляя подняться. Повел по кругу, то убыстряя шаг, то замедляя до невыносимого. В босую ногу впился камушек. Но наклоняться нельзя, останавливаться нельзя. Потные пальцы разжались, Джулия осталась одна. Она чувствовала дыхание десятков человек, составляющих круг, согласные движения рук и ног, запах тел, маслянистый и резкий, уходящую горечь дыма, тающую теплоту утоптанной, плотной земли. Пока барабаны не застучат снова, ей нужно двигаться. Поднимать руки-крылья, перескакивать как цикада, красться подобно кошке, падать как перышко, извиваться волной. Чтобы танец заполнил все тело от ступней до волос, чтобы неслышная музыка вела сквозь жадную темноту, чтобы татуированный бог спустился с луны и пришел танцевать рядом, увенчанный гирляндой из белых цветов, несущий великую силу.
Время исчезло, усталости не осталось, страх растворился как соль в волнах — так должно быть танцевали греческие менады на празднике Вакха. Джулии привиделась эта картина — женщины с распущенными волосами, увитые виноградными листьями, несущие факела и жертвенных ягнят. «Эван, эвоэ» — и алые капли вина по загорелой коже. Распахнув руки, художница закружилась на месте, словно небо кружилось с ней. И ударили барабаны.
У Джулии подкосились ноги, она упала в пыль. Таитянские женщины подняли её, обтерли лицо и руки влажными листьями, напоили чем-то густым и сладким. Великий тахуа медленно снял повязку, закрывающую глаза художницы, промокнул тканью свою расцарапанную в кровь грудь и завязал четыре узла. В больших, совиных глазах жреца играли смешинки.
Всю дорогу назад Джулия промолчала. От расспросов встревоженного Тулуз-Лотрека она отмахнулась не глядя, от сочувственных взглядов соседей и оханья миссис Техуры увернулась на раз. До ночи она просидела запершись у себя в номере, глядя на холст, доводя до ума работу. Чего-то здесь не хватало — то ли бабочки на окне, то ли письма в корзинке. Ночь прошла без сна — Джулия спустилась на пляж и до рассвета просидела у кромки воды, слушала волны, любовалась луной и ночными птицами. Лихорадочное ощущение полноты силы тяготило её, требовало выхода, просилось наружу — так должно быть чувствует себя женщина перед родами.
День Джулия проспала мертвым сном. Ближе к вечеру вышла из комнаты, потребовала ванну, получила её, нарядилась в красное платье с расшитым воротом, распустила волосы и покрыла их красной повязкой. Постояльцы гостиницы смотрели на неё с любопытством и жалостью, Джулия делал вид, что никого не видит. Картины теснились перед внутренним взором — бабочки, таитянки, совы и лошади, бесчисленные соблазны. Отражения звезд в синих спинах горбатых китов, летучие острова, мягкая сладость ультрамарина, ласковый бархат умбры, покорный штрих — нарисуй, нарисуй меня!
Джулия вышла в город, ощущая тяжесть обсидианового меча в руке. Путь змеился следом гадюки в пыли. Но добрая надежда согревала сердце художницы.
Сцена на набережной стояла пустая, сегодня никого не ждали. Но ожидали — как только заиграл таитянский оркестр, и лохматый угрюмый скрипач завел «Совушку», публика собралась мгновенно. Три вещи одинаково привлекают толпу — птицы, летящие на маяк, дельфины, выброшенные на берег и люди, готовые сделать последний шаг. …Только бы все пришли, только бы тахуа не оказался обыкновенным обманщиком.
Увидев в толпе бледное, словно стертое, лицо танцовщицы, Джулия развязала узлы красной повязки — один за другим. И вышла к людям.
— Вы ждете, что я станцую для вас или спою, напишу музыку или картину. Вам нужен шедевр, нечто необычайное. То, что заставит ленивые сердца биться быстрее, разгонит кровь, разбудит сонные губы — так римляне приходили на гладиаторские бои. Вы получите зрелище — но не то, которого ждете.
Сотни глаз взяли Джулию на прицел, сотни взглядов следовали за отважной фигуркой в красном, мечущейся по сцене.
— Индейцы знают — можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить её пить. Художники помнят — никакие краски и кисти, выставки и академии не помогут создать картину, если человек бездарь. И никакой голод, никакие лишения не помешают, если живая вещь просится наружу. Вы думаете — таитянский колдун дал художникам силы? Вы считаете, будто чьи-то слова могут возвысить или отбросить в грязь, будто красная тряпка сделает гением, будто деньгами можно измерить настоящую цену? Только сам человек выпускает птицу из клетки, творит чудо, словно это последнее чудо в жизни. Да, силы кончаются, да осыпаешься, падаешь вниз. Потом встаешь и делаешь ещё раз. А птица улетает своим путем.
Люди молчали и молчание было грозным. Джулия понимала — медлить нельзя.
— Антуанетта, Антуанетта! Собирайся на сцену, твой выход — публика ждет.
В ссутулившейся, неприметно одетой женщине невозможно было узнать гордую танцовщицу. Руки висели плетьми, глаза подернулись пленкой, как у больной канарейки. Антуанетта шла мимо музыки, пошатываясь как пьяная. Аплодисменты прозвучали пощечинами. Движения рассыпались как пластинки из веера — вправо, влево. Смятая женщина попробовала пролететь гордой чайкой от кулисы к кулисе, но споткнулась и упала лицом на доски. Кровь запачкала красный платок, танцовщица заплакала на глазах у толпы, вызывая смешки и шиканье. Не о чем говорить, незачем ездить на дохлой лошади. Умерла так умерла… как умирают зерна, брошенные на пашню. Музыка скомкалась, оркестр замолчал, только скрипка пиликала, выводя хромоногую «Совушку». Алоха оэ, прощай, искусство…
Неопрятный, нелепый, бледный от пьянства художник перевалил через рампу, плюхнулся на край сцены. Этюдник раскрылся, тюбики с краской рассыпались по полу. Но Пэдди ОТулу не было дела до таких мелочей.
— Поднимайся, малышка. Поднимайся и покажи им всем! Не надо плакать о пустяках.
Художник протянул руку. Танцовщица встала. Прошлась кругом, опираясь о перепачканную в краске ладонь, отпустила её. И упала в пространство, как рыба в море. Есть право первого шага, первого стука каблуков о покорное дерево, первого свиста рассеченного воздуха. Ты идешь и танцуешь музыку или музыка танцует тобой, ведет по доскам веселой марионеткой, тянет к небу, раскрывает пальцы диковинными цветами. И неважно, смотрят ли на тебя, идут ли следом, как тебя звали раньше и как назовут поутру — есть только миг движения, правота ножа, истина летучей рыбы, мудрость совы…
— Прекратить! Запретить! Молчать! Мерзавка, ты сломала мне бизнес!!! — потный, злой, раскрасневшийся Рейнард Тулуз-Лотрек больше не походил на приличного мецената. Таких субчиков полным-полно в Бронксе, в темных парадных и скверных пабах. Их оружие страх, их власть невежество, они вылавливают поодиночке и бьют в спину.
Не ощущая страха Джулия вышла вперед, прикрыла собой танцовщицу. Она видела, что карман пиджака у клетчатого господина тяжело оттопырен и боялась, что тот будет стрелять. И вправду, рука потянулась к рукоятке нагана — красивого, дорогого, с перламутровой ручкой. Медленно, очень медленно, чтобы жертва успела раскаяться перед смертью.
— Поцелуй медведя под фартуком, старый ящер!
Недолго думая, Пэдди ОТул запустил в клетчатого господина пустым этюдником. Тот увернулся, но на этом везенье и кончилось. Метко пущенный перезрелый плод манго облепил гневную физиономию, кокосовая скорлупа угодила в живот, нотная тетрадь — в затылок. Целый град фруктов, раковин, мусора обрушился следом. Художники и музыканты мирные люди, но в самом кротком, в самом скромном служителе муз таится свирепый зверь — лучше его не будить.
— Я же хотел как лучше! — взвыл клетчатый господин. — Вы творили шедевры! Я же платил вам, честно платил, слышите!
Слушать его, увы, не стали. Кто-то уже шумел насчет дегтя и перьев, кто-то целился ананасом в потную лысину, кто-то карабкался через рампу, свирепо блестя глазами. Клетчатому пришлось бы плохо, но он обладал проворством помойной крысы — оставил в мощных пальцах скрипача драгоценный пиджак, спрыгнул в оркестровую яму и испарился. На Таити никто и никогда больше не встречал господина Тулуз-Лотрека.
Таитянский оркестр снова грянул «Совушку» почему-то перешедшую в залихватскую хулу. Из ниоткуда взялось шампанское, щеголи притащили бочонок рома, щедрый гость из Америки выкупил весь товар у торговца креветками и веселой пирожницы и предложил — налетай. Загорелые девушки уже плясали, вешали гирлянды на шею гостям. Танцовщица Антуанетта рыдала от счастья, обняв своего скрипача, тот поглаживал пышные волосы, прятал в них сияющее лицо. Пэдди ОТула обступили сразу две туземных красавицы, отчего художник сразу помолодел. На Таити всегда найдется минутка повеселиться!
…Художница умела исчезать незаметно. Она вернулась в гостиницу, избежав настойчивого внимания миссис Техуры. Сменила красный наряд на кимоно с журавлями, осторожно сложила красную повязку и убрала подальше. Задумалась ненадолго — не пора ли собирать вещи, но вспомнила о диких лошадях и огромных бабочках. Свой шедевр она, увы, не напишет — ни один настоящий художник не откажется от возможности сделать лучшую в жизни вещь. Но при ней остается этюдник, картоны, масло и темпера, верный уголь, вид из мансарды, простой переплет окна. Капли дождя?
Джулия нарисовала солнце.
Дело о механической птице
«Человек рассказывает о птице. Птица это я»
А. ГринУ какао особая сладость. Запах кофе с утра побуждает к резким движениям, неосмысленной суете. Чай коварен, мягким молотом он бьёт в сердце, пробуждает застывшую мысль и далекие воспоминания. Цикорий грустен и груб, напиток бедняков и пожилых женщин. А какао наполняет сонный рот вкусом далеких сказок, согревает в морозный день и дает силы сопротивляться жаре, он никуда не торопится и ни о чем не жалеет.
Улыбнувшись ходу собственных мыслей, Элиас Хорн поставил на блюдце пустую чашку. Окно столовой затянуло морозным узором, сквозь который пробивалось январское солнце. …Залив Бай, как всегда в холода, окутан клубами пара, и птицы уже парят над водой, оглашая причалы скрежещущим криком. Единственная в стране колония розовых чаек была одной из достопримечательностей Покета, и Хорн перебрался сюда три года назад, чтобы вести наблюдения. Трижды в год аккуратно запечатанные отчеты на почтовом дирижабле отправлялись в столицу, две статьи напечатали в «Вестнике», но Элиас все ещё не нагляделся, каждый сезон открывал новые тайны. Зимой чайки жадно бросаются на любую еду, летом отказываются от самых щедрых подачек. У подрастающих особей перья тусклые, лишь на пятый-шестой год самцы достигают закатной полноты цвета. В марте перед началом брачных игр стаи танцуют над пустынными пляжами и свистят в особом, едином ритме, словно тысячи крохотных сердец бьются в такт…
Дверной колокольчик настойчиво зазвенел, канарейки из клеток ответили дружным щебетом. Газеты или молочница? Ранним утром Элиас не ждал гостей, да и по вечерам его навещали немногие. Хорн предпочитал общество птиц шумной компании, лишь страсть к скрипичной музыке, шахматам и восточной игре го побуждала его искать знакомств. Запахнув халат, Элиас поспешил открыть дверь — у молочницы были изумительные сливки и скверный нрав, она ненавидела ожидать. На пороге топтался джимми в черной шинели, с пышными, седыми от инея усами.
— Господин инспектор приказал передать вам письмо и сопроводить в участок. Очень просил вас поторопиться, мобиль ждет.
Инспектор полиции Гордон Блэк позавчера женился на Изабелле Ларю, самой хорошенькой девушке в городе, и завтра утром отбывал в свадебное путешествие. Вряд ли молодожен оторвется от любовных восторгов ради удовольствия поболтать с другом. Что он пишет? Убийство? В Покете? Быть не может!
Уже сидя в паромобиле, застегивая до самого ворота зеленую шинель лейтенанта хайлендеров, ощущая, как холодит бедро сквозь карман надежная тяжесть нагана, Элиас все ещё пребывал в растерянности. До того, как заняться птицами, он отслужил шесть лет в жаркой стране, где полуденное солнце убивает так же верно, как пули, женщины прячут лица, а мужчины души. Он помнил бунт в Раджпутане и холеру в Лумбаи, он стрелял в одурманенных зангом сипаев и навсегда запомнил, как темнеет, впитываясь в песок, красная кровь. Он был солдатом и привык к смерти. Но Покет? В городе не запирали двери. Случалось, соседи ссорились из-за проделок детишек, собак и коз, крали друг у друга прославленных голубей, уводили невест. В сезон, вместе с отдыхающими наезжали два-три карманника и компания шулеров, к августу Блэк выдворял их прочь. Пьяницы колотили жен, рыбаки делили добычу, раза два в год в порту жестоко дрались грузчики и матросы. …Вряд ли господин инспектор всполошился бы из-за грузчика.
Обыкновенно сонный участок выглядел как постель, с которой вскочили посреди ночи. Пахло табаком и тревогой, на столах громоздились бумаги и даже джимми у входа стоял навытяжку, а не прохаживался, позевывая. Инспектор Блэк не успел побриться с утра, его скуластая физиономия приобрела неухоженный вид, круги под глазами довершали облик, превращая бравого служаку в томного художника с юга. Заслышав посетителей, инспектор встал.
— Элиас, дружище, как я рад!
— Поздравляю с законным счастьем! Надеюсь, Изабелла в добром здравии.
По лицу инспектора пробежала мечтательная улыбка, но тотчас исчезла.
— Да, но речь не о жене. У нас несчастье, Элиас, мне нужна твоя помощь.
— В твоем распоряжении, Гордон. Сделаю всё, что могу.
— Сегодня утром, между пятью и семью часами, убили Сяо-Луна, владельца лавки игрушек на улице Пилигримов. Знаешь её?
— Конечно!
Пеструю, странно пахнущую лавку, которой заправлял старый китаец, знал весь Покет. Если родитель не чаял, чем удивить балованное чадо, он шел туда и возвращался с необыкновенной игрушкой — самобеглой, заводной, говорящей. Дважды в год из дверей лавки торжественно выплывал бумажный дракон, составленный из алых и золотых шаров, самым шустрым мальчишкам доставалась честь пронести его через набережную, бережно держа трости. Хозяин шел сзади, подметая мостовую полами расшитого халата, поглаживал свисающие на грудь усы и улыбался. Иногда его сопровождала дочь — хрупкая, бледная и совершенно немая.
— Дворник сгребал снег на улице, когда увидел, что дверь лавочки приоткрыта. Он постучал, затем пробрался вовнутрь и обнаружил смертельно раненного старика. Сяо-Лун лежал без движения и едва мог говорить. Он повторял одно и то же слово.
— Какое?
— «Птица». Чуешь, дружище? Ты единственный в этом городе, кто знает о птицах всё.
Элиас уныло кивнул. Какое отношение к нему имеет предсмертный бред умирающего?
— У дворника хватило ума ничего не трогать, он вызвал джи… полицию. Мы с Вейсом осмотрели место преступления. Вот протокол, проглядишь на досуге. Старик убит выстрелом из револьвера. В лавке хаос, игрушки разломаны и испорчены, денежный ящик под прилавком пуст.
— А дочь старика, она жива?
— Юэ. Девушку зовут Юэ. Она спряталась в сундуке на кухне и уцелела.
— Она что-нибудь рассказала?
— Или она и вправду немая или не знает нашего языка. По крайней мере я её разговорить не сумел.
Инспектор Блэк шумно поднялся из-за стола, бесцельно прошелся по кабинету.
— Мне неловко просить, дружище… Понимаешь?
— Понимаю, — сочувственно вздохнул Элиас, хотя не понимал ничего.
— У нас с Изабеллой медовый месяц. Я копил на него два года, уже оплачены и билеты на паровоз и отель и театры и платья. Второго такого шанса у нас не будет, судьба жены инспектора тяжела, малышка ещё узнает это.
— Сочувствую, Гордон. Тебе нужны деньги?
— Дело в другом. Старина Вайс… ты знаешь, он недалек. Если нужно угомонить пьяницу или прочесть нотацию скандалисту, он справляется, и храбрости парню не занимать. Но с убийством ему не совладать. А ты все-таки офицер.
— Отставной, господин инспектор.
— Бывших офицеров не бывает, лейтенант Хорн. Я приказываю как старший по чину и прошу как друг оказать всемерное содействие в расследовании дела об убийстве гражданина Сяо-Луна. Приказ уже оформлен, с комиссаром вопрос согласован, отчеты будешь высылать мне ежедневно, через две недели я вернусь в Покет. Согласен?
Элиас колебался недолго. Пара росписей, короткий диалог с Вайсом — у пожилого сержанта по счастью хватило ума понять, что с расследованием он не справится. И лейтенант Элиас Хорн стал внештатным сотрудником на договоре с правом просить содействие у полиции города Покета. Синий оттиск печати завершил дело.
До улицы Паломников Элиас отправился пешком, ему хотелось понаблюдать за городом. Однако Покет жил так, как будто ничего не случилось. Лязгая и дребезжа прокатилась конка — один маршрут от ратуши до порта. За вагоном гнались мальчишки, норовя проехаться на «колбасе». Газетчики выкрикивали последние новости, разносчики продавали моченые яблоки и горячие пирожки, спешили на рынок домохозяйки с пустыми корзинами, пробегали шалые гимназисты, прогуливались бонны с колясками и горничные с собачками. Словно старый китаец и не рождался однажды в своей Поднебесной и не отправился на рассвете к своим раскосым богам…
Джимми у лавочки имел вид лихой и бравый, отваживая любопытных. На Элиаса страж порядка посмотрел строго, но документ с печатью убедил его.
— Нет, господин лейтенант, в помещение никто не входил. Тело вывезли в морг, доктор Граббе к вечеру пришлет заключение. Девушка там, внутри.
Ароматный полумрак лавки отдавал кровью. Под ногами похрустывал мусор, ещё вчера бывший игрушками — бамбуковые палочки, жесткая бумага, осколки зеркал и фарфора, детали крохотных механизмов. Порванный пополам жалко свисал воздушный змей. Газовый фонарь треснул, клочья света проникали сквозь стекла витрины. Очерченный контур тела кое-где побурел и затерся шагами. На стойке лежала конторская книга, китайские иероглифы мешались там с цифрами и понятными буквами — адреса, номера и суммы, ни единой фамилии Хорн не нашел. Раздался звон, китайские побрякушки, подвешенные над прилавком, задребезжали в такт робким шагам. Элиас обернулся и увидел дочь старика. Юэ была бледна, черные пряди растрепались, выбившись из прически, рукава розового кимоно покрылись кровяными разводами, тонкие пальцы дрожали. Синие глаза смотрели прямо и безразлично, дорожки слез тянулись к мягкому рту. «Она совсем некрасива», некстати подумал Элиас, и тут же оборвал себе — девушка только что потеряла отца, ей больно.
— Сочувствую вашему горю, госпожа Юэ. Могу ли я что-нибудь для вас сделать?
Потупив глаза, девушка едва заметно покачала головой «Нет».
— Вы понимаете меня?
Робкий кивок «Да».
— Мне поручено расследовать дело о гибели вашего отца. Можете быть уверены, преступники будут найдены, их постигнет заслуженная кара.
Молчание.
— У вашего отца были враги? Кто-нибудь угрожал ему? Вы видели человека, который напал на него этой ночью, встречали его раньше? Представляете, что послужило причиной подобной жестокости? Простите, госпожа Юэ, я вынужден задавать эти вопросы.
По щекам девушки скатилось несколько слезинок, рот задрожал. Элиас понял — ещё немного, и она разрыдается или, того хуже, упадет в обморок. Бог его знает, как это принято в Китае, но в Покете обходятся без церемоний! Не задумываясь, Элиас расстегнул шинель и набросил теплую одежду на плечи девушки.
— Вы многое пережили сегодня, вам просто необходимо подкрепиться. Пойдемте со мной!
В кафе мадам Жозефины поздним утром пустовали все столики. Поэтому почтенная хозяйка не стала протестовать против странного вида гостьи. И какао подала тотчас — густой, горячий, со сливками, с пенкой, с изумительными маленькими пирожными на тарелочке.
— Попробуйте, вам сразу станет легче. Не стесняйтесь пожалуйста! Ну!
Отвернувшись к окну, чтобы не смущать девушку, Элиас исподволь наблюдал за ней — как деликатно она ест, маленькими глотками отпивает сладкий напиток, хотя явно голодна. Как просыпается под кожей румянец, как поблескивают во рту аккуратные зубки — кто придумал, что китайские женщины их чернят? Машинально, не отвлекаясь от размышлений, Элиас сложил из салфетки журавлика — в южном порту одна гейша в перерывах между утехами научила его мастерству оригами. При виде бумажной птицы Юэ бешено закивала. «Да, да, да!» говорило её лицо. Девушка выхватила из подставки на столе зубочистку, обмакнула её в гущу какао и прямо на блюдце нарисовала странную птицу с шестеренками вместо глаз. А потом ухватила Элиаса за рукав и потащила назад — тот едва успел крикнуть хозяйке «запишите на счет».
В лавочке взволнованная Юэ жестами попросила помочь — снять со стены большой шелковый экран, расписанный аистами и бамбуками. За ним оказалась дверь, украшенная щитком с иероглифами. Тонкие пальцы Юэ выбили замысловатую дробь и замок щелкнул, открывая проход. Тотчас сам собой зажегся газовый рожок, осветил комнатку, выглядящую уютной по сравнению с хаосом лавки. Там были птицы.
В первый момент Элиас подумал, что в клетках сидят настоящие соловьи и щеглы, но тут же понял ошибку. Игрушки, десять или около того клеток с фигурными прутьями. Элиас поочередно рассмотрел их, ощущая спиной внимательный взгляд девушки. Может ли быть, что старика убили из-за дорогой безделушки? Сколько стоит одна птица — золотой, три, пять?
Последнюю мысль он произнес вслух. Юэ написала в воздухе цифру. Сто золотых монет. Стоимость рыбачьей фелуки на дюжину гребцов, с сетями, кедровой мачтой, компасом и бочонками под треску. За что?! Кто в городе может позволить себе выложить столько золота за игрушку?
Недоумевая, Элиас взял в руки ближайшую клетку — там сидела желтая канарейка. Сама птица оказалась металлической, под пышными перышками ощущался жесткий каркас. И на брюшке у неё был ключ, такой крохотный, что лейтенант едва зацепил его ногтями. Оборот, другой, третий… Механическое тельце затрепетало. Птица расправила крылышки, встряхнулась, словно живая, спорхнула в клетку и зачирикала. Пение её походило на мелодию музыкальной шкатулки — томительное, нежное, с капелькой грусти. Элиас вдруг вспомнил милое личико Мери, своей невесты. Она отказала жениху безо всякой причины, Хорн вспылил и отправился в армию, уехал с хайлендерами в бунтующий Раджпутан. А Мери в тот же год умерла от туберкулеза — она узнала, что заболела, и решила не становиться обузой любимому человеку. Легкий вздох привлек внимание лейтенанта, он взглянул на Юэ и увидел, что девушка покраснела, словно бы от стыда. Надеюсь, китайцев не учат читать мысли?
Закрыв клетку Элиас захотел завести другую птицу, но девушка воспротивилась так решительно, что лейтенант отступил. Остальные игрушки тоже оказались под запретом. Элиас пожал плечами и не стал настаивать. Один из ящиков комода, стоящего в углу комнаты, оказался заполнен золотыми монетами — похоже Юэ обеспеченная наследница… если, конечно, она не убила отца сама. Впрочем, огорчение девушки выглядело непритворным, а хрупкие пальцы вряд ли могли бы удержать револьвер. Второй ящик оказался полон непонятных деталей — барабанчиков, утыканных шипами, молоточков, шестеренок, колесиков. В третьем хранились принадлежности для письма и лежала конторская книжица. Адреса, иероглифы, цифры. Четырнадцать адресов. Четыре из них перечеркнуты. Два знакомы — на бульваре Цветочниц в собственном доме проживал скрипач Циммер, виртуоз и брюзга, а усадьба «Рай», находящаяся в получасе езды от Покета, недавно перешла в полную власть младшего Гавестона. …Ими-то мы и займемся.
— Госпожа Юэ, я планирую продолжить расследование. Вы позволите, я заберу конторскую книгу вашего отца?
Кивок.
— Вы хотите положить деньги в банк? Я позову полицейского, он сопроводит вас и поможет сделать вклад.
Кивок.
— Вы хотите снять номер в отеле? У вас есть родственники? Друзья в городе, которые могли бы помочь вам?
«Нет». «Нет». «Нет».
— Вы останетесь в лавке, а я ближе к вечеру навещу вас и расскажу, как идут дела.
Кивок. Элиасу почудилась тень улыбки — или отсвет от неверного пламени.
Осторожно ступая по мешанине осколков, лейтенант выбрался на улицу, отдал распоряжения джимми и сел в первый попавшийся экипаж.
У Циммера разыгрался радикулит, поэтому скрипач принял гостя в постели. Элиас чувствовал, что музыкант несколько раздражен и не стоит злоупотреблять его временем. После нескольких комплиментов рождественскому концерту в ратуше, лейтенант перешел к делу.
— Полицейскому управлению Покета требуется ваша помощь. Сегодня на рассвете был убит один из уважаемых граждан города, господин Сяо-Лун, торговец игрушками. Вы приобрели у него механическую птицу?
Одышливый Циммер от удивления привстал в подушках, болезненно охнув.
— Я считал вас умным человеком, Элиас! Скажите, зачем мне игрушка?!
Невозмутимый лейтенант пожал плечами. В самом деле тяжело было представить клетку с птицей в холодных, геометрически правильных комнатах скрипача.
— С год назад неизвестный поклонник преподнес мне нелепый подарок — механического дрозда в серебряной клетке. Сперва я повесил игрушку в спальне, голосок птицы напоминал мне второй концерт Сарасате. Я стремился заводить игрушку все чаще, не мог наслушаться. Но вскоре случилась странная вещь — я, Циммер, потомственный скрипач, перестал попадать в ритм собственной музыки. Сердце моё билось чаще и пульсировало сильнее. Я обратился к доктору Граббе, тот нашел меня абсолютно здоровым, посоветовал отдохнуть. Я отправился на побережье, плавал на яхте, завел любовницу. Но музыка продолжала утекать из пальцев, пока в один прекрасный день я не взял механического дрозда и не свернул ему шею. Последствия нелепой оказии ощущаются до сих пор, рождественский концерт я отыграл едва ли вполсилы, и не врите мне Элиас. Зато ритм восстанавливается. Хотите убедиться?
— Благодарю, маэстро!
Почтительно улыбаясь, Хорн подал скрипачу инструмент и приготовился слушать. Тонкий ценитель, он наслаждался виртуозной простотой рыбацких песен, старинных баллад, которые Циммер любовно собрал ещё в молодости, будучи никому не известным пьяницей из трущоб Лисса. Значит птица едва не отняла у музыканта способность играть? За такое убивают… но Циммер вряд ли догадывался, откуда взялся подарок. Следовательно, он невиновен. Едва дождавшись последних нот, Элиас горячо поблагодарил скрипача, пожелал скорейшего выздоровления и откланялся — дела требуют.
Наскоро перекусив в кабачке дядюшки Бризоля, лейтенант вызвал паромобиль. Идея проехаться до усадьбы в тепле и комфорте нравилась ему больше пешей прогулки. Тем паче, что Гавестоны испокон веку слыли гордецами — молодой наследник мог бы и отказаться от беседы с внештатным сотрудником, и протомить его до ночи в прихожей, вместе с арендаторами и пастухами. Хорн ожидал худшего — и ошибся.
Стоило чопорному дворецкому объявить о визите, как молодой Гавестон явился поприветствовать гостя. По звонку колокольчика лакей вкатил столик полный изысканных лакомств, другой слуга предложил господам кубки с пряным, обжигающим рот глинтвейном. Завязалась радушная беседа, Гавестон уже взахлеб рассказывал о грядущей охоте на лис, о новых ружьях, заказанных в столице, о необыкновенном уме гончего пса Хватая. Окутанный гостеприимством Хорн ел, пил, слушал и наблюдал. Что-то несуразное было в облике лорда — вялый маленький подбородок, мутноватые глаза, дряблые губы. И несдержанность — люди столь высокого положения к двадцати годам безупречно владеют собой, а Гавестон смеялся и хлопал собеседника по плечу. И… птица. В дальнем углу столовой на особой подставке Элиас разглядел филигранные прутья клетки, расслышал мелодию, сходную с песней весенней воды, и сделал стойку — куда там гончей. Но Гавестон стал между ним и клеткой.
— Я не расстаюсь с моим щегленком ни днем ни ночью, мой друг! Его пение побуждает меня к ясным мыслям и справедливым поступкам, пробуждает разум и утихомиривает кошмары.
— Вас что-то беспокоит, лорд Гавестон?
По лицу молодого человека пробежала гримаса, уголки губ обвисли, делая знатного дворянина до отвращения похожим на деревенского дурачка. Но любезность тотчас вернулась.
— Уже нет. Раньше, давным-давно меня мучили кошмары, в них я умирал на гнилой соломе, прикованный за ногу, как собака. Но с тех пор, как сэр Роджер, мой дядя, подарил мне щегленка, напасть исчезла и сны мои снова полны света.
— Могу я поговорить с вашим дядей?
— Поговорить? Нет. Потеря опекунства стала для него большим ударом, он оставил «Рай» и не приехал даже на Рождество.
— Вы нуждались в опеке?
— После смерти дорогой матушки — да, конечно. Но это долгая, скучная тема. Знаете, на южных склонах холмов, там, где разросся боярышник, особенно много лис. Егеря говорили, появилось и барсучье семейство, так что я приобрел отменного щенка ягдтерьера. Навестите нас в августе, я настаиваю, чтобы вы присоединились к охоте!
Понадобилось не менее получаса чтобы уклониться от словоохотливого лорда, и еще столько же, чтобы убедить его: щенку даже от самого Хватая в холостяцкой квартире окажется неуютно, а охотничье ружье чересчур дорогой подарок. Дело кончилось пыльной бутылкой вина, вынесенной дворецким с церемонной торжественностью.
Утомленный беседой Элиас не заметил, как вздремнул в паромобиле, очнулся уже в сумерках, на въезде в Покет и приказал немедля направляться в участок. Едва ответив на приветствие ошалевшего от непривычной ответственности Вайса, лейтенант заперся в кабинете инспектора, приказал доставить туда какао из ближайшей кофейни и все материалы по делу китайца.
По четырем адресам, вычеркнутым в книжечке Сяо-Луна, все оказалось так, как и предполагал Хорн. Толстяк банкир скончался от апоплексического удара, оставив состояние юной вдове, пожилая купчиха приняла яд, ненадолго обогатив сына-кутилу, неумолимый судья неудачно поскользнулся на лестнице, а свирепый капитан китобоев сошел с ума от белой горячки и преставился в лечебнице для душевнобольных. Ещё один адрес оказался знаком Вайсу и тоже отмечен смертью. Там на прошлое Рождество отправился в мир иной живописец Риоль, меценат и благотворитель, основавший школу искусств, в которой бедные дети обучались бесплатно. Два года назад доктора постановили «рак», он сильно мучился, лечение не помогало. Но в последние месяцы болезнь ослабила когти, боли ушли и страдания отступили. Риоль смог закончить последнее полотно — «Рассвет в Каперне». И умер во сне на руках у любимой натурщицы.
Пуля, которой застрелили китайца, не отличалась ничем особым — фабричный патрон 7,5 мм. Прострелено легкое, повреждена артерия, причина смерти — фатальное кровотечение. Сам Сяо-Лун за двенадцать лет жизни в Покете ни в чем не засветился. Он приехал в город вдвоем с маленькой дочерью, приобрел за наличные лавку, через полгода открылся — и ничего. Ни краж, ни жалоб, ни ссор с соседями. Хотя стоп… два месяца назад старику повредили витрину. Знаменитая певица Жизель, стареющая примадонна местного театра, кидала камни в стекло, плакала и бранилась, если верить отчету джимми. Незадолго до этого дама отметила свой бенефис в компании первых лиц города, поэтому дело ограничилось грозным внушением, но чем ей не угодил китаец? О, как!!! Адрес театра, где подвизалась Жизель, значился в списке книжки, одним из последних… Завтра, все завтра. Позевывая, Элиас приказал вызвать мобиль.
Синяя темнота окутала Покет. Яркий снег отсверкивал в лучах фонарей, редкие прохожие кутались в шубы, прятали лица в меховые воротники. Окна мобиля моментально заиндевели. Уже на подъезде к дому, Элиас вспомнил, что пообещал навестить Юэ, и приказал шоферу развернуться. Витрина лавки, конечно же, не светилась, но внутренность за прошедшие часы изменилась до неузнаваемости. Исчезли осколки, обрывки, мусор, воздушный змей горделиво покачивал синими лентами. Сама девушка переоделась в кимоно с мельницами, уложила волосы и набелила лицо, чтобы скрыть следы слез. Она держалась с робким достоинством, но Элиас чувствовал — ей страшно оставаться одной в пахнущей смертью лавке. Колебание было минутным.
— Госпожа Юэ, согласились бы вы побыть моей гостьей? Не подумайте скверного, для вас есть отдельная комната, я приглашу служанку. Вам предстоят нелегкие дни, молодой девушке тяжело пережить их в одиночестве.
Молчание. Взгляд из-под черненых ресниц.
— Я тревожусь, госпожа. Кто о вас позаботится, подаст еду, вызовет доктора, распорядится о похоронах? Мы возьмем с собой все, что вам нужно. И птицу, чтобы вы не скучали. Желтую канарейку. У меня дома целая стайка живых канареек, уверен, они вам понравятся. Прошу вас!
Кивок. Детский жест ладоней — так изображают птицу в театре теней. Несколько легких минут на сборы. Небольшой саквояж с одеждой — похоже отец бедняжку не баловал. Пачка бумаги, тушечница, перья и кисти. Клетка с птицей — её Юэ вручила Элиасу и коротко поклонилась. Кажется, это был подарок.
Услышав о новом пункте маршрута, шофер скривился, но серебряная монета моментально привела его в добычливое расположение духа. Всю дорогу до Яблочной улицы он болтал о преступниках, убеждая маленькую госпожу, что мерзавец, лишивший жизни её папашу, непременно окончит дни на виселице. Лишь шумная воркотня Камиллы, кухарки Элиаса, нисколько не рассердившейся на столь поздний визит, сумела заткнуть фонтан. Впрочем, визгливые причитания пополам с сочувственными охами оказались не легче. У лейтенанта Хорна заныл старый сабельный шрам на макушке. Когда мобиль добрался до дома, он предложил Камилле обустроить гостью в комнате для прислуги, озаботившись постелью, тонким бельём и всем, что может потребоваться молодой девушке. А сам удалился в спальню, сделал холодный компресс, разделся и уснул мертвым сном.
Наутро выяснилось, что он спас жизнь Юэ. Глубокой ночью лавка вспыхнула как свеча. Охранявший вход молодой джимми был найден без сознания, с хлороформовой тряпкой на лице. Все игрушки, бумажные змеи, красный дракон и прочие китайские чудеса сгорели бесследно. Птицы тоже сгорели — отправившись на пожарище Элиас раскопал в грудах пепла несколько остовов клеток с бесформенными комками металла внутри. Никто из соседей ничего не заметил. Если следы и оставались, их залили водой пожарные и затоптали любопытные. Ни окурков сигар, ни платков с монограммами, ни рисунков на обгоревшей стене или других глупостей, которые так удаются мастерам площадных детективов. Ни-че-го. От безысходности Элиас было собрался отправить джимми к парадному, дабы защитить Юэ в свое отсутствие, но передумал — это выглядело бы плакатом «преступники, жертва здесь».
Лейтенант, не глядя, подмахнул пару приказов, и решил, что самое время прогуляться по адресам, сохранившимся в книжке китайца. Смерть старика бесспорно связана с одной из проданных птиц. Вот только в чем состояла их ценность?
Певица Жизель выглядела бессовестно хорошо. Так прекрасны лишь женщины на излете зрелости, осознающие, их власть над сердцами тает. Огромные, выразительные глаза, умело обнаженное роскошное тело, дорогие духи, правильный свет — мягкий, теплый, скрывающий морщины на шее и пятнышки на руках. Обворожительный грудной голос, с нотками корицы и шоколада. Будь Элиас моложе, он непременно пал бы жертвой сладостных чар.
За цветы певица небрежно поблагодарила, но видно было что розы пришлись по душе. На комплименты отреагировала спокойно — льстили достаточно. А вот тема репертуара оказалась животрепещущей — одна нахальная шансонетка вознамерилась петь «Аиду», отобрать любимую роль, а её писклявым голоском даже «кушать подано» враз не скажешь. Да, вы правы, юноша, писклявым, как у помойного воробья. Ах, оставьте, при чем тут птицы? У китайца? Да, помню, чтоб он сдох, косоглазый ублюдок!!!
Невозмутимый Элиас переждал поток слез и бессвязных воплей, подал даме воды, платочек и приготовился внимать.
— Я услышала про механических птиц от сэра Роджера Альсервея, около четырех лет назад. Мы э… были близки какое-то время. И вот однажды я стала невольной свидетельницей его беседы с одним приятелем, таким же бонвиваном. Тот хвастался, как заводной соловей, купленный у китайца, облегчил ему жизнь — своенравная тетушка, получив в подарок сладкоголосую птичку, не только оформила завещание на племянника, но и щедро снабжала его деньгами в счет будущего наследства. «Старуха стала покорной, словно собака» насмехался бездельник. Роджер посетовал на выходки своего племянника и подопечного. Тот родился слабоумным, а с возрастом стал страдать от припадков неукротимого буйства, рискуя не только изувечить слуг, но и нанести себе вред. А гибель племянничка превратила бы Роджера в бедняка — поместье «Рай» майорат, Роджер был дядей по материнской линии. Приятель дал адрес лавки и посоветовал ссылаться на него. А у меня хорошая память.
— И при чем же тут ваши беды?
— Ах, юноша, вы ещё не успели узнать, что любовь жестока как смерть и стрелы её навсегда ранят. Год назад в наш театр пришел молодой актер, итальянец. Бездонные глаза, черные кудри, вишневые губы, нафабренные усики — так бы и съела. Я открылась ему через два спектакля, я подняла мерзавца из статистов до первого любовника, я настояла, чтобы ему платили так же щедро как мне. Он бросил меня через три месяца, обозвав толстозадой Венерой!
Элиас прикрыл рот рукой, надеясь, что актриса не заметит неуместной веселости.
— Вы так молоды, вы не знаете, сколь тяжело оказаться отвергнутой в последнем подлинном чувстве. Я заложила бриллианты и пошла к старику китайцу. Он продал мне механическую птицу и велел подарить возлюбленному, чтобы вновь пробудить в нем чувства. И они пробудиииииились…
Новый поток слез унялся быстро, Жизель продолжила.
— Презренный тип влюбился в прачку и сбежал с ней. И знаете, что самое обидное? Зад у этой распутной коровы в полтора раза больше, чем у меня!
Кое-как выразив сожаление, Элиас вышел из театра и без сил опустился в сугроб, уже не сдерживая смеха. Нет, престарелая Федра не стала бы убивать.
Оставалось четыре адреса. По одному все ещё проживала престарелая тетушка — она не принимала никого, кроме дорогого племянника и два года не выходила из дома. Другой особняк оказался закрыт, лишь табличка с фамилией украшала потускневшие двери. Покопавшись в памяти, Элиас вспомнил эту историю — красавица Ассунта Давенант, жена фабриканта, потеряла дитя во время морской прогулки. Она впала в тихое помешательство, слегла и супруг всерьёз опасался за её жизнь. Ни доктора, ни священники ни целительное время не помогали. Но однажды женщине стало легче, она начала подниматься, гулять по саду, потом муж увез её в Лисс. Кажется, они взяли на воспитание сироту. Третий дом принадлежал рыботорговцу Фуксу. Тут и вопросов не возникало — единственная дочь Фукса была горбуньей и хромоножкой, отец не жалел никаких денег, чтобы развлечь дитя.
Последний адрес принадлежал Эртону, подполковнику в отставке, известному коллекционеру и собирателю редкостей. Теоретически у боевого офицера хватило бы опыта и воли, чтобы хладнокровно убить человека, тем паче за уникальный экземпляр для собрания, и с револьвером старый вояка не расставался. Практически он, Элиас, месяц назад славно погулял на прощальной вечеринке — Эртон отправился в варварскую Тавриду, где невежи-феллахи раскопали царский курган. Подполковник надеялся поживиться чем-нибудь неповторимым и судя по неизменно кислому выражению лица госпожи Эртон возвращаться в Покет не торопился. Круг замкнулся, подозреваемых не появилось. Смерть китайца не была выгодна никому.
Усталый, продрогший Элиас приказал шоферу «домой». По дороге он вспомнил, что забыл пообедать, но заезжать в ресторан не стал — у кухарки наверняка найдутся хлеб, сыр и копченый окорок. …Или целое пиршество — едва открыв дверь, Хорн унюхал аромат грибного супа по-польски, тушеного мяса в горшочках и бог весть чего ещё. Квартира блестела, словно по ней прошелся целый отряд уборщиц — ни пылинки под шкафами и тумбами, ни паутинки на драгоценных чучелах, ни царапинки на паркете. У дружно щебечущих канареек в поилках текла свежая вода, на поддонах лежали можжевеловые опилки, а в кормушках золотилось конопляное семя. Подаренная птица висела над рабочим столом, на котором (о, счастье!) не было сдвинуто ни единого документа. Интересно, сколько мелодий она играет? Элиас достал механическую канарейку, осторожно повернул ключик и дождался первых протяжных нот. Тотчас в кабинет заглянула принаряженная Юэ — в прическе цветы, на поясе вышитые драконы, на пальцах кольца. Жестом она пригласила господина в столовую, где уже был накрыт безупречно сервированный стол. Озадаченный Элиас поглощал пищу, искоса поглядывая на сотрапезницу. Его холостяцкий инстинкт протестовал — так и окручивают нашего брата, так и заманивают в брачные цепи. Ишь чего надумала — похоронит папашу и пусть валит, благо золота у нее куры не клюют. Глупость какая! Элиас скривился — все-таки девчонка допустила ошибку, кто же подает пирожные и какао к обеду. Впрочем, Юэ просто хотела ему угодить. И птичья песня так идёт к её плавным движениям…
Радости хватило ненадолго. После ужина лейтенант составил отчет и отправил его с нарочным. Господин инспектор Гордон Блэк вряд ли обрадуется такой расторопности — лавка сгорела, вещдоки канули в лету, свидетелей нет, подозреваемых нет. Может, следствие изначально пустили по ложному следу, дворник неверно понял слова старика. Или убийца — эта льстивая маленькая китаянка с глазами синими, как зеркальца на крыльях лазоревки? Или она сама механизм, кукла с дырочкой для ключа, и кто-то заводит её раз в году, поворачивает шестеренки? Неожиданно Элиасу страстно захотелось прикоснуться к покатым плечам девушки, ощутить на своих губах еле слышное дыхание, убедиться, что она живой человек. Наваждение! Сняв домашние туфли на цыпочках Хорн прокрался в закуток для прислуги — интересно, чем занимается его гостья.
Юэ рисовала. Она разложила на полу листы белой бумаги, аккуратно, чтобы не запачкать ковер, поставила на блюдечко тушечницу и, устроившись в немыслимой для европейской женщины позе, выводила что-то тоненькой кистью. Элиас разглядел рваный контур поляны, длинные клювы и волнистые концы крыльев — где только она успела увидеть танцующих журавлей? Под ногой предательски скрипнула половица и Хорн решил не искушать судьбу, не смущать гостью и себя тоже. Он вернулся в спальню, сделал несколько выпадов, разгоняя ленивую кровь хайлендерской саблей, обтерся мокрым полотенцем, и крепко уснул.
На завтрак подали погребальную урну. Стоило Элиасу примериться ложечкой к аппетитному яйцу пашот, как дверной колокольчик поднял из-за стола. Адвокат с неприятным лицом огласил, что выполняет последнюю волю клиента, достопочтенного Сяо-Луна, вручил госпоже Юэ расписной серый горшок и объяснил, что согласно завещанию, её отец был кремирован на рассвете, в полном одиночестве. Как поступить с прахом, она должна знать. Все имущество, движимое и недвижимое, переходит в полное владение госпожи Юэ Лун через месяц после смерти отца, с уплатой пяти процентов налога. Кроме птиц — пусть госпожа Юэ о них позаботится. Всего наилучшего, вот визитная карточка, обращайтесь. Пока лейтенант расшаркивался с адвокатом, пытаясь уяснить подробности дела, девушка исчезла в квартире.
Чутье не подвело, Элиас успел вовремя — китаянка уже доставала из клетки бедную канарейку. Хорн схватил Юэ за руки (теплые, теплые, слава богу!) и потребовал объяснений. Девушка качала головой и моргала, бисеринки слез снова повисли у неё на ресницах. Потом сдалась. Мелкими шажками пробежала в свой закуток, вернулась с бумагой и тушечницей, начала рисовать, разбрызгивая чернила. Из-под пера возникали птицы с шестеренками вместо глаз и раскрытыми клювами. Из клювов лились мелодии. Юэ изобразила звуки при помощи лиц — улыбающихся, плачущих, перепуганных. Недоуменный Элиас покачал головой. Юэ коротко рассмеялась, положила ему на грудь ладонь, а другой начала отстукивать ритм — тук-тук, тук-тук.
— Так бьется сердце, — сообразил Элиас.
Китаянка завела канарейку и начала отстукивать ритм мелодии механической птицы. Тук-тук, тук-тук, тук-туук-ту, тук-туук-ту. Крохотные промежутки сдвигали такт… кажется этим же принципом пользовались африканские колдуны, колотя в бубен!
— Ты хочешь сказать, что механическая птица воздействует на человека, изменяя ритм сердца? Делает его радостней или грустней, сводит с ума, вгоняет в черную меланхолию или облегчает страдания?
Кивок. Кивок. Кивок.
— А для чего нужна эта птица, желтая канарейка? Почему ты преподнесла её мне?
Медленно покраснев, Юэ положила ладонь на левую сторону груди. Коротко поклонилась, взглянула прямо в глаза Элиасу, полыхнув синими молниями. А потом выхватила заводную игрушку из клетки и разбила об пол — Хорн не успел ей помешать. И что сказать не нашел. Молчание затянулось, оба разглядывали желтые доски паркета. Элиас не выдержал первым.
— Прах твоего отца нужно захоронить. Где ты планируешь это сделать?
Три штриха. Море?
Одной рукой обняв урну, Юэ сделала характерный жест, словно солила нарисованные волны.
— Ты хочешь развеять прах отца над морем?
Кивок. И ещё одна слезинка на бледной щеке.
Паромобиль довез их почти до самой Толковой бухты. От залива Бай её отделял небольшой, вытертый ветром горный хребет, по которому шла тропа рыбаков и контрабандистов. Укутанный в шинель, обутый в офицерские сапоги Элиас засомневался — пройдет ли там хрупкая девушка, не лучше ли совершить обряд на спокойном берегу. Но Юэ храбро полезла вверх, не оскальзываясь на оледенелых камнях. Стало видно, что её одеяние, столь громоздкое в помещении, просто создано для свободы. Своей жизнью зажили ленты длинного пояса, крыльями закачались просторные рукава розового кимоно, взметались и опадали юбки. В знак траура девушка распустила волосы, резкий ветер играл черными прядями, снежинки оседали на них, как звезды. Китаянка спешила вперед, Элиас торопился за нею слегка запыхавшись. Он осторожничал, зная о коварстве обрывов и глинистых склонов. А Юэ ничего не боялась. На самой вершине, там, где безвестный народ когда-то поставил каменную арку, украшенную звериной резьбой, девушка вскрыла урну. Она бросала на ветер щепотки пепла, звонила в крохотный колокольчик, протягивала к небу ладони, моля о чем-то. Потом взмахнула руками-крыльями и побежала вниз по склону, перескакивая через овражки и комья снега с грацией горной козы.
Изумленный Элиас следил за ней с замиранием сердца — достаточно было неверного шага, чтобы легкий шелк покатился по склону грязным, сминающимся лоскутом. Но счастье было на стороне девушки. Она спустилась на каменистый пляж, моментально разулась (безумная!) и вошла в воду, придерживая полы пышной одежды. Последние крохи праха впитались в волны, в урну Юэ положила какое-то украшение и толкнула прочь — плыви! На берегу китаянка даже не стала вытирать ног — села прямо на камни, воздела руки над головой, как цветы и застыла, только волосы колыхались воздушными змеями. Стая розовых чаек спустилась со скал и закружилась над девушкой, звонко крича, словно скорбя о мастере птиц, мудром Сяо-Луне, который умер так далеко от Поднебесной. Они танцевали и танцевали, ткали сложный узор, полный ритма — тук-туук-ту, тук-туук-ту…
Потом ударил выстрел. Птицы с криком отхлынули в стороны. Юэ упала ничком и больше не двигалась.
Сказалось военное прошлое — Элиас моментально пригнулся, скрывшись за гребнем холма. И увидел, как по пляжу осторожно идет человек в чёрном пальто и модном котелке денди. Скорее всего преступник пробрался нижней тропой — летом там глубоко, а зимой можно пройти едва замочив ноги. Он выследил их из города и намерен убить. Обоих? Элиас не стал задаваться этим вопросом. Расстояние было большим, но он все-таки попытался — и промахнулся, пуля бессильно взбила песок под башмаками преступника. Вторая цвиркнула по камням и ушла в молоко. Третья подбила чайку.
Противник выстрелил дважды. Осколок камня повредил Элиасу бровь, кровь закапала, заливая глаза. Ещё немного — и он тоже останется здесь, на пляже, мертвее мертвого. Ни за что! Одним движением лейтенант перескочил через гребень и, оскользаясь, побежал вниз. Он рисковал, страшно рисковал, но блеф спас ему жизнь. Раз! Два! Три! Четыре! У противника не осталось патронов, и он тоже это понял. Незнакомец развернулся, думая спастись бегством — и Элиас с двадцати шагов положил рядом две пули. Метнувшись вперед, он схватил раненого за грудки, приподнял, пачкая руки в крови:
— За что ты убил девушку, сволочь?
— За птиц, — хрипя и отплевываясь ответил будущий покойник. — Старый китаец продал мне птицу, обещая, что дело верное. И разорил, сделал нищим! Мой слабоумный племянничек из буйного стал тихим, таким тихим, что тошно глядеть. Он не расставался с проклятой птицей ни днем ни ночью, кусаясь, если кто-то подходил к клетке. Он молчал и учился читать. Молчал и подкупал слуг. Молчал и запоминал всё. А потом оспорил и разорвал опекунство, выкинул меня из поместья как ненужную вещь, ни дал ни гроша от наследства. А сам купается в золоте, никчемный кретин!
— Так ты Роджер, бывший опекун лорда Гавестона?
— Роджер Альсервей, последний отпрыск древнего рода. Я мог бы стать капитаном, политиком, путешественником, я рожден для великих дел, но судьба наплевала мне в физиономию.
— Ты родился для виселицы.
Раненый хрипло засмеялся.
— Пусть костлявая Бет поищет себе другого дружка.
Пузырящаяся алая кровь выступила на породистых, сильно вылепленных губах. Пышные кудри обвисли, тонкий нос побледнел, заострились скулы. Серые пронзительные глаза потомка норманнов в последний раз отразили серое небо над побережьем и Роджера Альсервея больше не стало.
Элиас кинулся к девушке. Осторожным движением он перевернул обмякшее тело, ища следы от пули. Лейтенант готовился попрощаться, жизнь слишком часто била его под дых, оставляла одного, наедине с морем и верными, безразличными ко всему птицами. Но на белом, открытом горле пульсировала синеватая жилка и любимые губы вздрагивали. Кровь впитывалась в темные волосы, длинная царапина тянулась по голове. «Останется рубец», — некстати подумал Элиас и провел рукой по макушке, там, где ныл к непогоде дурно зашитый след от сипайской сабли. Снег и перья сыпались с неба, легкий снег и белый летучий пух.
…В марте она будет рисовать чаек.
© Ника Батхен, 2015 © Ника Батхен, иллюстрации, 2015








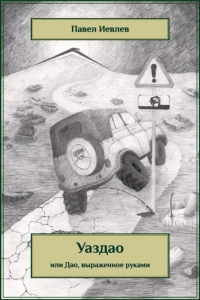

Комментарии к книге «Фараоново племя», Вероника Батхен
Всего 0 комментариев