Карнишин Александр 13 ПЛЮС
Деда Мороза не бывает
Каждое утро у Марка начиналось в семь. Так было всегда и у всех. С детства и до старости все вставали ровно в семь утра. А ложились все спать всегда в десять вечера. Таков был установленный распорядок дня. Как только заканчивались обе программы телевидения, культурная и спортивная, сообщали о погоде на завтра и включали гимн. После гимна все и ложились. Можно было видеть, как разом, щелк-щелк-щелк, начинали гаснуть окружающие его дом новые башни. Этот дом скоро тоже должны были снести. По графику, который висел уже полгода возле окошка консьержа, расселять их будут в течение недели ближе к Новому году.
Нет, дом еще вполне хороший, уютный и теплый, тут даже и не поспоришь. Но — график. Обновление всегда должно идти строго по утвержденному графику. Это дает полную занятость строителям и нагрузку всяким заводам строительных конструкций. Инженерам и офисным работникам — тоже работа. И тем, кто их кормит. Всем-всем, в общем.
А за неделю до этого события им сообщат новый адрес. Вот тогда и придется искать новую школу для сына поближе к жилью. А может, заодно и работу для себя. Не поощрялось, когда путь на работу у кого-нибудь занимал слишком много времени. Трафик. За трафик снимали бонусы.
Еще бонусы снимали, если кто работал не по направлению. Место работы определяла квартальная управа. У них были все актуальные данные о потребностях и возможностях в текущем периоде. И если ты продолжал работать в другом месте, не по их направлению, то тоже мог лишиться бонусов.
Так что, может, ничего искать вовсе и не надо будет. Все уже будет решено в управе заранее.
Марк ехал на работу в теплом просторном автобусе и думал, что в этом месяце обязательно надо будет зайти к сыну в школу. Иначе он дождется, что школьный психолог придет к ним на квартиру, и опять будет длинный тяжелый разговор, а в карточке гражданина ему проставят уже второе замечание. Интересоваться жизнью детей родители обязаны до их полного совершеннолетия, то есть до двадцати четырех лет. Так что еще и в институт придется к сыну ходить.
На работе он весь день распечатывал полученные письма и инструкции, потом разбирал по темам, потом относил руководителю отдела, который еще раз проверял. Иногда он перекладывал тот или иной документ в другую папку и укоризненно смотрел при этом на Марка. Марк сокрушенно вздыхал — не доработал, разводил руками, склонял голову. «Ну-ну», — говорил руководитель отдела. — «Повинную голову меч не сечет». И отдавал папки для исполнения. Теперь Марк обходил всех коллег в большом общем зале и раздавал им полученные документы согласно теме работы.
И так каждый день.
Он не считал свою работу очень уж легкой и простой. Если бы она была легкой, кто бы дал ему эту квартиру? И карточки на паек? И бонусы на время отпуска?
В стандартной двухкомнатной квартире они жили вдвоем с сыном. Жена жила в точно такой же квартире с дочерью на другом краю города, и раз в неделю приезжала к ним в гости, оставаясь иногда с ночевкой. Марк тоже раз в неделю ездил к ней. Эти дни были обведены заранее на календаре, и в домашний компьютер вбито напоминание. Пропускать эти дни было нельзя. Во-первых, можно было лишиться бонуса. А во-вторых, других дней для таких встреч в планах на год не предусматривалось.
План-график на год каждый совершеннолетний гражданин получал тридцать первого декабря. Потом был праздничный день первое января — он выделялся каждому на изучение плана, а второго января опять начиналась обычная размеренная и расписанная на год вперед жизнь. Ну, это если не было дополнительного выходного дня.
Марк помнил, как однажды первое января попал на пятницу. И в планах честно было указано, что можно не выходить на работу до четвертого числа. Но так было на его памяти не часто.
Работа всегда заканчивалась ровно в 15.00.
Марк ехал домой — путь занимал меньше получаса. Дома, открыв дверь своим ключом, он громко говорил еще от порога:
— Здравствуй, сын! Я вернулся!
— Здравствуй, папа, — говорил, выходя из своей комнаты, Евгений Маркович, его сын, которому в прошлом году исполнилось целых десять лет.
— Ну, что у нас плохого? — традиционно хитро улыбался Марк.
— Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, — отвечал сын. — Все в порядке, без двоек!
Потом, раздевшись и умывшись, Марк проверял уроки — сорок минут по графику. Делал замечания и заставлял кое-что переделать или повторить — еще двадцать минут.
Следом по графику шло совместное делание уроков. Тех, которые еще не были сделаны. А даже если и сделаны — все равно график надо было выполнять.
И хотя Женька мог все сделать до его прихода, но всегда находилось дело, которое можно было сделать как бы вдвоем. Тогда сын опять садился за письменный стол, а Марк разворачивал газету, чтение которой тоже было внесено в график.
— Пап, а почему Мороз — дед? — Женька, склонив голову на плечо, высунув кончик языка, раскрашивал новогоднюю открытку, которую задали в школе к понедельнику.
— Ну-у-у, — протянул отец, откладывая сегодняшнюю газету. — Ну, наверное, потому что он очень старый. Дед — это так всегда старых называют.
— А ты — дед, что ли?
— Ну, что я, старый такой, что ли?
Женька оторвался от картинки, оглянулся на отца.
— Ну-у, не старый. Но пожилой, наверное.
Вообще-то, старый. Потому что ему уже тридцать пять лет. А тридцать пять — это втрое больше, чем Женьке. Даже больше, чем втрое. Почти вчетверо, если округленно. Конечно, старый. Но говорить этого нельзя, потому что обидно. Старый — это обидно. Это как ярлык такой, этикетка — старый.
— А Снегурочка тогда — бабка?
— Ты, что, Жень? Какая же она бабка? Снегурочка — это внучка деда Мороза! Она маленькая еще совсем.
Он хотел сказать «как ты», но вовремя остановился. Конечно, Женька еще маленький. Что там ему — всего десять с небольшим. Но называть его маленьким нельзя — обидно будет пацану. Да он уже и не такой уж маленький. На косяке двери они отмечают карандашом его рост. Во-он где была первая черта. А теперь-то — ого-го!
— А внучка — это как?
— Внучка — это дочка сына или дочка дочки этого деда.
— Дочка дочки, дочка дочки! — обрадовался Женька. — Бочка бочки, бочка бочки!
— Ты уже закончил? Осталось пять минут.
— Сейчас, еще чуть-чуть! — он тут же отвернулся обратно к столу, нанося последние мазки яркой синей акварелью.
Нет, совсем уже не маленький. Уже знает порядок. Это хорошо.
Ровно через пять минут они встали и перешли на кухню.
Еще час они вместе на кухне готовили еду. При современной технике часа было много, да можно было и заказать что-то в «Домашней кухне», но по графику полагалось готовить именно час, чтобы ребенок привыкал к кухне, к процессу готовки. Да и вообще — два часа минимум было положено общаться отцу и сыну ежедневно.
Ели они обычно тут же на кухне за небольшим столом в углу, слушая новости и музыку, которую передавали по «Культуре».
Текущая неделя была неделей Баха.
За едой не разговаривали. Разговор во время приема пищи не приветствовался. А после еды, когда Марк мыл посуду, а сын протирал стол, Женька вдруг спросил:
— Пап, а Дед Мороз по-настоящему есть?
— Нет, конечно.
— А тогда зачем мы его рисуем? И Снегурочку эту? Дочку дочки?
— Понимаешь, сын…, - Марк ловко перехватил тарелку, пытающуюся выскользнуть из руки. — Считается, что это развивает твою фантазию. Сказки всякие, например, выдумки. А фантазия — она просто необходима, чтобы у нас были изобретатели разные и всякие ученые, которые делают важные открытия.
Женька понимающе кивал головой. Конечно, без изобретателей и ученых все было бы очень плохо. Надо будет, значит, еще нафантазировать чего-нибудь тогда. Это полезно. Это развивает.
Вечером сын читал, а Марк просматривал новости по телевизору.
После этого они вместе смотрели старый фильм. Старые фильмы были хорошие и добрые. В них хорошие люди дружили против врагов, боролись, преодолевали и всегда побеждали.
Без пятнадцати десять раздались первые такты гимна. Утром его пел большой хор. А вечером гимн исполнялся без слов, одна мелодия. Марк напевал про себя отдельные строки и слова: про солнце в небе, про единство, про синее небо еще раз, опять про моря и океаны…
— Спокойной ночи, папа, — сказал Женька.
— Спокойной ночи сын, — ответил с улыбкой Марк. — Хороших тебе снов.
Ему снился график, в котором было много праздников и выходных дней.
А Женьке снились какие-то внучки и бабки, и деды Морозы, которых на самом деле нет, но фантазировать их даже во сне было полезно.
* * *
Сашка проснулась рано. Бабушка еще спала в своей выгородке, и было слышно только смешное легкое похрапывание. На селе лениво перебрехивались собаки, встречая близкий рассвет.
«Гав», — слышалось откуда-то от бахчей. «Гав-гав», — отвечал басом с другого края села здоровенный пес, который охранял птичник. Сашка с ним познакомилась, когда его только привезли. Такой большой, что на него можно было лечь сверху, обняв за шею руками, а он даже и не пошатнется.
Она дождалась, когда в этот разговор — «не спи — не сплю» — вмешался их Полкан, сообщивший всем, что и он совсем даже не спит, а работает, охраняет двор и Сашку с бабушкой, и легко спрыгнула с высокой кровати. У бабушки все кровати были высокие, и если включить свет, то под ними совсем не темно и вовсе не страшно.
Сашка темноты не боялась. Темноты боятся те, кто ничего не знает. «От незнания — все страхи», — так говорила Сашке бабушка. А Сашка знала точно, кто там, в темноте, под кроватью шевелится и хочет схватить ее за ногу и напугать. Она даже специально выключала свет и играла с тем, кто под кроватью. Он хватал, а она весело визжала и задирала ноги повыше. Так они и веселились вдвоем. Главное, не забыть потом покормить домового. Он же не только хватать умеет. Он много полезного сделает, если его уважить.
Сашка сама домового ни разу не видела, только чувствовала лапу, когда он хватал за ноги. И еще слышен был иногда его смешок из темного угла. Бабушка говорила, что они все маленькие и с лохматыми ногами. Наверное, как хоббиты. А хоббитов бояться не надо — они же добрые. Про хоббитов все написал Профессор. Эту книжку проходили по программе, и Сашка потом участвовала в розыгрыше отдельных сценок. Только в хоббиты ее тогда не взяли, потому что она, как сказали мальчишки, «худая и вредная». Тогда она стала лесным гоблином, зеленым и шустрым, бесилась и кувыркалась, и всем мешала. «Вошла в роль», — сказала учительница. А учитель посмеялся и сказал, что все в точности «по системе Станиславского».
Сашка осторожно раздвинула занавески и толкнула легкие створки наружу. Окно открылось, и в него сразу влезла голова Полкана. Он часто дышал, и большой розовый язык его висел на сторону. Наверное, бегал по двору, бесился.
— Уйди, — шептала Сашка, пихаясь в полканову голову. — Уйди, не мешай!
— Ах-ах-ах-ах, — дышал Полкан и улыбался. Собаки улыбаются открыто, от души. Вот кошки — они сами себе на уме. Они могут смеяться и издеваться. Могут сидеть в строгом молчании, ни на кого не обращая внимания. Могут таращить глаза в показном испуге или непонимании — на самом-то деле они все понимают. А вот улыбаться по-настоящему кошки не могут.
— Тихо, ты! — шипела Сашка, отталкивая собаку. А потом она придумала. Она крепко ухватилась за шею Полкана и прошептала ему в ухо волшебное слово:
— Полкан, гулять!
Полкан дергает, и Сашка, как пробка из бутылки, вылетает на улицу, чуть не ободрав о подоконник только-только зажившие коленки. Полкан, лязгая цепью, прыгает вокруг. Он бы сейчас залаял от полноты чувств, но Сашка повисла на нем и зажала морду обеими руками.
— Тихо! Тихо! Не шали!
Пока Полкан извивался всем телом, повизгивая и мотая хвостом, толстым и твердым, как палка, Сашка отстегнула карабин и, придерживая за ошейник, потянула пса на зады. В такую рань незачем было идти со двора через калитку в воротах. Скоро погонят скот, скоро пастух пройдет по улице, щелкая кнутом. А она по задам, по балке, мимо ничейного вишневого сада, наверх, туда, где стоит каменная баба, потрепанная ветрами и временем, серая и тяжелая. Городские, когда приезжают сюда, называют ее скифской. Но Сашка-то знала, что на самом деле эти бабы, что встречаются в степи, — половецкие, и никакого отношения они к скифам не имеют.
Можно было, конечно, отпроситься заранее, объяснить бабушке с вечера. Но так, не спросясь никого, ранним утром, до света — это же получается самое настоящее приключение!
Когда она прошла за огороды, за последний плетень, отпустила Полкана, и он тут же унесся вперед, по сверкающей росой траве, под пеленой поднимающегося из оврага тумана, мотая ушами и вскидывая изредка голову: идет ли хозяйка за ним? Хотя, наверное, Сашка была не хозяйка, потому что хозяйка была бабушка. А Сашка была вроде как подружка, с которой так весело повсюду бегать и играть.
Сашка бежала следом, шлепая босыми ногами по холодной пыли тропинки. За ночь земля остывала, но скоро встанет солнце, и станет светло и тепло, и пыль станет нежной и приятной, теплой, когда наступаешь.
Бывает пыль черная, от чернозема. Она самая приставучая, ее трудно отмывать. Бывает красная, от глин и суглинков. Она крупная, колючая и мажется, если пройдет даже маленький дождик. А у них здесь пыль была самая правильная — серая. Тонкая, мягкая, легкая. Если свернуть кулек из газетной бумаги — но только в один слой! — в кулек насыпать пыль, а потом его сверху завернуть, то получится самая настоящая граната.
Им показывали по истории старый фильм про Чапаева. Там была такая сцена, когда Петька и другие тоже стали выбегать на холм и кидать в беляков гранаты, и тогда все побежали, а из нижнего угла экрана в бурке, отнеся руку с шашкой в сторону, вылетал Чапай, и за ним вся его конница… И это было так здорово — просто непередаваемо!
Так если кулек с пылью кинуть подальше, он при падении взрывался почти так же, как в кино граната. Только звука не было. Но звук можно было сделать голосом. А взрыв — почти как настоящий.
Сашка однажды устроила «войнушку» и откидывалась такими гранатами, когда ее почти окружили, прижав к оврагу. Враги подползали, а она бросала свои гранаты, кричала «гр-р-ррах-кх!», пыль покрывала поверженных противников. В общем, попало потом всем. И бабушка ворчала, потому что пришлось снова стирать. Хотя, летом стирали почти каждый день и тут же вывешивали на солнце. Поэтому у всех была светлая-светлая одежда, выгоревшая почти добела. И сарафаны Сашкины, которые поначалу сверкали синими да красными цветками, тоже были теперь почти белыми.
Она выскочила на самую верхушку холма и остановилась, прижав руки к груди, успокаивая сердце и стараясь отдышаться. Прямо над ней возвышалась огромная серая каменная баба, скрестившая руки на животе. Она глядела на восток большими круглыми незрячими глазами.
Туда же стала смотреть Сашка. И когда над степью появился самый краешек солнца, Сашка скинула свой сарафанчик и с визгом бросилась в росяную мокрую высокую траву, скатываясь все ниже и ниже по склону. До самого низа докатилась, даже закружилась голова. Там она полежала, широко раскинув руки и встречая всем телом ласковые солнечные лучи, а, обсохнув, полезла наверх, за одежкой.
Теперь она шла медленно, почти бесшумно, и когда высунулась из травы, прямо у своего сарафана увидела мохнатые ноги, топчущиеся неуверенно на месте.
— Ага! — закричала она, и вцепилась в них. — Попался, который пугался!
— Вот дура-то, — дергались ноги. — Вот сумасшедшая! А если я — тебя?
— А то — не ты меня ловишь из-под кровати? — по-настоящему удивилась Сашка.
— Ну, точно — дурища. То ж домовой! А я, во — огородник! Я же если цапну, так поцарапаю же, чесслово!
Сашка села рядом с огородником на свой сарафан, стараясь не рассматривать его — это же никто не любит, когда его рассматривают в упор.
— А что ты тут делаешь, огородник?
— Что делаю, что делаю, — ворчал тот. — За тобой приглядываю. Домовому-то выхода из дома нет. Вот он мне и передал пригляд за тобой. Мало ли что тут… Вон, голышом по траве катаешься…
— Мне можно, я еще маленькая. И никого же нет все равно.
— А раз маленькая — вот пригляд и нужен!
Он неслышно присел рядом, и они вместе стали встречать рассветное радостное солнце. Сашка и огородник. А Полкан носился внизу под холмом, кого-то гонял, от кого-то убегал, весело взлаивая и посматривая наверх — никто не обижает его подружку?
* * *
Ровно в полдевятого Женька уже стоял навытяжку в классе у своего стола, встречая учителя. Почему уроки начинались в полдевятого, почему не раньше и не позже, никто не знал. Так было установлено страшно давно, и центральный процессор не нашел в этой традиции ничего плохого.
В его 5 «М» было двенадцать мальчишек. Это очень удобно. На физкультуре можно было играть в футбол с другими классами — одиннадцать в поле и один запасной. Или можно играть в волейбол, разделившись ровно пополам. Футбол и волейбол были профильными в их школе. Они вырабатывали умение работать в команде, а еще уметь сосредоточиться на том, что получается лучше. Хороший тренированный нападающий мог забивать хоть сто мячей. Но если в его воротах не будет никого, то ему напихают в ответ все двести. А командой, коллективом, всегда можно отбиться. И еще в этих играх были правила, написанные сто лет назад. Изучение правил и их исполнение — тоже необходимая в жизни вещь.
Это им объясняли еще в самом начале учебы, в первом классе, страшно давно. И еще говорили, что только командой можно двигаться вперед, только коллективом, всем вместе. И что одиночка — ноль. Про ноль тоже рассказывали в первом классе.
А в пятом уже было много предметов, которые вели разные учителя.
Утром в школе было гулко, зябко и пустынно. Серый свет нехотя вползал в высокие окна, и от него было еще промозглее.
Классы с буквой «Ж» учились на другом этаже. Оттуда на переменах был слышен визг и иногда какое-то топтание, и даже пение.
У мальчишек не пели. Они слонялись угрюмо по высокому коридору, перешептывались о своем, мальчишечьем, дергали закрытые двери. Их выгоняли из класса на перемену, чтобы не засиделись, и чтобы было неформальное общение. Но с общением у них пока не очень получалось. Как в школе общаться? Трудно. Да еще эти переезды, смена школ, новые лица…
На математике и физике и большинстве остальных уроков они работали за персональными терминалами. Учитель сразу видел, кто и что делает, и мог поправить или поставить оценку.
Оценки были нужны. Они накапливались, и по итогам года можно было получить неплохой бонус. Витька, одноклассник, победивший на районной олимпиаде по истории, летом ездил в большой детский лагерь на море. Вернулся загорелый и довольный. И эта поездка его отцу совсем ничего не стоило. Это был Витькин собственный бонус. Он даже задавался немного. Совсем немного, пока коллектив не поправил его.
Учиться было необходимо еще и потому что на работу не брали совсем необразованных.
Но бонус, конечно, тоже имел большое значение.
Женька тяжело вздохнул.
Все-таки маленьким быть тяжело. Надо учиться. Хоть и скучно. Но учеба, говорили им — это такая их работа. А оплата этой работы — оценка.
Надо зарабатывать бонусы. Надо соблюдать дисциплину. Надо «играть в команде», даже если ты совсем не дружишь с одноклассниками. А еще скоро они переедут — когда уж тут дружить-то?
Школьный психолог объяснял, что дружба — это такая очень редкая вещь. Такая редкая, что может быть, скажем, всего один друг — и это нормально. А вот умение работать в команде — это всегда пригодится.
Психолог вызывал каждого хотя бы по одному раз в четверть. Они там заполняли всякие формы тестов, отвечали на его хитрые вопросы. Можно было и не отвечать, если было неудобно. Психолог никогда не ругался, а только ставил какую-то пометку в деле. А когда много пометок накапливалось — вызывали отца.
Вообще-то современные технологии позволяли учиться прямо из дома, потому что домашний компьютер — практически тот же школьный терминал. Но все ходили в школу. Если никто не будет ходить в школу, как выработать коллективизм? И еще — а куда тогда девать всех учителей? И директора с его помощниками? И школьного психолога? Нет, посещение школы было вполне рационально и даже необходимо.
А дома сидели только те, кто не мог учиться нормально — всякие нервные или просто больные. Их отсеивали еще в самых первых классах. Психолог ставил специальные пометки в деле, потом считал, и по итогам года кто-то получал бонус, а кто-то уходил на домашнее обучение. И так получалось, что к концу четвертого класса, когда начальное образование заканчивалось, в классах оставалось человек по шесть-семь. Вот из них и комплектовали пятые.
А говорят, раньше школ на всех просто не хватало, учились в две смены, и в классах было аж по сорок человек. Еще рассказывали, что девочки учились вместе с мальчиками.
Понятно, что уровень обучения тогда был низким. Как можно учиться в такой толпе, да еще с девчонками вместе?
Но с общим ростом благосостояния школ стало больше. Теперь всем хватает.
Женька отвечал на вопросы, выбирая правильный ответ из пяти предложенных. Потом все вместе смотрели фильм про море и морских животных.
Потом был обед.
Обед — это тоже была такая специальная школьная традиция. Пусть дома еда вкуснее — кстати, а почему, задумался ненадолго Женька, ведь продукты те же? Но зато столовая в каждой школе позволяла трудоустроить еще целую кучу народа. Безработица поэтому была самая минимальная. Это говорили на уроке обществознания. И еще такой совместный обед приучал к порядку. Тут главным было соблюдение режима и калорийности питания.
После обеда был еще урок физики, а потом сразу физкультура. Они играли в футбол с шестым классом и сыграли вничью. Значит, плюс каждому. После игры они солидно прощались, жали друг другу руки, говорили, что вот еще немного потренироваться, и можно уже у старших выигрывать. А за это полагается бонус.
Женька читал в фантастических романах о будущем. Там почти так и рассказывали про школу будущего. И учитель — мужчина. И классы совсем маленькие. И компьютеры у всех на столах. Только про уроки не написано ни у кого, даже у Стругацких.
А в школе им объяснили, что классно-урочная система — это фундамент современного образования. Что никакие другие формы обучения подрастающего поколения пока не доказали своей актуальности и рациональности.
Поэтому у них было шесть-семь уроков каждый день. Это строго. Меньше — только перед каникулами. И классный час, на котором воспитатель объясняет, кто и за что получил баллы, дает рекомендации всякие, обсуждает поведение и внешний вид.
Женька спросил его, как папку вчера, зачем им было рисовать открытки с несуществующим Дедом Морозом и его будто бы внучкой.
Воспитатель объяснил, что их так приучают к исполнительности. Не все предметы, которые изучают в школе, пригодятся в будущем в работе. Вот, например, история…
— А что — история? — сразу поднял голову Витька.
— А — то. История в жизни практически никому не понадобится. Только тем, кто будет учителем работать. И биология — только ветеринарам и врачам. И химия — только инженерам химического производства. Но учат вас всех одинаково, и это приучает к дисциплине и исполнительности. Приучает к ответственности. Понятно?
Конечно, всем было понятно. То, что не пригодится, все равно надо делать. Потому что так положено. Это как план-график у взрослых. Там как написано — надо исполнять. Если так не делать, то все перепутается в жизни, опять будет чего-то много, а чего-то совсем мало, опять, как в истории с кризисами. Понятное дело.
Женька шел домой и рассуждал сам с собой на тему необходимости даже самого ненужного чего-то. Вот и Дед Мороз, выходит, тоже в чем-то необходим, хоть и нет его на самом деле. С одной стороны, он приучает фантазировать, и это полезно, а с другой, открытка с ним — это укрепление дисциплины и исполнительности.
У него немного побаливало горло. Это не от простуды, а просто устал сегодня говорить. Вроде и незаметно, а столько было за день сказано и отвечено. Потому что не все можно выразить с помощью проверочной программы, нажимая клавиши. Умение говорить, учили в школе, тоже помогает во взрослой жизни. Опять же — а вдруг пошлют работать в школу после института? Педагогом же могут послать. А как тут не говорить? Учитель просто обязан говорить громко и грамотно.
И все-таки домой идти было гораздо легче, чем в школу.
Но Женька понимал, что это такая слабость — показывать облегчение от конца учебного дня. На самом деле, надо любить свою работу, чтобы она делалась легче и лучше. А школа — это твоя работа, пока учишься.
* * *
— Санька! — крикнула ей бабушка, когда Сашка резво пылила мимо их ворот к большому саду. — Тебе учитель привет передавал, здоровьем чего-то интересовался.
Сашка затормозила, крикнув себе громко при этом «тпру-у-у!», задумалась, посматривая на солнце из-под ладони. Если сейчас к учителю, то в сад получится только к вечеру. А если в сад сейчас, а учитель как раз, может, чего интересного скажет… И вообще-то сад никуда и не убежит. Он тут стоит уже сколько лет — и будет стоять!
Сад официально считался ничьим, потому что хозяева свои сады выращивали на задах, за домами. А тут все было общее, то есть совсем-совсем ничейное. Но вовсе даже не заброшенное. Все соседи никогда не забывали опилить засохшие сучья, смазать варом места спила, вырезать кустарник, побелить стволы от мелких вредителей, а по зиме обмотать еловыми ветками понизу, прижав их лыковым мочалом или даже медным проводом. По весне все село собиралось на очистку сада от сучьев, листьев, разного мусора. По осени любой мог прийти с корзинкой или даже ведром, чтобы добрать себе ягоды. А дядя Коля еще и прививал черенки по весне, добиваясь лучшего вкуса вишни и абрикосов. Он читал книги, которые выписывал аж из столицы, а потом делал по написанному. Иногда у него получалось очень здорово. Учитель его хвалил и посылал детей к нему учиться.
Сашка посвистела, подзывая к себе Полкана, затащила его за ошейник в открытую калитку и снова защелкнула карабин на крепком стальном кольце.
— А все, понимаешь, дружище, — сказала она, щелкнув пса по носу. — Погуляли с тобой немного, и хватит. Мне — учиться, тебе — работать.
Полкан с подвыванием зевнул, показав сизую глотку, и свалился с глухим стуком под стенку. Тут он и будет теперь лежать весь день, только поднимая ухо на шум или приоткрывая глаз на скрип калитки.
Сашка сполоснулась под жестяным рукомойником, помыла и ноги, сначала ставшие еще грязнее от пыли и воды, а потом заблестевшие загорелой кожей в мелких белых царапинах от травы и разных колючек, прошла по цветным лоскутным половичкам в дом и уселась за свой стол.
Седьмой класс — это они, выходит, уже почти старшеклассники. Вот когда дети еще совсем малые, тогда их нужно водить и хороводить, как курица с цыплятами, как утка с утятами. Для того есть специально учительница начальных классов. А для средних классов есть свой учитель. Мало того, что он сам много всего знает, и помнит в лицо и по голосу каждого своего ученика, но в помощь ему есть сеть, где можно найти самую разнообразную информацию. Правда, Сашка заметила, что иногда он немного хитрит, и поручает ученикам, как будто себе в помощь, поиск такой информации, которую уже знает. Мол, сделайте доклад, девчата и ребята, кто возьмется? А то я не совсем в теме. А сам — очень даже в теме, хоть слушает всегда на полном серьезе и благодарит за помощь тоже серьезно.
Она отдышалась в прохладе большой комнаты, открыла свой настольный комм и нажала кнопку вызова.
— О! Саша! — обрадовался учитель на экране. — Как здорово, что ты сама позвонила! Я как раз думал сходить в сад, посмотреть, как ты там, не приболела ли?
Сашка вздохнула, но — время учебе.
— Нет, Максим Викторович, я здорова, спасибо. А что надо сделать?
А сделать надо было много. Она приняла файлы с заданиями, потом еще файлы с чужими рефератами. Все рефераты, как всегда, были без подписи. Надо было проверить и написать обстоятельную рецензию, указав на ошибки и на положительные моменты. И оценить информативность реферата. Сейчас кто-то принимал такие же файлы, где был Сашкин реферат по истории. Она написала про революцию последнюю. Только в виде такой повести фантастической, типа альтернативной истории. У них в группе все любили фантастику, и теперь Сашка ждала ожесточенного спора вокруг своего произведения.
Когда они сами проверяли работы, это была такая первичная проверка. А потом уже учитель сам устраивал вроде ни с того ни с сего публичную порку записному отличнику или вдруг восторгался тонким смыслом, проявившимся внезапно в реферате заядлого прогульщика и двоечника. Хотя, таких, очень уж заядлых, не было. Как-то так получалось, что даже братья Пашка и Петька, известные хулиганы, учились очень хорошо, и все говорили, что им прямая дорога в институт, на биологов или химиков. Конечно, химики-то они были известные. Фейерверки по праздникам рассыпали над селом цветные букеты, огненные колеса и разлетающиеся во все стороны звезды.
Сашка любила учиться. Только она любила больше, когда учитель собирал их для какого-то общего дела, и там можно было развернуться вовсю, показать себя во всей красе. А так, по комму… Это тоже интересно, конечно, но даже язык никому не покажешь. Разве только учителю. А вот интересно, что будет, если показать язык учителю?
Иногда она действовала быстрее, чем думала.
— Ну, что же, — сказал вдруг учитель. — Язык розовый, здоровый. В смысле, не только здоровый, что без болезней, но и здоровый, то есть большой. Длинный такой. Наверное, при известном напряжении, сможет даже до кончика носа достать?
Сашка глотнула, покраснела, и смогла только выдавить:
— Это я не вам, извините, не подумайте только…
— А я и не думаю. Разве ты могла мне язык показать? Небось, зеркалу? Сама себе? — хитро улыбался учитель.
Точно, зеркалу! Старинному простому зеркалу, чуть в наклон висящему над столом. Сашка подняла голову и увидела себя, сидящую за коммом, свои красные уши, просто пылающие уши, сверкающие сквозь добела выгоревшие волосы, и покраснела еще больше. То она была слегка розовая сквозь загар, а теперь просто красная, как после бани. Но учитель уже отключился, и на экране теперь крутилась заставка глобального поиска в сети. Вот заставке Сашка и показала еще раз язык.
А потом побежала в сад, рассчитав, что времени после захода солнца и до сна ей вполне хватит на полученное задание. А не хватит, подумала она, уже хлопая калиткой, так утром можно до света встать, как сегодня.
Вприпрыжку добежать до сада, крикнуть громко «здрасьте!», обежать по кругу, сорвать горсть вишни, посмотреть, как пилят сучья, проверить заросли орешника и малины, что встали вокруг сада настоящей стеной, скатиться вниз, в балку, к ручью, пробежать по нему, гоняя мальков, сверкающих на солнце серебристыми спинами, взбежать вверх по крутому склону, отдышаться, смотря на переваливающийся по полю трактор, добежать до моста, крикнуть «привет!» пацанам с удочками, посмотреть тритонов, сорвать большую камышину и стукнуть ею по голове Петьку, сорваться и с визгом мчаться от близнецов, устроивших на нее охоту…
В сумерках она вернулась к дому, встреченная привычным ворчанием бабушки, что девочки должны вести себя не так, что опять вся потная, что быстрее в душ, что вода просто горячая. Летний душ был сделан из будочки и большого бака наверху. Когда вода в нем заканчивалась, Сашка таскала воду ведром. Можно было и шлангом налить, но это было бы не спортивно. А физическая нагрузка в ее возрасте была необходима. Это она точно знала. Это учитель говорил.
Ну, значит, учиться — с утра, решила она, с наслаждением падая в прохладные простыни в тишине старого дома.
* * *
В пятницу вечером, как раз вчера, Женька капитально убирался в своей комнате.
По субботам они с отцом убирались уже во всей квартире. С самого утра, как вставали. В выходные дни все вставали в восемь, на целый час позже, чем в обычное время.
Завтракали вместе, прослушивая и просматривая новости, а потом убирались.
В пятницу он сам разбирал свои книжки и одежду, а в субботу они с отцом вместе протирали пыль по всей квартире, пылесосили, чистили ванную, поливали унитаз голубой пузырящейся жидкостью с едко-апельсиновым почему-то запахом, и обмывали все из душа — душ был и в туалете и в ванной. Это только так кажется, что в «двушке» убираться быстро и легко. На самом деле, так, бывает, упашешься, что сразу купаться, как после физкультуры.
Конечно, можно было убираться и после обеда — в графике на выходные только отмечались основные мероприятия, например, та же уборка или совместное приготовление обеда, или семейный ужин, но не указано было точное время. Но сегодня после обеда они встречали мать и сестру.
Марк тщательно вытер руки и отошел от раковины, уступая место сыну.
— Хорошо потрудились, Жень!
— Ага, чисто всё сделали.
— Скоро мама приедет…
— С Викой, — понятливо кивнул головой Женька.
Вика была старшей сестрой. В этом году ей исполнилось четырнадцать, и она должна была заканчивать девятый класс, чем очень сильно задавалась.
По традиции после девятого класса начиналось первичное распределение трудовых ресурсов. Вика в детстве хотела быть парикмахером, причесывала и стригла всех своих кукол, потом — косметологом, потом даже визажистом каким-то, но по результатам года, скорее всего, получит рекомендацию в старшие классы и дальше в институт. Можно было, конечно, исполнить мечту детства, но кто же сам отказывается от высшего образования? Парикмахер, конечно, тоже мог закончить ВУЗ, но уже заочно, в свое личное время, не затрагивающее его график.
Когда мама приезжала с Викой, Женьку всегда оставляли вдвоем с сестрой. И он должен был с ней общаться. Это тоже было в графике, причем одновременно и у отца и у матери. Общение детей, создание семейного настроения, поддержание родственных связей…
— Ты же все сам понимаешь, сын?
— Конечно, пап. Родственные связи. План-график, — Женька говорил солидно, понимающе.
Ну, а что — не первый год на земле живет. Порядок знает, уже приучен.
На обед они сегодня варили плов. Много плова, чтобы он остался и на ужин. Женька мыл овощи, потом чистил морковь и чеснок, резал специальный лук, который хрустел и вкусно пах, но глаза от него не слезились, а папа доставал из стандартной упаковки аккуратные бруски розового мяса и резал их на кубики. Плов они любили оба, и он получался поэтому у них всегда хорошо. А суббота позволяла использовать необходимое время для правильной предварительной жарки комплектующих. Все-таки плов — это вам не простой супчик с фрикадельками.
Во время готовки они еще немного разговаривали о том, о сем. О переезде скором, о школе, о работе чуть-чуть.
— Кстати, мама с Викой привезут сегодня торт…
Вот, действительно, праздник! Женька улыбнулся довольно. Торт с историческим названием «Наполеон» мама делала редко, но зато он всегда был очень вкусный. А еще сегодня взрослые будут пить вино — Женька видел бутылку в холодильнике. А им с Викой достанется витаминизированная газировка — тоже вкуснотища. И потом, детям газировка полезнее, чем вино.
Нет, все же хороший день — суббота! Даже пусть и с Викой. Все равно — хороший день.
Вика как всегда при встрече немного выделывалась, задавалась, показывала себя всяко. Ну, девчонка, чего там. Да еще и в четырнадцать лет… Психолог уже объяснял, что так и бывает у них.
После настоящего праздничного ужина с долгими разговорами и улыбками, с чаем с тортом в конце, Женька с Викой остался в его комнате, притащив остатки порезанного на дольки торта и бутылку газировки, и пытаясь чем-то развлечься невзирая на разницу в годах и почти взрослость Вики.
А родители закрылись в своей.
Женька попытался рассказать Вике о своей школе и своем 5 «М» классе. Не то чтобы он так уж хотел рассказывать, но папа говорил, что хозяева должны развлекать гостей. Вика хмыкала и кривила губы. Ей было не интересно слушать о пятиклашках.
— А ты зна-аешь, — хитро прищурилась Вика на младшего брата и кивнула на стенку, — чем они там сейчас занимаются?
Женька посмотрел на нее, посмотрел, а потом сказал, вздохнув:
— Да кто ж этого не знает. Сексом, конечно.
Это они еще в третьем классе проходили. Секс, говорили учителя, это способ увеличения в организме количества гормонов счастья, а еще очень хорошая зарядка для сердечной мышцы. То есть, это вещь не только очень полезная, но и приятная. Сексом положено было заниматься взрослым, состоящим в браке. Для того в брак и вступали. Ну, и для детей еще. От секса дети получаются.
— Ишь, какие пятиклашки пошли подкованные! А еще что ты знаешь? — сестра была явно разочарована.
Не удалось смутить младшего братца.
— По программе.
— А ты зна-аешь? — Вика задумалась на миг, чем бы еще уесть мелкого. — Знаешь, что Деда Мороза вовсе не бывает?
Женька опять вздохнул, высоко подняв тощие плечи.
— Вик, а чего ты такие дурацкие вопросы задаешь, а? Давай лучше про будущее поговорим. Я тебе про фантастику расскажу…
— Ха, он тут мне про будущее будет. Да все же и так ясно понятно. Я, наверное, в институт пойду. Потом замуж выйду, и нам тогда отдельную квартиру дадут. Потом я работать буду. Потом, лет через пять, родить надо. Лучше бы сразу двойню, чтобы закон выполнить. И потом, если сразу двойню — большой бонус дают…
Она задумалась, что-то прикидывая и одновременно загибая пальцы.
— А потом мы получим уже две квартиры, и будем жить врозь. И будем по субботам ездить друг к другу в гости. С тортиком! Ага! Моё!
И она отвалила себе на блюдце последний кусок нарезанного заранее пышного светло-желтого с белым сладким кремом торта.
Но Женька совсем не обратил внимания на торт, он задумался о будущем.
Это, выходит, и у него так все будет? То есть, почти так — он же не девчонка все-таки. И у его детей — тоже. И у детей детей, у внуков то есть…
Будут меняться кварталы, дома, квартиры, школы, место работы…
А в целом-то — все вот так. На много лет вперед. Согласно плану-графику. Как папа. Как мама. Как все.
И он задумался, хорошо ли это.
* * *
— Ага! — закричала Сашка. — Ага! Я все видела! Вы ели желтый снег!
— Дура! Это мороженое!
— Вам же говорили, нельзя есть желтый снег, — кричала она во всю глотку, боком-боком продвигаясь к самому краю.
И когда Пашка с Петькой, переглянувшись, стали потихоньку расходиться, чтобы зажать ее в клещи, она взвизгнула громко и звонко и, пригнувшись, ринулась вниз на своих коротких лыжах. Для бега, для гладкого бега по лыжне, обычно лыжи выбирали так, чтобы вытянутой вверх рукой доставать их конец. А вот если по плечо, да легкие, пластиковые, да верткие такие, да чуть пошире беговых… Ух, как Сашка неслась в клубах снежной пыли по крутому склону старой балки наискосок и вниз к замерзшему ручью! Пашка перевалился через край и полетел прямо, по крутизне. А Петька прикинул, что и как, и стал съезжать потихоньку боком, в сторону, чтобы перехватить Сашку у ручья.
Ну, и что… Ну и поваляли немного. И не больно вовсе. Снег такой белый, мягкий, пушистый… Лыжи целы, сама цела — чего бабушка опять ворчит?
Сашка сидела в жарком парном мареве маленькой баньки и грелась.
А вот еще можно кататься просто в тазу. Вытащить его на горку, сесть — и вперед. Там такое гладкое дно, что слетаешь, как на летающей тарелке.
Или от стройки, от мусора, что еще не увезли, притащить кусок задеревеневшего на морозе линолеума. Загнешь передний край вверх, и — у-у-ух!
Раньше, говорят, делали «ледянки». Надо было валенок макать в воду, а потом выставлять на мороз, в сени. И потом опять макать и снова выставлять. Валенок получался толстый, тяжелый, и гладкий на подошвах от льда. С горок вот так и катались, стоя.
Валенок у Сашки не было. Валенки только у бабушки были, вернее, такие полуваленки — она в них по дому ходила, чтобы ноги не студить.
Сашка грелась и потела. Кожа стала красная-красная. Она схватила кусок мыла: надо поскорее помыться, а то сейчас бабушка начнет хлестать веником, и тогда это надолго. А хотелось еще вечером поговорить с учителем. Она хотела наделать открыток и подарить всем одногруппникам. И Петьке с Пашкой, и Мишке, и Светке тоже, хоть она и задается своей красотой…
Сашка опять замерла. Красивая же Светка! Такая красивая! У нее ярко-синие глаза. У нее черные пречерные волосы длиной ниже пояса. У нее коса из тех волос — толщиной с Сашкину руку. А у Сашки волосы с лета выгоревшие, светленькие, легкие, пушистые. «Одуванчик»- говорила мама. Вчера приходил мэйл от папы. Он, как всегда очень четко и подробно, описывал, как они работают и главное сказал, что отпуск им дают, и что вот-вот, и что если не на сам Новый год, то все равно зимой — приедут. Значит, они побегают вместе на лыжах, покатаются с горки, поиграют в снежки… А мама будет стоять наверху и смеяться в голос, повторяя, что вот же — дети. Настоящие дети!
— Иди уж, — раздалось из приоткрывшейся двери в предбанник. — Мы тут с Митревной посидим, косточки погреем. Поболтаем о своем…
— Добрый вечер, баб Мань! — крикнула Сашка, проскальзывая под бабушкиной рукой.
— Ух, ты какая выросла-то! Мать и не узнает, когда приедет! Чем ты ее кормишь, мой-то Мишка все мелкий какой-то…
— Это потому, баб Мань, что девочки взрослеют раньше! Нам объясняли, — рассмеялась Сашка, вытираясь большим легким специально банным полотенцем, впитывающим влагу, как сухая губка.
Сашка задумалась о губке, не переставая одеваться. Губка — она же растение и животное. И потом, губки у них тут не водятся. И если так написать, то кажут, что погналась за красивостью, но использовала неверное сравнение. В песок? Нет, когда капля дождя падает на песок, она не исчезает сразу, а сначала сворачивается в комочек, покрытый черной влажной пылью, а потом уже впитывается. А вот полотенце впитывает влагу, наверное, как яблоня в жаркий полдень, в самую жару, когда кидаешь шланг к ее корням и открываешь кран. Вода чуть ли не шипит, вытекая, впитываясь в горячую растрескавшуюся землю.
Одеваться было легко, потому что банник не перепутал ничего и не связал узлом штанины и не вывернул рубашку. Сашка заранее положила для него на лавку кусок ржаного хлеба, посыпанный солью. А то ведь мог и пошалить. Банники — они самые шаловливые из малого народца. Если огородники и домовые, и даже овинники — это труженики, то банники — просто хулиганы какие-то мелкие. Могут напугать, стуча в стекло или в стену, могут даже ошпарить. Но Сашка порядок знала, поэтому банник с ней не задирался.
Она вышла из баньки и вдохнула синий морозный воздух.
Чуть подморозило, и под ногами снег скрипел, как канифоль, которой натирают смычок скрипки. Сашка не играла сама, но Мишка на всех концертах выступал, и она ему даже помогала и сама ш-ш-ших, ш-ш-ших натирала смычок вкусно пахнущей канифолью.
А Сашка больше любила театр. В студии, когда они представляли что-нибудь, ей всегда давали подвижные роли.
Играли они спектакли в бывшей церкви. Очень старой, помнящей все войны, заново восстановленной, побеленной, получившей синий в золотых звездах купол. Справа там был зал, а слева комнаты для студий и кружков, и еще библиотека с настоящими книгами. Эти книги на руки не давали — надо было читать здесь, под присмотром батюшки. Его было положено звать по имени-отчеству, но Сашка с ним дружила и называла просто «батюшкой». Он носил рясу и большой красивый блестящий крест. И присматривал за церковью, и сидел в библиотеке.
Сашка приставала к нему, начитавшись книг:
— Батюшка, а что же ты тут в библиотеке, а в церкви не служишь?
— Моя работа — моя служба, — отвечал он легко и улыбчиво. — Тут, смотри, Александра, вера…
Он поднимал палец вверх, к куполу.
— А вот тут — знание.
Обводил тем же пальцем вокруг себя, на полки показывал.
— И я так скажу, что вера со знанием — они вполне могут ужиться.
— Но ты же не служишь все равно? По-настоящему?
— А кому тут служить? — удивлялся батюшка. — У нас даже бабки — грамотные. Они вон даже на Пасху не в церковь идут, а, понимаешь, в библиотеку за журналом свежим. А я как раз тут. Кому слово скажу, кому — два. Кого выслушаю, кого вразумлю. Вот и служба моя. А не в том она, чтобы в золоте кругами ходить и кадилом махать.
— И кадило у тебя есть? — с восхищением спрашивала Сашка.
— Все есть, Александра. А иначе — какой же я батюшка? — смеялся он.
Сашка сидела перед коммом и ждала сеанса связи с учителем. Он уже принял вызов, но сообщил, что — пять минут. Значит, пять минут. У него все строго и точно. Ну, вот. Экран мигнул. Учитель улыбнулся с него:
— Что Саш, в бане была?
— Ага, грелась.
— Ну и правильно. Баня — она вещь полезная, а уж зимой — вдвойне.
Вот и все, в сущности, что он сказал не по делу, а Сашке сразу стало тепло и приятно разговаривать. Как с родным почти.
А учитель разобрал ее последние работы, похвалил за «этнографичность и реалистичность», дал направление, объяснил, в чем Сашка еще путалась, скинул ей на диск задание, обсудил, подробно и со вниманием вслушиваясь, варианты разных занятий. Посмеялся с ней вместе, когда она рассказывала о сегодняшней схватке с братьями.
— Ты не поссорилась случайно с ними? — насторожился.
— Да вы что! Мы же… Мы же друзья на всю жизнь! — чуть не закричала Сашка. — Да у нас такие отношения! Да такие!
Учитель смеялся, а потом перевел взгляд и поздоровался Сашке за спину.
Сашка не успела оглянуться, как на нее налетели со спины, обняли, прижали к холодному, поцеловали в губы сладко и ароматно, а потом папка подхватил ее на руки, как маленькую, и стал кидать вверх, а она визжала в голос и счастливо хохотала до изнеможения.
Вот это будет Новый год!
С родителями, с бабушкой, с друзьями, со снегом, с Дедом Морозом!
* * *
— …И еще один вопрос, Марк Александрович, — школьный психолог, рослый и крепкий мужчина в строгом сером костюме клюнул носом очередную страничку своего дневника.
«Мог бы очки надеть, если уж такой слепой,» — подумал Марк, сдерживая зевоту.
Скучно, нудно, но все равно необходимо регулярно посещать школу и интересоваться делами своего несовершеннолетнего ребенка. Он уже прошел по учителям, переговорил с завучем, а теперь сидел перед столом в маленьком, только на два человека, кабинете психолога.
— Скажите, что читает ваш Евгений? Какие книги?
— По программе. Все, что задают, он читает от и до. Я проверяю всегда.
— А сверх программы? Что он читает не по обязанности, а для себя?
— Ну, у нас разные книжки дома есть. И еще библиотека рядом. Но он любит фантастику.
— Фантастику, — похлопал себя авторучкой по оттопыренной губе психолог. — Фантастика — это ведь про ракеты, про полеты в космос, про изобретения разные и про будущее, так?
— Да, именно.
— Это очень хорошая литература. Она будит фантазию ребенка и развивает ассоциативное мышление. Но, надеюсь, вы предупреждаете его, что все написанное — выдумка?
— Конечно! Вот на днях мы говорили о Деде Морозе. Я так и объяснил сыну, что Дед Мороз выдумка, фантазия, нужная для развития полезных умственных качеств.
— Это вы правильно сказали. Выдумка, но полезная, — со значением произнес психолог.
Марк насторожился:
— А что, бывают разве еще и вредные?
— Нет, у нас таких книг просто не бывает. Это, может быть, где-то там…, - помахал он в пространство рукой. — Но бывают, знаете ли, бесполезные выдумки. Они отнимают у ребенка время и занимают его мозг. Понимаете, да? За этим надо следить, чтобы время было занято с пользой. Пустое умствование и переливание из пустого в порожнее нам не нужно ни сейчас, ни в будущем. Все должно быть достаточно реально и в необходимой мере актуально. Рациональность. С опорой на действительность. Вы меня понимаете?
Это было понятно. Марк и сам так считал, что читать или смотреть телевизор или лазить в сети по доступным его возрасту сайтам надо так, чтобы получить кроме удовольствия от процесса еще и какую-то пользу. Поэтому они всегда с Женькой обсуждали просмотренные фильмы и прочитанные книги.
— Ну, что же, — наконец, психолог закрыл свою книжицу и прихлопнул ее рукой. — Мне кажется, мы плодотворно и информативно с вами пообщались. Многое мне стало еще более ясным. Большое спасибо за своевременное посещение школы.
— Это моя обязанность — интересоваться жизнью ребенка!
— Не такой уж он и ребенок. В их-то возрасте мы гораздо меньше знали, помните? Но — интересуйтесь, интересуйтесь… Обязательно.
На выходе из школы, второпях, Марк быстро глянул на часы. Получалось, что он сегодня пропустит чтение новостей в газете. Зато было посещение школы. На ходу он взвесил мысленно ценность того и другого. Получалось, что школа перевешивала. То есть, он поступил вполне рационально. Может быть, не правильно, потому что все же нарушен был план-график, но зато рационально. Вот если бы он сделал наоборот, то есть прочитал бы газету, например, а в школе так и не появился — вот тут был бы совсем не рациональный поступок, который мог повлечь замечание. А там и до потери бонуса недалеко. А так, выходит, он сегодня молодец.
Марк весело взбежал на свой этаж, не пользуясь лифтом, открыл дверь:
— Здравствуй, сын! Я вернулся!
— Здравствуй, папа, — вышел из своей комнаты Женька. — Ты сегодня долго, я уже все уроки сделал.
— Прости сын, не успел. Был в твоей школе.
— …И что у нас плохого?
— Птица-говорун… Ха-ха-ха! — рассмеялся Марк. — Сын у меня — умен и сообразителен! Все-все-все. Пошли скорее ужин готовить. Так, говоришь, уроки же все сделаны?
— Ну, так, птица-говорун отличается умом и сообразительностью, — тоже рассмеялся Женька.
Сегодня они вместе варили макароны, внимательно следя за секундной стрелкой на больших часах на кухонной стене, и постоянно пробуя очередную пойманную макаронину на твердость — ложкой о край кастрюли. Получилось почти так, как было написано в кулинарном рецепте. На полминуты всего разница получилась.
Женька записал все в свой коммик, чтобы потом сделать сообщение в сети. Когда еда получалась вкусная, он всегда писал об этом и подробно описывал при этом все стадии приготовления.
Марк подумал, что было бы хорошо сводить Женьку в кафе. По плану-графику это полагалось сделать в случае хорошей учебы, но не чаще одного раза в квартал. Вот перед Новым годом и сводить, покормить пирожными разными и вкусным чаем напоить, сделал он себе пометку в памяти. По учебе замечаний к нему никаких в школе не было — заслужил, выходит.
После ужина они мыли посуду и убирались на кухне. Женька молчал и раз за разом протирал кухонный стол.
Потом пошли в комнату, и там, усевшись уже с книгой, Женька спросил:
— Пап, а как это — бабушка?
— Это просто. Вот если Вика, например, выйдет замуж, или если ты женишься, — они опять вместе посмеялись немного. — То потом у нее или у тебя могут быть дети. То есть, не могут, конечно, а обязательно будут. Они будут, если у Вики родятся, тебе племянниками, если у тебя — ей племянниками, значит. А вот нам с мамой они будут внуками. И тогда я буду дедушкой, а мама — бабушкой. Вот такая родственная связь.
Женька посчитал еще раз, кивая головой и загибая пальцы.
— Ага, понял, мои дети, значит, ваши внуки, — и тут же заинтересовался. — А где тогда моя бабушка? Я — чей внук?
Марк внутренне поморщился. Вопрос был не совсем приличным. Говорить о старых родителях было не принято.
— Понимаешь, сын…, - начал он, соображая порядок слов и необходимую мораль. — В нашем мире давно так установлено, что старые люди всегда живут отдельно. Они живут на то пособие, которое им выдается по старости. С таким пособием и с урезанными правами им было бы очень неудобно жить в кварталах, где каждый работает. Понимаешь, да? И магазины наши были бы дороговаты для них. Поэтому по достижении необходимого для этого возраста, все старые люди, бабушки и дедушки, выезжают в новое жилье, специальное, экономичное. У них там и магазины совсем другие. И товары. Вот зачем, например, бабушке роликовые коньки твоего размера? Зато ей нужна новая настольная лампа, но обязательно дешевая. И общаются они там со своими одногодками. Там и медицинское обслуживание совсем другое. И вообще — все другое, понимаешь?
Женька стоял, внимательно слушая и кивая иногда.
— Вроде, понятно. Выходит, бабушка у меня все-таки есть?
— Конечно, есть! Она есть у всех! Просто бабушки и дедушки, пенсионеры, живут в других городах. Им так гораздо лучше.
— И ты никогда больше не видел свою маму?
— Да, не видел. А вот как раз для этого сейчас мама и живет отдельно от нас, чтобы ты не скучал слишком сильно, когда вырастешь. А иначе ты будешь постоянно думать о своих престарелых родителях, мучиться, тревожиться за них, а это ведь совсем не рационально, потому что может повлиять на качество твоей работы. Главное — знать, что за родителями лучше проследит государство. Там у них и медицина, и социалка всякая, и природа — все-все-все, а общем.
— Ага, — кивнул уже в который раз Женька. — Но все-таки бабушка у меня есть.
И они сели смотреть старый фильм. Старый фильм был очень хорош.
Ночью Марку приснилась мама. Не та, что уехала по возрасту в далекий город, а еще молодая, которая водила его, совсем маленького, меньше Женьки, в парк. Они там вместе гуляли, катались на карусели и ели мороженое.
А Женьке приснилась бабушка. Только лица ее он не видел совсем. Видел руки. Темные, сухие, теплые, морщинистые. Бабушка гладила Женьку по голове, и от этого хотелось плакать. С чего бы? Ведь это было совсем не рационально.
* * *
После завтрака, позднего сегодня, родители пошли по селу. Сашка с бабушкой смотрели в окошко, как они шли, держась за руки, по самой середине дороги. Папа раскланивался с каждым встречным, а мама скромно говорила «Здравствуйте». И их было долго видно, пока они не свернули к Митревне.
Поднялось мутное морозное солнце. Снег под шагами не хрустел даже, а трещал на всю улицу. Белый-белый снег. И совсем пустая улица.
— Ну, вот, — шмыгнула носом Сашка. — Опять они ушли.
— Они же здесь, — возразила бабушка, так и не поднявшаяся со старого деревянного стула возле подоконника, на который опиралась локтем. — Они уже приехали. И никуда теперь отсюда не уедут. Долго — недели две, наверное.
— А можно…, - Сашка замерла на миг. — Баб, а можно, я попрошу Деда Мороза, и они тогда не уедут совсем?… И ничего нет смешного! Я, может, скучаю без них… Я, может, ласки и тепла! И родительского внимания! Вот!
Это она уже бросила скрипуче рассмеявшемуся под кроватью домовому.
Бабушка подумала немножко для виду. Потом спросила:
— А летом-то как?
— В смысле?
— Ну, летом-то как их Дед Мороз у нас удержит?
— Да хоть бы на зиму, — вздохнула по-старушечьи Сашка, прижав к щеке указательный палец. И рассмеялась в голос:
— Да ладно, баб! Что я, маленькая совсем? Я же понимаю — работа у них.
— А у тебя? Ты, случаем, не забыла о своей работе?
Сашка ничего не забыла. Родители до вечера буду бродить по гостям, а вечером вернутся к ужину. И тогда они все вместе сядут за стол, будут долго и медленно разговаривать, пить чай с вишневым вареньем из той вишни, что она сама нарвала в балке, хрумкать разным бабушкиным печивом, а под столом будет шмыгать домовой, выхватывая крошки у зазевавшегося кота. Но чтобы ничего не отвлекало от такого вечера, надо заранее сделать все, что намечено на сегодня.
Говорят, раньше вообще учились только зимой, когда на селе делать больше почти нечего. А теперь в любое время — пожалуйста. Подключайся к сети, и учитель будет заниматься с тобой. А если что не понятно, или тема, может, какая-то сложная, позовет к себе в гости. Человек пять-шесть сразу. Лето, зима — для учебы сезон значения не имеет.
Сашке вот летом даже больше нравилось учиться. Потому что летом светло. Потому что когда светло, кажется, что времени гораздо больше, и его на все хватает. И еще — фрукты прямо с дерева. Грызть яблоко, чувствовать аромат свежескошенного сена, видеть колышущуюся занавеску — и учиться. Вот это она очень любила.
Но и зимой тоже любила. Учиться было всегда интересно.
Она подключилась к сети и приступила к выполнению заданий, практически не подглядывая в свой «напоминальник».
Бабушка загремела за стенкой поддонами в печи. Надо было испечь пирог. И еще разного печенья к чаю.
А родители, обходя село, зашли и к учителю. Он был рад встрече, очень хвалил Сашку, говорил об ее искренности и эмоциональности, рассказывал об успехах.
— Ну, вот, например, как вам такое? — учитель вывел на большой экран, занимающий почти всю стену, Сашкино сочинение.
«Сегодня Женька долго не мог уснуть. Обычно только голову на подушку положишь — сразу и сон какой-то приходит. А сегодня все было как-то неудобно и жарко. Если же одеяло откинуть, то начинало откуда-то поддувать, и становилось холодно — тоже спать не получалось.
Женька вставал потихоньку и подходил к окну. С девятого этажа пейзаж казался фантастическим.
Слово пейзаж он знал, конечно. Это только Вика могла над ним подсмеиваться. На самом деле учили их в школе очень хорошо. И в старой, в которой он три года отучился, и в этой, новой для него. Учили и бонусы давали за хорошую учебу, как родителям за хорошую работу.
За окном было черно. Полная луна светила белым с черного неба, освещая черные многоэтажные башни вокруг их дома. Тускло светились только далеко внизу лампочки над подъездами. Освещение в городе выключали после того, как все ложились спать. Вот как гимн отыграет, как свет погасят в квартирах и все улягутся в постели, так сразу отключали свет на улицах — а зачем и для кого его жечь? И это было рационально. Действительно, зачем тратить электроэнергию, если все спят?
А вот Женька сегодня не спал. Он переминался у окна и смотрел на белую луну. И думал, что вот так же могла бы глядеть на луну Сашка где-то далеко. Эта мысль показалась ему интересной, и он подсел боком, подложив правую ногу под себя, на стул возле компьютера. Но как только он попытался записать свои мысли о луне, о Сашке, о том, что далеко-далеко, как на экран выскочила заставка: „Спать пора, уснул бычок…“.
Ну, да. Ему же всего десять. Но и не шесть, между прочим!
Женька посопел, попытался потыкать в кнопки, но компьютер больше не отзывался. Пришлось снова ложиться и пытаться засыпать.
Он опять подумал, что еще такого можно придумать о Сашке. Потом вспомнил, как папа рассказывал, что есть фантазии полезные, есть бесполезные, а есть и вредные. Женька поворочался, выбирая позу. Ему казалось, что такая фантазия, про старшую сестру, нисколько не вредная. А учитывая, что он там немного из этнографии использовал, то даже полезная получается. Опять же язык литературный используется. И запятые. Надо будет завтра с папкой еще поговорить. А то он не понял, наверное. Там же ничего такого вредного нет, в сочинении. Просто такая фантазия. Как сказка. Как про Деда Мороза.
Он еще успел подумать, что как раз в этой его сказке Дед Мороз может быть по-настоящему. И уснул с улыбкой на губах.»
— Понимаете? — спрашивал и переспрашивал учитель. — Это же вполне законченное литературное произведение на заданную тему. В нем объединяются темы социологии, политологии, истории и конечно литературы и русского языка. Сам мир, описанный Александрой — это мир возможного будущего. Или параллельный, как еще можно сказать. То есть, в чистом виде настоящая фантастика. А фантастика вещь полезная — она заставляет мозги шевелиться, работать. Так что я очень доволен вашей дочерью. И хотел бы продолжения этой истории.
Дома мама затискала Сашку холодными руками, защекотала, смеясь с ней вместе. Они валялись на Сашкиной кровати, играли с домовым, спуская ноги на пол, потом подпрыгивали с визгом и снова обнимались, щекотались и хохотали.
Папа на кухне помогал бабушке. Они уже достали из печи тяжелый большой круглый пирог и потихоньку свалили его с железного поддона на деревянный поднос. Пирог был пышным. В центре была оставлена дырка, и в ней пузырилось сладкое, а по кухне, а потом и по всей квартире потек запах абрикосов.
— Твой любимый, — улыбалась бабушка сыну. — С вишней и с курагой.
— М-м-м, — жмурился он. — Как в детстве…
— А что, Саш…, - отодвинулась и стала поправлять прическу мама. — Этот вот твой Женька — ты его с кого списывала?
— Ни с кого. Я его сама из головы придумала, — гордо ответила Сашка. — Он как будто брат мне. Младший брат.
— Ах, бра-а-ат? Брата, значит, хочешь? Ну, смотри, потом не жалуйся! — мама снова затормошила Сашку, уже икающую от смеха.
Папа стоял в дверях и тоже смеялся.
* * *
Они переехали точно по графику. В тот день, который был закрашен красным, в пятницу вечером, в то время, когда надо было начинать готовить ужин, пришла машина. На нее крепкие мужики в чистых серых комбинезонах с оранжевыми вставками и черных хромовых ботинках быстро и умело упаковали и забросили Женькины книжки, потом выгрузили из встроенной мебели боксы с одеждой и унесли вниз. Вроде, ничего почти не изменилось в квартире, но стало сразу как-то гулко и пусто. Машина ушла, а Марк сдал ключи консьержу и пошел с Женькой в новый дом.
Их новый дом оказался в старых домах. Так вот вышло. Ну, не успевают строить, объяснял дорогой Марк сыну. Нас много, тех, кому хочется в новом доме жить. А тут все же посвежее, чем прежний. И зато на месте старого теперь точно построят башню. И может быть, в следующий раз как раз туда и заселимся. Стройка идет по плану, который не на год, а на пятилетку, а то и на перспективу большую расписан.
Квартира была такая же. Один в один почти. Ну, чуть поновее только. И техника тоже посвежее. Кухня побольше. Или такая же, что ли? Стол уже накрыт, еда готова. Картошка с мясом по-домашнему в горшочках. Такое могло долго стоять, ожидая их прихода.
Марк вставил карточку в приемное отверстие, призывно переливающееся зеленым светом. На большом экране сразу все и высветилось. Вот школа для Женьки. Рядом совсем — через дорогу. Его класс. Этаж. Как зовут директора.
Вот работа для Марка. Управа настаивала, чтобы он пошел в связь. В этом квартале, по крайней мере, им нужны были связисты. Ну, он уже работал на связи, не впервой…
В понедельник они отправились в свои новые коллективы.
На работе Марк лежал в кресле со шлемом связи на голове.
Работа связиста на первый взгляд очень легкая: лежи себе, да слушай. Вот только контрольное слово каждый раз было новое. Надо было вслушиваться во все разговоры и шумы и вылавливать это слово. Но Марку никогда не везло. Вот пару лет назад его сосед услышал «ночь» и получил бонус. А Марку не удавалось услышать контрольное слово ни разу.
Эта работа была даже труднее прежней, потому что приходилось постоянно напрягать слух. Когда во что-то начинаешь вслушиваться, звук усиливается, потом очищается, но если ничего интересного, то опять постепенно затухает, а ты ищешь другой разговор, другие шумы, приближаешь их, как будто рассматриваешь и снова отбрасываешь. Устаешь за день.
Поэтому его снабжение было поднято на один уровень. А еще если услышать контрольное слово — то бонус. Хорошая работа. Нужная.
Конечно, компьютеры могли сами процеживать эфир, но работа связиста создавала занятость для населения. А уровень снабжения показывал, что это не простая работа, а очень полезная для общества.
В следующую пятницу Марк пошел в школу. Она ничем не отличалась от старой. Так же расположены кабинеты, похожие учителя, похожие улыбки и рассказы о новом ученике, который, вы проследите обязательно, чуть отстал вот в этом месте, но зато, какой молодец, вот тут читал даже больше, чем по программе. Ему дали графики вхождения в график для сына. Чтобы не опережал и не отставал от других.
В конце, как обычно, Марк спустился в маленький кабинет школьного психолога. Психолог тоже был как в старой школе — плечистый крепкий мужчина в строгом сером костюме. Он задавал такие же вопросы, что-то записывал, а в конце, вернее, когда Марк думал, что уже наступил конец разговора, предложил прочитать сочинение сына.
«Сашка разбегалась, отталкивалась самыми кончиками пальцев, и взлетала, широко расставив руки, а ноги, наоборот, плотно сжав вместе. Потому что если ноги будут болтаться, то сразу сверзишься, и тогда — синяки и шишки, которых и так хватает.
Началось это давно, в самом начале лета. Она тогда вышла в степь, которая ковылем колыхалась под полынной горечи ветром, вдохнула, потянулась, и завопила ни с того, ни с сего:
— Дывлюсь я на нэбо, тай думку згадаю: чому я не сокил, чому не летаю…
— Курица ты, а не сокол, — заорали в ответ хором братья-близнецы Петька и Пашка, караулящие с банкой тарантула у черной дырки в песчаной почве. — Курица! Чего орешь? Пауков нам всех перепугала!
— Тю на вас два раза, — ответила она Пашке и Петьке и понеслась стремглав, поднимая белые облачка пыли из-под босых ступней, все выше и выше, на кручу, под которой сразу обрыв. Встала на краю, расставила руки, растопырила пальцы, ловя ветер всем телом. А он налетел, закрутил подол ситцевого сарафана в голубых цветочках вокруг побитых исцарапанных коленок, засквозил вдруг снизу, раздувая парашютом и вылетая между худых ключиц прямо в нос…
— Но-но-но, — погрозила сурово пальцем Сашка. — Без глупостей!
Бабушка научила ее обращаться с ветрами. Ветры — они почти такие, как Петька и Пашка. Они капризные и немножко дурные. С ними надо, как с малыми детьми, потому что если они рассердятся по-настоящему, то тут уж держись. Тогда хоть на улицу не выходи — задерут подол, опозорят перед всем селом, нахлобучат воронье гнездо на голову, кинут песком в глаза, подкатят перекати-поле под ноги… А мальчишкам только того и надо. Вот и будут стоять и смеяться.
Но если подружишься с ветрами, если полюбишь их, пусть даже как маленьких мальчишек, неразумных и обидчивых пока, то они могут сделать такое…
Сашка тянется вверх всем телом. Туда, где почти белое в зените небо, где невидимый жаворонок, где гуляют ветры даже в самую жару.
Потом она срывается с места и бежит вниз.
Быстрее, еще быстрее, еще быстрее!
Отталкивается самыми кончиками пальцев и взлетает вверх с радостным визгом — ну, девчонка!
…
— Чего это у вас? — спросят осторожно дачники у местных.
— Да это Сашка скаженная опять летать взялась, — даже не поднимая голов, ответят хором Петька и Пашка, сидящие с банкой у черной дырки в земле.
Некогда им голову поднимать. Они тарантула ловят в банку. Потом будут мухами его кормить и пугать девчонок.
А наверху в бледно-голубом сарафане, растопырив руки в стороны и плотно сжав ноги, как русалкин хвост, нарезает над селом круги Сашка, смотря веселым черным глазом на дачников, на братьев-близнецов, на колодец, на овраг, на трактор дяди Васи, на крыши, на крыльцо, с которого, прикрыв ладонью-козырьком глаза смотрит на нее бабушка.»
— Что это?
Вопрос хотел задать Марк, но прозвучал он из уст школьного психолога. Психолог смотрел на него и постукивал пальцами по столу, как будто играл на пианино.
— Это что? — он повторил вопрос.
— Сочинение? — неуверенно спросил Марк.
— То есть, вы не читали это? — психолог выделил слово «это» голосом и еще поднял как бы в удивлении брови.
Мол, как же вы, отец, не читали, что сын сдал в школе?
— Мы только что переехали. Только вчера…
— Ну да, ну да… Конечно. Новая работа. Много времени занимает, да? Проезд далеко, так? Не успеваете проследить?
Марк понял, что попался. Потому что и работа была рядом с домом, и школа — рядом, и заканчивалась работа, как всегда, в пятнадцать ровно. И с сыном общался… Что ж ты, Женька… Что же ты такое странное написал? Это же не по предмету…
— Надеюсь, мы поняли друг друга? — прервал молчание психолог.
— Да, я сегодня же разберусь.
— А в понедельник зайдите, поговорим, обсудим, хорошо? — он уже радушно улыбался, отмечал в календаре дату и время. — Буду ждать. Очень интересно. Очень.
Дома Женька непонимающе смотрел на взвинченного, раскрасневшегося, но не теряющего выдержки отца:
— Пап, но ты же сам говорил, что фантазия — это полезно! Вот я и нафантазировал немного. Сашку — она вроде как моя старшая сестра…
— У тебя есть самая настоящая старшая сестра. Ее зовут Викторией.
— Ну, пап… Она же намного старше. Ей со мной не интересно. Я для нее — маленький. Вот я и придумал себе Сашку.
Да, сын был еще совсем маленький. Он, похоже, не понимал. Значит, надо объяснить.
— Понимаешь ли, сын… Фантазии бывают полезные, а бывают бесполезные. И бывают еще вредные. Давай, будем разбираться.
— Давай, — вздохнул Женька.
* * *
— Ну, зачем вы так?
Сашка, красная то ли с мороза, то ли от волнения, вбежала с улицы прямо в комнату, остановилась на пороге и теперь чуть не кричала родителям, сидящим за столом:
— Зачем вы так? Вот вы уедете, а мне тут еще жить и учиться! Что я вам такого сделала?
Голос дрожал и срывался.
— Саш, в чем дело? — спокойно спросил отец, отрываясь от экрана, на котором шел какой-то старый фильм.
— В чем дело? В чем дело? — она чуть не плакала от злости. — А надо мной уже все село скоро будет смеяться! Братика, кричат, себе выдумала… Петька с Пашкой теперь совсем задразнят… Зачем вы?
— Да мы же просто разговаривали с соседями и друзьями. Со своими друзьями… Просто рассказывали им, как гордимся тобой. Что учитель тебя хвалил…, - вмешалась мама.
— Хвалил? Он — хвалил? А вы… Вы…, - она все-таки расплакалась от обиды и злости одновременно, вытирая глаза рукавом пальто.
— Ну, чего ты блажишь? — подошла сзади из кухни и чуть приобняла теплыми, пахнущими луком, руками бабушка. — Чего ты, Санька, шумишь тут на весь дом? Чего кричишь? На своих родителей кричать нельзя.
— Да? Им, значит, все можно… А мне — нельзя? Они — меня… А я… Да ну вас всех!
У Сашки перехватило горло. Слов не хватало. Она махнула рукой, вывернулась из-под бабушкиной рукой, чуть даже толкнув ее, выскочила в темноту холодных сеней, хлопнув напоследок от души дверью. Только она не хлопнулась и не стукнулась. Двери в доме были хорошие, тяжелые. Эта плавно закрылась с тихим щелчком, и Сашка оказалась в полной непроглядной темноте.
Она не боялась темноты, потому что знала всё про тех, кто может попытаться напугать ее. Когда пугают — это не страшно. Бабушка давно объясняла Сашке, что пугаться надо не тех, кто пугает, а тех, кто может сделать что-то нехорошее. Ударить, например. А кто кричит да замахивается, кто просто с криком из-за угла выскакивает — они вовсе и не страшные. Так и те, что бегают в тени — они тоже могут только пугать. А сами-то они маленькие, как кошки.
Вот как раз кошки и не страшные. Они ласковые и теплые. И могут видеть в темноте. А Сашка — не кошка. И в темноте видеть не может. Поэтому она пошла вперед, держа перед собой правую руку. А левой она пыталась что-нибудь нащупать. Но по сторонам далеко ничего не было. Как будто в большом зале стоит, а не в сенях сельского дома.
Шаг вперед, осторожно трогая пол перед собой носком мягкого валенка. Второй.
— Ой! — ладонь неожиданно ткнулась в мокрое и горячее. Настолько неожиданно, что Сашка чуть не завизжала во все горло, но вспомнила, что те, кто пугает — не страшные на самом деле.
* * *
Женька понял, что заигрался со своими фантазиями. Не тогда понял, когда папка ругал его, сидя на кухне за приготовлением ужина. И не тогда, когда не спал ночью и все смотрел в темное окно. И не тогда, когда пытался утром еще раз поговорить с отцом.
Понятно стало, когда его сочинение стали вслух зачитывать перед классом. Не просто зачитывать, а медленно, по одному предложению, по одному абзацу. И потом одноклассники вставали по очереди и разбирали ошибки. А ошибок оказалось много. Не грамматических, а смысловых. В общем, вышло, что все сочинение — одна большая ошибка. Само уже то, что он сел его писать — ошибка. И попытка доказать всем, что фантазии — они полезные, что от них мышление развивается, изобретатели получаются и ученые… Вот это — тоже серьезная ошибка. Потому что не могут все вокруг ошибаться, а он один говорить и писать правильно.
И так — целых два урока, потому что Женька написал большое сочинение. Почти повесть, как сказал, смеясь, кто-то сзади. Еще все смеялись, когда учитель читал про баню. Все смеялись, а Женька краснел. И учитель показывал на него и говорил, что, наверное, такой цвет кожи имел в виду Женька, когда писал про Сашку в бане.
На выходе из школы он чуть не столкнулся с отцом, но успел спрятаться за колонну, и тот прошел мимо — сразу к психологу. Почему спрятался — теперь уже и не объяснить. Просто захотелось спрятаться, и чтобы никто больше…
На улице прямо у порога его ждали трое одноклассников, которые жили в соседнем доме. Они сразу пристроились вокруг Женьки и стали перекидываться словами через его голову, как будто его и нет тут.
— У него сестра есть, ей пятнадцать уже, понятно, да?
— Конечно. Сестра, небось, фигуристая, а у него как раз только начинается все…
— Думаешь, зря разделяют? Не зря.
— А так-то он бы за ней подглядывал, это точно!
— Еще бы! Как он за своей Сашкой подглядывал!
— В бане?
— И в бане особенно!
— Да, а еще в кровати!
— И ранним утром голышом!
— Он за ней все время подглядывал!
Женька ускорял ход, но троица плотно держалась с боков и сзади, и они тоже шли быстрее, перекидываясь все более обидными репликами:
— Он, наверное, специально про девчонку стал писать.
— Конечно, специально.
Женьку уже почти бежал, остановившись только перед дверями подъезда.
— А ты ее со всех сторон рассматривал? — вдруг обратился к нему один из парней.
— Отстаньте, — бросил Женька, хватаясь за ручку двери и прикладывая ладонь к сканеру.
— Как это — отстаньте? Это он нам — отстаньте? Своим школьным друзьям? Даже поделиться с нами не хочет своими впечатлениями?
— Да ну вас всех!
Женька потянул открывающуюся дверь, увернулся от протянутой руки, заскочил в тамбур и дернул дверь обратно. Она чмокнула, щелкнула замком, и он оказался в полной непроглядной темноте.
В подъезде свет горел всегда, выключаясь только на ночь, когда все спят. Но ночью тут никто и не ходит. А сейчас была совсем даже не ночь, но света почему-то не было. И было очень тихо. В любом доме всегда есть какое-то движение. Вода где-то течет, хлопает дверь, свистит сквозняк, гудит лифт, шумит кондиционер… А тут — полная тишина, как в наушниках на психологическом исследовании.
Женька темноты не боялся, потому что в темноте никого и ничего быть просто не может. Поэтому вовсе не из-за страха он прислонился спиной к двери и заплакал. Просто ему было очень обидно. И еще он был страшно зол на себя, потому что все случилось по его же собственной вине. И от такой злости — на самого себя — было еще обиднее.
Горячие обидные слезы текли по замерзшим щекам, отогревая их. Становилось жарко. Он вытирал лицо рукавом, а они опять и опять… Хотелось заскулить тонко-тонко, как щенок в живом уголке. Хотелось сесть здесь у двери, сжаться в комок и выплакать обиду и боль, возникшую где-то посередине груди.
Но оставаться тут было нельзя, потому что могли идти еще люди. Тогда на него просто наступят. Женька встал, сделал шаг вперед…
— Ой!
* * *
— Я читала, — сказала Сашка. — Это называется Коридор. Он темный, а из него двери в разные миры. Вот мы с тобой — в таком Коридоре.
— Не бывает, — по-взрослому рассудительно ответил Женька. — Так просто не бывает.
Вокруг было темно и тепло. Где-то за их спинами остались закрытые двери.
Они сидели прямо на полу там, где встретились. Знакомство было каким-то обыденным. Вернее, не знакомство даже. Они как-то сразу узнали друг друга, и почти не удивились, и Сашка уже утешала Женьку, а Женька объяснял ей со всей серьезностью, что ее родители не хотели ничего плохого. А она соглашалась, что просто так обиделась и немного вспылила.
— Что значит — так не бывает? А что тогда бывает? Вот мы тут с тобой — это как? Я и ты — мы живые или что? Так бывает?
— Мы — живые. Это просто такое совпадение. Это просто бесконечность, понимаешь? — серьезный Женька был как будто старше, чем она. — Если все бесконечно, то бесконечно и количество миров. А в мирах бесконечно Женек и Сашек. И какие-то два мира сошлись и вот мы — тут. Понимаешь? Вот это — фантастика. Но фантастика правдоподобная. А коридор… Это так, сказка.
— Сказка? А что еще — сказка?
— Ну, например, всякие домовые и духи — это сказка. И не летает человек просто так… Это я уже сам придумал, для красивости. Но это все неправильно. Потому что так не бывает.
Он сурово хмурил брови, хоть в темноте этого и не было видно.
— Ах, не бывает? — вскочила Сашка. — А ну, пошли тогда ко мне! Пошли, пошли!
Она в темноте поймала Женькину руку и стала тащить за собой.
— Погоди, я сам.
— Вот, — не прекращала она говорить, открывая дверь. — Вот, смотри. Это мои мама и папа. А это моя бабушка. А это Женька, тот самый! Мы с ним сейчас познакомились.
— Здрасьте, — только и успел вежливо сказать Женька.
— Пошли, пошли! Вон там у нас домовой живет, гляди сам. На огороде — огородник, он нам помогает. В бане — банник. В сарае — овинник.
— Может, это у вас такие мини-роботы? В помощь человеку?
— Ага, так это я с роботами в детстве играла, что ли?
— Саш, — вмешался отец, который со все нарастающим изумлением смотрел на них. — Может быть, вы все же разденетесь? Пригласишь своего кавалера за стол? Поужинаем вместе, ты нам все и расскажешь?
— Некогда, — крикнула на ходу Сашка, вытаскивая Женьку за дверь.
Задверье в этот раз было обычное. Холодноватое и темное не черным, а каким-то серым — все-таки что-то видно. Они пронеслись сквозь сени и выскочили в морозный вечер.
— Пошли, пошли, — повторяла Сашка.
А когда впереди показались дети, облепившие снежную крепость и закидывающие друг друга снежками, она победно заорала:
— Пашка! Петька! Вот, смотрите! Это — Женька! Он мне как младший брат! Кто тронет — пришибу сразу! Или задразню так, что потом сами жалеть будете!
Потом она заставила Женьку подняться на кручу и показала лес и степь, и каменную бабу, и овраг, и балку.
— Если бы не зима, я бы тебе — ух — показала!
— А что — зима?
— Зимой летать плохо. Ветры морозные, но не сильные. Не поднимут. Еще и пальто это, валенки… Пошли лучше в снежки играть!
В снежки — это вам не в хоккей. Тут принимают всех, кто хочет получить в лоб крепким снежным комком. Они тут же оказались в команде, атакующей снежную крепость.
Крепость сделали только на днях. Когда улицы чистил трактор, то сдвигал снег к середине площади. А потом дядя Коля поправил своим бульдозером края, а молодые парни пилами-ножовками вырезали снежные зубцы поверху стен, уложили доски вдоль стен изнутри, чтобы не скользко было, пробили лаз под стеной. В лаз сверху спускалась старая железная кровать, завалявшаяся у кого-то в мусоре. И получилась настоящая крепость и даже с решеткой-воротами.
Вот на эту крепость и налетали. А оттуда отбивались запасшиеся снежками те, кто первым ее захватил.
— Это про тебя Сашка писала? — спросил Женьку какой-то парень сбоку. — Круто получилось! А у вас там правда все так… Рационально, да?
— Да, — кивнул с достоинством Женька, как настоящий представитель своего мира. — У нас все очень рационально и полезно. И вот такого расходования ресурсов у нас бы не допустили.
— Что ты говоришь? — закричала, налетев сбоку, Сашка. — Какие ресурсы, какое расходование? Тебе же всего десять лет!
— Десять с половиной!
— Не велика разница… Пошли теперь домой, а то я ноги где-то промочила. И кушать хочется. Покажу тебе, как живу…
Пока они шли к дому, она все время тыкала пальцем то в одно, то в другое, и спрашивал «что, и это тебе — фантастика?» или «а это тоже сказка?». Но Женька шел спокойно и только кивал головой. Он для себя уже решил задачу: простейшее пересечение миров — ничего странного. В книжках так бывает. Могло ведь и к динозаврам закинуть. А тут — Сашка. С Сашкой весело.
Дома она опять шумела, носилась везде, включала и выключала мониторы, показывала, как учится, знакомила с учителем.
Учитель сегодня смотрел с экрана без улыбки. Он спокойно выслушал Сашку, поздоровался, не показывая удивления, с Женькой, а потом спросил, как бы случайно:
— Саш, а Евгения-то, наверное, дома ждут? И как вы себе представляете дальнейшее?
Они себе дальнейшее еще не представляли никак.
А Женька сразу потерял всю свою рассудительность и представительность. И стал опять просто маленьким мальчиком-пятиклассником обычной школы, который оказался далеко от дома в практически чужой стране, где знал только Сашку. В Сашку он и вцепился:
— Саш, — дергал он ее за рукав. — Саш, мне правда домой надо…
А Сашка замерла, пораженная мыслью, что ее «Коридор» куда-то пропал — они же бегали на улицу и с улицы. И просто сени, никакого Коридора…
Она, не отключая экрана, подбежала к двери, толкнула ее, выглянула, закрыла и снова открыла. Все было обычно. Никакой фантастики.
Вот только Женька, растерянно и одновременно с надеждой смотрящий на нее. Женька — это даже не фантастика. Женька — это почти сказка. Как придуманный и оживший младший брат. А с экрана задумчиво смотрит на ее метания учитель.
Подошла мама, обняла Женьку:
— Ну, что ты, что ты… Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Правда, Саш?
Сашке стало сразу легче и спокойнее. Мама сказала, что придумаем. Мама надеется на нее. И еще папа дома — он тоже поможет придумать. И бабушка.
— Все, — сказала Сашка. — Хватит дергаться. Раздеваемся и ужинаем.
Учитель улыбнулся и отключил связь.
Мама улыбнулась и стала помогать Женьке.
А папа и бабушка стали греметь посудой и что-то раскладывать на большом круглом столе.
* * *
Дома никого не было. Это и понятно — отец давно ушел на работу, а больше никого у них тут и не бывало. Женька хотел есть и еще спать. Или наоборот. А еще его мучили угрызения совести за пропущенные сегодня уроки. Потому что даже если прямо сейчас выбежать из дома, то успеть можно было только к третьему уроку. Это в лучшем случае. А как убежать, если здесь с ним Сашка? Ее-то куда?
После ужина у Сашки они легли спать. Но как только все успокоились, Сашка подняла его и заставила одеться. Они сидели в ее комнате и время от времени выходили к дверям и заглядывали в сени. Потихоньку, чтобы не скрипнуть и не стукнуть. Всегда вдвоем — мало ли что. И вот уже утром за тихо раскрывшейся дверью оказалась черная темнота, в которую они вдвоем сразу и шагнули. А потом шли прямо и прямо, вытянув перед собой одну руку, а второй держась за соседа. Так и пришли к двери. Да не на улицу из подъезда, а почему-то сразу к квартире. Только время тут по-другому текло, наверное. Здесь, дома, уже было совсем светло.
— Чем у вас тут пахнет? — удивилась Сашка, морща нос.
Женька пожал плечами, потому что не чувствовал никаких посторонних запахов.
А Сашка все морщилась, ходила по квартире, заглядывала в углы, и настроение у нее все падало и падало.
— Как вы тут живете? — наконец, не выдержала она. — Вон, углы какие замасленные…
— Ну и что? Жить же не мешает. И вообще — жилье у нас тут бесплатное, государственное. И переезды постоянные. Так чего на мелочи смотреть?
— И потолки…, - продолжала ворчать Сашка. — И окна… Уж окна-то помыть… И… Да чем же у вас тут пахнет?
Женька ходил за ней и смотрел, куда смотрит она. Вроде, все как всегда, но когда посмотришь вокруг, как инопланетянин… Вот, понял Женька, именно так! Как инопланетянин. И стал так смотреть.
Ну, что… Приглашать инопланетного гостя было бы не слишком удобно. Грязновато было в квартире. Ну, так у них здесь свое — только то, что перевезли. А остальное — от государства, по потребностям. Все давно подсчитано и все спланировано. Осталось только исполнять план.
А что Сашка думает? Они будут тут ремонт делать, что ли? Ремонт делает государство, когда жилье ветшает. Но часто до этого не доходит. Дом сносят и строят новый, лучше. А это у них просто старый дом. Вот и все.
Он смотрел по сторонам и видел такой же экран, как у нее, стол, похожий на Сашкин, только потертый немного внизу, где упирались в ножки стола ноги. Ну и что, потертый… Это не мешает за ним сидеть и работать. И пятна эти на обоях снизу — они тоже никак не влияют на качество жилья. И чего она ворчит?
Он набрал номер отца, но тот не отвечал — был на работе, был занят. То есть придет часа в четыре. Можно сделать что-то заранее на ужин, а потом познакомить папу с Сашкой. Как у них посидеть за столом, поговорить. А потом Сашка уйдет.
Женька сходил в коридор и выглянул за дверь. Лестничная площадка, осветившаяся автоматически включающимся светодиодным светильником, дверь лифта. Все, как обычно.
Он вернулся в комнату, но Сашки там не было. Она стояла на балконе и удивленно смотрела вокруг.
— А где же снег? — спросила она, повернувшись на скрип двери.
— Снег мешает, его сразу убирают.
— А Новый год? А снежки? А лыжи? А Дед Мороз?
— Новый год у нас — один день. А Деда Мороза просто не бывает.
— Ну, да… У вас все — не бывает. Но ведь все такое некрасивое. Серое и черное.
— Зато не требует покраски. Это рациональное решение.
— И воздух… Ты не чувствуешь ничего?
— Воздух как воздух, — Женька уже начал понемногу обижаться.
— Нет, ты же был у нас. Ты должен понять. У нас все вокруг живое. А тут даже ветры…
Сашка приподнялась на цыпочки, раскинула руки — как в сочинении, подумал Женька — и снова повернулась к нему:
— Ты не чувствуешь? У вас даже ветры — мертвые! У вас нельзя летать!
— С балкона летать нельзя, — солидно подтвердил Женька. — Балкон не для того сделан, чтобы с него летать.
Он тоже посмотрел вокруг. И чего она все недовольна? Вот дома. Вот дорога. Вот тротуар. Что ей не так? А ветер… Да пусть хоть и вовсе его не будет. Это же не повод.
Он не додумал, не повод чего, потому что Сашка задрала голову вверх:
— А там у вас что?
— Там крыша. У нас верхний этаж.
— Был на крыше?
— Зачем? — искренне удивился Женька.
— Ага! Не был! Полезли!
Она засуетилась, забегала, потащила его за собой. На лестничной площадке буквально обнюхала все углы, морщась по-прежнему, и увидела ведь лючок в дальнем углу и узкую пожарную лестницу, покрашенную черной краской.
— Вот! Полезли!
— Зачем?
— Ну, просто так… Это же интересно! И ветер там есть, наверное. Там высоко, там хорошо.
Она ловко карабкалась вверх, как обезьянка. Замка на люке не было — кому может вздуматься лазить по крышам? Женька тянулся сзади.
— Смотри, смотри! Тут здорово! Тут есть снег!
На крыше был снег, по которому протянулись ровной дорожкой Сашкины следы к самому краю, где невысокий, по колено, бортик отгораживал крышу от огромного пустого пространства, обрывающемуся вниз.
Женька подошел и осторожно заглянул вниз. Страшно! Он отвернулся от края и только поэтому увидел, как из-за будки с мотором лифта вышел мужчина в сером костюме.
— Во, — ткнул он локтем Сашку. — Наш психолог.
Но Сашка не обращала внимания. Она раскинула руки, вытянулась во весь рост, раскинула руки, превратив их в крылья расстегнутыми полами пальто, встала на цыпочки на самом краю…
— Женя, Жень! — сзади, около психолога, стоял отец.
Он смотрел с тревогой и показывал руками: в сторону, в сторону — и ко мне, иди сюда!
А справа и слева от него осторожно шагали вперед еще люди в сером. Все плечистые, крепкие, с открытыми красивыми лицами. Они улыбались и подмигивали Женьке. И ему почему-то стало страшно от этих одинаковых улыбок.
Женька повернулся, но Сашка уже с визгом сиганула вперед и вниз. Дунул ветер, но он был слишком слаб, чтобы поднять двенадцатилетнюю девчонку, одетую по-зимнему.
Все замерли. Женька не понимал, что случилось. Психолог что-то кричал в микрофон, тянущийся ко рту на тонком проводе. Папа шел к нему, слепо отодвигая с дороги серых.
Почувствовав движение сзади, Женька обернулся и успел заметить какую-то совершенно не реальную картину. Снизу поднимались огромные сани с крепким стариком яркой красной шубе с посохом в руке. Он качал головой укоризненно, а свободной рукой гладил по голове Сашку, смотрящую на него и смеющуюся.
Сашка поглядела на Женьку, подмигнула ему, помахала руками, миг — и нет никого. Только папка, налетевший и схвативший его в охапку.
— А ты говорил, Деда Мороза нет…
И темнота.
* * *
Женька болел долго. Из больницы его выпустили домой, бледного и слабого, только к самой весне, под яркое позднемартовское солнце.
— Ну, как наш подопечный? — спрашивал человек в сером костюме у человека в белом халате.
— Жить будет, — кривился тот.
Марку дали сверхнормативный выходной день, и он встречал сына с машиной, которую тоже дали. Они быстро донеслись до совсем нового дома-башни. Лифт поднял на двадцать второй этаж. Двери квартиры мягко чавкнули, откусывая лишний шум.
— Вот, я же говорил, что в старом доме — временно.
Женька молчал и только удивлено смотрел по сторонам. Он уже знал, что бонус с отца сняли, но предупреждение в карточку не вбили, потому что он активно сотрудничал. Он и сейчас, думал Женька, активно сотрудничает.
Он попытался посмотреть по сторонам глазами инопланетянина. Получалось плохо. Голова еще кружилась и мысли ползали внутри нее медленно, как сонные насекомые. Про насекомых им рассказывали еще в первом классе. Это Женька помнил. Пауки — не насекомые.
— Пауки — не насекомые, — сказал он вслух.
Марк осекся на половине фразы. Он рассказывал, как тут жили без Женьки, как приезжала мама с Викой, как они расстраивались из-за болезни Женьки, как их не пускали на свидание с ним…
— Пауки? — переспросил он, потеряв нить беседы.
— У них лап восемь, а не шесть. Они не насекомые, — задумчиво рассуждал Женька, смотря на балконную дверь.
Никто не знал, а он в больнице научился думать об одном, а говорить совсем о другом.
В больнице, в принципе, было совсем неплохо. Образование и здравоохранение всегда стояли в приоритетах деятельности государства. Вот откуда такая мысль пришла в голову? Женька подумал и решил, что это из курса обществознания, который был в третьем классе.
Самое плохое было в больнице то, что его все жалели. У него была нервная травма. Практически, психическая.
Женька подумал немного о разнице слов «нервная» и «психическая». Выходило по всему, что психическая травма — тяжелее.
О причинах болезни думать не хотелось, но он раз за разом заставлял себя проигрывать как на большом экране, все, что случилось. Только без звука. Вместо звука шли такие титры:
Переходный возраст. Выдуманная сестра. Похожая на выдуманную сестру девочка, психически неуравновешенная, из тех, кто учится на дому и живет не в городе. Ее неуравновешенность привела к тому, что она завела Женьку на крышу. Что она хотела с ним сделать — неизвестно, потому что подоспела подмога. Пришли на помощь психологи, врачи, пришел отец. И тогда психически неуравновешенная девочка бросилась с крыши. И погибла. Там было девять этажей. А у Женьки от шока были такие видения, что она спаслась. Все понятно. Шок.
— Жень, ты есть хочешь? — прорвался наконец к нему голос отца.
— А Дедов Морозов не бывает, — сказал Женька.
— Точно! — обрадовался Марк. — Конечно, Дедов Морозов просто не бывает! Это такая сказка. Фантазия такая безвредная.
Эта фантазия, подсказывали титры, спасла Женькину психику. И хотя он потом долго болел, но все-таки выздоровел. Потому что у него гибкий ум.
— Да, — кивнул он. — Кушать очень хочется.
После ужина и просмотра фильма — шел какой-то старый, даже не цветной еще, про шпионов и врагов — он сказал, как раньше:
— Спокойной ночи, папа.
— Спокойной ночи, сын, — сказал Марк.
Он попытался проводить Женьку в постель, но тот посмотрел удивленно. Ну, раз выздоровел — какая помощь? И Марк сразу сконфузился, убрал руки, и только потрепал сына по голове перед тем, как тот закрыл за собой дверь своей комнаты.
Когда все успокоилось, Женька тихонько встал с кровати и подошел к окну. За окном было черно, и только очень далеко внизу слабо подмигивали огни перед подъездами. Скоро и они погаснут. Экономика и рациональность.
Он вернулся к столу, нажал на кнопку. Время было еще не самое позднее, и компьютер не отказался поработать. Мягко-мягко поддались клавиши, на экран поползли буквы, собираясь в слова:
«Сашка не понимала, как можно ходить медленно. Медленно — это так тяжело! Поэтому, наверное, быстро устает бабушка. Она всегда ходит медленно. А Сашка не устает, потому что бегает. На улице было уже тепло, пальто давно висело на своем месте в шкафу. И грязь, недавно настырная и липкая, уже продубела на степном ветру до каменной твердости. Сашка бежала со всех ног вверх по тропинке на кручу, к обрыву. Постояв на обрыве и дождавшись, когда покрасневший диск солнца коснется краем горизонта, она распахнула руки навстречу весенним ветрам, вытянулась во весь рост — она подросла за зиму, поднялась на цыпочки, вдохнула всей грудью запах степи и далекого леса, запах ручья из балки и запах оживающих вишен на окраине села, рассмеялась счастливо и взлетела прямо вверх.
— Во дает, — вылезли наверх неразлучные близнецы Пашка и Петька. — С зимы, поди, не летала. Как Дед Мороз ее привез, так и сидела дома. Даже болела, говорят.
— А здорово у нее все же получается…
— Ага. Писателем, наверное, будет»
* * *
Вечером Сашка, убедившись, что задания в основном выполнены, открывала старый сохраненный текст и, задумавшись на миг, с улыбкой продолжала его:
«После болезни к Женьке никто в школе не приставал. Как-то так вышло, что все вдруг забылось, и даже его сочинение больше не разбирали.
А по вечерам он продолжал писать свою повесть про Сашку. И еще про Деда Мороза, которого, говорят взрослые, просто нет. Он сказка, фантазия, но не вредная фантазия.
Конечно, не вредная, хмыкал Женька. Вон как Сашку унес на санях. И никакого двигателя не было и лошадей и оленей — тоже. Бесшумно и быстро. Раз — и увез. Наверное, думал Женька, тут эффект антигравитации. Он задумывался на несколько минут, пытаясь продумать антигравитацию, но пока не очень получалось.
Тогда он писал, как Сашка бежит по склону все быстрее и быстрее, а потом отрывается от земли и парит в воздухе, опираясь на весенние ветра. И кричит и поет от радости, а на нее смотрят с улыбкой ее друзья и бабушка и родители. Родители приехали опять, и теперь будут чаще бывать дома. Говорят, у Сашки будет братик осенью.
Потом Сашка идет домой и ужинает там со всеми вместе за большим круглым столом, и договаривается с родителями, чтобы можно было Женьку вытащить хоть на денек летом в гости.
— Ну, если дед Мороз не возражает, — смеется ее отец.
— Он не возражает, не возражает, — хохочет Сашка.
Тут Женька останавливается и думает о Сашке и о Деде Морозе. Дедов Морозов не бывает, потому что он — сказка. Но сказка — это когда чудо. А то, как в темноте они вдруг нашли с Сашкой друг друга — это как раз чудо.
Он покатал эти мысли с бока на бок, выискивая ошибку. Ошибки не было. Пусть это был не Коридор, пусть — пересечение миров. Все равно это — чудо. А раз чудеса есть, значит, есть сказка. А раз так, есть и Дед Мороз. Просто взрослые не видят чудес и не понимают их.
Женька улыбается удовлетворенно и дописывает, как возится под Сашкиной кроватью домовой и скрипучим голосом говорит:
— Да не возражает он, не возражает. Пусть парень порезвится… Пусть полетает…»
Сашка улыбается тоже. Она смотрит на календарь и начинает высчитывать, когда возможна встреча. А потом не одеваясь выскакивает на крыльцо и шепчет в ямку, пробитую в сохранившемся в тени сугробе:
— Дедушка Мороз, пусть чудо случится, и Женьке повезет. А то он не верит, что можно взаправду летать. И в Деда Мороза не верит…
Сугроб отзывается гулким хохотом, а потом из далекой дали доносится:
— Ну, пусть.
* * *
— Ты только не бойся! Тут совсем не высоко! Надо просто глубоко вдохнуть, улыбнуться ветру и солнцу и побежать-побежать-побежать вниз, раскинув руки в стороны. И все. И лети. Только ты сначала высоко не забирайся. Попробуй над самой землей, как будто плывешь… Ты плавать умеешь? Помнишь, как учился? Вытягиваешься, ложишься на воду, толкаешься ногами… Ну? Давай. Женька!
А снизу братья Петька и Пашка, белобрысые от весеннего солнца и уже загорелые дочерна, махали руками, звали. Кричали:
— Не боись, Женька! Сашка — она правильная девчонка! Врать не будет! Ну, давай же, лети!
В Москву!
— Ну, и что мне вам еще рассказать? — к концу уроков учитель немного расслабился, успокоился, стал улыбчивее и добрее.
— Расскажи нам про Москву, учитель! Да, да, про Москву! Хотим слушать про Москву!
— Это в который уже раз-то? Небось, сами наизусть давно все знаете?
Классная комната в школе была всего одна. Если поперек, то шагов пять, а вдоль — все десять. На лавках, уставленных по периметру и застеленных цветными яркими половичками, связанными на уроках труда девчонками, сидели школьники. Вся школа большого села. Все пять человек. Это на трудах мальчишек и девчонок учили отдельно, потому что потом у них труд будет другой, разный он будет. В прошлый раз, например, трех девчонок водили на ферму и учили доить коров. А парни в это время помогали кольщику колоть барана.
А на обществознание и на историю все собирались вместе.
Говорят, раньше тут сидели плотно-плотно, и даже зимой приходилось открывать форточки, потому что было душно. Теперь вот — всего пятеро. Но это еще хорошо, потому что у соседей, говорят, в этом году школа и вовсе не открылась — некого стало учить.
— Ну, что ж… О Москве вам, значит…, - учитель подошел к окну, выглянул на улицу зачем-то, посмотрел наверх, на серые осенние тучи, обложившие небосвод.
В школе было тепло. Дров заготовили в этом году с запасом, и если что — детей можно было держать здесь, под хорошим присмотром, хоть целый день.
— Москва, говорили те, кто видел ее, очень и очень велика. Если к нашему селу добавить еще пять соседских, то и все равно получилось бы меньше, чем Москва.
— Потому и называли ее всегда — большое село! — выкрикнул с места чернявый Аман, сын местного кузнеца.
— Да, за эти размеры так и называли, — подтвердил учитель. — Только жили там совсем не так, как мы живем. Не было у них своих садов и огородов, не было чистой речки, из которой носим мы воду в наши бани, не было глубоких колодцев и прозрачных ключей. А жили москвичи в многоэтажных домах. Вот если дом поставить на другой дом, а тот еще сверху, и еще, и еще, то и получается такой вот многоэтажный дом.
— Хи-хи…, - кто-то хихикнул, не сдержавшись, потому что знал, о чем будет речь идти дальше.
— …И сортиры в таких домах были прямо там, где люди живут. А все то, о чем вы сейчас подумали, стекало вниз по трубам и растекалось толстым слоем по земле на специально выделенных полях около Москвы, пока там не высохнет полностью и не впитается в землю…
— Ой, фу-у-у! — сморщился напоказ кто-то из девчонок.
— Да-да, запах в Москве стоял тяжелый. Много народа, очень много. Много машин. Вот у нас в селе есть трактор, и вы нюхали, как пахнет из выхлопной трубы. А представьте, что этих тракторов сто или даже все двести, и они стоят возле огромных битком набитых домов, разъезжают с шумом по улицам, из их труб вылетают облака вонючего дыма… А в домах люди гадят практически прямо там, где едят, где живут, и все это ползет по трубам, частично сливаясь в воды реки Москвы, частично на те самые поля орошения…
…
— А еще Москва всегда брала с нас дань. Самую тяжелую дань за все времена, самую позорную. Дань людьми. Она требовала присылать к себе самых умных, сильных и активных. И потом они никогда не возвращались обратно. Так что мы даже не можем сказать, зачем их туда свозили, что там с ними делали. Но из моего рассказа, надеюсь, вам стало ясно, насколько тяжело жилось нашим предкам, и как страшен далекий город Москва, оставшийся для нас на сегодня просто исторической легендой.
После уроков Аман с Джохаром забежали за общинный амбар.
— Ну? Ты и теперь будешь говорить, что учитель всегда прав? Он рассказывает эту сказку о страшной Москве уже десятый раз, я специально считаю! И ни разу ни в одном слове не запнулся, слово в слово повторяет. Заучил — и теперь рассказывает из года в год одно и то же.
— Ну и что? А может, он правду говорит? Правда — она ведь тоже не меняется. Так?
— Может и правду. Только как проверить? Вот когда опыты химические показывает — там проверить можно. А про Москву… Уйду я сегодня, — вдруг резко оборвал обсуждение учителя Джохар.
— Куда?
— На Север пойду. В саму Москву. Дядька мой ушел туда. И дед мой туда ушел…
— Так они же не вернулись.
— А ты не подумал: может, там просто так хорошо, что и уходить оттуда не надо?
— Хорошо? Если хорошо, они вернулись бы за нами. Они бы позвали всех с собой.
— Ага, как же. Держи карман шире! А если там хорошо, но очень тесно? На всех хорошего-то не хватит. Наоборот, надо всем сказки рассказывать, как страшно в Москве, как плохо, как гадко…
— Так ты не веришь, что там дома, как каменные пещеры, вонючие и тесные? Что на улицах там дышать нечем? Что…
— Да все это сказки. Ты подумай головой. Ну, поставишь ты дом на дом. А там второй и еще. Сколько он говорил? Девять домов враз один на другой? А как входить и выходить? А? Не бывает таких лесенок! Потому что не бывает таких высоких деревьев. А там, в Москве, наверное, чистые реки и ручьи, булыжная гладкая мостовая, большое подворье у каждого дома, арыки к огородам, чтобы не таскать воду ведрами, большие теплые сортиры за домами со стеклянным окном в двери, откуда виден весь огород, огромные поля, чтобы скакать на лошади, леса с грибами, птицей и зверем… Там наверняка хорошо, в настоящей Москве. Потому никто оттуда и не возвращается. Ну, что им после той Москвы у нас может понадобиться…
— А как же я?
— А ты пока оставайся. Но помни, если я не вернусь — значит, там очень хорошо. Тогда ты тоже приходи в Москву. Будем там вместе на лошадях скакать, на медведя ходить. Будем, как братья.
— А что мне сказать в школе?
— Ничего не говори. Не надо. Пусть сами у моих родителей спрашивают, если хотят. Ну, брат…
Они подняли кулаки, стукнулись ими слегка, и тихим полушепотом проскандировали:
— В Мос-кву. в Мос-кву, в Мос-кву!
Вишенка
Сон был каким-то неприятным, как бывает неприятным красивый, но неудобный, тесный костюм. Вот вроде бы и модный он, и этикетка на внутреннем кармане пришита правильная — можно показывать всем и доказывать, если что, а — тесный. Под мышками жмет. По шее краем ворота натирает. Это так тебе лично кажется, что тесный. Мама говорит, что очень хороший и модный костюм. Папа говорит, мол, надевай, не парься, все путем! А он тесный, тесный! И от того неприятный.
И вот сон вроде был яркий, красивый, про лето и летние каникулы, которые как раз вот именно сегодня начались, а все равно какой-то неприятный. Что-то в нем было не так. Что-то жало и теснило со всех сторон. Неудобный он был, этот сон.
Поэтому Алексей даже обрадовался, когда его подергали за ногу, и строгий мамин голос сказал, что уже пора вставать, и что его ждет сейчас очень серьезный разговор. Она так и сказала:
— Алексей, быстро спускайся. У нас с папой есть к тебе очень серьезный разговор.
Когда мама говорит «очень серьезный разговор», то это означает, что будет действительно тот еще разговорчик. Только не понятно, а что он сделал-то? Потому что о чем еще могут говорить «очень серьезно»?
— А что я сделал-то? — начал, было, он, но мама строго сказала:
— Не гунди! Быстро вниз!
Ого! Это действительно серьезно. А если еще и папа в таком настроении…
У них тут был небольшой дом, который получился переделкой из простого блочного проекта. Внизу, где по проекту подвал и гараж, сделали большую просторную комнату. Там есть телевизор и тренажеры всякие. А в коридоре сразу направо вход в ванную и туалет. Выше этажом, то есть на самом деле как бы на первом — большая комната, светлая просторная кухня и спальная родителей. А из кухни крутая деревянная лестница ведет еще выше, где с раннего детства живет Алексей. У него своя собственная комната с чуть скошенным потолком и с одним широким окном во всю стену. И даже есть свой маленький туалет сразу за дверью. Вроде как на такой маленькой треугольной лестничной площадке. Это очень удобно, между прочим. И для себя, и если кто придет в гости. Только к нему пока еще никто не приходил.
За окном было совсем темно. В комнате горел свет. Алексей знал, что светать начинает часа в четыре. То есть, выходит, сейчас стоит самая настоящая глубокая ночь, когда положено спать. Но все же ночное пробуждение было интереснее, чем смотреть тот странный и неудобный сон.
Зевая, лениво шлепая босыми ногами по теплым деревянным ступеням, он спустился на кухню.
Папа, раскладывающий какие-то железяки на развернутом как для приема гостей кухонном столе, посмотрел на него, сморщился и сказал коротко, но очень понятно:
— Быстро умыться. Одеться, как для дальнего похода. Не разговаривать! Не спрашивать! Исполнять! Кончилось твое детство… Вот сегодня — кончилось.
Так не разговаривают с детьми, когда хотят их просто поругать за какую-то шалость. И потом, Алексей вдруг понял, что это за железки масляно блестят там на столе. Папка собирал оружие. Прямо здесь, наверху, на кухонном столе. И мама молча подавала ему какие-то детали и даже не ругалась. А вот когда он солдатиков выстраивал на столе — ругалась всегда!
Но тут папа посмотрел удивленно, приподняв правую бровь, и Алексей кинулся вверх по лестнице — умываться и одеваться «по-походному».
…
— Садись, сын. У нас есть еще целых двадцать пять минут.
Алексей сел на стул, положил руки перед собой, как в школе, и выслушал короткую, но очень емкую лекцию, прерываемую паузами, когда папе очень хотелось выругаться, но ругаться ему при сыне было никак нельзя. Потому что непедагогично.
Папа сказал, что их все-таки нашли. Они тут, так он сказал, прятались, на этой стороне. И уже думали, что совсем оторвались от преследователей навсегда. Сумели — так они думали с мамой. Даже привыкли к такой мысли. Главным теперь было — воспитание сына. Поэтому ему было всегда очень многое разрешено. И поэтому его называли дома Алексеем, а не Лешенькой каким-нибудь там.
Ага, Лешенькой только еще не хватало. При их-то фамилии…
Так его звали как раз в школе. Смеялись — Лешенька Вишенка. Ах-ах-ах, какой милый молодой человек. Какой застенчивый молодой человек. Какой… Иногда просто в школу не хотелось идти. То есть, в школу, учиться, всегда не хотелось — Алексей был нормальным пацаном двенадцати лет — а кому в таком возрасте хочется в школу? Но иногда не хотелось сильнее, чем обычно. И конечно, «Лешенька Вишенка» было одним из поводов прогулять.
А еще он был слабый. И толстый. Так говорили пацаны из их класса и из параллельного тоже. Они кричали ему:
— Эй, толстый!
И смеялись громко, когда он вздрагивал и оглядывался.
…
— А?
— Ты меня не слушаешь? У нас осталось всего пятнадцать минут!
— Я слушаю, слушаю, пап!
Скоро они (кто такие «они», интересно?) придут сюда, к этому дому. Папа с мамой остаются, чтобы принять последний бой. Потому что, ну, сколько уже можно бегать от них? Набегались в своей жизни — хватит!
Их, конечно, будет больше. И их целью будут все они. Все трое. Папа, мама, сын. Чтобы хоть кто-то уцелел, надо им тут биться до самой смерти, до пожара, до взрывов. Может, полиция еще услышит и приедет… Телефон? Уже не работает. Да, и мобильный тоже. Накрыли колпаком. Нет, можешь не проверять, я уже смотрел.
Вот так, значит. Двое останутся, и будут отстреливаться. До самого последнего, сын, до самого последнего. Может быть, мы еще сумеем уцелеть. Скорее всего — нет. Это честно. Но хотя бы один Вишенка должен остаться в живых. Поэтому ты, сын, сейчас же выйдешь через задний ход, где гаражные ворота, и через забор уйдешь в лес.
— На, это тебе, — сказал папа и протянул мелкашку. — Большой ствол тебе не нужен. С ним труднее управляться, он тяжелее, да и услышат ведь. А из этой ты стрелял уже.
Ага, внизу можно было отодвинуть телевизор в коридор — он на тумбе на колесиках. А на стену, потянув за специальный тросик, поднять пулеулавливатель. Его папа сам сделал. И вот там можно было стрелять по мишеням хоть весь день. А звука выстрела из подвала совсем не слышно. Алексей сам проверял: папа стрелял, а он ходил вокруг дома и слушал. Слышно не было ничего. И он потом сам тоже стрелял. Не раз стрелял.
— Тебе надо уйти как можно дальше отсюда. Бежать, ползти, но уйти. Не забудь часть пути пройти по ручью. Тебя могут искать. Вернее, тебя обязательно будут искать. Если они смогут захватить нас, тогда сразу увидят, что тебя не хватает. А им нужны все трое.
— А вместе? — он сказал это так жалобно, что мама даже закрыла рукой глаза.
— А вместе мы просто не уйдем. Вместе нас найдут сразу и обязательно. А вот так, прикрывая тебя, есть у нас все-таки шанс.
Папа помолчал, посмотрел на часы над кухонной плитой.
— Еще пять минут… Вот тебе патроны. Рассуй по карманам, чтобы наверняка. Вот нож. Вот спички. Никаких рюкзаков у тебя не будет, чтобы было легче идти. Мой компас. Иди точно на север. Можешь петлять, ходить спиной вперед, залезать в ущелье — но потом все равно иди на север. Через три дня тебя найдет дядя Коля.
Дядя Коля! Дядя Коля! А может…
— Он прилетит только через три дня. Такая была договоренность заранее. А связи сейчас нет, сам понимаешь. Он будет знать, где тебя искать, понял? Твоя задача, сын, идти на север. Идти и прятаться от всех. Прятаться и идти. Костер ночью не жги — увидят, найдут. Иди на рассвете и на закате. Днем пережидай, чтобы сверху тебя не засекли. Если сможешь — двигайся ночью. Но осторожно, не поломай ноги. А то догонят и найдут. Все, все, все уже… Время! Пора!
Он схватил со стола два длинных черных и тяжелых… Пулемета? Это пулеметы? Выходит, у нас были еще и пулеметы внизу? Потащил наверх, в комнату Алексея. Мама обняла его и толкнула в спину.
— Беги, сынок!
Уходя, он оглянулся: мама сосредоточенно щелкала затвором короткого курносого автомата.
…
Алексей всегда был домашним ребенком. Книжным ребенком. «Мамкин сын»…
Ну, и что? Все мы — мамкины. И все мы папкины. Только вот в школе он никак не мог ужиться из-за этого. Он не играл в футбол. В карты с пацанами под лестницей тоже не играл, потому что после школы сразу бежал домой. Не носил с собой деньги, и поэтому был неинтересен и скучен местным хулиганам. Ну, только если чуть поиздеваться. Чуть-чуть. Потому что скучно. Не приставал к девчонкам из своего класса, не дергал их за косички, и не издевался над теми, кто «тили-тили тесто, жених и невеста».
Полноватый для своих лет, большой, немного уже близорукий, но принципиально не носящий в школу очки, всех и всего боящийся домашний мальчик. Самый маленький из хулиганов, двоечник из параллельного класса, мог над ним издеваться, доводить до слез своим кривлянием, но — никакой сдачи. Никакого противодействия. Да еще Алексей был не из кварталов многоэтажек, где все всегда со всеми, компанией, а настоящий одиночка — из собственного дома с окраины, с опушки черного хвойного леса.
Лес он тоже не любил.
Летом там на колючих черных елках было много паутины, которая так и норовила облепить глаза или даже залезть в рот. Было в лесу жарко и душно. Мошки и комары не давали спокойно посидеть в тени. А еще злые кусачие муравьи! Алексей однажды присел отдохнуть, не посмотрев. Потом прыгал, отряхиваясь от рыжих муравьев. Вот в книге про муравьев пишут интересно. А когда они щиплют тебя — это совсем не интересно.
А зимой в лесу было холодно.
Весной и осенью — сыро и грязно.
Нет, он ходил с родителями в лес. С отцом — на охоту и рыбалку. С обоими — по грибы и ягоды. Вот только полюбить ловить маленьких рыбок или стрелять в птиц он так и не сумел. Не мог заставить себя даже просто снять рыбу с крючка. Папа не ругался. Он просто вздыхал, похлопывал по плечу — мол, ничего, еще всему научишься — и делал все сам.
А теперь черный страшный лес вставал над Алексеем огромной стеной, загораживающей половину неба. Он оглянулся назад, где светился окнами теплый дом. Он верил родителям, так его приучили. И фильмы он смотрел самые разные. И книги читал. Так что — все ведь может быть. Наверное. Или нет?
В тишине заурчали двигатели медленно ползущих машин, фары осветили угол дома. И тут же сверху из окна раздалась длинная пулеметная очередь. И что-то бухнуло на дороге. Цветные искры красиво полетели к небу. Опять бухнуло, уже сильнее, уже почти под самой стеной дома. Из второго окна, которое ниже, вылетел сноп огня, опять туго ударило по ушам.
И Алексей побежал, взяв винтовку на грудь, как спецназовцы в кино, и отплевываясь от паутины, которая все-таки лезла в рот.
…
Через три дня, говорил папа. Но это не значит, что ровно через три дня дядя Коля его обязательно найдет. Может, и позже. Ведь он сначала должен приехать к их дому. Потом, пока поймет, что случилось, потом пойдет искать Алексея. И не сразу найдет.
Потому что Алексей шел и шел вперед, поглядывая на компас. Часть пути он прошел по скользкому глинистому дну ручья, промочив кроссовки и джинсы. Ничего, сейчас лето. Это не страшно. Потом он дошел до скального массива, возле которого они обычно заканчивали с папой свои походы на охоту. Слева оставалась река, значит, скалы надо обходить справа. А потом снова идти на север. Хотя… Ага! Они ведь тоже подумают, что он подумает, что надо обходить справа!
Слева река билась о скалы, и местами Алексей проваливался по пояс. Было страшно, холодно, но спать уже совсем не хотелось. Выстрелы возле дома закончились впечатляющим бумом и настоящим фейерверком. Разве только цветы в небе не расцветали. Наверное, подумал Алексей, это боеприпасы взорвались. Раз у папы были пулеметы, значит, были боеприпасы. Тут он испугался за свои боеприпасы, выполз на берег и стал вытряхивать из карманов все, что ему дал папа. Спички оказались завернутыми в какую-то резинку. А патроны были в картонных коробках. Коробки совсем размокли, и он разломал их, порвал и выкинул в воду, чтобы не оставлять следов. А патроны протер рубашкой и рассовал по карманам на груди. Потом вспомнил, достал один и аккуратно зарядил винтовку. Смешно. Это он уже шел несколько часов по лесу, а оружие все еще было не заряжено!
Вставало солнце, но оно еще было за скалами. Папа говорил, что днем двигаться не стоит, вспомнил Алексей. Он снова вышел к лесу, нашел самую большую старую ель, ветви которой почти лежали на земле, и заполз туда, в сухое и жаркое пространство. Пауков он уже не боялся, потому что очень устал. А клещи, которыми обычно всех пугают — они на самом деле на траве, а вовсе не на елках.
И сразу уснул, обнимая свою винтовку.
…
Второй день стал самым тяжелым.
Это в первый он проспал полдня, потом нашел малинник и в нем долго возился, обирая осыпающуюся сочную красную ягоду. А потом вдруг вспомнил, уже объевшись, что в книжках малинник всегда — место кормежки бурого медведя.
Как же он оттуда бежал на север! Как бежал! Учитель физкультуры был бы доволен, наверное. Только где сейчас тот учитель?
Иногда Алексей останавливался и долго сидел, дыша тихо-тихо, через широко открытый рот, вслушиваясь в лес. Пару раз стрекозами над самыми верхушками деревьев пронеслись мотодельтапланы. Папа говорил, что его наверняка будут искать. Вот, ищут. Папа все правильно говорил.
На самом закате он разжег маленький костерчик из сухих сосновых шишек, выкопав ножом небольшую ямку. Костер почти не давал дыма, и огня почти не было — был просто жар, на котором, надев на ветку, он поджарил несколько сорванных по дороге грибов. Он знал, какие грибы бывают летом. Это мама показывала ему. Алексей вспомнил маму и немного поплакал. Он не потому плакал, что ее убили. Он про «убили» просто так подумал, как в кино. Он просто плакал, потому что ему плакалось.
«Глазки потеют», — смеялся в таких случаях папа. Вот, глазки сильно потели. И еще в них попадал легкий белый едкий дымок от костра. Глаза щипало, вот он и плакал.
Ночью он спал. Потому что ходить ночью по лесу он еще не решался. Темнота его пугала, пожалуй, сильнее, чем неизвестные «они», от которых надо прятаться.
А второй день был самым тяжелым. Тут не было умывальника. Не было туалетной бумаги, и это казалось почему-то самым стыдным. Алексей чувствовал грязь на всем теле. А на руки просто боялся смотреть. С такими бы руками мама ему — ох!
Он вспомнил маму и пошмыгал носом, на ходу вытирая его рукавом куртки. Грибов больше не было. Да и тот случай был, наверное, просто везением. Ягод тоже не встречалось. Весь второй день он шел голодным. Тяжело шел. От дерева к дереву, стараясь очень далеко не уходить от реки. Потому что без еды прожить какое-то время можно, а вот без воды — совсем никак. Об этом он читал.
И спать на голодный желудок было тяжело. Вернее, не спать, а лежать, вслушиваясь в лесные звуки. Треснул ли сучок? Слышно ли чье-то дыхание?
И еще — холодно. Что это за лето такое, что так вдруг холодно?
Он выполз на свет только на рассвете, когда красное солнце выглянуло из-за елок, и снова пошел. Ну, да. Не охотник он. И даже не рыбак. Но кушать-то надо. Потому что надо идти на север — папа сказал не останавливаться. А чтобы долго идти — надо много кушать.
Так Алексей уговаривал себя, подбираясь с винтовкой наперевес к очередной полянке. На той ворковали типичные городские голуби. Только цветные какие-то. Коричневые. Он долго целился, примостив винтовку в развилку ветвей, потом, затаив дыхание, медленно-медленно потянул спусковой крючок. Щелкнуло, как ветка сломалась. Лес даже не заметил выстрела. Только голуби поднялись стаей, оставив одного на поляне.
Алексей подождал еще немного, вслушиваясь. Вроде, никого рядом. Тогда он быстро выбежал, схватил птицу за крыло и тут же убежал обратно в лесную тень.
Нож был очень острым.
Кое-чему его папа все-таки научил: как потрошить, как осторожно вырезать самое горькое, чтобы не отравить мясо желчью. А ощипывать птицу он не стал. Сходил к реке, посидел в кустах на берегу, смотря то вверх, то вниз по течению, а потом под песчаными наносами накопал сырой тяжелой красной глины и завернул потрошеную птицу в нее, превратив в сплошной ком. Веточкой сделал два отверстия. Закопал в песок. А сверху опять развел маленький почти бездымный костерок, подкидывая в него шишки, и суша одновременно свои совсем расползшиеся кроссовки. Костер без дыма — это если не наваливать много веток. И сырого не класть. Надо положить около огня заранее, чтобы подсохло все. А потом просто подкладывать по одной.
Полчаса он вытерпел. Он умел терпеть, на самом деле. Потому что был, как говорил папа, «дисциплинированный». Папа остался там. С мамой. А он должен все равно идти на север.
Алексей стукнул рукояткой ножа по горячему глиняному кому. Еще раз, раскалывая на части. Внутри были перья и пух, а между ними вкусное распаренное белое мясо. И остатки костра и кости он снова закопал, накрыв ямку куском дерна. Посмотрел со стороны: если специально не искать — так и не заметишь!
Ну, вот. Три дня, значит.
Патрон в патроннике. Винтовка на груди. Теперь он пошел ночью. Папа говорил: можешь — иди. Вот Алексей и пошел. Теперь, подумал он, еды хватит. Было целых две коробки патронов. То есть, всего двадцать штук. Если осторожно и метко стрелять, может хватить на целый месяц. Ну, или почти на месяц. А дядя Коля уже приехал, наверное, и теперь разбирается со следами.
Алексей улыбнулся. Вот пусть посмотрит, пусть попробует его найти. Это как игра, выходит. Он шел медленно, отводя от лица ветки, стараясь не наступить на сухой сучок.
И вдруг впереди замерцал огонек. Костер!
Алексей глянул на компас. Костер был прямо на север от него. Никто же не говорил ему, что нельзя посмотреть? Сначала он шел на цыпочках, потом пополз по-пластунски, держа винтовку, как спецназовцы в кино.
Когда он приподнял голову, чтобы посмотреть из-за кустов, что там, на поляне, у костра, в шею сзади ткнулось холодное, и грубый голос сказал:
— Лежать! Руки на затылок!
Тут уже не поспоришь и не вывернешься. Со взрослым Алексей справиться вряд ли сможет. Он отпустил винтовку и дисциплинированно положил руки на затылок.
— Ну, что, — сказал тот же голос, но уже нормальным тоном. — Тридцать километров. Три дня. Я же говорил, что Лёха — наш парень!
— Дядя Коля! — он опять чуть не заплакал.
— А кто бы еще? — подмигнул смуглый и веселый дядя Коля. — Пошли, путешественник. Будем еду есть, чай чаевничать и разговоры разговаривать.
— А костер не заметят? — осторожно спросил Алексей, посмотрев на небо.
— Уже нет, — вздохнул дядя Коля.
И вот тогда он много всего объяснил. И насчет фамилии их — тоже. На самом-то деле они, то есть папа, мама и сын, были «вышними», то есть высокими, верхними. Там, на той стороне, махнул он рукой куда-то влево. А когда сюда перебрались, стали Вышенко. С ударением на второй слог, понятно? Такой там был язык, куда попали сначала. Ну, а уж когда переехали в этот город, а потом еще и меняли документы в связи с переездом, стали, как, ну?
— Вишенка…, - сказал растерянно Алексей.
Какой же он был тупой! Ну, конечно же! Так все легко и просто раскрывается!
— А ты, дядь Коля?
А он и его сестра, Лёхина мать, были Вохровы. А это еще проще — «в» — это вооруженные. «Охр» — охрана. Понимаешь, Лёха, Вохровы — они всегда рядом с Вышними. С Вишенкой, значит. Потому и родня. И если что — охраняем и помогаем. Вот он и приехал сразу, чтобы спасать и охранять.
— А папа с мамой? — с замиранием спросил Алексей.
— Ищем, — сурово ответил дядя Коля. — Найдем. А пока мы с тобой погуляем по этому прекрасному лесу. У нас с тобой будет долгое путешествие. Чтобы уже наверняка. Ну, ты понял, да?
— Угу, — кивнул Алексей.
…
— Чем питался?
— Малину нашел, грибы… Голубя убил и зажарил.
— Потрошил? Значит, у тебя, выходит, первый голубь, да? А у меня первым был петух. Не поверишь — петух! Мне было лет десять, и у нас был огромный и красивый петух. Просто огромный. Он был мне по пояс, представляешь? А когда раскидывал крылья, распушался и шел в атаку — о-о-о! Я его боялся дико. И однажды попался. Он просто гонял меня — животные чувствуют страх, все животные. Не только собаки там разные или волки. Вот, петух этот чувствовал, что я его боюсь. И когда я приходил из школы, то бежал к крыльцу со всех ног. А он — за мной, взлетая иногда на скорости. Ужас… Чего смеешься? Знаешь, как страшно, когда петух?
Алексей зажимал рот, но все равно смех вырывался наружу. Дядя Коля — убегающий от петуха!
— …И попался. Как-то так повернулся неудачно. Или вошел во двор, не посмотрев, задумавшись, что ли. А петух как подпрыгнет! И клюнул меня прямо в лоб. Вот, даже шрам остался.
Он нагнулся, и в колеблющемся свете костра показал на точку между бровями.
— Это он так клюнул. Так вдарил, что кровищи было — ух, сколько. А еще он сломал себе клюв о мою черепущку, и кончик ключа вышел только потом. Вот шрам и остался.
— А я думал, это на войне…, - Алексей подул на кружку и отхлебнул горячий сладкий чай, пахнущий какими-то травами.
— На войне рана сюда — это смерть! Ты что, парень! Без каски на войне просто нельзя. Но мне было десять, у меня лила кровь, петух гнал меня до крыльца… А на крыльце стоял отец и курил. Он просто стоял — и курил, представляешь? Ничего не делал, но петух сразу стал маленьким и боком, боком убрался за сарай. А отец посмотрел на меня, посмотрел, а потом вздохнул, и из-за двери вытащил топорик. Это был мой собственный топорик, я его точил всегда сам. Хворост порубить, растопку приготовить — это моя работа была. Вот, он мне топор дает и говорит, иди, мол, сын, и принеси мне своего первого петуха. Понял, да?
— И ты зарубил петуха?
— Это был бой, парень! Настоящая битва, как в страшном кино! Я гонялся за ним, и теперь уже он убегал от меня. По всему двору перья… А на крыльце стоял отец и смотрел. Мы потом этого петуха долго потрошили, ощипывали, обварив кипятком. Потом рубить на части. Потом еще варили. Долго варить пришлось — он же не цыпленок. Мама тогда сильно ругалась на нас. А мы только подмигивали друг другу, когда ели этого петуха.
…
— Да нормальный пацан у вас — Лёха! Мы с ним и охотились, и рыбачили. Он из книг много полезного вынес. Ну, и вы все-таки кое-чему научили, конечно. Я тут приврал немного, но ему было приятно, — рассказывал дядя Коля, пока Алексей отмокал в горячей ванной после бурной встречи с родителями. — А чем это вы тут так бахнули? Он рассказывал, самый настоящий бой был?
— Я сам все сделал, — гордо сказал папа. — Что, зря меня в армии учили, что ли?
…
Первого сентября, как обычно, Алексей шел в школу. Шел спокойно, посматривая по сторонам и присматриваясь к прохожим. Папа и мама живы — это хорошо. Охрана всегда где-то рядом — тоже. Но береженого, как говорил дядя Коля, бог бережет. Надо быть готовым ко всему.
— О! Пацаны! Кто идет! Лёшенька! Наша вишенка! — гнусаво завопил кто-то за спиной, кривляясь. — Эй, толстый!
Алексей мягко развернулся на одной ноге, шагнул на не ожидавшего встречного движения парня из параллельного класса, резко, как учил дядя Коля, выставил вперед вторую ногу. Пацан тут же сам въехал в нее и кубарем покатился на дорогу под дружный смех школьников. Вскочил, кинулся было, да еще и за ним подтянулись друзья, недовольно крича что-то.
Но вдруг с забора спрыгнул второгодник Мишка и спросил:
— А чего это вы тут все на одного? — и свистнул.
И еще трое одноклассников встали с ним рядом.
— Это, между прочим, мой одноклассник, — сказал Мишка. — Как там тебя… Э-э-э…
— Алексей, — серьезно сказал Алексей и протянул руку.
— А я, значит, Михаил, — сказал Мишка. — Ну, что, сядем вместе?
Гаврюша и Миха
Мы с братом пошли на рынок — нас мама послала. Утром, говорит, пораньше, чтобы не слишком жарко было. В каникулы подняла нас рано утром — и на рынок послала.
Хорошо еще, что не меня одного. Вот тогда было бы по-настоящему обидно. А вдвоем совсем почти не обидно. Потому что жарко обоим. И не выспались оба, хмурые с утра поэтому. Но мама не стала ничего слушать, никаких возражений и прочих звуков. Она у нас — ого-го! Ее даже папа слушается, когда она так начинает говорить. А она именно так и сказала:
— На рынок! Быстро! А то вернется отец, а у меня еще не готово ничего!
И мы даже забыли ответить, как обычно:
— Ну, ма-ам, ну, прямо вот в каникулы, ну, ты чего…
А просто повернулись и пошли. Вдвоем. Вот так она нам сильно сказала, что даже и не подумали спорить — а повернулись и пошли. Даже без завтрака.
Когда мы уже повернули за угол, Миха дернул меня за рукав:
— Чего молчишь-то?
Миха у нас вообще-то младший. Я — старший. Это у нас все знают. Правда, ростом мы одинаковы, а некоторые даже путают в лицо, но все равно я родился раньше, пусть и всего на несколько минут. А это значит, по закону если, что все хозяйство останется потом мне. А Миха может тогда остаться со мной, если захочет, а может идти в службу. Но я думаю, что ему можно будет остаться. Потому что — ну, как я без брата? Вот сейчас на рынок идти в одиночку было бы гораздо хуже и в сто раз обиднее. А вдвоем, вроде, нормально.
— Ну, чего молчишь?
А чего говорить, когда уже вон он — рынок. Я дал Михе корзину, а сам считал деньги, расплачиваясь. На самом деле, Миха считает ничуть не хуже меня. Честно говоря, даже лучше. Совсем немного лучше. Но я старший, а поэтому деньги всегда у меня. И спрос потом с меня будет, если что.
Мы купили круглый теплый хлеб у пекаря, потом густой желто-белой сметаны, еще крынку свежего молока — папа любит молоко — и большой кусок сыра. Тут уже Миха мне подсказывал, какой сыр лучше. Я лично люблю сладкий, коровий, а Миха всякий сыр любит. Он про сыры много разного знает, и на вкус сразу определяет даже время созревания. Он сказал, чтобы взяли сегодня козий, белый с голубыми прожилками. Ну, правильно. Такой родители как раз любят. Но зато мы еще поторговались, пока по сырам ходили, и осталось чуток денег. Мы переглянулись с Михой молча, и пошли опять к пекарю. И он нам дал по сладкому маковому бублику. Это было справедливо, я считаю, потому что завтрака же у нас не было. Хоть и каникулы…
Потом мы побежали домой, потому что солнце уже было высоко, а это значило, что папа скоро вернется, и его надо будет кормить. Мы успели как раз вовремя. Только отдали корзинку маме, как сзади свирепым зверем завыло, заскрипело, заухало, зарычало, а потом как накинулось! Страшно и смешно, аж до визга.
Это папка так всегда шутит. Он у нас большой и очень сильный. Он может взять коромысло на плечи, и когда мы ухватимся за концы, раскрутить лучше любой городской карусели. Еще он может подкинуть меня, ну и Миху тоже, высоко-высоко, а потом поймать, когда уже сердце закатывается от испуга. Он самый веселый и добрый.
Я поливал ему из ведра, а Миха носился рядом и не знал, что бы еще такого полезного сделать. Потом он сбегал к крыльцу и принес полотенце. Но папа еще долго мылся, отфыркиваясь и отплевываясь от мыльной пены. Он снял с себя все, кроме исподних штанов, и я лил из ведра прямо на спину, на голову, на затылок. А он громко ухал, разбрызгивал воду, даже подпрыгивал босыми ногами.
А потом мы все вместе пошли завтракать.
На завтрак мама приготовила нам кашу пшеничную. Вернее, эта каша была не на завтрак, а стояла с вечера в печи, упревала. Еще были вареные яйца, совсем горячие. Ими можно было стукаться. А папа научил бить яйцом в лоб, чтобы раскалывать сразу. В лоб больно, как от щелбана, но не обидно, потому что сам. Еще были толстые пышные и дырчатые блины, которые мама густо намазывала свежей сметаной, и горячий чай с медом, что принес медоноша на той неделе.
Мы так наелись с Михой, что сразу не могли даже вылезти из-за стола. А папа посмотрел на нас хитро и сказал, чтобы шли гулять, потому что вечером он нас ждет на площади.
Мы, конечно, пошли. Потому что, когда папа вот так говорит — это совсем не каждый день и даже не каждую неделю бывает. Это настоящий праздник просто такой получается. Да еще и каникулы, и лето. Мама тоже сказала, что нам можно гулять до вечера, и отрезала краюху черного хлеба на двоих. Вот мы и пошли.
А они остались, потому что папе спать после ночной смены.
Летом хорошо. Во-первых, не надо учиться и делать домашнее задание. А во-вторых, лето — это лето. Можно просто гулять по улицам и на всех смотреть. Можно выйти за ворота и дойти до самого леса. Можно играть в своем дворе. Там мы играли в ножички. Рисовали большой круг, как царство. Делили ровно пополам. А потом играли в ножички, отрезая по куску то там, то здесь. Если умеешь в ножички — можно долго играть. Мы даже рубахи сняли, потому что было жарко. Но не кричали и не шумели, а то папа проснулся бы, а мама бы стала ругаться. Так, толкались только иногда, и шептали разное. Но не кричали.
А когда уже нагулялись и наигрались, съели весь хлеб, а из полей потянуло вечерней прохладой — вернулись домой. Папа уже ушел, но еще раз напомнил про площадь маме. И она нас покормила, а потом тоже туда отправила, потому что ведь каникулы, и не каждый день такое бывает, и даже не каждую неделю.
А на площади уже было настоящее людское море, но нас пропустили к самой середине, потому что узнавали.
— О! — говорили в народе. — Гаврюша с Михой пришли! Проходите ближе, пацаны! Сейчас начнется!
Гаврюшей они меня звали. Вообще-то я Гавриил, а Миха, конечно, Михаил. Как старшие архангелы. Только все равно я старше его, и дом с хозяйством — мне.
Мы протиснулись к самой середке. Там был помост со столбом и ступеньками. Вокруг стояли гвардейцы. А с помоста громко кричали — читали обвинение. Потом вывели нашего бывшего директора городской гимназии. Мы его никогда не любили — он слишком строгий был и злой на всякие детские шалости. А тут выяснилось, что был он, оказывается, в сговоре с врагами и даже хуже того — настоящий еретик.
А потом вышел папа. Он был в красном колпаке, закрывающем голову и плечи, но мы-то знали, что — папа. Мы чувствовали. И вот он раздел до пояса директора. Вернее, уже бывшего директора. Потом уложил его на бревно и замкнул специальными цепями руки и ноги. А потом ходил вокруг и махал руками всем, чтобы кричали. Вся площадь кричала, и мы тоже кричали:
— Смерть! Смерть! Смерть!
Папа взял железный лом и сломал директору руки и ноги. Тот кричал, но мы все кричали еще сильнее:
— Смерть! Смерть! Смерть!
Потом снова вышел герольд и громко огласил, что за такие страшные преступления положено сжигать заживо на медленном огне, но князь наш сегодня добр и дает великую поблажку.
— Да, точно, сжигать таких надо, — кивали в толпе. — Ишь, какая зараза-то выросла!
А поблажка для директора была такая, что папа взял большой топор, поплевал на руки, взмахнул им — все замерли сразу, и даже директор больше не кричал и не стонал. А потом — раз! Тупой стук, и покатилась голова. Губы еще кривились и глаза открывались — я сам видел!
Но папа-то был каков — с одного удара!
Потом он спустился с помоста, снял свой колпак, бросил его назад помощнику, обнял нас обоих за плечи, и мы вместе пошли домой. К маме.
— Ну, что, Миха, — спросил папа. — Учиться профессии когда начнешь?
А Миха подумал, подумал, а потом сказал солидно, почти как взрослый:
— Через месяц, пап. Вот дай от этой гимназии отдохнуть немного — а потом учи.
Вокруг шумела площадь. Папу хлопали по плечам, жали руку, приглашали в гости, кланялись издали вежливо. Но он мотал головой и говорил, что обещал сегодня дома быть. Вот, с сыновьями будет ужинать и о жизни говорить. И все кивали уважительно. Потому что кто еще о жизни мог знать больше, чем городской палач?
Гоблины
Темный лес был совсем не страшный. И чего его бояться? Что тут вообще может быть страшного — в лесу? Лес — он кормит, одевает… Лес дает жизнь всему племени. Лес прикрывает от страшных кровожадных гоблинов.
Ун крался по ночному лесу, вздрагивая иногда от непонятных шорохов и страшных ночных звуков. Он же не виноват, что ему еще нельзя со всеми, что годами и ростом просто еще не вышел. Понятное дело, никто не примет его в настоящий ночной поход, не объявит перед всем народом настоящим охотником. А он все равно всем докажет. Он ничуть не хуже этих, которые большие. И если снова будет война — он тоже пойдет, и будет воевать. Не помогать и подносить стрелы лучникам и камни пращникам, а — сам. Как большой. Как настоящий охотник. Но для этого надо продержаться в ночном лесу, а потом выйти из него утром с добычей.
Старших на закате увел из поселка шаман. У них ночной поход против страшного вечного врага. Люди и гоблины просто не могут жить вместе.
Вождь уже давно спит, наверное. Вождь должен хорошо отдыхать, потому что у него много трудов днем. И всякая мелочь голозадая, и девчонки все — они тоже спят. Не потому, что работа у них днем, а потому что мелкие еще. Им расти и расти. А девчонкам — готовиться замуж. За самых настоящих охотников.
Все спят.
А Ун, которого так назвали, потому что он первый ребенок в семье, шел по ночному лесу. Если вокруг все черным-черно и колется — это елки. Если становится вдруг просторно вокруг и мягко шагается — это сосна. Высокая рыжая сосна. Еще бывает разный обязательно колючий кустарник.
Ун шарахнулся от внезапного треска веток справа, споткнулся о корень, как будто специально выставленный ночным деревом…
— А-а-а… Ух! Ой!
Не смешно. Да. И даже очень больно. Вот как теперь охотиться? Как доказывать, что уже не маленький?
Крутой песчаный откос привел на сырое дно оврага. Хорошо еще, не в болото и не в речку. Хотя, подумал Ун, если бы в речку — было бы не так больно.
— Эй, ты там живой? — раздался шепот сверху.
Ночью все слышно хорошо. Особенно — если человек говорит. Лес сразу выдает человека. Это зверя можешь не услышать, пока он не кинется на тебя. А человек человеку…
Песок с шорохом пополз под ногами невидимки. Слышно-то, вроде, слышно, да все равно ничего не видно.
— Где ты тут?
— Здесь, — буркнул Ун, пытаясь узнать по голосу. — Кто это?
Ему уже было наплевать на смех и на издевательства. Это будет потом, когда вернется в поселок. А сейчас просто очень сильно болела рука. Не нога, которой запнулся, а правая, самая нужная, рука. Она наливалась горячей тяжестью, и двигать ею было совсем нельзя.
— Я — Ерс. По-нашему — первый, значит.
Чужой! Правая рука дернулась к ножу, и Ун чуть не задохнулся от боли. Кричать при чужих нельзя. Только замычал, вцепившись зубами в край плаща. И еще слезы…
Все-таки ночью хорошо. Ничего не видно.
Мягкие руки нащупали его плечо. Потом легко обвели руку, а потом вдруг…
— А-а-а!
— Тихо, тихо! Все-все-все! Это был простой вывих! Я вправил.
— Убил бы тебя. Предупреждать же надо!
— А если бы предупредил — ты бы поддался?
Ну, правильно говорит. Конечно, не поддался бы. А теперь зато боль постепенно уходит. Нет, рука все равно болит, но уже можно шевелить ею. И даже можно достать нож.
— Я — Ун, — сказал он. — Это от Унус, первый, то есть, по-нашему.
Упала тишина.
— Эй, — осторожно прошептал Ун. — У меня нож есть, если что.
— И у меня есть нож. И еще у меня лук.
— А у меня — праща. Но мы же с вами не воюем, верно? Вы кто вообще?
— Луговые мы. С луга, что за рекой.
— За рекой. Далеко. А мы — лесовики. Охотники. С гоблинами вот воюем насмерть.
— И мы — с гоблинами! Каждый год — с гоблинами воюем. Гоблины страшные, но мы отбиваемся.
— Так у нас с вами мир, что ли? Мы, что ли, союзники, выходит?
Так в темноте ночного оврага познакомились и сразу подружились Ун и Ерс.
А как им было не подружиться? Возраст один. Рост — Ун примеривался — тоже примерно один. И первые в своих семьях. И в лес они пришли за одним и тем же.
— Наши пошли на гоблинов охотиться, — с тоской сказал Ерс. — А меня не взяли. Молод еще.
— И наши пошли на гоблинов… А мне хоть бы кого. Хоть зайца, что ли… Чтобы тоже — ночью. Чтобы добыча. Иначе ругать будут.
— И меня — ругать.
— А девчонки — смеяться…
— Да!
Но с Уна охотник был уже никакой. Правой руке немного полегчало, но все равно пращу сильно не раскрутить — больно. Понятное дело, Ерс сразу решил помочь. Как иначе? Другу всегда помогают.
Зайца — не зайца, а глухаря он как-то добыл. И сам привесил его за шею к ремню Уна.
— Знаешь, что, — сказал тогда Ун. — Пошли теперь со мной. Покормят, а потом еще проводят хоть даже и до самой реки. А то — мало ли… Гоблины ведь — они хитрые. И темно ведь.
Ерс замялся, но Ун схитрил. Стал стонать и говорить, что еле-еле идет. И Ерс, как настоящий товарищ, повел его к нему домой.
На рассвете вышли на опушку леса и увидели частокол.
— Ха! — громко и радостно закричали от ворот. — Смотрите, люди! Мой первенец — герой! Он живого гоблина словил!
— Папка, — сразу заулыбался Ун. — И не ругается совсем…
— Ах, какой у меня сын! — пел, приплясывая, его отец. — Он пошел в меня — настоящий охотник. У него глухарь — ах, какой глухарь! Мы сварим суп и накормим всех! И он пошел в деда — великого охотника. У него гоблин — ах, какой гоблин! Живой! Кто может сравниться с моим сыном? Кто еще привел в поселок живого гоблина?
Ун остановился. Какой гоблин? Это — Ерс! Ерс — друг и союзник. А с гоблинами мы воюем. Гоблины страшные и кровожадные.
— Веди его сюда, — смеялись люди, собираясь у ворот. — Сейчас мы вместе посмотрим, что там у него внутри. На свету посмотрим, не ночью.
— На счет три, — сказал Ун тихо.
— Понял, — так же тихо ответил Ерс, уже снявший с плеча лук.
— Раз, два… три!
Они кинулись в кусты, как испуганные зайцы.
Вжик, вжик — пролетели над головой камни и тупо ударились в ствол высокой сосны.
…
Теперь уже Ерс нес глухаря, а Ун смотрел, чтобы за ними никто не гнался. Он своих хорошо знал. Они упорные — настоящие лесные охотники. Поэтому сначала мальчишки бежали в самую гущу леса, а потом резко свернули, чуть не навстречу погоне, а потом еще раз свернули — и прямо к реке.
Река тут была широкая, но мелкая. Шагов двадцать в ширину, не меньше. По пояс в воде, непрерывно вращая пращу над головой — это больной-то рукой!
В общем, к деревне луговых вышли уже совсем дохлые. Ну, почти. Такие — еле-еле передвигающие ноги.
— Иде-е-ет! — кричала какая-то малявка с вышки у таких же ворот. — Веде-е-ет!
— Ай, молодца, — приплясывал в воротах отец Ерса. — Ай, какой охотник растет! Лучший охотник в племени будет! Ночью в чужом лесу глухаря взял! Ах, какой суп будет! И еще — гоблин! Живой гоблин! Зачем тащить голову, когда он сам ее несет? Ну, кто сравнится с моим сыном? Кто хоть раз приводил в деревню живого гоблина?
— Ха-а! — весело кричали соседи. — Веди его скорее сюда, Ерс! Мы посмотрим, какой он изнутри днем!
— На счет три, — прошептал Ерс.
…
Их догнали почти на самой опушке леса. Луговые догнали. Охотники бежали неторопливой мерной рысцой, которой даже оленя можно загнать до смерти. А тут — два пацана. Да еще и не спавшие ночью. Так что до опушки им на самом деле было еще бежать и бежать, а охотники с луками и копьями — вот они, уже почти в спину дышат.
Да и бежать-то уже было некуда. По опушке леса споро разворачивались охотники лесовиков. Зажужжали пращи, готовясь выпустить рой крепких гладких камней.
— Гоблины! — закричали с одной стороны.
— Гоблины! — подхватили с другой.
Ерс и Ун стояли спиной к спине, не отворачиваясь от неминуемой смерти. Все знают с малых лет — гоблины никогда не щадили людей.
Ун стоял с ножом и щурился на недосягаемую опушку леса. Он не мог кидать камни — рука не позволяла. Но он мог прикрыть спину друга. Даже от страшных гоблинов, вышедших из леса.
Ерс стоял с маленьким детским луком в руках. Спину его держал новый друг. А спереди от луговой деревни набегали гоблины.
Самые настоящие страшные злобные кровожадные гоблины.
Дни творения
— Ох, боженька ж мой…, - раздалось со двора.
И что-то громко покатилось, звеня, по высокому крыльцу.
Бог только поёжился, ожидая продолжения. Ну, действительно, не очень хорошо вышло, наверное. Большой взрыв получился. Слишком уж большой. Вот сейчас мама и примет какое-то решение, думать о котором пока не хотелось.
Нет, а что вы удивляетесь? У всех богов есть матери. Так и говорят всегда — богоматерь. И учитель рисования, между прочим, всегда становился у окна, когда мама провожала бога в класс, и вздыхал потом пол урока:
— Ах, богиня, богиня…
И отец был самый настоящий бог. Он был по-настоящему всемогущ и всезнающ. Он ремонтировал всему селу мясорубки и телевизоры. Он несколькими движениями пилы и ножа из простой серой доски делал игрушечные сабли и пистолеты — даже лучше, чем настоящие. А однажды приехал на побитой машине какой-то мужик в малиновом пиджаке, так отец выправил дверь и крыло просто одним молотком. Так выправил, что тот, в пиджаке, при всех поклонился и сказал:
— Ну, ты — бог!
И денег ещё дал. Много. Хватило на школьную форму и на красивые кроссовки, и даже на вкусные конфеты.
Бог сидел у самого порога на старом половичке, который связала крючком бабушка (ну, да, конечно, бабушка: раз есть мать и отец — обязательно должна ведь быть бабушка!).
Бабушка резала на длинные полоски старые трикотажные свитера, чулки, какие-то тряпки, связывала их в одну длинную ленту, и бесконечно вязала, вязала, вязала крючком, протыкая, цепляя и вытаскивая, и снова туда и сюда… Получались такие яркие разноцветные круглые половички, которые потом дарили всем знакомым, потому что в своём доме под ними уже давно не было видно пола.
Вот на таком цветастом потёртом половичке бог сидел и пытался смешать свет и тьму. Отец давно уже сделал все выключатели и розетки внизу, чтобы было удобно и большим и самым маленьким. Тем более, бабушку согнуло буквой «Г», и она теперь не могла поднимать руки кверху, а щёлкнуть по плоскому выключателю внизу ей было просто и легко.
Так вот. Сначала бог делал свет.
Свет надо делать так: он сворачивал фольгу от конфет в тонкую трубочку, вставлял две такие трубочки в отверстия розетки (тут главное — по одной вставлять, «а то так шандарахнет, что нимб засветится», — так смеялся отец, когда узнал о делании света), а третью такую трубочку-стержень бог кидал сверху, замыкая контакты. Яркая вспышка, щелчок, искры во все стороны — прямо, как настоящий салют! И можно начинать все с самого начала.
Но фольга очень быстро кончилась, потому что обычно конфеты были в простых бумажных обёртках с надписями, или даже вот ещё бывают и без бумажек, как подушечки с повидлом, и теперь бог старательно смешивал свет и тьму. Он медленно и осторожно нажимал на клавишу выключателя, пока не раздавался щелчок, и не загоралась старая люстра на три рожка. Свет! Потом так же медленно он жал до щелчка и выключения люстры. Тьма! Ему никак не удавалось поймать сам этот щелчок и посмотреть, а что там, посередине, когда уже не свет, но ещё и не тьма? Ещё и ещё раз: свет-тьма, свет-тьма, свет-тьма…
Вот, вот же, получилось ведь!
Но тут за спиной с треском раздвинулись сделанные мамой из бусинок и кусков бамбука шторки, колышущиеся на летнем сквознячке и отгоняющие мух, цепкие пальцы больно схватили его за ухо и мамин голос — очень спокойный голос — произнёс:
— А сейчас кто-то пойдёт в чулан.
Он и пошёл. А кто бы смог не пойти? Если за ухо и больно? Бог — у него ведь тоже уши. Иначе чем ему всех слышать?
А ведь у него все равно получилось смешать тьму и свет! Получилось! Клавиша выключателя стояла в среднем положении, щелчка не было, и не горела люстра…
В чулане за закрытой дверью было почти темно, и только сквозь узкие щели в закрытых всегда по жаркому времени ставнях пробивались тонкие лучи света, в которых плясали пылинки. Здесь пахло старой одеждой, чесноком и немного плесенью. А в углу под влажной тряпкой стоял тазик с глиной. Мама по вечерам лепила игрушки-свистульки, а потом, когда они обсыхали, их раскрашивали всей семьёй и совали на противне в печь…
Бог сунул обе руки во влажную глину, оторвал кусок, сколько ухватилось, и стал его жать, жать, жать, мять, мять, мять… Вот такой вот шар получился. Ну, не совсем шар, потому что без круга делал, но все равно такое округлое, с вмятинами и выпуклостями, размером с его кулак или чуть больше.
Бог подкидывал этот шарик вверх, а потом снова ловил. Подкидывал — и ловил. А потом раз — а поймать не удалось. Он никуда не упал, наверное, а где-то там повис сам собой, крутясь в воздухе… Или все же упал? В темноте не было видно, и тогда бог стал водить по полу руками, стараясь отыскать мягко и неслышно упавший куда-то глиняный шар.
Но тут дверь чулана открылась и отец, смеясь, сказал из светлого коридора:
— Ну, выходи, творец всего на свете! Рассказывай, что за бигбадабум ты тут устроил!
Выходит, это уже настоящий вечер наступил.
Бог молча прошёл к умывальнику, помыл руки с мылом и даже сполоснул лицо и провёл мокрыми руками по шее, а потом сел на табуретку перед кухонным столом. Ему не хотелось ничего говорить, потому что как объяснить, чего оно так сильно долбануло? Там всего-то и были, что селитра и фосфор. Вот и все, вроде. Но так трахнуло, так тарарахнуло, что по всему селу потом заполошно гавкали собаки.
Мама, для порядка хлопнув его по затылку открытой ладонью, поставила на стол миску с манной кашей и стакан вишнёвого красного-прекрасного киселя. И бог стал ложкой делать в каше всякие берега и проливы, а сверху заливать киселём, и получилась почти настоящая карта с морями и реками, и даже какими-то фьордами. Про фьорды он прочитал в учебнике географии. Но тут бабушка строго сказала, что едой играть нельзя, и пришлось быстро все съесть.
Бог ел и думал.
Он, кажется, придумал, как сделать, чтобы ожили игрушки, которые делала мама. Бог теперь сам завтра слепит себе самых разных животных. И рыб тоже слепит. И ещё птиц. Только вот птиц придётся лепить сидящих, потому что из глины крылья делать неудобно. А в самом-самом конце он сделает людей. Главное, чтобы глины на всё хватило, думал бог, укладываясь спать.
Впереди было ещё все лето. Впереди было много дней творения.
Здесь живут чудовища
— Тю! Это ж Грашка со свалки! Вы ей не подавайте, у нее и так все есть! Лучше нам дайте!
Загорелый дочерна мальчишка дергал за рукав мундира капитана Лосса, задумчиво глядящего на девочку лет тринадцати, худую и такую же прокопченную солнцем, как и все здесь. Тут вообще было не место для мундиров. Белый горячий песок, яркое даже не синее, а в бирюзу больше — море. Выцветшее небо светло-голубого оттенка. Жгучее белое солнце. И поджарые, просмоленные, прокопченные какие-то местные жители, бегом носящиеся по мосткам, перетаскивая на «Алпару» груз.
— Вам, значит, надо, а ей — нет? — присел на корточки капитан, по-прежнему смотря в сторону девочки.
— Так есть же у нее все, есть! И платья разные, и еда, и дом — вот там, за свалкой! Ей ведь ничего не нужно — только бы в кораблики поиграть!
И правда, девочка ничего не просила. Она даже не обращала внимания на сошедших на берег моряков. Просто стояла в короткой тени таможни у беленой известью стены и рассматривала их корабль. Внимательно рассматривала, склоняя голову то к левому, то к правому плечу.
— Ну, вот вам на сладкое, — кинул монету пацанам капитан и медленно, потому что быстро тут ходить не получится, двинулся в город.
Город, как город. Наверное, вырос когда-то из простой рыбацкой деревушки, устроившейся в удобном месте. А то, что место удобное, было видно сразу. Жили тут богато. Деревянные дома были обиты темными досками мореного дуба. Стена вокруг города, тоже деревянная, буквально блестела на солнце — ни тебе плесени или гнили, ни проломов каких. На крепких воротах — отчищенные до золотого блеска бронзовые барельефы. Магазинчики со всякими редкостями чуть не на каждом шагу. И пиво в кабаках, как потом хвастались матросы, свежее и холодное.
Капитан прошелся по центральной улице, посидел в прохладе ресторана, выпил чуть-чуть местного бренди, чтобы, как говорил по этому поводу боцман, «уравнять температуры». Нет, все же тропики — это слишком. Правда, это все равно лучше, чем высокие широты, где солнце не греет, а вымораживает кровь, и пить надо там не бренди, вроде как для уравнивания температур, а густой тяжелый ром, чтобы добавить в кровь южной жары.
— Нравится? — спросил он у девочки, неслышно подойдя сзади.
Она, выходит, так и стояла тут, все смотря и смотря на его корабль.
— Ага, — кивнула она, даже не вздрогнув и не повернувшись. — У меня такого еще не было. Четыре мачты!
— Моя «Алпара» — барк, поэтому у нее две грот-мачты. Хотя, это тебе не интересно, наверное?
— А стаксели вы ставите?
— Пока не приходилось. Ветер был попутный, парусов и так хватает, скорости особой никто не требует…
— А со стакселями, наверное, прямо как облако… Краси-иво.
Она обернулась и посмотрела прямо в глаза Лоссу:
— А вы кто — капитан?
— Капитан и хозяин. Это мой корабль. Полностью мой.
Солнце пекло сверху, давило на плечи и голову, прикрытую широкополой шляпой. А девчонка как будто не чувствовала жары. Она снова повернулась к морю, снова посмотрела на корабль:
— У мены такого нет. Краси-ивый.
И убежала. Вот была — и вот нет ее. И к чему с ней было заговаривать? И что она имела в виду?
— Эй, кто тут у вас.
Тут же подскочил пацаненок, черный, как из печной трубы:
— Да, сэр?
— Расскажи мне про эту Грашку. Я тебе монетку дам.
— Может, две?
Наглый, конечно, но куда деваться, раз что-то втемяшилось в башку капитана?
— Хорошо, пусть будет две. Но только если все расскажешь, с подробностями.
Они тут говорят, как в театре артисты играют. Машут руками, представляют в лицах. Вот и Грашку эту в лицах представили. Она живет на свалке, вот там, по берегу. Это свалка разбитых кораблей. Где им тут биться? Да дело не в том, где, а — как. Грашка, когда ей приспичит такое, выходит ночью к морю и начинает петь. И она так поет, так поет, что слышно не только в городе, а по всему-всему морю. В городе мамки закрывают двери и окна, загоняют всех в постель и следят, чтобы никто из детей не вылез на улицу. А в море — тут как уследишь? И на ее пение начинают сворачивать корабли. Но море большое, а кораблей в нем все равно мало. Поэтому обычно только один. Ну, два было разок, так об этом весь город помнит. В общем, Грашка поет, корабль поворачивает на ее пение и прет через бухту вот туда, к свалке. И там уже по-разному выходит. Она с кораблями будто играет. Поднимает руки, и корабль как бы между ладонями оказывается. Она — хлоп! И нет корабля. И никого вообще нет. Одни обломки. Или хватает за нос и корму и разламывает посередине. А иногда не трогает, а продолжает петь, пока корабль на полном ходу не врезается в мель. А когда она устает, или если наиграется когда, и спать ложится, тогда уже все городские бегут сюда к морю и собирают обломки и все, что осталось. А если почти целый корабль, так весь его обирают, а моряков по семьям забирают. Она своим пением у них просто всю память отбивает, и они нигде больше не хотя жить, кроме как здесь.
— Ей вроде мой корабль понравился.
— Ну, значит, ночью будет петь, если вы отчалить успеете. А нет, так завтра, значит.
Получив свою плату, пацаненок убежал. А капитан долго смотрел на свой корабль, кладя голову то к левому, то к правому плечу.
Наутро Грашка опять стояла в тени таможни и смотрела, как матросы занимаются уборкой перед отчаливанием.
— Нравится? — капитан опять подошел бесшумно.
— Ага. У меня такого не было. Большой, красивый.
— А хочешь покататься? Мы сейчас груз отвезем, а потом опять вернемся сюда же с заказом. И потом уже — домой. Могу взять тебя с собой.
— Мне нельзя, наверное…, - неуверенно проговорила Грашка. — Я тут нужна.
— Так я же и говорю: туда — и обратно. За неделю обернемся по любой погоде. Что тут за неделю сотворится? Ну? В полдень отчаливаем. Давай, решайся!
Лосс как будто видел маленькие шестеренки и рычаги, крутящиеся и щелкающие в голове у девчонки. Неделя — это же немного совсем. А потом, будет ли еще возможность покататься?
— Я приду! — и унеслась сквозняком за угол и к себе куда-то туда по берегу, по укатанному волнами твердому белому песку.
Ровно в полдень барк «Алпара» отчалил. Экипаж стоял по местам. В связи со слабым ветром подняты были почти все паруса. Грашка стояла на корме и смотрела, как паруса расправляются, надуваются, наполняются ветром и начинают толкать парусник все быстрее и быстрее вперед в открытое море.
А потом был обед в кают-компании, где ей представились, как взрослой даме, все офицеры корабля. И на десерт — сладкое мороженое, после которого так сильно захотелось спать…
…
— Тащи, тащи! Да потихоньку, что мы — звери какие, что ли. На камнях положишь, фляжку рядом оставишь. А больше-то ей ничего и не надо.
Суета. Лязг кабестана. Приглушенные команды. Шлюпка на воде. Весла, без брызг, почти бесшумно окунающиеся в темные воды.
Капитан Лосс, дождавшись доклада первого помощника, лично командовавшего матросами на шлюпке, отметил на карте, тщательно вымеряв координаты:
«Остров сирены».
Пометил знаками опасности и осторожности. Написал сбоку:
«Мореплаватель! Остерегись проплывать возле этого места! Здесь живут чудовища!».
Пора было рассчитывать новый курс.
Его барк никогда не заходил дважды в один и тот же порт.
Исполнение желаний
— Зайди и закрой дверь, — сказала мама.
Сказала сухо и как-то с напряжением, как перед большой ссорой.
— А чо я сделал-то? — сразу начал Витька. — Чо опять?
Но на кухню пошел, потому что скандал в квартире ему был не нужен. Тем более — отец еще спал.
— Сынок, — прижала руку ко рту, пригорюнидась, как бабки в кино про войну, мама. — Ты писал письмо Деду Морозу?
— А что, нельзя было? — тут же окрысился Витька. — Новый год на носу, а мне уже и письма писать нельзя?
— Но мы же говорили тебе… Да и все вот смеются… Ведь нету же его. Ты у нас уже большой.
— И что? И потому писать нельзя, что ли? Может, это просто фантастика такая!
Он не знал — то ли ему заплакать хочется, то ли стукнуть дверью и выскочить в мороз и снегопад в том, в чем есть, то ли поговорить, как взрослый со взрослыми. Гормоны, кивал в таких случаях отец. Но он бывал дома редко. Вчера приехал в самую ночь и теперь все еще спал. А мама вот на кухне пристала. Смотрит так жалостно, так… Нет, он не плачет! Он — мужик!
Витька шмыгнул носом, дернул на себя кухонную дверь, чтобы уйти от неприятного разговора…
— Сынок… Так ведь тебе ответ пришел.
На столе лежал, переливаясь полярным сиянием пакет с крупно выведенной фамилией и именем. Его фамилией и его именем.
— Прочитали уже, небось?
— Так ведь нам не открыть. Это же магия такая новогодняя — только лично, только в своих руках. Ну? Чего же ты? Письмо писал, желание загадывал, достучался ведь до самого (то есть, она сказала САМОГО, выделив как-то голосом), так достучался, что даже ответ получил. Ну? Давай, вскрывай, будем смотреть, что там тебе прислали!
Вот тут Витьке вдруг стало страшно. Нет, он просто не сможет читать такое в одиночку. А вместе с родителями — значит, будут смеяться над желанием. Опять, выходит, обидно. В одиночку — страшно. Очень страшно. Потому что на самом деле любая сказка — она страшная. Потому что такого быть не может. А если тебе в двенадцать лет присылают письмо от самого Деда Мороза, а в письме, наверняка, исполнение желания… Он же не пишет, когда отказывает! Или когда желания разные идут наперекосяк — не пишет! Вот в прошлом году очень хотелось мотоцикл. Но ответа не было. И мотоцикла до сих пор нет. Отец сказал — потому что мал еще. Не по правилам это. И в позапрошлом что-то было. А тут — письмо.
— Страшно? — вдруг спросила мама.
Жалостно так спросила, что чуть не капнула у него слеза — еле проморгался.
— Еще бы!
— Может, отца позовем?
Витька только кивнул. Ну, а что? С отцом точно будет не страшно. Он большой, сильный, и сам ничего не боится. Даже когда не выспится.
Через пару минут, шлепая босыми ногами по теплому полу, на кухню ввалился отец. Потрепал Витьку по голове, пихнул в угол за стол табуретку, сел с громким зевком. Протирая глаза, прогудел:
— Ну? Что натворил, наследник? За что ругать?
— Вот, — показала мать на стол.
Отец сразу посерьезнел, наклонился низко к пакету, как обнюхивая, рассмотрел надписи, покачал головой.
— Ну-ну… Слышал о таком, но видеть — не видел. А меня-то что звали?
— Страшно, — просто и честно ответил Витька.
И снова шмыгнул носом. Совсем честно говорить очень трудно. Почему-то сразу начинает шмыгаться носом и еще мокреть в глазах.
— Ну, вот он — я. Тут уже. Открывай! Не боись, сынище, со всем справимся!
Витька взял со стола холодный конверт. Кухонным ножом аккуратно, воткнув в угол и протащив по длинной стороне, раскрыл конверт. Такой конверт открывать, просто отрывая край, совсем не хотелось. На стол спланировал, разворачиваясь в полете, большой белый лист, плотно заполненный убористым почерком. Витька выдохнул. Это не просто так, что — вот. То есть, бац — и иди, уже все. Не совсем так, а значит, уже не так страшно. Но все же.
— Что за желание-то было? — спросил отец.
— Президентом всей Земли хотел стать, — сказал Витька и чуть не рассмеялся.
Теперь-то вдруг стало понятно, какое у него было смешное желание. Вот как он себе представлял только? Приходит такой пакет, а там удостоверение президентское? И иди — командуй всем миром, что ли? Нет, правильно отец говорит — это просто какие-то еще гормоны. Не иначе — они.
— Прочитай, а? — жалобно попросил он отца.
Тот откашлялся, поправил зачем-то майку, в которой спал.
— Значит, так… Угу. Дорогой Виктор… Ну, тут ты и сам потом прочитаешь, и все поздравления — тоже. Где же тут… А-а-а… Вот! Отсюда, значит.
И он начал с выражением, после каждой длинной фразы останавливаясь и посматривая на Витьку, читать дедморозово письмо.
Длинное письмо, с разъяснением всего и вся. Выходило так: сначала надо было пять лет еще отучиться в школе. Отучиться с отличием, но так, что не просто сам для себя, а и для других. Чтобы товарищи были, друзья и подруги. Потом еще пять лет учиться в университете. Так и было написано — университет. И город был назван, и место, и какой этаж, и какой факультет — все было расписано. Учиться предлагалось так, чтобы время оставалось только на сон, да и то мало. И помогать остальным, конечно. И еще, как было сказано, «активно участвовать в общественной жизни».
— Чего это — в общественной? — спросил Витька, не поняв.
— Собрания, значит, проводить и разные конкурсы, и мероприятия, — объяснил отец.
Потом говорилось о службе в армии. Хоть и год всего — но чтобы обязательно. И там, в армии, рекомендовалось получить еще специальность какую-нибудь трудовую. Например, связиста или лучше шофера. Затем надо было пойти работать в школу. Потому что университет дает еще и учительское образование, то есть педагогическое. Пять лет, не меньше. Это чтобы понять детей, полюбить и все такое. Еще пять лет после этого — аспирантура и защита кандидатской диссертации. Потом надо было закончить заочно еще один ВУЗ. Все равно какой, но лучше экономический. И давался опять адрес и все данные.
— Хорошее письмо, информативное, — так сказал отец, оторвавшись на миг.
Еще надо было активно заниматься общественной работой. Это чтобы всякого свободного времени вовсе не было. Или там в защиту животных, или в защиту природы. Но только не в политику!
К пятидесяти годам Витьке сказано было стать министром.
— Во! — поднял отец голову от бумаги и ткнул пальцем в письмо. — Министром уже!
И стал читать дальше.
Там же все-все было расписано. В общем, получалось, если все выполнить, что к семидесяти пяти годам Витька точно станет Президентом всей Земли, как и было им загадано в его письме Деду Морозу.
— Уф, — сказал отец, вытирая лоб, как после тяжелой работы. — Ну, вот, Витёк — вот тут вся твоя жизнь. Как в армии говорят: служи по уставу, завоюешь честь и славу. А тебе тут расписано, выходит…
Он посчитал в уме:
— В общем, шестьдесят лет тебе расписано, что и как. Даже думать не надо, гадать. Ну?
— Что — ну? — спросил Витька, медленно переваривая услышанное.
— Так — в Президенты всей Земли, выходит?
Витька еще раз посчитал: отец, выходит, даже пожалел его. Там не шестьдесят лет выходило, а все шестьдесят три. Письмо опять лежало на столе. Ждало исполнения. То есть, оно, собственно, и было настоящим исполнением желания. Вот так — все просто. И никакого волшебства. Не будешь же президентом в двенадцать лет. Это просто сказка какая-то. А в семьдесят пять… Семьдесят пять! Даже мурашки по спине.
— Я все понял, — сказал он медленно.
— О! Растет пацан? — обернулся отец к матери.
— Я понял… Я, наверное, не хочу президентом всей Земли. Я, наверное, потом решу, когда подрасту немного. А пока… Пап, а пошли за елкой?
— Вот! Вот речь не мальчика, но мужа! Сейчас я умоюсь, позавтракаю — и пойдем. А ты пока, раз уж суббота сегодня, приберись.
Витька хотел сказать — «а чо я, а чо сразу я, а почему…» — но так и замер с раскрытым ртом. А потом сказал, неожиданное для себя самого:
— Хорошо, папа. А потом — за елкой.
— А потом — за елкой! Скоро же Новый год!
Конец времен
Надо было что-то решать. И решать надо было быстро. Без потерь, так выходило, не обойтись. Значит, начинается самое главное. Оно же — самое плохое. В том и есть задача настоящего командира, чтобы решить и приказать, кому умирать, а кому остаться в живых. Без командира все понятно: каждый сам за себя и за ближайших друзей. А если и погибнешь, так смерть эта за други своя, и еще на миру и смерть красна, и еще… В общем, никому не хочется погибать, конечно. Но если приходится, так хоть рядом со своими. И — побеждая.
Черные угловатые колонны чужих каких-то насекомоподобных кораблей медленно вползали в центр экрана.
Это на экране медленно. Чтобы человеческий глаз успел расшифровать графические посылки и нарисовать в мозгу картину, ничем почти не отличающуюся от того, что на самом деле.
Взрослому это трудно. У него мозги высушены работой. Ему приходится напрягаться.
А дети — легки на подъем, легки на веру. Скажи им, что инопланетянин где-то здесь — и они ведь найдут тебе этого инопланетянина! Ну, нашли, да? И что теперь с ним делать? Вот он. То есть — они.
Штаб ждал.
Виртуальные отражения реальных генералов и офицеров смотрели на карту.
На самом деле эта карта в многомерной проекции крутилась у каждого на его трехмерном головизоре. Но здесь получалось, что будто бы изба с низким потолком, будто стол, будто бы бумажная карта, свешивающая длинные края вниз, к утоптанному земляному полу, посыпанному душистой летней соломой.
— Так, — сказал Вовка и сурово обвел взглядом своих героев. — Значит, будет так…
Все замерли в напряжении.
…
— Вовка! Вовка, что ж ты, в самом деле!
Голосфера мигнула и исчезла в проводах, вырванных из сети.
— Что? — не понял Вовка.
— Что, что… Я же тебя сколько уже ужинать зову! Уже остыло все! А ты все в компьютере своем сидишь…
— Как, опять? — не понял Вовка.
Не в том деле «опять», что снова ужин. Ужин был каждый день. Организм должен питаться и расти. Но вот так — из вирта в реал — опять, что ли? Сколько же можно, в конце-то концов?
— Ну? — ласково улыбалась мать. — Ожил? Пойдем, маленький, поедим. И чайку соорудим с тортиком…
Вовка в тоске поднял глаза к потолку. Там, далеко отсюда, его эскадры готовились к последнему бою. Все решалось сегодня. Сейчас. Или вся планета будет погружена в ужас и порабощение, а зловещие пришельцы примутся вылавливать сотни и тысячи и миллионы… Или победа на последних силах, на большой крови победа. Хотя в вакууме кровь не течет. Там вообще ничто не течет.
Вовка глянул в сторону шлема и джойстика.
— Нет-нет, — сказала мать, ловко отодвигая его от стола. — Мы идем ужинать.
— Мам, там же галактика в опасности…
— Ага. Голактего опасносте, — хихикнула она и подтолкнула его к кухне. — Иди, иди, спаситель галактик!
Конечно, подумал Вовка, она понимает, что он просто так ляпнул, не подумав. Не галактика, конечно. Какая еще галактика? Фантастика, что ли? Тут — реальность! Солнечная система. То есть, не надо врать даже себе, не система — именно и конкретно наша Земля. И отсчет времени уже пошел. Еще пять минут, и начнется. Можно будет видеть невооруженным взглядом. Опять же, если будет, кому и что видеть. Первый удар у них всегда не по армии — по населению. Чтобы уже бесполезно было воевать. Потому что просто и тупо не за что и не за кого — сожженная планета и сожженные люди…
— Руки мыл?
— Что?
— Совсем заигрался? Руки помой и возвращайся к столу. Я накладываю.
Запахи от стола текли самые соблазнительные. Вовка еще подумал, что это могли быть диверсанты, цель которых отвлечь его от руководства звездной баталией. Но потом сам устыдился: неужели мог подумать, что мать стала диверсанткой?
Откуда-то очень издалека и на полном затухании сигнала донесся вопрос:
— Владимир Михайлович! Так мы начинаем? Таймер почти уже…
Нет!
Нет, хотел сказать Вовка. Но кто его услышит в условиях детского сада и песочницы?
Расцвели над далеким горизонтом раноцветные шары космических мегатонных взрывов.
Эх, чуть не плакал Вовка, теряем Землю, теряем…
— Пятый флот, левее брать, левее!
— Вот тебе, Вовочка овсяная кашка. Она страшно полезная! Там и микроэлементы всякие… Что это за салют, в самом деле! Нашли же время. Детям обедать и спать положено днем. А эти шуметь начинают.
— Мне надо, — рванулся Вовка.
— Сидеть! Есть кашу! Ишь, что удумал — игрушками обед заменять. Сидеть! Ложку бери!
Грохнуло так, что заложило уши. Над Землей — грохнуло. А где-то в черном космосе сгорел беззвучно и беспламенно большой китайский крейсер. Последний крейсер Земли.
Нельзя плакать. Нельзя. Они же просто не понимают. Ну, кто бы им сказал, простым таким, что сейчас на самом деле происходит?
— Да ты что, Вовка? Плачешь, что ли? Ой, ты, мой маленький! Ой, ты, дитё сопливое… Да ты ешь, ешь! Подрастешь вот, в школу пойдешь. А там, глядишь, и в космос тебя возьмут.
В космосе умирали последние защитники Земли.
Вовка плакал и ел овсяную кашу.
Лето в деревне
Деревня Машке была в новинку. Ей говорили, смеясь, что она все это уже видела раньше, год назад, но она хмурилась недоверчиво, а потом опять с визгом восторга бежала куда-то. Или наоборот, вдруг прижималась к мамкиной ноге, пугаясь чего-то.
— Ну, чего ты пугаешься, Марья Петровна? — смеялась бабушка.
Они все смеялись над ней. Папка называл Машкой. Дядя Ваня говорил — Марья Маревна. Это потому что мама тоже была Маша. Машку так и назвали, потому что мама — тоже так. Бабушка, вон, посмотрев на ее серьезный прищур и сжатые губы, стала говорить «Петровна». Они всегда смеются, взрослые. И ничего совсем не понимают.
А на самом деле, в деревне все интересно. То есть, совсем все. Даже просто сходить в туалет — это настоящее приключение. И лучше туда идти, пока светло. Правда, говорят, что можно и так просто, «на грядочку», «под кустики». Но Машка девица была городская, воспитанная, и так просто ей было неудобно. А еще, если просто под кустик — ага, она пробовала, знает — то во-первых, можно влезть попой в крапиву, и опять все будут смеяться. А во-вторых, там же комары! И им почему-то очень нравится кусаться.
Вот в деревянном домике, который стоит «на задах», за огородом, комаров нет совсем. Есть мухи, которые вылетают из черного страшного отверстия, куда, если камень кинуть, шлепается далеко и гулко. Но мух ловит огромный паук, смирно сидящий в толстой неряшливой сети в углу туалета.
Машка даже его пугалась сначала и плакала. Упиралась. Но мама объяснила, что пугаться его не надо. Потому что он же маленький на самом деле. Вон какая Машка, а вон какой паук. Если их рядом поставить и линейкой возле двери померить, так того паука и не найдешь вовсе по зарубкам, которые делают каждый год, чтобы было видно, кто и как растет. А еще, объяснила мама, тот паук — он паук полезный. Он ловит мух. А иначе бы тех мух было бы столько же, сколько комаров в кустах.
Машка еще думала, что надо тогда паука вынести с паутиной вместе в кусты. И тогда там не будет комаров. И можно будет.
Но все некогда было.
Еще в деревне были животные. В городе животные тоже были, но далеко во дворе. На них можно было смотреть из окна кухни тринадцатого этажа и рассуждать, кто и с кем вышел гулять. Или спуститься, повалять маленького щенка, потрепать его, а потом уйти опять к себе наверх, на тринадцатый этаж.
Машка, хоть и маленькая еще, но число тринадцать уже знала и даже умела выговаривать. В отличие от некоторых.
В деревне животные были не щенки.
Тут были коровы, которых пастух гнал рано утром мимо двора, а вечером возвращал обратно. Коровы были большие, с добрыми глазами. Они все время были как будто усталые. Вроде как все время работают и работают без выходных. Машка еще обдумала это и поняла — а ведь так и есть. Каждый день! Рано утром! Если бы так Машку, она тоже ходила бы с добрыми усталыми глазами.
Еще были козы. Козы, объяснила бабушка, животные вредные и дурные. Если они с кем не дружатся, так обязательно бодаться начинают.
Еще — собаки. У бабушки был Мальчик. Мальчик был по пояс Машке. Даже больше. У него был шершавый язык и веселые черные глаза. Он любил с Машкой бегать по двору. Но со двора ему было нельзя. Он тут работал — охранял дом. И тоже без всяких там выходных.
В деревне так получалось, что почти все и всё время работали. И только Машка приехала отдыхать. Даже мама — она же тоже приехала — работала, как все местные.
Даже кошки работали. Они ловили мышей. И Машка сама видела, как Каська приносила мертвую мышку и клала на порог. А бабушка ее за это хвалила и гладила.
Машке пока работать было нечего. Она пока еще была маленькая. Пришлось пообещать бабушке приехать, когда станет большой, и тогда уж поработать, помочь что-нибудь полезное.
Еще в деревне были ночи и звезды. Таких звезд в городе не было.
И люди деревенские — это тебе не городские.
В городе Машка дружилась с теми, с кем ходила в детский сад. И еще немножко с теми, которые выводили своих щенков гулять во двор. Двор там у них был совсем маленький, гулять и бегать там было негде, поэтому Машка там редко гуляла. И выходило, что знакомых у нее — совсем мало.
А в деревне все и всех знали. То есть все были знакомые. А некоторые еще и родственники. И если Машка выбегала за калитку, так все знали, что это вот — Машка. Она к бабушке приехала из города.
Правда, она сначала заявила, что она не так просто Машка, а потому что мама у нее — тоже Маша. А раз как мама, то не Машка, а вовсе Марья Петровна. Вот. И что бабушка тоже так называет.
Но деревенские засмеяли. А когда стали гулять везде, а потом с визгом и хохотом бежали от козы, Машка упала и ссадила коленку. Было больно и обидно. Плакалось и плакалось. И хлюпалось носом. Кто-то из старших снял с Машки косынку и той косынкой перевязал ей коленку. И она, как солдат в кино, с перевязанной ногой, хромая, одна, совсем одна — это обидно! — пошла домой.
Дома сказала, что споткнулась и упала. А что еще сказать? Никто же специально не толкал, никто не бил.
Ногу помыли, потом зеленкой замазали, а Машка кривилась и снова плакала. И сверху замотали ватой и бинтом.
— Ну, — сказал пришедший из магазина дедушка, — иди теперь во двор, Петровна. Там тебя у калитки мужики наши чего-то спрашивают. Говорят, шибко ты им нужна.
И подмигнул хитро.
Машка осторожно высунулась за калитку. А там был Васька, который живет напротив. Еще был Мишка — у них дом с краю. И пришел приезжий городской Ванька. Такой Ванечка, такой чистенький, такой весь приятный…
Васька сказал сурово:
— Ты, Петровна, значит, не серчай. Так уж получилось. Лучше давай с тобой завтра по ягоды пойдем. Я тут место знаю такой — закачаешься! Там в прошлом году медведицу видели и медвежат. Пойдем, да?
Мишка сказал хрипло — он накупался в речке:
— Не. Петровна, за грибами давай. Грибы уже пошли. Такие, понимаешь, грибы, что просто — ох. Корзины в руках не держатся.
А Ванечка вежливо сказал:
— Машенька, а пойдем с тобой завтра на рыбалку?
А Машка на рыбалку не умела. А он сказал, что тоже не умеет. И это даже интереснее. Это вот туда и направо за ельник. Там бочаг, а в нем живет старинная щука. Может даже та самая, что «по щучьему велению».
Мишка и Васька посмотрели на Ванечку, послушали, а потом сказали Машке — «пока». А Ванечке сказали, что надо им отойти для серьезного мужского разговора. Пошли, прогуляемся, сказали они.
Ну, а Машка пошла домой. Медленно и задумчиво пошла. И села там в угол у стола, чтобы ужин ждать. Руки-то уже помыли, когда ногу отмывали.
Мама стала спрашивать, что за мужики, да зачем мужики. Бабушка стала смеяться: это какие такие мужики к тебе приходили? Дедушка стал рассуждать, что мужик мужику рознь. Но если не пьет и не курит, так он, дедушка, согласен.
А Машка думала, как вот им, таким взрослым, объяснить про малинник и медведицу, про грибы, от которых корзины неподъемные, про Ванечку и рыбалку. И поняла, что — никак. Она вздохнула тяжело, нахмурилась и стала серьезная-серьезная.
— Эх, Марья Петровна, — сказала бабушка. — Что ж ты с нашими мужиками сделала!
А Машка думала, что надо дружиться с той козой. А то ведь козы — они дурные. И с кем не дружатся… А всегда от нее убегать…
Или все же к муравейнику пойти? Это соседка Верка звала. Там тоже интересно, говорит.
Вздохнула Машка.
Тяжело вздохнула. И чуть не заплакала от раздумий.
Но тут принесли ужин, и все стали есть теплые ватрушки с творогом и запивать свежим молоком.
— Вот еще надо бы тебя, Петровна, доить научить, — сказал дедушка.
Ну, это уже он просто для смеха сказал. Тут ведь понятно, коровы — они вон, какие. Большие. А Машка пока маленькая.
А завтра, завтра…
Мишка и машина времени
Летом Мишку всегда возили в деревню к бабушке. Всегда — это сколько он помнил. Говорили, что свежий воздух, прогулки и игры, солнечные ванны, натуральное и регулярное питание — это очень полезно его подрастающему организму. Он, конечно, пытался сопротивляться, особенно в самые последние годы. Но как тут посопротивляешься, если родители кандидаты наук, а тебе всего тринадцать лет? Они же все и всегда лучше знают! Ну, так они говорили, если начинались стоны и разные причитания с его стороны. А стонать он умел. И как тут не застонешь, когда у бабушки там ни компьютера нет, ни Интернет не подключен, и даже мобильная связь не работает! То есть, телефон там есть, но старый, аналоговый, на витом проводе. Такая большая черная коробка на стене. И трубка сверху — тяжеленная. Такой трубкой и пришибить можно, если вдруг какой вор полезет или грабитель.
Хотя, откуда там, в деревне, воры или грабители?
Бабушка Мишку любила. Так любила, что он возвращался в город с новым ростом, новым весом, загорелый и совершенно беловолосый. Солнце выбеливало волосы за неделю. Там же все время на улице! Даже питаться — обеды там и ужины, и еще полдники, и просто «перекусы» всякие — на улице, под навесом возле летней кухни.
Зимняя кухня была прямо в доме. Там было тесно и сумрачно — подслеповатое окно без форточки выходило «на зады», в самую крапиву, которую Мишка рубил деревянной саблей еще года два назад, когда был маленький. Зато беленая известью печь была огромная, и от нее зимой грелся весь просторный бабушкин дом. А со стороны большой комнаты там еще и лежанка специальная была. То есть, все, как в старых книгах.
Книги Мишка читал разные. Но в последнее время стал больше по будущей специальности.
Он с детства, еще два года назад, знал, кем станет, когда вырастет. Конечно, математиком и механиком. Учиться ему придется долго и тяжело, как родителям. Но зато потом, после мехмата, будет такая интересная работа, что просто — ух!
Перед отъездом, когда Мишка снова стонал и всячески канючил, представляя, как было бы здорово целыми днями сидеть дома у компьютера в городе, батя притащил с работы новую игрушку. Целую банку, полную прозрачных стеклянных шариков, в центре каждого — огонек. Огоньки разные. Перемигиваются прикольно. Если потрясти банку, они выстроятся в другом порядке. А можно и руками выкладывать, чтобы огоньки выстраивались в разные рисунки и фигуры.
— Я тебе — маленький, что ли? — удивился Мишка, рассматривая банку и тряся ее по-всякому.
А батя сказал, что такие игры маленьким вовсе не дают. Это не просто так игрушка, а прототип и модель машины времени. Просто они пока еще не научились ее правильно собирать и заставлять работать. А надо так выстроить эти шарики с огоньками — вот, видишь, они магнитятся немного? — так выстроить, чтобы машина заработала. Но над алгоритмом работает целая лаборатория. Вот и мама работает. Она как раз и рассчитывает эти алгоритмы.
Мама улыбалась, кивала, а потом даже всплакнула: она всегда так делала, когда Мишка уезжал надолго. А тут — на целых два месяца в дальнюю деревню, где даже Интернета нет!
Но поздно было плакать. Все заранее решено. И вчера на кухне снова Мишке объяснили, что родители умнее, а ему до его мехмата еще учиться и учиться, а поэтому надо набираться сил и здоровья. И значит — к бабушке. И без разговоров.
Вот и уехал.
А про деревню и рассказывать особо нечего. Там холмы и овраги кругом. Еще арбузные бахчи. И балки — это такие тоже как овраги, но уже старые, без крутых склонов, заросшие по самые брови вишней и черешней. Туда можно было уйти чуть не на весь день, засесть на дереве, рвать вишню, плевать косточками просто так вниз, ни на кого не мусоря…
Правда, долго так не просидишь — скучно ведь. А знакомых и практически настоящих друзей в той деревне — полным полно. Потому что Мишка туда каждое лето приезжал. Вот и встречали, как своего. Радовались, солидно жали руку, рассматривали, как он там за год и чего вообще, расспрашивали о городской жизни.
О жизни хорошо разговаривать ночью под пропахшим мышами ватным одеялом на старой железной кровати, стоящей в дальнем углу сада под яблонями. В листьях шелестит ветерок, отгоняющий комаров. Иногда вдруг гулко падает яблоко. Это не от спелости падает, как объяснили Мишке, а от червяка. Яблонями заниматься надо. Обрезать, лечить и так далее. А Мишка их только поливал. Поливать было легко. Надо было просто вовремя перекидывать шланг от одного дерева к другому. Как нальется целая лужа, так к следующему. А потом оглянешься, а сзади опять сухо, потому что лето, жарко. Потому что тут — самый настоящий юг. Только без моря. Вместо моря тут степь, серая от полыни.
Мишка ночью солидно рассказывал про будущий свой мехмат и про родителей. Про то, что механика и математика — это главное в будущем. А когда стали смеяться и всяко не верить, притащил из рюкзака ту банку, что батя с работы принес. Стеклянные тяжелые шарики подмигивали разными огнями, выстраивались в таинственные красивые фигуры. Ночью это было особенно хорошо видно.
— И вот, — говорил Мишка солидно. — Если выстроить эти шарики правильно… Вот потрогай, потрогай. Видишь, как они магнитятся? А если построить правильную фигуру, то будет, как настоящая машина времени. Потому что — прототип. Действующий, между прочим.
Про действующий прототип батя не говорил, но Мишка и сам понимает. Раз уж огоньки горят, значит, там энергия есть. А раз есть энергия, значит, действует. Надо только все правильно сделать.
Пацаны трясли банку, рассматривали светящиеся фигуры, рассыпали шарики по одеялу и складывали вручную обратно. Не работала машина времени. На третий день всем уже надоело, и Мишка унес банку в дом.
Потом вдруг резко похолодало, как это бывает летом в степи. Это когда всю ночь воет ветер, а потом обрушивается дождь, как в книжках про тропики. А утром — синее-синее небо, ни тучки, яркое солнце, но — бр-р-р — холодно!
Остается в такую погоду только читать книжки.
Ну, или еще эту банку трясти, да рассматривать.
Скучно, конечно, но по холодной грязи не побегаешь.
Бабушка сделала вкусные сладкие пироги. К вечеру обещала вареники с вишней. Вот Мишка ел пироги с яблоками, немного читал — совсем немного, потому что в школу еще не скоро. И выстраивал разные фигуры из шариков, подмигивающих разноцветно.
…
— Баб Вер, — кричали под высоким забором пацаны. — А Мишка выйдет, нет? Или чо он?
Баба Вера говорила, что Мишки нет и вытирала глаза платочком. А когда пристали — где он, да как он, так она и ответила, что Мишку в больницу в район повезли. Зубы, мол, у Мишки. И простуда сильная. Вон, какая погода была. Просквозило.
Тут-то пацаны и задумались.
Во-первых, никакой скорой помощи никто вовсе не видел. Во-вторых, простуду лечат чаем с малиной — это все знают. В-третьих, какие там еще зубы?
— Сработало!
Кто сказал первым, уже и не вспомнишь. Это как-то хором получилось. Потому что все сразу поняли: у Мишки получилось. Собрал он ту неведомую фигуру, над которой бьются его родители в целой лаборатории. И у него все получилось. Вон, баба Вера плачет — неспроста же! Когда у Машки были зубы — кто плакал? А вот когда Витька с воспалением зимой лежал — кто тогда плакал? Вот! Все же ясно?
Через день Мишка вышел к пацанам. Сказал, что пока играть не может. Сказал — нельзя еще день или два. И сидел на скамеечке, рисовал что-то на земле прутиком, смотрел с тоской, как играли в футбол.
Когда предложили рассказать, поделиться, как и что, отвечал лениво и скучно. Ну, мол, зубы сильно прихватило. И еще простуда. Вот — покашлял — слышите, нет?
Пацаны переглядывались понимающе. Ну-ну…
— А банку вынесешь?
— Чего ее выносить? — солидно отвечал Мишка. — День же на дворе. А ночью я спать буду. Мне чаю с малиной наведут — и спать. Может, потом как-нибудь…
…
Совсем-совсем потом, уже накануне дня отъезда, когда уже и батя приехал за Мишкой — классный у него батя, между прочим! Опять тогда разговаривали о близкой школе, о том, как там через год, через два, о том, кто и кем думает стать.
И Мишка тут вдруг и сказал, что вообще-то хочет стать историком.
Ну, тут все переглянулись, но ничего не сказали. Понятно же все. И батя потому приехал, что — ну, понятно, да? И Мишка переменился. И все эти болезни.
И понятно, что говорить об этом вслух просто нельзя.
Но вот же — не на мехмат какой-то, а историком!
И кто тут еще думает иначе?
Переглянулись все еще раз, и стали говорить с Мишкой о разном нейтральном. О звездах в небе, которые выстраиваются в фигуры, о жизни в деревне без Интернета и компьютеров, о том, как тут вокруг давным-давно война была, об окопах в степи, о землянках в балках, о том, что история — это, конечно, круто.
— Ну, Мишка, — говорили, уже расходясь. — Ты приезжай, давай. Если получится, конечно. Мы тебя все ждать будем.
А про машину времени никто ничего не сказал. Потому что не дураки. И не мальки какие-нибудь. Все и всё понимают. Хотя, очень всем было интересно, что за фигуру такую собрал Мишка, да где пропадал целый день. Но — тс-с-с…
Понятно же — просто нельзя об этом вслух.
Муркоки
— Что ты там про Муркока сейчас сказал? Книжку прочитал про Эрика, что ли? — Мишка оторвался от рассматривания листьев над головой.
— О. Проснулся он. Какие еще «эрики»? Я про муркоков!
Вечером сидели на скамеечке в сквере и пили пиво. Конечно, пиво пить было нельзя, потому что парням было всего по четырнадцать лет, а место — общественное. Но они видели разные иностранные фильмы, знали порядки, поэтому держали бутылки в бумажных непрозрачных пакетах и нагло смотрели на взрослых прохожих. Пиво им выносил местный тихий алкоголик дядя Петя. Каждому по бутылке — и ему за это бутылка. Всё было по-честному, как положено.
— Не понял, — сказал Мишка. — Что за муркоки еще такие? Новое слово выдумал?
Витька размахивал руками и втолковывал что-то уже давно, но Мишка только сейчас сосредоточился и попытался понять суть разговора.
Во многих дворах среди высоких многоэтажек стоят непонятные кирпичные или железобетонные домики. Их еще красиво расписывают яркими детскими картинками. На высоких железных дверях красные надписи, запрещающие входить и предупреждающие об опасности. Кстати, ручки у тех дверей отсутствуют, потянуть не за что, чтобы открыть. Они как бы только изнутри открываются. Так вот, Витька об этих вот непонятных сооружениях и говорил.
— Вот для чего они, знаете — нет?
— Подстанция электрическая? — лениво предположил Сашка.
Он слышал это слово от отца.
— Ну, или там генераторная какая-то. О! Вспомнил — трансформаторная!
— Да? А провода — где тогда? Зачем электрическая штуковина без проводов стоит?
— Ну, может, под землей…
— Ага, ага. И когда строят новый дом, копают новую канаву и туда прячут провод? Ну, ладно, предположим. А где гудение? Знаешь, как гудят трансформаторы? Ого-го, как громко!
Мишка глотнул теплого пива еще и предположил:
— А может, теплоцентраль или что там еще для нее? Насосная, типа?
— Тоже бесшумная, да? И все равно без проводов? Насосы есть, к ним, значит, трубы под землей, и провода — тоже под землей? Сам-то веришь хоть немного?
Мишка не то, чтобы верил. Он просто не задумывался никогда. Ну, стоят такие домушки посреди двора. Ну, значит, надо для чего-то. А Витька, видишь, копает глубоко, интересуется.
— Может, убежище? — все так же лениво спросил Сашка. — Батя говорил, раньше всегда убежища под домами были.
— Вот! Мне тоже родители так сказали. Но ручек-то на двери нет! Как открывать, в случае чего?
— Изнутри, — вдруг догадался Мишка.
— Йес! Есть такая буква! Значит, там кто-то внутри сидит, и когда надо — откроет! Правильно, да?
— Это, как ее, конспирология — вот, — Сашка знал много умных слов. — Нет там никого. Я вот лично ни разу не видел, чтобы кто входил или выходил.
— И никто не видел, — поддержал Мишка.
А Витька уже еле сдерживался, чтобы не подсказать, не выдать знание.
— Так если никто не видел, чтобы входили и выходили, но там кто-то есть, то — что?
— Что? — переспросил Мишка.
— То! Вы что, дебилы, что ли? Я же сказал — там муркоки! Кино старое помните про машину времени?
— Э-э-э… Морлоки, да?
— Мурлоки, муркоки — одно и то же, не придирайся. Никакой не вижу разницы. Вы просто вспоминайте, вспоминайте. А я вам еще вот что скажу: будущее — это именно здесь и сейчас. Я вот даже спросил бабушку специально, так она мне так и ответила — в будущем живем.
Мишка вспоминал фильм. Фильм был старый и прикольный. Там были эти, которые под землей сидят и выходят ночью, а еще те, которые днем ходят по улицам… И те этих жрали, в натуре. Жуть!
— Вот скажи, Мишка, — нагнетал Витька. — У тебя отец — кто?
— Директор.
— А мать?
— Менеджер.
— И у Сашки — менеджеры. И мои — не от станка. И вообще — ты хоть одного человека знаешь у нас во дворе, который работает у станка и называется пролетарием? А? Не знаешь? Потому что у нас — будущее. А в будущем эти — под землей. И поэтому днем никому не мешают. Ночью же выбираются наружу, и там уже держись!
— Так ты намекаешь…, - протянул Сашка.
— Никаких намеков, пацаны! Муркоки там, самые настоящие муркоки! И они по ночам тут лютуют всяко!
Пиво ли ударило в голову молодежи, гормоны ли, или просто так работает групповое сознание, но как-то вдруг шумно стали обсуждать уже на полном серьезе, в какое время эти самые подземные вылазят наружу, почему взрослые о них никогда не говорят (из боязни или скрывают от подрастающего поколения, или вообще сами не знают, как животные какие-то), кто хранит секрет этих выходов из подземелья…
Ну и решили, в общем.
В десять часов вечера и ноль минут Мишка сидел на той же скамейке и ждал с некоторым нервным напряжением. Через пять минут пришел Витька и похвастался фонариком. Большой, на четыре батарейки. Как дубинка. У Мишки фонарика не было. Зато он взял отцовскую бейсбольную биту. В бейсбол тот никогда в жизни не играл, но биту возил всегда с собой в машине. А когда ставил автомобиль на стоянку, забирал ее с собой домой.
Посидели еще пять минут. Потом Витька позвонил Сашке и услышал ленивое, что он уже не хочет, и все это фигня, а даже если и не фигня, то у него, у Сашки, дверь сейфовая, а в компьютере новая игра, и пошло оно… И так далее. Не пацан, мол, маленький, на разводки глупые вестись.
— Сдрейфил, — сказал Мишка.
На самом деле, он тоже дрейфил. То есть трусил. Но не показывать же другу Витьке. Тем более, Сашки нет — что теперь, Витьке одному на муркоков идти? Дружба — это ведь такая вещь… Поэтому Мишка встал со скамейки, махнул пару раз битой, а потом сказал:
— Ну, чо, пошли тогда.
И они пошли. Очень осторожно. Оглядываясь, чтобы никто не подобрался сзади. Дойдя до этой непонятной постройки со стенами, расписанными синим морем и розовым восходом, стали прислушиваться, прижимаясь ухом к дверям — настоящим воротам — крашенным просто серым.
— Рано еще, — сказал Витька. — По правилам всё должно начинаться в полночь.
Мишка тоже это знал. Но до полночи было далеко. А еще было не совсем понятно: вот они дождутся сегодняшней полуночи, распахнутся открытые изнутри двери, хлынут на улицу эти самые «муркоки»… И что тогда?
— Так мы-то — что делать будем? — спросил он.
И тут сзади рявкнул грубый голос:
— Стоять, бояться, дубинку кинь, руки на голову!
И включился яркий свет.
Кто бы не выполнил? Стояли. Боялись. Все, что в руках — выронили. Руки за голову заложили. Жмурились от света в лицо.
— Вот ты смотри, а ведь не обманула старая. Точно какие-то тут лазят… Чего ищем ночью? Каких приключений? А? Здоровья стало слишком много? Потерять хотите?
Подошли двое в черном. Смотрели с интересом. Большие, взрослые, пахнущие потом и табаком.
Тут Мишка и признался:
— Муркоков ловим. Потому что уже будущее.
Тот, что выглядел покрепче, начал разоряться:
— Петрович, ты слышал, да? Они у нас тут муркоков ловят! Лет тебе сколько, охотник на муркоков? Четырнадцать? И кто бы тебе лицензию выдал на такое дело? Вот жди шестнадцати, потом придешь в отдел за разрешением. А то — ишь каждый тут начнет по муркокам… А, ну, подобрали свои вещи, и бегом! Бегом, я сказал! А то загребем, привлечем, и будет всем больно, стыдно и обидно.
Мишка с Витькой отбежали за угол, но было еще слышно, как эти переговариваются:
— Так что, Петрович, как думаешь, мы и правда в будущем живем, что ли?
— А как же. В прошлом-то я кто был? Простой школьный учитель. А теперь я, выходит, кто? А? Гоняю тут охотников на муркоков. Типичное будущее, тьфу!
На бегу Витька еще пихнул Мишку локтем в бок и мотнул головой: мол, слышал, да? А тот только рукой махнул на бегу. Той, которая без биты. Просто махнул: мол, сам понимаю теперь.
А ведь молодец Витька, выходит. Всё правильно раскопал и догадался.
Но опять — возраст. Во всем виноват возраст. Надо скорее взрослеть, а уж тогда…
Настоящий футбол
— Все, — сказал Пашка. — Хватит сидеть дома. Собирайся!
Я гостил у родственников в столице уже второй день. Вернее, он был первый, если по-настоящему считать. Вчера был приезд, долгий проезд по улицам и потом в метро, встреча, поздний обед, плавно перетекший в ужин, разговоры до полуночи… Хотя, вру. До полуночи я просто не дотерпел. У нас же все-таки разница в четыре часа — вот и свалился раньше. И с утра разоспался на новом месте в узкой комнатке окном на колодец двора. А когда проснулся и был накормлен поздним завтраком, появился Пашка — тоже какой-то дальний пяти-шестиюродный родственник. У меня вообще оказалось просто до фига этих родственников! А дома нас всего двое: я, да младший брат — и все.
В общем, Пашка прилетел, подгоняемый летним ветерком, и скомандовал собираться.
— Куда?
— Я покажу тебе настоящий футбол!
А чего его показывать? Знаю я его. Смотрю по тиви регулярно. Болею за свой «Спартак». Вон, Пашка тоже наш, красно-белый. «Мясной». Футболка фирменная и бейсболка с ромбиком красная. Наш человек, в натуре.
— Да ты совсем валенок сибирский! Футбол — это тебе не тиви! Футбол можно понять, только когда ты сам на трибуне! Все. Быстро-быстро собирайся, у меня абонемент на два места.
— В вип-зону? — пошутил я, почесывая живот.
— В хуип, твою так! На нашу трибуну, понял? Красное и белое есть? Надевай!
Ну, а как же без красного и белого? У него вот только красная футболка с белой полосой, а у меня, наоборот — белая с красной.
— Во! Комплектно выглядим! Двинулись!
И мы двинулись. Сначала пешком, потом в обязательном тут метро.
— Сегодня с паровозами стукнемся, — на ходу объяснял Пашка. — С паровозами просто. Они прямые такие, как рельса. И нас всегда больше обычно. Вот с конями труднее — там тоже пацаны крепкие.
— Вот, — сказал он, когда мы поднялись на трибуну. — Знакомьтесь, парни. Это вот Санёк, мой братан, аж из самой Сибири.
— О-о-о! — заорали вокруг. — Сибиряк! Молодца! Сибиряки за нас всегда были! Москву спасали! И сегодня — с нами! Ура!
Далеко внизу бегали фигуры в белом и красном, летал маленький пятнистый мяч. Но нам было не до того. Ко мне протискивались крепкие пацаны в форменных футболках, знакомились, жали руку. Потом мы кричали кричалки — я их знал, потому что футбол по тиви смотрю, а там же почти все слышно. Один наш стоял спиной к полю и дирижировал, а мы все вместе орали так, что тряслась трибуна, и не было слышно свистка судьи.
Тут по какой-то команде все стали вынимать разное ненужное из карманов и кидать на поле. Я кинул одноразовую зажигалку. А Пашка заметил и дал мне подзатыльник. Я хотел обидеться, но он стал орать в самое ухо, чтобы слышно было:
— Дурак! Зажигалка — вещь нужная! Чем теперь костры палить будешь?
Про костры я не совсем понял. Но тут парень, что дирижировал, махнул как-то особо и что-то крикнул. Все стали прыгать со стульев, а потом их выламывать. Пашка быстро раскачал и выдернул свой стул. Потом крикнул мне:
— Санёк, блин, чего стоишь? Стулья ломай! Не отставай!
Я покачал за спинку, но мой стул стоял мертво. Тогда Пашка наклонился и показал: там такой специальный зажим есть, и, если сил не хватает, надо просто отстегнуть — стул сам вываливается. Это специально так сделали для удобства болельщиков. Теперь даже девчонки могут ломать.
Потом мы кидали стулья на поле, но до поля никто не докинул — все-таки было далеко. Тогда собрали их кучкой и стали поджигать. Они горели весело, с разноцветными дымами и почти без копоти, потому что такой специальный пластик.
На противоположной трибуне то же самое делали «паровозы».
Когда весь стадион окутался разноцветным дымом, матч закончился.
Мы все вместе побежали вниз, прыгая через две ступеньки. На улице уже собирались наши и паровозы — каждый в своей тусе. Строились в колонну, а потом как побежим друг на друга, как врежемся, как пошло махалово! Но наших было почти вдвое больше, и паровозы тут же отступили и побежали в метро. А мы бежали за ними и давали пенделей тем, кто отставал. Весело!
А потом уже мы убегали врассыпную, а за нами бежали менты в форме и тоже давали пенделей отстающим.
…
Уже по дороге домой — Пашка не отпустил меня одного, а провожал до самого конца — я спросил:
— Паш, а кто выиграл-то сегодня?
— Как кто? — удивился он. — Мы, конечно. И стульев больше поломали, и накостыляли им — нас же вон сколько было!
— Нет, а счет-то какой, чисто по игре? Я про футбол…
— А-а-а… ну, сейчас вот доедем — по тиви глянем. В новостях уже сообщают, наверное.
Не понял
Проснувшись по будильнику, Василий лежал с закрытыми глазами целых пять минут. А потом еще десять, раздумывая, как было бы хорошо не плестись в такую рань в школу. Подумаешь, выпускной класс! А если на улице темно, и черная грязь, и поздний ноябрь, и туман, и Светка вчера ни разу не посмотрела в его сторону, хоть у него был новый галстук, подаренный родителями на день рождения? Он полежал еще пять минут, но тут в комнату заглянула мать:
— Лежишь?
— Уже встаю, встаю…
— Да лежи уж дальше тогда… Эпидемию у вас объявили. Так что можешь спать спокойно. Мы — на работу. Днем хлеба купи сбегай.
И тут же прикрыла дверь. Потом они там с отцом потолкались в прихожей, иногда сталкиваясь в тесноте и посмеиваясь, прожужжали молнии курток и сапогов, щелкнул замок, грохнула далеко внизу тяжелая железная дверь.
Ну, все, теперь можно спать дальше.
Василий поворочался с бока на бок, взбил подушку, потом перевернул ее прохладной стороной кверху. Голове не лежалось. Уху было больно на каких-то комках под наволочкой и наперником. Он поискал, потыкал пальцами — нет там ничего. Прилег — неудобно. Тогда лег на спину. По потолку мелькал свет от проходящих внизу машин. Иногда свет был красным. Не спалось.
Вот же гадство какое! Когда можно спать — совершенно не спится!
Он повернулся носом к стенке, попытался, закрыв глаза, посчитать слонов или просто так посчитать медленно и раздельно через «и» — и-раз, и-два, и-три… Но тут где-то вверху и чуть наискосок заработала дрель, отчего завибрировала вся стена.
«А, чтоб тебя!» — подумал Васька.
Наверху что-то грохнуло, и тут же наступила тишина.
А он встал, закинул белье в шкаф, сложил диван и пошел умываться.
Над раковиной висело большое зеркало. Раньше было меньше раза в три, но то Василий раскокал еще в детстве, стреляя из маленького лука стрелами с резиновыми присосками. В шкаф в большой комнате родители стрелять запретили, потому что оставались круглые следы. В стену на кухне — стрела сразу отваливалась. А в зеркало, прицелившись в свое отражение, выходило просто здорово. И присасывалось намертво. Он тогда дернул и снес зеркало. Потом неделю выметали мелкие острые осколки. Зеркало так грохнуло, что чуть ли не в пыль. А отец принес из магазина новое и сам посадил его на скобки, да еще приклеил сзади на клей — чтобы уж наверняка.
В зеркале отражался Василий Павлов, как он есть. Худой, длинный, рыжий, конопатый. Веснушки разбегались по лицу, спускались по шее и густо усеивали плечи. Он даже загорать летом не ходил, потому что загар «не прилипал». Кожа только краснела и облазила, и все равно оставалась белая в мелких веснушках.
Вот и эти веснушки были лишними в его жизни. Вот когда у девушки веснушки — они милые и симпатичные. А парень должен быть «брутален» — так говорил друг Сашка из соседнего подъезда, с которым иногда украдкой покуривали на общем балконе, разделенном тонкой перегородкой.
— Эх, — вздохнул Васька, — брутален…
Да если бы брутален, а не рыж и конопат, так Светка бы…
А что — бы? Дала бы? Он неуверенно хмыкнул, провел рукой по зеркалу, стирая испарину со стекла. Как в кино стерлось и изображение, картинка, а под ней оказался — ого, вот это брутальный!
Черноволосый крепыш с покрытой курчавой порослью мощной грудью, ярко синими глазами и щетиной на пол-лица смотрел на Ваську из зеркала, протянув к стеклу мощную руку с какой-то татуировкой.
«Сон,» — понял Василий, — «Я просто еще сплю».
А раз сон, можно делать все, что хочешь. Он повернулся боком, согнул в локте руку, напряг бицепс. В зеркале бицепс был сантиметров пятьдесят — он знал это, потому что давно пытался «накачать» мускулы и каждый день раз по сто поднимал и опускал гантели, а потом измерял мускулы. То, что он видел в зеркале, было ровно вдвое больше, чем было у него. Васька посмотрел на свою руку. Рука была загорелая, в мячиках мышц и в синих канатиках вен под матово блестящей кожей. На бицепсе сбоку был искусно выколот щит, расчерченный как шахматная доска.
«Брутален…,» — и тут же вторая мысль. — «Сбылась мечта идиота».
По читанным не раз рассказам полагалось еше посмотреть в трусы, но он же не дурак озабоченный! Поэтому он просто вытерся и пошел на кухню, щелкнув при входе кнопкой пульта. В телевизоре сразу громко заорали какие-то мужики, кривляющиеся у микрофона. Васька взглянул на это безобразие, вздохнул вслух:
— Блин, на Спорт надо…
И телевизор сам переключился на программу «Спорт».
«Хороший сон. Четкий».
Но если все так само, то можно ведь… Он подошел к окну, отдернул штору.
— Убрать машины!
Внизу наступила тишина.
— Соседи… Убрать всех соседей… То есть, кроме Сашки!
Стихло постоянно звучащее на втором плане постукивание, покашливание, журчание воды в трубах канализации, разговоры, шумы разные непонятные. Полная тишина.
— Ага. Так — клёво.
Василий выглянул во двор, потом посмотрел направо между корпусами новостройки, туда, где был центр города. Вытянул указательный палец, прицелился, зажмурив левый глаз:
— Ба-бах! — дернулся палец.
Вдалеке сверкнуло, потом грохнуло так, что закачался дом, зашевелилась и покрылась трещинами земля, наклонились соседние совсем новые высотки и вдруг сложились, как стопка книг, съехав на середину двора кучей плит и щебня. Поднявшуюся сплошной пеленой пыль тут же унесло куда-то, а вдалеке остался только знакомый по фильмам черный гриб, поднимающийся на колеблющейся ножке к самому небу.
— Круто! Сталкер, ёпть!
В руках у него вдруг оказался автомат с оптическим прицелом, а вместо майки и трусов — комбинезон, прикрытый сверху до пояса тяжелым пятнистым бронежилетом с массой карманов, набитых очень нужными вещами. На ногах — тяжелые, но удобные разношенные берцы на толстой черной подошве.
Васька попрыгал, как в кино, потом приоткрыл окно и стал осматривать окрестности через оптический прицел, поставив локти на подоконник.
— Та-ак, ага, кру-уть, — бормотал он себе под нос. — Ух, ты… А это что такое?
Белое сверкающее пятнышко появилось вдали и на огромной скорости неслось в его сторону. Васька сдвинул вниз предохранитель и саданул длинной очередью. Ствол повело в сторону, цель пропала из прицела. Пока он дергался, мотая стволом вправо и влево, пытаясь увидеть что-то в оптику, прямо перед окном появилась…
— Ух, ты! Светка!
Светка была в чем-то полупрозрачном, светлом и переливающемся, в чем-то размахаистом и разлетаистом. И еще она летала. Она висела перед окном, смотря на Ваську, и что-то говорила.
— Что? Светка, ты чего?
— Дурак ты, Васька, — раздалось громко и отчетливо. — Это же не постапокалипсис был, дубина стоеросовая, а городское фентези! Эх, дурак… Какую сказку испортил!
…
— Вася! Опоздаешь в школу!
Васька вскочил, как встрепанный — опаздывать нельзя, выпускной класс! Туалет, ванная, кухня — все в темпе, все быстро. Рюкзак готов с вечера. Василий прихватил его на одно плечо, выскочил за дверь, щелкнул замком и слетел по лестнице, не дожидаясь лифта. Внизу уже переминался Сашка.
— Опаздываем!
— Понеслись!
Они все равно опоздали, но совсем на немного, никто даже не ругался.
А на перемене Светка, весь урок посматривавшая на него, подошла и сказала:
— Ну, и дурак же ты, Васька! Такую сказку испортил!
— Не понял…
Пещера
Сашка плёлся еле-еле. Бабушка называла такое «нога-за-ногу». Поход, конечно, дело хорошее, и он даже любил походы. В принципе любил. Вот в пионерлагере однажды всем отрядом ходили в двухдневный поход с ночёвкой. Были брезентовые палатки, была еда, приготовленная на костре в большом ведре — странная и очень вкусная походная еда. Страшные истории, рассказанные на ночь. Битва с комарами.
Но тут — совсем другое дело. Тут его караулили и подгоняли Ленка и Ольга — двоюродные сестры. То есть, просто в поход — это Сашка всегда был готов. Но почему его привязали к девчонкам? И мало ли, что они старше и опытнее? Он, может, тоже в походы ходил. Вон, в пионерлагере в позапрошлом году!
— Давай-давай, — говорила Ленка. — Шевели рычагами! Нам этот маршрут с тобой — два раза проходить, что ли? Пробежим сейчас — и домой. Что тебе тут не нравится? Нет, ты посмотри!
Ну, вокруг красиво, конечно. Тут не поспоришь. Горы, каменные осыпи, внезапно яркие цветы на камнях, лишайник, рисующий странное, мелкие ящерицы, греющиеся на солнце, шум водопада, пересыхающие на лето речки. Сейчас они выглядят просто как дорога, усыпанная камнями. А на самом деле — это русло бурных горных рек. Каждую весну они оживают. И наверное, осенью тоже.
Но красота красотой, а быстро ходить по горам — замаешься. Даже при всем чистом и полезном воздухе.
А вот Ольга молчала и ничего не спрашивала. Она просто шла сзади и подталкивала, если Сашка останавливался. Вроде как под конвоем получается. И какой тут тогда отдых? И что это за поход?
И вообще — Сашка приехал сюда, чтобы в море купаться и на пляже загорать. Ультрафиолет очень полезен — так в школе объясняли. И загар полезен. Он позволяет больше глюкозы разной в организме задержать и витаминов. Выносливость повышается и иммунитет от разных болезней.
Ну и что, что море сегодня холодное после шторма? Мало ли чем можно на берегу заняться? Камни вот, к примеру, пособирать. Просто сидеть и смотреть на волны и корабли на горизонте — уже хорошо!
Но Ленка с Ольгой давно ходили в туристический кружок при Доме детского творчества, который раньше назывался Дворцом пионеров. Они уже какую-то там категорию имели. Или степень, что ли. В общем, опытные туристки были. И маршруты всякие знали. Вот тут, говорили — совсем немного. Надо от одного села до другого по хорошо пробитой тропе — марш-марш! Тем более, сегодня рабочий день, и на тропе никого не было. Никто, получается, не мешался.
— Вот видишь цветок? — подтолкнула сзади Ольга, заговорила, наконец. — Вот тот, фиолетовый? Его не рви никогда. Обжечься можно. Ядовитый.
Да Сашка и не думал ничего рвать! Вот ещё — рвать цветы! Что он, девчонка, что ли?
И вообще — надоело.
Он присел на корточки, завозился в шнурках летних кроссовок. Кивнул Ольге:
— Ты иди, я сейчас догоню.
Она обошла вокруг, посмотрела сверху, прошла чуть вперёд, оглянулась ещё пару раз, скрылась за поворотом. А Сашка прямо с приседа своего прыгнул в сторону — в кусты. Хорошо, что не роза и не шиповник. Не колючие. А там, за кустами — тёмная тесная пещерка в сплошной стене известняка. Прилёг туда и затаился.
— Саш! Сашка! — раздалось буквально через минуту. — Оль, может, он домой сбежал?
Протопали мимо бегом. Пронеслись, как бегуны на дистанции.
А Сашка остался на месте. Чего дёргаться? Они сейчас на прямом отрезке увидят, что его там нет — снова сюда вернутся. Искать и шуметь будут. Это ещё долго. Потом решат, что он над ними посмеяться решил и уже далеко впереди, к концу маршрута подходит. Рванут туда. То есть, сидеть надо, пока они не убегут вперёд по маршруту..
Кусты были нагреты солнцем и вкусно пахли. Стена была нагрета солнцем. И даже в пещерке было не прохладно и влажно, а сухо и тепло. Это сухое тепло разморило, Сашка заснул.
Бывает так. Особенно, если устанешь, надышишься свежего воздуха, приляжешь. Или даже сидя бывает. Откинулся на спинку стула — раз, и уже спишь. И видишь сны.
…
Ленка с Ольгой поругались насмерть и навсегда. Ещё там, на тропе.
Потом им было страшно и очень обидно. Причем, больше именно страшно. Искали с двух сторон. Подняли добровольцев. Был вертолёт и хмурые люди в форме. В ночи светили прожекторами и шумели, звали. Проверили внизу — может, свалился парень? Проверили вверху — ну, мало ли. Был ещё кинолог с собакой, которая тоже ничего не нашла. Вот тут все и закончилось — вот тут, перед самым поворотом. То есть, был Сашка, а теперь просто нет Сашки.
Ленка сразу сказала Ольге, что все — из-за неё. Потому что шли группой, и она была замыкающей. Вот и не уследила за братом, выходит.
Дома тоже был скандал.
Но то — дома. А как теперь сообщать его родителям? Как вообще объяснить, с какого такого они вдруг кинулись в горы, когда Сашка приехал на море — купаться и загорать?
Больше они в походы не ходили. Ленка после школы уехала поступать, не поступила, но все равно не вернулась, а осталась где-то там, в столицах. Ольга сидела с матерью, когда та заболела. Работала везде. То продавцом в овощном, когда на руках перчатки, а все равно по локоть в грязи. То на вещевом рынке. То по знакомству в небольшой чистой фирмочке по обналичке. Там было страшно иногда — такие суммы проходили. Ещё в детском саду работала. Но оттуда сама быстро ушла. Во-первых, денег мало. А во-вторых, с детьми у неё не получалось никак. Все время пыталась их строить и кричать. Нельзя так с маленькими.
Увиделись сестры только на похоронах матери. Переглянулись, как чужие. И опять разъехались. Разошлись. Даже не переписывались ни разу.
До конца жизни будут помнить, как потеряли в горах на простейшем маршруте своего двоюродного брата. Помнить и казнить себя.
…
Сашка проснулся, как по будильнику. Когда спишь спокойно, и вдруг над ухом начинается трезвон. Но тут не было никаких будильников. И не было шума. Стоял ещё ясный яркий день. Было тепло и лениво.
Он поднялся, отряхнулся и спокойно пошёл назад, домой.
Наутро все же решил сходить и помириться с сёстрами. Они, небось, всю ночь его искали. Нехорошо.
— Здрасьте, тёть Тань, — бодро прокричал от калитки.
— Ой, — встрепенулась тётя Таня, копавшаяся с чем-то на огороде. — Это кто у нас там? Сашка, что ли? Давно ли приехал, племянник дорогой? Заходи, заходи, у меня как раз клубничка свежая. Своя, сладкая-сладкая!
— Тёть Тань, а Ленки с Ольгой нет?
— А кто их знает? Это чьих такие? Не соседские? Вроде, по нашей улице не было таких…
Холодом окатило. Мурашки побежали по спине. Волосы зашевелились под зелёной тюбетейкой, шитой золотой ниткой.
— Так я лучше потом, потом, — промямлил Сашка.
И сбежал. Позорно сбежал.
Позже наводил в разговорах с пацанами на девчонок. Не было никаких Ленки и Ольги! Никогда не было! И никто их не помнил.
А с кем же он в поход ходил? С кем на море собирался? С кем ругался, наконец? И потом — а как же тётка? Она-то — есть. И вот тут, у деда, все, как обычно.
Лето кончилось. Сашка уехал к себе «на севера». Больше в детском возрасте он на море не приезжал. Даже когда умирали дед с бабкой. Тогда он просто не мог — в армии служил. А уже потом, после армии, после долгой работы в провинции, после такой же долгой работы в столице… Мать как-то, рассказывая о чем-то своём, сказала, что вот Танька-то ведь моложе её была, да и жила на курорте, почитай, а все одно ушла раньше. А все потому что детей у неё не было. Дети, настоящая семья — вот что держит родителей на земле. И даже всплакнула, радуясь, что вот есть у неё Сашка, и это главное в жизни.
А Сашка слушал и вспоминал детство и последнюю поездку на море.
…
Он всё-таки приехал к морю.
Однажды собрался — и приехал. Купил сарающку-развалюшку в селе. Восстановил до приемлемого уровня. Ездил, как все местные, на рынок за продуктами. Торговался, искал подешевле. Запасал дрова на зиму. Копался в огороде — все же покупать зелень было непристойным, когда она тут просто так росла, как сорняк какой. Пенсии хватало на то, чтобы жить спокойно и неторопливо.
А как становилось не жарко и не холодно, обязательно надевал шляпу и шёл по старой тропе в горы. Вот тут раньше был водопад. Теперь уже все размыто и развалено. Так, ручеёк слабый. Здесь стоял навес и стол для привалов. Да кто теперь ходит в походы? Теперь — Интернет! И навес тот развалился, и стол из хорошей доски двадцатки кто-то из сельских давно приспособил у себя во дворе.
Дальше была тропа. На той тропе он не суетился — поздно уже. Да и возраст не тот, чтобы суетиться. Просто ходил туда и сюда. Считал шаги. Закрывал глаза и поднимал лицо к солнцу, пытаясь определиться с местом. Иногда, кряхтя, опираясь на колени, влезал в кусты и шуршал там, шурудил, пытаясь найти ту пещерку. Никто ему не мешал. Туристов этих, которые по маршруту — почти не стало. Народ приезжал на море. Приезжал купаться, загорать, смотреть на волны, мерно накатывающиеся на берег, пить по вечерам местные сладкие вина.
На кладбище он тоже не ходил. Туда, где в одном углу тетя Таня, а в другом — дед с бабкой.
А вот в горы…
Там его и нашли однажды. В кустах. В маленькой пещерке. Скрючившегося, чтобы забраться туда. С улыбкой на застывшем лице.
Инфаркт — записали в свидетельстве. Хоронили за счёт государства. Родных никого не осталось.
…
— Сашка! Сашка, блин, вот вылезешь — огребёшь же по самое не балуй!
— Лен, ты прости. И ты прости, Оль. Я просто пошутил неудачно, — Сашка неуклюже вылезал из кустов. — Я больше не буду. Давай, командуй дальше, что ли… Пошли по маршруту.
После праздника
Самое скучное время — это утро первого выходного дня после большого праздника. В квартире тишина, и только если прислушаться хорошенько, можно услышать, как капает вода где-то далеко наверху у соседей. Просто так лежать скучно, а спать больше совсем не хочется, хотя на улице еще темно. Правда, на улице зимой всегда чаще темно, чем светло. Потому что день короткий, а ночь длинная.
Сашка откинула одеяло и сползла по лесенке вниз. У нее была роскошная кровать на втором этаже, а внизу — столик и полки вокруг. Такой свой собственный уголок. Кабинет, как у ученых.
Она подошла к балкону и чуть-чуть отодвинула плотную штору. Фонарь возле подъезда горел желтым светом. Небо было еще совсем черное.
За стеной в своей комнате спали родители.
Скучно.
С утра можно было побеситься, попрыгать и поскакать. Но — родители спят. Они специально просили дать им поспать, чтобы хорошенько выспаться. И тогда, как сказал папа «может быть, сходим в зоопарк». Зоопарк далеко. И это здорово, потому что можно долго ехать туда, смотря по сторонам, а еще потом Сашку будут кормить в «Шоколаднице» разными вкусностями. Она же проголодается, пока будет ходить по зоопарку!
В животе забурчало…
— Тихо ты, — прошептала Сашка и похлопала себя ладошкой по животу. — Сейчас… Сейчас-сейчас… Сейчас прольется чья-то кровь!
Она вспомнила мультик и пожалела, что петь тоже нельзя. Вернее не просто так нельзя — а просто, какой смак в пении, если никто его не слышит? А если громко петь, чтобы слышали, тогда проснутся родители. Не сами проснутся, а от шума. И будут сердиты. И может быть, забудут про зоопарк. У взрослых так бывает.
Она развернула подарочный кулек и высыпала содержимое на стол. Там были конфеты в красивых блестящих фантиках, еще было два мандарина, большое яблоко и пачка хрустящего печенья. Сашка подумала и откусила от яблока. Яблоки утром — это полезно. Это даже в рекламе говорят и показывают. И для зубов полезно, и вообще.
Грызя яблоко, она прошла по комнате, отпинывая в стороны мягкие игрушки. Снова посмотрела на улицу. Фонарь погасили, но стало еще темнее. Потом посмотрела на часы, которые висели на стене. Время она пока определять не умела, но знала, что вот та длинная стрелка считает минуты. И еще знала, что много сладкого есть нельзя. А вот если не много и не часто — тогда можно.
Сашка отложила половинку недоеденного яблока на стол и взяла одну конфету. Понюхала ее, не разворачивая, положила обратно и взяла другую. Вот эту будет есть. Эту вот.
Нет, по очереди. Эту и еще вот ту.
Она развернула две конфеты, взяла по одной в каждую руку, и начала потихоньку откусывать, проверяя, какая вкуснее.
И все равно было скучно.
Сашка переложила конфеты, уже немного подтаявшие и размазавшиеся по ладони, в одну руку и тихонько потянула дверную ручку.
Скр-р-р! Громко-громко заскрипела дверь. Папа говорил, что она так скрипит, потому что Сашка на ней катается. Но на самом деле Сашка еще маленькая и легкая, а поэтому дверь скрипит просто от того, что ее не смазали. Так сказала мама.
Сашка положила конфеты в кармашек на пижаме, вытерла руки о штаны и сходила в туалет. Тихонько, на цыпочках сходила. Только все равно, когда ручку дернешь, там так гремит и шумит — вода же на цыпочках не умеет!
Потом постояла минуту под дверью и послушала, как спят родители. Родители спали тихо.
Сашка на цыпочках вернулась к себе и со скрипом закрыла дверь. На часах длинная стрелка заметно передвинулась. Это значило, что опять можно есть сладкое. Она развернула печенье и стала его грызть, сидя за столом и раскладывая подарочные конфеты по цвету фантика.
— По полю танки грохота-а-али, солдаты шли в последний бой…, - завела она уныло, передвигая конфеты по столу, как будто танки на большом поле. — А маладо-о-ова-а каманди-ира несут с пробитой головой!
Вот если бы папа не спал, он бы сейчас ей подпел, и было бы весело. А в одиночку петь скучно.
А вот мама сказала, что когда скучно, надо себя занять. Книжку почитать. Ага. Книжку. В одиночку. Сама себе. Тоже мне развлечение!
Внизу гулко бабахнула железная дверь подъезда. Сашка подбежала к балконной двери и заглянула между шторами. На улице уже посветлело. По скользкой тропинке кто-то быстро шел в сторону автобусной остановки.
— Ну, вот, — сказала почти шепотом Сашка и развела руками. — Люди добрые уже давно встали и даже едут куда-то. А мы все в постели и в постели…
Она замерла, прислушиваясь. Но во всем доме царила тишина, и только где-то далеко и высоко капала вода.
Скучно.
Мама спрашивала на днях, не хочет ли Сашка братика или сестричку. Сашка не хотела. Ей и так тесно в комнате — вон, игрушки некуда положить. Но теперь подумала, что вдвоем можно было бы играть во что-то, и тогда было бы весело.
Она очистила мандаринку, разбрасывая оранжевые шкурки вокруг себя — это такая примета к хорошему новому году. Съела.
После сухого печенья мандаринка была — самое то.
Тогда Сашка съела вторую.
А потом, вздохнув, стала есть конфеты.
А что делать? Кому сейчас легко? Так она подумала, потому что так говорил дядя Лёва, когда приходил в гости к папе играть в шахматы.
Вот, кстати, и в шахматы играть можно вдвоем, а в одиночку — нельзя!
— Привет, — раздался сзади веселый папин голос. — А ты уже не спишь?
— Не сплю, не сплю, — скрипучим «бабкиным» голосом ответила Сашка. — А ну, быстро мне сестричку или братика! Скучно же мне!
— А в зоопарк?
В зоопарк тоже хотелось. Сашка совсем немного подумала и кивнула:
— Тогда сначала в зоопарк, потом — братика или сестричку. Договорились?
— Договорились, чумазоид шоколадный! Быстро мыться, одеваться, завтракать! Ура! Новый год! Выходной!
И тут как раз сквозь шторы ударил луч поднимающегося солнца. Все, как специально. Там и погода, выходит, хорошая.
— Ура! — закричала Сашка, кинулась на папу и стала по нему лазить.
А он смеялся, стаскивал ее с себя и одновременно расстегивал на ней пижаму и уворачивался от измазанного шоколадом лица, которым она все норовила ткнуться прямо ему в белую майку.
И стало совсем не скучно.
Пришелец из будущего
Никакого грохота и вспышек света, никакого ползучего густого тумана или запаха, как после грозы — вообще никаких световых и звуковых эффектов не было. Хотя, конечно, что-то ведь должно было быть — обязательно. Там же такая энергия используется! Вот в кино все в молниях было.
А тут — просто в дверь тихонько постучали.
Квартира у них была на первом этаже. Если подпрыгнуть, ухватиться за карниз, можно было стукнуть с улицы прямо в окно. Но это если друзья — они могли так шутить. А обычно же все стучали в дверь. В простую деревянную дверь с длинной трещиной посередине, крашеную темно-коричневой краской.
Сашка открыл. В темноте подъезда стоял незнакомый лысый мужик. Он улыбнулся нерешительно и сказал:
— Здравствуй, Саша. Я — это ты.
Сашка уперся «бычком» (так называла эту позу мама) и спросил:
— Вам кого?
— Мне тебя. Саш, я ведь к тебе из будущего.
— Ну, ни фига себе! — сказал Сашка и прикрыл рот ладонью.
Дома не поощрялись всякие «фиги» и другие такие же словечки. Хотя с ними гораздо легче выражать свои эмоции. Одним словом можно много выразить. Но вот за слово, скажем, «жопа» или еще «сволочь» ругали так, что даже потом обидно было чуть не до слез. Но не наказывали. Сашку за слова не наказывали, но ругали и воспитывали.
Он читал фантастику. Любил фантастику. И знал всякое про будущее, каким оно непременно будет, про космос и полеты, про разные фантастические чудеса. Вон в недавней книжке туннель как в метро проводили под Северным Ледовитым в Америку. А уж марсиане, которые золотоглазые и смуглые…
То есть, про гостя из будущего — это он понимал. Это было здорово.
И еще Сашка был очень вежливый — так его воспитывали родители. Он чуть отодвинулся в сторону и сказал:
— Проходите.
Мужик зашел, втянул шумно носом воздух, будто принюхиваясь, потоптался возле холодильника, будто примериваясь, потом скинул летние дырчатые иностранные туфли и кивнул:
— Ну, пошли к тебе, давай. Пошли скорее! У меня тут совсем мало времени.
Они прошли друг за другом по длинному рыжему половику через узкий темный коридор и перед самой кухней свернули налево. Тут жил Сашка. У него была железная кровать. Еще был диван-оттоманка с откидывающимися валиками. И письменный стол, который подарил главный инженер станции. Он тогда себе новый купил, а этот по знакомству подарил Сашке. На столе лежал большой и толстый лист оргстекла — это папа принес с работы. Под стекло Сашка положил фотографии наших хоккеистов — чемпионов мира. Якушев был прямо посередине, на самом видном месте. А в чемпионате СССР Сашка болел за «Спартак». Но открыток со «Спартаком» не было, потому что опять было только третье место. Хоть Якушев, конечно, все равно был лучшим.
Еще в этой комнате был большой платяной шкаф. Только без зеркала, потому что так он продавался — без зеркала. Но Сашка в этот шкаф почти не заглядывал. Там была взрослая одежда. А его одежда была в комоде, который стоял слева в углу. И на комоде еще была лампа-ночник из камня в виде белки. Камень был такой, что когда лампа включена, он как бы просвечивал, и была видна белка.
На шкафу лежали рулоны маминых выкроек. А за шкафом — большая линейка-рейсшина, по которой папа когда-то делал свои чертежи. А потом рейсшину поставили за шкаф, потому что папа перестал учиться — просто некогда было. Это он так говорил — некогда. Ему надо было работать и сына воспитывать. А еще ту рейсшину Сашка не доставал и не играл, как пулеметом — там даже приклад настоящий был! — потому что она была грязная. С края — грязная. Однажды они тут загнали крысу за шкаф, и папа лупил ее рейсшиной, пока она не сдохла. А мама не кричала и не визжала, а отпинывала крысу обратно за шкаф, когда та пыталась выбежать. Потом папа залил алебастром со стеклом все дырки в полу, и больше крыс у них не было. Рейсшину помыли. Но Сашка все равно помнил, что она грязная. И не играл ею.
Гость стоял, почти не дыша, медленно оглядываясь и как бы вспоминая все.
— Садитесь, — сказал Сашка.
И сам сел на стул. Верхом, положив руки на спинку. Так он выглядел увереннее. Как оперуполномоченный уголовного розыска в кино.
— Саш, — повторил мужик. — Понимаешь, я — это ты, только в будущем. Поэтому не надо мне выкать. А то как-то неприятно даже. Все равно, как я сам себя на вы называть буду.
И тут Сашка вспомнил, что в последней книге про путешествия во времени было сказано о разных эффектах и даже о невозможности таких путешествий. И немного приуныл. Потому что сначала-то ведь он поверил. А написано было, что так не бывает. А если бывает, то никак не встретиться тому, кто был в прошлом с тем, кто стал в будущем.
Наверное, разочарование на лице было написано так ярко, что пришелец сразу отреагировал:
— Ну, ты чего? Чего? Я правда из будущего, мужик! Ты, давай, спрашивай — все как есть отвечу! Ровно пятьдесят лет. Представляешь? Пятьдесят лет назад я спал вот на этой самой кровати. Вон по той карте на стене отмечал маршрут «Наутилуса». И под стеклом у меня была сборная СССР по хоккею… Все, как тогда… И Якушев, да.
Сашка подумал, потом откашлялся и спросил:
— Так у вас, наверное, уже коммунизм построили?
Гость как-то поскучнел:
— Нет, Саш, коммунизма у нас нет.
— А на Марсе уже есть поселения? Яблони там цветут? Звездолет уже отправился за пределы Солнечной системы? Венеру начали осваивать? — строго спросил Сашка.
— И до Марса пока не добрались. И до Венеры. И к звездам — никак еще.
— А Союз Советских республик социализма теперь уже во всем мире? Все страны — в нем?
— Нет, — как бы даже удивился незнакомец.
То есть, отвечает честно и быстро, а сам удивляется. То ли тому, что его спрашивают. То ли тому, что отвечает такое…
Сашка подумал немного: вот, чего еще спросить? Ведь и нечего почти.
— Ну, хоть наши в хоккей — чемпионы?
— Вот тут, дружище, все нормально. Чемпионы! — обрадовался гость и вдруг исчез с легким хлопком.
Сашка подумал, сидя на стуле в той же позе, и сказал вслух:
— Брехня. Приснилось все. Привиделось. Все равно ведь никто не поверит. И потом, наши, говорит, — чемпионы, а коммунизма все еще нет. И на Марс не полетели. Пятьдесят лет! Ясно — брехня.
Прятки
— Вась, а ты Петьку моего не видел? — спросила соседка тётя Маша.
Ну, как можно было не видеть Петьку, когда всегда вместе играли? Тем более — Петька самый заводила и был.
— Весь в отца, — говорила с укором тётя Маша, когда застирывала чуть не ежедневно его шорты из «чертовой кожи».
Вообще-то это был самый натуральный брезент, выцветший за лето до почти не видного серо-зеленого цвета. Но говорили — «чертова кожа». Потому что даже гвоздём проковырять было трудно. Пацаны специально проверяли — трудно!
А у Васьки был очень красивый вельветовый костюм чёрного цвета. Там такие штаны под колено. И куртка вся на пуговках. Очень клёвый вельветовый костюм, почти как в кино. Но мама запрещала играть в нём во дворе.
— Это на праздники, — говорила она.
Поэтому носился Васька во дворе со всеми в позапрошлогодних школьных брюках, укороченных до колена. Конечно, школьные — фиг сносишь, и резать ещё штанины маме было жалко. Но братьев у Васьки не было, поэтому передавать своё старое — тоже некому. Вот и получились почти шорты.
Пацаны старше на год уже ходили везде только в длинных брюках. А мелкота бегала с голыми коленками, завидуя старшим, и представляя в мечтах, как в самую жару выйдут на двор в длинных чёрных брюках и будут солидно обсуждать свои почти взрослые проблемы.
— Так, что с Петькой-то? А?
А что там с Петькой? С Петькой всё в порядке. Сегодня опять играли в прятки. И вчера играли, и позавчера. Почти каждый день после всего-всего, когда набегаешься так, что потом во сне летаешь, а ноги крутит и вертит в разные стороны, Петька уговаривал играть в прятки. А так как Васька был мельче всех по росту и силе, то его и назначали водить. А не хочешь водить — не играй. Найдем другого. И вот так раз за разом.
Сначала стоять и считать вслух до двадцати. Медленно считать и громко. А потом надо крикнуть:
— Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!
И искать теперь. Двор старый, обжитой. Посреди двора старые сараи из почерневших от времени досок. В сараях этих каждый изобретал своё, как мог. Кто пристройку потихоньку ставил, кто загончик маленький для кур. Кто — поленицу огромную выстроит, как настоящий лабиринт. Поленица долго сохнет на солнце и пахнет свежим деревом. Прятаться за ней можно долго, поглядывая в щели и перебегая от одного края к другому.
Еще было три подъезда и три этажа в каждом. Прохладные сумрачные чистые подъезды, в которых играли, когда на улице шёл дождь. Можно было на цыпочках подняться на самый верх и там ждать, пока водящий тоже начнёт подниматься. А потом сигануть через перила и бежать впереди него:
— Туки-туки! Я в домике!
И опять Васька никак не мог никого заловить.
В доме было два места, куда ходить было запрещено настрого: чердак, лестница на который была в каждом подъезде, и подвал, тоже постоянно открытый.
На чердаке было темно, пыльно и страшно. Под ногами скрипел шлак, которым просыпали для тепла все перекрытия. Ходить там надо было осторожно, потому что в квартирах все слышно. И если что — потом не жалуйся, что выпороли, как сидорову козу.
А вот в подвале ничего и никому слышно не было. Там была чёрная темнота — каждый из хозяев небольших закрытых отсеков спускался туда со своим фонарем. А некоторые и вовсе — со свечками. В подвале пахло старой кислой капустой, было сыро и холодно.
И страшно.
Васька думал, что Петька — точно в подвал прячется. Но сам туда просто боялся заходить. Он ходил вокруг, трогал дверь рукой, даже заглядывал внутрь, в темноту, холодея от страха.
И именно в этот момент раздавалось громкое:
— Бу!
Это Петька вдруг вырывался из другого подъезда и бежал, легко перебирая ногами, ко всем, уже уставшим ждать окончания игры.
И опять начинали говорить, что Васька — он просто такой неудачливый. Никак не может никого осалить. А потому — пусть опять водит и всех ищет.
На самом деле он находил всех. Даже Петьку. Ведь он точно был в подвале! Так что знал Васька, знал, где и кто сидит. Просто мелок еще, неуклюж. Никак не угонится за тем, кто несётся со свистом и смехом впереди, заранее оторвавшись на несколько шагов.
Петьку можно было поймать. Тут ведь как: если лезть на чердак, то там можно в одном подъезде войти, а выскочить — из другого. И поэтому ловить «чердачного» — дело трудное. Да и светло там все-таки. Из чердачных окон слабый, но свет. А вот подвал… Во-первых, там темно по-настоящему. Быстро не пробежишь. А во-вторых, у подвала есть двери. И есть накидушки эти под замок на каждой двери. Замков-то нет — соседи друг другу доверяют. Но можно же и не на замок. На щепку какую. Или вот даже на гвоздь. Или ещё как. Главное — в сам подвал не спускаться.
И сегодня Васька сделал, как хотел. Опять он ходил между сараями и поленицами, опять все от него убегали. И в каждый подъезд он заходил, чтобы дойти до самого верха, а потом снова не успеть за теми, кто не боится прыгнуть сразу с этажа на этаж.
Но он делал ещё одно. Он в каждом подъезде прикрывал тяжелую подвальную дверь, накидывал петлю, вставлял быстро в проушину гвоздь. Гвозди он собирал между сараями — гнутые. Вот такой гнутый и вставлял, чтобы точно не выскочил, не проскочил насквозь, если дверь дёргать. Один подъезд, второй. В третьем он потопал, откашлялся, пошевелил дверью, чтобы Петька — а он точно здесь, где ему еще быть! — кинулся по длинному тёмному подвалу к другому выходу, а потом закрыл дверь на гвоздь и пошёл на солнце, к пацанам.
— Не нашёл, — признался честно. — Не знаю уже, куда он мог спрятаться.
Петьку покричали, посвистели, что, мол, Васька наш опять сдаётся, можно выходить. А потом пошли по домам. Потому что время уже было — ужинать.
— Мы с Петькой в прятки играли, — сказал Васька тёте Маше. — Но он круто прячется. Я его не нашёл.
И ведь ни слова неправды не сказал Васька. Так, что даже самому стало хорошо-хорошо внутри. Всегда, когда говоришь правду, становится так хорошо.
Петьку ведь так и не нашли. Тётя Маша бегала по всему району, кричала ночью. Приезжала милиция, расспрашивала всех. А что и кто ответит? Ну, да, играли. Ну, спрятался он так, что не найти его. И все.
А Васька еще подумал, что народ-то все равно в подвал ходит. Кто за капустой, кто за банкой солений. Значит, двери-то открыли. Но Петьку там так и не нашли. Не в дверях дело, значит.
А в самом Ваське.
Это когда он про всех знал, где и кто, и каждого находил, но просто не успевал осалить — вот тогда было одно. А если он, Васька, знал, но не нашёл кого одного…
И он стал вспоминать, кто и как кричал и смеялся над ним. Кто предлагал уходить из игры, раз не хочешь водить. Кто свистел издевательски. Кто даже поджопник мог дать.
«Завтра,» — решил Васька. — «Завтра я ещё кого-то не найду. Вот и пусть тогда сами».
А в подвал он с отцом ходил за картошкой — у них там небольшой уголок выделен и короб с картошкой стоит. И совсем там было не страшно. Но отец ещё раз сказал: самому, одному — ни-ни. Иначе будет больно, стыдно и обидно.
— Понял, сын?
— Конечно, понял! — кивал Васька.
На следующий день не нашли Борьку со второго этажа. Это тот, который пендаля дал Ваське, а сам всегда бегал прятаться на чердак, и выбегал неожиданно не из того подъезда, в который вошёл.
Опять был шум во дворе. На подвал стали вешать настоящие замки. Во всех подъездах. И на чердаки тоже. Соседи скинулись по чуть-чуть — и хватило на крепкие тяжелые замки.
А Васька точно знал: не в подвале дело. И не в чердаке. А то бы там отыскали пацанов рано или поздно.
А просто не надо было его, Ваську, трогать.
Он уже придумывал, как и кого не найдёт в следующий раз. Лето было длинное, тёплое. Игровое было лето. Можно было ещё много всего полезного сделать.
Расскажи мне про войну
— Ба! А ты войну помнишь?
Она вообще-то ему не бабушка, а прабабушка, но Димка называет ее просто — «ба». Бабушка всю его маленькую жизнь всегда была где-то рядом. Когда он ходил в детский сад, и его поднимали темным зимним утром с ревом и полным нежеланием двигаться, ба была рядом, и как-то быстро успокаивала его. По голове погладит, в мокрую от слез щеку поцелует, что-то расскажет смешным щекотным шепотом прямо в ухо о своих волшебных снах, потом покажет, как завязывать шнурки разными способами, затормошит всего. Он и не заметит, а уже у двери стоит, собранный полностью, одетый и с пластиковой лопаткой в руке.
Когда Димка пошел в школу, то по утрам всегда встречал его теплый свет на кухне, горячее вкусное какао, горячие оладушки, посыпанные сахарным песком или сладкая рисовая каша. И бабушка, сидящая в уголке и вяжущая крючком бесконечные половички или салфетки.
А вечером, когда он, нагулявшись, прибегал замерзший с улицы, его ждал вкусный ужин и долгий неторопливый уютный разговор. Бабушка никогда не допрашивала, как некоторые взрослые. Она сама рассказывала что-то, но так, что он тут же перебивал и начинал взахлеб рассказывать свое, свежее, сегодняшнее, пока не забыл.
Димка знал, что бабушка — на самом деле прабабушка. Она бабушка папы. А папа с мамой сейчас в командировке. Димка уже большой, и родители снова стали ездить в командировки. Еще у него есть другая бабушка, которая мама папы, но она живет в другом городе, далеко, и приезжает только в гости. Поэтому ба — главная в их доме.
— Ба! Про войну! Расскажи мне про войну!
У них в школе по истории сегодня рассказывали о войне. Учительница по истории совсем молодая и очень красивая. Только скучно она рассказывала. Ей самой это было не интересно, наверное. Женщинам вообще не интересно такое. А мальчишкам — наоборот.
Мальчишки любят играть в войну. Только не по дворам с деревянными автоматами, как их отцы, а на компьютерах. Там по экрану ползут танки, летят самолеты и крошечные люди стреляют и неслышно кричат, идя в атаку. А если покрутить колесико мышки, можно даже в лицо рассмотреть каждого.
— Ба, ну, ба…
— Не ной!
Голос бабушки был неожиданно строг.
— Ты мужчина или все еще дите неразумное?
Димка подумал, что он, конечно, мужчина. Но еще маленький. Вернее, не очень большой. Пятый класс всего.
— …Нам по истории. Ты же войну помнишь, ба? Как это — на войне? Как у меня в игре?
Детские впечатления — самые яркие. Все можно забыть, даже собственная девичья фамилия под старость вспоминается с трудом. А вот детство…
* * *
Нюрке сегодня исполнилось десять лет.
Анной ее назвали в честь прабабушки. Нюрка ее помнила: высокая, худая, всегда в черном, с черными жгучими глазами под низко надвинутым на лоб платком. Говорили, что она была самой настоящей таборной цыганкой, и прадедушка буквально украл ее в таборе и привез сюда, в Городище.
Десять лет — это уже много. День рождения у нее в самый длинный день в году. Так объясняла мама. С папой разговаривать было некогда. Он работал на заводе в Сталинграде, уходя туда каждое утро и возвращаясь уже под вечер. А когда у него был выходной, тогда он работал в саду и в огороде. Или что-то ремонтировал в их большом доме, в котором они жили все вместе с бабушкой и дедушкой, и со старшим братом Колей, и с дядей Толей, который тогда еще не женился.
Мама подняла ее сегодня утром, хоть и было воскресенье. Надо было помогать поливать огород. Воду поднимали из колодца, который был вырыт в углу двора. А для еды воду брали из общего, который возле бани. Тот был такой глубокий, что детей к нему не подпускали. Свой, домашний, кроме полива использовали еще летом как холодильник.
Дядя Толя с папой поднимали воду ведро за ведром, а мама, бабушка, дедушка и Аня носили ее и выливали под каждую яблоню. А лейкой поливали грядки с зеленью и овощами.
Брат с друзьями сегодня ушел в поход. Он закончил семилетку, и папа разрешил ему прогуляться. Он и так много работал, брат. И сторожем в саду подрабатывал, и на помощника комбайнера учился, чтобы летом пойти в МТС.
А Нюрку с собой не взял.
Она везде бегала хвостом за ним, и дружила со всеми его друзьями. В таких же черных ситцевых трусах, как у всех, дочерна загорелая, она, как мелкий и подвижный пацан, вертелась летом целыми днями в мальчишеской компании. И на заборы с ними лазила, и в балку кубарем скатывалась, и в омут ныряла — не боялась.
А в этот раз брат ее с собой не взял. Теперь вот он гуляет где-то с друзьями, а она таскает тут тяжелую лейку и поливает грядки.
«Надо пролить», — говорит мама. Надо было так хорошенько пролить, чтобы до вечера земля была влажная. В летнюю жару иначе все высохнет и станет как камень.
Тут хлопнула калитка, вбежал потный красный Коля и закричал, чтобы все слушали радио. У них тогда уже был радиоприемник. Настоящий, большой, ламповый. Назывался он «Колхозник». Самый первый на всей улице. На него даже другие страны можно было ловить. И к ним в гости по выходным приходил народ — радио послушать и поговорить с дедушкой.
— Ура! Война! — кричали на улице соседские мальчишки, братья Петька и Сашка. Играли, наверное. Мальчишки всегда в войну играют.
А в селе вдруг стало как-то тихо-тихо.
…День рождения вечером так и не праздновали. Обидно.
* * *
— …Маленькая была тогда еще, глупая…
— Ба, так ты в войну, выходит, даже меньше меня была, да?
— Меньше. Третий класс только закончила. У нас тогда семилетка в селе была.
— А я уже в пятом!
— Вот Коля, брат мой старший, тогда как раз седьмой закончил.
— А на фронте ты была? Немцев видела?
— Была, выходит.
— А кто тебя взял на фронт? Ты же маленькая тогда была?
— Меня никто и не брал. Это фронт сам к нам пришел. Прямо домой к нам.
— Сам пришел? Как в компьютере, что ли? Как в сказке?
* * *
Папа ушел на войну. Провожали его только Нюрка с мамой. Бабушка была уже старенькая, и в Сталинград ей было добраться тяжело, дедушка возился в огороде и смотрел за домом, дядя Толя работал на заводе, а Коля как раз тогда пошел на курсы трактористов. Он хотел вообще-то записаться на курсы водителей, но туда принимали только после девятого класса.
На площади у военкомата было много пьяных. Женщины плакали. Папа обнял маму, потом подкинул Нюрку вверх, поцеловал и побежал в строй.
Домой он пришел только в сорок шестом, под осень уже. И потом почти ничего не рассказывал про войну. Почти ничего…
Лето в тот первый год было жаркое. Днем мама с Нюркой занимались разными огородными делами.
От папы пришло одно письмо, свернутое треугольником. С синим штампом сбоку. А потом писем больше не стало. Мама плакала ночью, а днем работала, потому что надо было много продуктов на зиму заготовить, чтобы всю семью кормить. С рабочей карточкой остался один дядя Толя. Он вставал рано утром и уходил на завод. А приходил, уже когда темнело. Коля тоже работал — на комбайне в колхозе. На трактор его пока не пускали самостоятельно. Он возвращался домой поздно и очень грязный — весь в пыли и соломе. Мылся у колодца и сразу ложился спать. Он тогда хорошо поработал. Осенью к дому он приехал на телеге с мешками — это выдали зерно в колхозе за работу.
Одна, получается, Нюрка оставалась с мамой. Поэтому ей было скучно и трудно. Бабушка просто сидела на кухне или на солнышке, выставив стул, а мама все время что-то копала, окучивала, подвязывала, поливала.
И тогда Аня придумала себе друга. Вернее, он сам как-то так вдруг придумался. Когда она забилась за курятник, обиженная на весь свет и даже на маму, которая не отпускала играть на улицу, он сам вдруг взял и придумался. Как будто есть такой мальчишка, почти как старший брат. Не как Коля, а помладше, чтобы с ним можно было играть, и чтобы он все же был чуть старше. Старший брат — это такое… Когда он есть — это здорово.
Коли же сейчас не было дома. Он целыми днями работал. Потому что папа ушел на фронт, а семью надо кормить. Вот он и придумался — друг. Почти как брат, такой близкий и очень умный.
* * *
— И его звали Димкой, как меня?
— А ты это откуда знаешь? А-а-а… Я ж рассказывала уже не раз. Выучил, небось, все бабкины слова?
— И ничего я не выучивал. Не хватало еще мне такое учить. Ты вспоминай, вспоминай. Мне потом сочинение писать.
— Я вспоминаю. Я помню. А этот Димка мне помог тогда. Очень помог. С ним я была не одна. В одиночку же на войне выжить нельзя.
* * *
Теперь таскать лейку было не так тяжело. Казалось, что они вдвоем с новым другом тащат и на ходу еще переговариваются тихонько.
— Чего ты там бормочешь? — спрашивала мама. — Ругаешься, что ли?
Она всегда и все замечала.
— Не ругаюсь. Книжки повторяю.
— Это хорошо. Это ты правильно. Учиться надо, чтобы не быть неучеными, как родители.
У мамы было всего четыре класса. Она даже писала с ошибками, как первоклассник. А Нюрка уже сама в четвертом классе числилась.
Осенью в их школу въехал военный госпиталь. Поэтому учились в старом здании начальной школы, где было тесно и холодно, потому что как-то сразу не стало угля для отопления. К зиме детей даже стали отпускать раньше домой или просто распускать, вроде как на каникулы.
Сообщили о победе под Москвой. Все радовались. Но писем от папы все равно так и не было.
За селом на пустыре стали учить красноармейцев. Тут был большой пункт сбора, и перед отъездом на фронт они маршировали, кидали учебные гранаты и ходили в атаку, примкнув к винтовкам штыки. Коля говорил, что они в полной боевой амуниции и с грузом. Им было тяжело, и они лишний груз выкидывали. Противогазы выкидывали, даже иногда сухой паек, потому что жили в домах, на квартирах, и их тут кормили неплохо. Коля бегал туда и подбирал, что выкинули. Сухая гороховая каша в брикетах была вкусная, ее даже просто так можно было грызть. Солененькая.
Когда начались морозы, много красноармейцев поморозились, потому что они были в летних ботинках и обмотках, а на головах буденовки. Говорили, что это — вредительство.
Вечером они сидели на кухне, те, кого к ним поселили, и ели свою солдатскую кашу с салом и тушенкой. Нюрке нравилась такая каша. Она могла потом еще долго отскребать остатки из большого котла.
Возле Разгуляевки сошел с рельсов и загорелся состав с военным имуществом. Говорили, что это тоже сделали вредители. Или даже диверсанты. Потом ходили всей семьей, оставив дома только бабушку, вырубали изо льда недогоревшие обмотки и подшлемники. Потом все женщины, и Нюрка с ними, распускали принесенное на нитки, а бабушка вязала теплые чулки, носки и варежки.
Этой же зимой из военкомата пришло официальное известие, что папа пропал без вести. Мама опять плакала.
А Нюрке было не так скучно — у нее был свой друг. Димка появлялся, как только ей было страшно или скучно, и они тогда долго разговаривали. Он не смеялся над ее страхами. И даже над ее самодельными куклами не смеялся. Можно было сесть с ним в уголке и потихоньку шептаться, играясь.
Начиная с весны всех, кто был здоров и молод, всех старших школьников и всех женщин стали гонять в степь на рытье противотанковых рвов. Мама тоже там была два раза. Дедушку и бабушку не гоняли. И дядя Толя не ходил на рвы — он теперь домой приходил только в воскресенье, а всю неделю работал на заводе, там и спал в общежитии. Они делали танки.
Как только потеплело, все стали копать во дворах убежища. Красноармейцы, которые ночевали у них перед отправкой дальше на фронт, рассказывали, что в погребе прятаться нельзя. Там можно задохнуться, если бомба разрушит дом. И тогда дедушка и Коля, а по воскресеньям и дядя Толя выкопали большое убежище на огороде. Мама сначала очень жалела место, потому что можно было посадить там разные овощи. Но красноармейцы сказали, чтобы не жалела. Будет ли урожай на той земле — еще неизвестно. А жизнь надо беречь.
А потом начались бомбежки.
* * *
— Ба! А бомбежки — страшно? Как в кино?
— Никакое кино не передаст этого страха, внучек. Это так страшно, что ничего страшнее просто не знаю. Вот представь, что откуда-то сверху летят бомбы. Летят и воют. И ты не можешь уклониться или угадать, в какую сторону бежать. Попадет? Не попадет? Лежишь и только молишься. Мы тогда все молились. Все до одного. И молитвы писали на бумажках, сворачивали, вешали на грудь в кисетах специальных. Привязывали к крестикам, у кого они были.
— Разве бумажка может спасти от бомбы?
— Вот, в меня же не попали. И во всю нашу семью…
* * *
Казалось, гудело все небо. Большие тяжелые самолеты шли волнами в окружении быстрых истребителей. Шли низко, ничего не боясь. Первые бомбы посыпались на Городище.
Нюрка была в доме, когда все вокруг задрожало и затряслось, а потом вдруг стало тихо, а окна бесшумно посыпались мелким стеклом внутрь. Она так испугалась, что залезла под кровать. И когда снесло крышу, а буфет со всей посудой рухнул на пол, ее не задело.
Когда первая бомбежка прошла, мама кинулась в дом и вытащила Аню из-под кровати. Та молчала и не могла стоять — подгибались ноги. На все вопросы только кивала или мотала головой. Ясно было только, что ничего не болит. Но и ходить не могла. Дедушка понес ее на руках к фельдшеру, но не застал того на месте. Бомба попала в баню, в которой мылись девушки-зенитчицы. Все, кто носил белый халат, были сейчас там.
Прибежал с бахчей Коля. Он подменял дедушку, сидел в шалаше и караулил. Со стороны, говорит, было очень страшно: над Городищем стояли сплошные разрывы, плыл дым.
С этого дня вся семья переселилась в убежище на огороде. Там жили, там питались. И только за едой и водой выходили наружу.
Очень было страшно, когда во двор въехала «катюша». Вернее, двора как такового уже не было. Забор давно был повален и растащен на топливо. Дом стоял полуразрушенным. Даже у сараев не было крыши. Машина въехала, бойцы быстро расчехлили ее, еще минута, и страшный вой раздался над убежищем. Все сидели, согнувшись, заткнув руками уши, кто-то кричал от испуга, но почти ничего не было слышно. А «катюша» дала залп и тут же уехала.
С самолетов, а теперь днем летали только немецкие, кроме бомб сыпались листовки. Их собирали на растопку. Однажды почти рядом с убежищем упал целый тюк, который просто не развалился в воздухе. Хорошо, что это была не бомба.
Закончились спички. Дедушка смастерил себе кресало и подобрал кремень. Долго делал фитиль. Он вываривал туго свернутый жгут ваты, потом сушил, втирал в него золу и сажу, распушивал и снова свертывал. Но теперь от первой искры фитиль начинал тлеть. От фитиля прикуривали курильщики и от него же зажигали огонь.
Продуктов почти совсем не оставалось. Никто не думал раньше о запасах, а теперь не было и просто еды на каждый день. Магазин стоял закрытый. До города было не дойти. Питались овощами, собранными на огородах. У мамы оставалось чуть-чуть пшенки, пшеницы и кулечек манки на всякий случай. Постоянно хотелось есть.
И постоянно было страшно. Очень страшно.
Соседние дома опустели. Соседи как-то смогли уехать.
* * *
— …А у нас не было папы. Дядя Толя — в Сталинграде. Дедушка занимался с Колей поиском продовольствия. Мама кормила всю семью. Некому было заняться эвакуацией.
— А Димка как же?
— А что — Димка? Его видела только я. Фельдшер сказал, что ничего у меня не поломано, просто сильное нервное потрясение. А ноги ведь не держали. Меня выносили на бруствер и сажали там. Потом сносили вниз, под землю. И там, в углу, на своей постели, я болтала с Димкой. Он же ничего не понимал в той нашей жизни. Был старше меня, умнее, но иногда вел себя, как маленький. Говорил, что надо просто пойти в магазин и купить молоко. Или мясо. И сварить вкусную еду. Где у нас был тот магазин? Откуда мясо? Тут просто выйти из убежища было страшно. То бомбежка, то минометные обстрелы.
— Ну, откуда бы Димка знал про это? Он же только с тобой общался. Погоди, ба! Я сейчас только закончу этап, немцев остановлю, и потом снова будешь рассказывать.
Правнук убежал в свою комнату, откуда сразу послышалась стрельба и взрывы. Он играл в «Сталинград».
Вот такие у них игры, вздохнула бабушка. Но с тем Димкой, с придуманным, тогда было легче. Он помогал просто одним своим присутствием.
* * *
Бомбежки и обстрелы сразу прекратились в тот день, когда пришли немцы. Никакого боя за село не было. Наши ночью ушли за балку и дальше, за Мамаев курган. А немцы вошли в Городище. Спокойно, как хозяева. Одни прошли дальше, а другие остались здесь. Тут же поставили везде своих часовых.
Утром Коля пошел за водой, а у колодца уже стоял немецкий солдат. Даже к цепи было привязано другое ведро, немецкое, большое. Часовой с автоматом просто стоял и смотрел, как подходили люди и набирали воду.
Дедушка с Колей прошли по балке, где были раньше позиции наших, брошенные теперь. Там были окопы по краю, были землянки. И много брошенного добра. Даже нашли место, где была полевая кухня. Там была свалка, и повар выкидывал банки от американской тушенки. Дедушка взял одну банку и стал собирать в нее ложкой жир и сало из остальных. Так по чуть-чуть наскреб почти две жестянки. Мама сварила кашу, почти как солдатскую. Это, кажется, был последний раз, когда в убежище ели нормальную еду.
Нюрка с удовольствием съела все, что ей дали. Но ноги так и оставались слабыми, подгибались, не позволяли сделать самой ни шагу.
В убежище все было волглым от постоянной сырости, которая тянулась из земли. В солнечный день все вытаскивали на просушку. Одеяла, матрацы расстилали между стеной сарая и входом в убежище. И на них усаживали Нюрку. Она сидела на солнце, смотря по сторонам карими глазами, потом опять начинала что-то бормотать, не отвечая на вопросы взрослых.
— Эх, испортили девку, — сокрушался дедушка и все твердил, что вот наступит мир, и все болезни тогда сами собой пройдут. И можно будет жить долго-долго.
Когда в селе останавливались свежие немецкие войска перед последним броском к Сталинграду, то немцы часто ночевали в убежище, выгоняя всю семью на улицу. Было лето и было не холодно. Немцы спали на этих же матрацах, но покрывали их сверху бумагой и газетами. После них в убежище оставался запах одеколона и чужого табака.
Фронт остановился. Грохотало за Мамаевым курганом. А над Городищем по ночам стали летать наши «кукурузники» и бомбить немцев. Днем бывали артиллерийские обстрелы. А еще появились снайперы. Немцы даже останавливали движение на какое-то время. Стоял регулировщик и всех поворачивал, пока обстрел не прекращался. Они очень боялись снайперов.
По балке из города пришел дядя Толя. Оказывается, он уже два дня пробирается домой. Его тут сразу чуть не застрелили немцы, потому что у него была татуировка на правой руке возле большого пальца. Там была синяя пятиконечная звездочка. Мальчишки многие делали себе татуировки.
— Комиссар! — кричали на него немцы.
И только выбежавшая на крики мама и выкарабкавшаяся наверх бабушка отбили его, показывая руками, что он еще вот такой, что маленький он еще, то есть «кляйн». Дяде Толе было тогда семнадцать.
В убежище постоянно заглядывали немцы, и поэтому дядя Толя поселился отдельно. Они с Колей выкопали другое убежище, попроще и поменьше, в овраге, прямо в стенке. И Коля тоже стал там ночевать. Там был свежий воздух и не так душно.
Уже никто не боялся мин и снарядов, узнавая издали, кто стреляет и чем.
Самым же страшным был голод.
Ели один раз в день. Очень редко, когда два. И этот второй обычно был чаем — пустым кипятком, заправленным сушеной морковкой. Голод был мучительным. И мучительнее всего было ждать с утра, что же найдут Коля с дядей Толей по старым огородам. Дедушка уже не мог ходить далеко, у него начали опухать ноги.
Очень боялись мародеров, потому что они могли не только взять, что угодно, но и убить. Мама была совсем еще молодой, всего тридцать пять. Она одевалась под старуху и мазала лицо сажей.
Поток беженцев со стороны Сталинграда не уменьшался. Каждый день мимо развалин дома по улице шли группами и по одиночке куда-то дальше в степь. Говорили, что в Гумраке есть специальное место, где кормят, а потом отправляют дальше, туда, где есть еда и жилье.
Несколько раз приходили мародеры, причем явно не немцы. Немцы, заглянув в убежище и поморщив носы, видя нищету, уходили. А эти, другие, протыкали узлы с барахлом тонкими прутьями, похожими на велосипедные спицы. Видимо, думали, что там прячут какие-нибудь драгоценности. Один в немецкой форме, скорее всего не немец, а русский или украинец, бесцеремонно вытолкнул всех из убежища и начал выбрасывать узлы и узелки и разбрасывать одежду. Узелки с остатками манки, пшена и крупы развязывал и все высыпал на пол убежища, не обращая внимания на плач мамы и укоры бабушки.
Бабушка начала стыдить его и под конец высказала, что даже немцы не позволяли себе так издеваться над нами.
— Ты, видно, не немец вовсе, а какой-то выродок из наших!
Солдат пришел в ярость и даже щелкнул затвором винтовки, направив ее на бабушку. Все закричали в голос, солдат плюнул и выскочил из убежища, ничего с собой не взяв, хотя отложил сначала что-то из нашей запасной одежды. Из этого все и поняли, что это действительно был не немец, а какой-то их служака из русских или украинцев.
* * *
— И ты кричала?
— Да. Просто «а-а-а» тянула. Махала руками, сидя. Было очень страшно. Очень. До судорог. У него винтовка — мог и выстрелить. И ничего бы ему потом не было. И было обидно. Мы потом эту крупу собирали по зернышку, по щепотке, сдувая песок…
— А потом что?
— А потом мы «переехали». Снова начались обстрелы. Стали прилетать снаряды от наших дальнобойных орудий. Это когда мы от немцев прятались, мы были за кручей от них, за бугром. А тут — как на ладони и вход в убежище и вообще все. Страшно было погибнуть от своих. Дядя с братом выкопали новое убежище в глиняном карьере, где все брали глину раньше. Выкопали такую узкую нору, а там расширили в пещеру. И когда мы переехали, перетащились, в первый раз спали спокойно. Там было тихо-тихо. И даже ближний разрыв всего лишь покачивал землю. И еще там было жарко. Поэтому в первую же ночь все разделись, засунув одежду под себя.
— Погоди, ба! Я сейчас наше наступление подготовлю, — снова убежал Димка.
У него уже было наступление. А у нас тогда до наступления было еще очень далеко
* * *
…Надо было что-то решать, потому что еды совсем не было. Питались тем, что приносили в самодельных сумках-зембелях Коля и дядя Толя. Они с утра уходили по балке к местам, где раньше были огороды, и буквально просеивали землю между пальцами, разыскивая сморщенную морковку или пригоршню мелкой картошки.
А потом однажды пришел пожилой немец с бляхой и сказал, показывая пальцем на часы, чтобы через двенадцать часов тут никого не было. Иначе — он снял с плеча короткую винтовку и показал, как стреляют.
Немцы готовились к зимовке под Сталинградом, и лишние люди в собственном тылу им были не нужны.
Уходить было необходимо, и уходить было страшно. Вся война была — этот страх. Боишься снарядов и бомб. Боишься пуль. Боишься немцев. Боишься наших — оттуда стреляли теперь по Городищу. Боишься остаться голодным и ослабеть до смерти. Боишься отравиться, потому что лечить тогда будет просто некому. Всю семью фельдшера завалило в погребе. Никто не спасся.
Поутру на тележку с двумя колесами погрузили свои матрацы, одеяла, одежду, всякие узлы, сколько хватило места, посадили сверху бабушку и Нюрку. Она могла уже ходить, но мало и очень медленно. За ручки взялись Коля с дядей Толей. Мама с дедушкой толкнули сзади.
По натоптанной дороге они двинулись через степь. И тут же стали падать первые медленные снежинки.
К Нюрке часто приходил ее Димка. Никто из взрослых его не видел. А он старался веселить ее, тормошил. Иногда говорил, присмотревшись:
— Эй, а ты ведь замерзаешь! Ну-ка, марш-марш с повозки! Походи немного, помоги остальным!
Она сползала без возражения и шла какое-то время рядом, держась рукой. А он шел рядом и повторял:
— Нюрка, ты только не бойся! Все будет хорошо! Я точно знаю — все будет хорошо! Наши все равно победят! И папка твой обязательно вернется домой! Ты мне верь! Я точно знаю!
Дедушка делал большие глаза маме, подмигивал потом и улыбался. Выправляется девка!
В степи было очень холодно. Путешествие запомнилось на всю жизнь этим постоянным нутряным каким-то холодом. Сыростью. Запахами. Никто не раздевался. Спали прямо на земле, нарубив камыша, а сверху накидав тряпок. Укрывались одним большим тяжелым ватным одеялом и прижимались друг к другу. Кто был с краю — замерзал. Чаще всего там были Коля и дядя Толя. Они вставали среди ночи, отходили в сторону, чтобы не шуметь, прыгали на месте, пока кровь снова не начинала бегать по жилам. Устав, ложились. И снова мерзли.
И еще больше мерзли от голода. Съели все свои небольшие запасы. Все мамины крупы, с таким трудом спасенные от мародеров, были брошены в котел. По дороге обследовали поля. Иногда находилась картошка или морковь. Мама не давала их запечь в костре. Обязательно варила, кидала какие-то травки для вкуса и заставляла не только овощи есть, но и хлебать горячую жижу. Не было соли. Не было хлеба. Не было совсем ничего.
Прямо на дороге лежали лицом вниз трупы. Было даже не страшно уже. Устали бояться. Сильнее донимал холод и голод. Холодно было до боли.
Дедушка с дядей Толей сталкивали трупы в канаву, Коля присыпал землей. На полях она еще не замерзла до каменного состояния. А дорога как раз подмерзла, и стало легче идти.
Однажды утром не проснулась бабушка. Она ни разу не пожаловалась ни на что. Ей было очень всех жалко. Сидела на тележке и потихоньку молилась. И вот не проснулась после ночевки в степи. Наступило какое-то полное отупение. Нюрка даже не плакала. Просто стояла и смотрела. И ее Димка стоял и смотрел. И в этот раз молчал.
Мама хотела везти бабушку с собой до ближайшей церкви. Но где та церковь? А тащить — очень тяжело. Дедушка шел уже совсем плохо. У него распухли ноги, и пришлось разрезать старые валенки. Теперь он не толкал тележку, а держался за нее.
Бабушку закопали тут же у дороги, где провели ночь, поставив небольшой крест из прихваченных с собой обломков досок. В костре раскалили гвоздь, и Коля написал…
* * *
— Ба, ну ты что? Чего ты? Это уже прошло все давно! Чего ты теперь-то плачешь?
— Понимаешь, Димка, бабушка, она была такая добрая… Она меня очень любила — я же первая внучка у нее была.
— А я — твой первый внук, да?
— Ты у меня первый правнук.
* * *
Потом они дошли до казачьей станицы.
Вокруг стояли высокие тесовые заборы. За воротами, обитыми полосами железа, рвались с цепей огромные сытые собаки. В Городище собак совсем не оставалось. Каких постреляли немцы, а какие просто убежали, когда народ расходился.
Голодные мужчины повернули тележку и потащили ее потихоньку к берегу реки. А мама и Нюрка пошли просить, «христарадничать». Они стучали в ворота и громко пели молитвы, которым научила бабушка, пока были бомбежки и обстрелы и все сидели в убежище. Кроме лая собак, ничего не было. Иногда выглядывал здоровый сытый казак и кричал, чтобы шли дальше, пока не спустил пса.
— Ишь, голодранцы! Всё-то вам неймется, всё-то нам вас кормить!
Где-то на краю впервые приотворилась калитка. Женщина сунула Нюрке полбуханки настоящего черного хлеба и сказала, чтобы они быстрее уходили, пока не вернулся староста с полицаями.
Эти полбуханки они ели, как сладкие конфеты. Порезали хлеб на ровные дольки, и каждый со своей долькой сидел у костра и медленно откусывал, посасывая, как леденец, пока хлеб не растворялся во рту. Ничего не было вкуснее того черного хлеба.
Но тут пришел староста и два полицая с винтовками. Староста велел потушить костер, а на вопрос мамы, как же переждать ночь без огня зимой, указал на пустой скотный двор. Там, мол, переночуете, а утром чтобы никого тут не было. Идите дальше. Там, дальше, немцы дают паек беженцам, и есть большие села. А к казакам нечего примазываться. Русские вы? Вот к своим русским и идите.
Они шли еще два дня.
И до весны потом жили в том селе, куда дотянули тележку.
Было тяжело. Но хотя бы стало больше еды. Беженцам давали на месяц зерно, из которой мама варила кашу. Иногда выдавали хлеб — тяжелые черные буханки.
Когда под Сталинградом наши пошли в наступление, и штурмовики стали долетать досюда, немцы начали эвакуировать свои учреждения. Однажды во время бомбежки возле дома убило лошадь. Дедушка с парнями затащил ее быстро во двор, несмотря на продолжающиеся взрывы. Они топором порубили лошадь на куски. В тот день был пир. Во всех посудинах варилась конина. Пили бульон. Потом ели мясо. Без соли, без хлеба, но это было так непередаваемо вкусно!
Утром в дверь пинали сапогами. Пришел сосед в сопровождении немецкого патруля. Он сказал, что у него со двора свели корову, и это непременно вот эти голодранцы, у которых ничего своего нет. Вот и мясо у них повсюду, во всех ведрах. Хорошо, что дедушка не выкинул шкуру и копыта. Немец заглянул в корыто, увидел лошадиное копыто, сморщился, гаркнул что-то, и все ушли.
В одну ночь никто не спал, потому что пропал брат Коля. Его схватили на улице и увели во временный лагерь, чтобы увезти в Германию. Тогда многих похватали. У ворот лагеря, перевитых колючей проволокой, стояла толпа женщин, которые кричали немцам и показывали, что вот тот — совсем маленький и этот еще мал. Им кого отдавали, а кого они сами протаскивали через колючую проволоку, обдирая до крови. Так Коля спасся и пришел домой уже под утро, хоть в разодранном пальто.
В том селе они похоронили дедушку. Он стал задыхаться, опухать весь. И однажды тоже не проснулся. Похоронили его на старом кладбище, возле церкви.
А однажды ночью раздался осторожный стук в дверь и голос:
— Русские есть?
— Есть, есть, — зашумели все. — Мы — русские!
За дверями стояли наши разведчики в незнакомой форме с погонами.
Через две недели мама на попутках съездила в Городище. Потом вернулась, все собрались, и тот путь, который был нескончаемым и смертельным, с ночевками в степи, с голодом и холодом, в кузове машины занял всего четыре часа.
* * *
— И война закончилась?
— Нет, война была еще долго. Но мы были теперь дома. Пусть было еще голодно, но не так, как в оккупацию. Нам выдали карточки. В село приезжала лавка с хлебом. Был огород и зелень всякая, а к осени — фрукты и овощи. Всем нашлось дело, кроме меня. Коля пошел работать на завод, где делали силикатный кирпич. Город строился, и кирпича надо было много. Дядю Толю призвали в армию, но он даже не успел повоевать. Они были в лагерях, потом их использовали на охране новых заводов.
— А… Димка?
Она повернула голову, посмотрела на правнука, сидящего, скрестив ноги, на полу возле ее дивана:
— Я уже нормально ходила, и дел было столько, что больше не придумывала себе друга. Мне было уже почти одиннадцать лет и было уже некогда — помогала маме по дому. А почему ты спрашиваешь? А-а-а… Ты же знаешь, так?
— Что знаю?
— Все, что тогда было со мной — ты знаешь, правда? Это ведь ты помогал мне, когда было совсем плохо?
— Да ты что, ба! Это ж фантастика! Так не бывает…
— Никогда не ври старшим! — строго погрозила пальцем бабушка.
— Да я не и вру вовсе. Я так, успокаиваю просто тебя немного. Не бывает такого. Подумаешь, имя. Может, вы потому меня так все и назвали, когда родился, что тогда вот…
Наутро Димка не встал с кровати. Он весь горел от высокой температуры, метался по кровати в бреду, скидывая одеяло. Скорая помощь увезла его в больницу. «Крупозное воспаление легких», — качал головой врач.
Приехавшие срочно по вызову родители не находили себе места.
— Моя вина, моя вина, — качала горестно головой бабка. — В степи зимой было так холодно. А он же совсем без зимней одежды!
— Слушай, скажи своей бабке, чтобы успокоилась, наконец, а? — кричала на кухне мать. — Какая тут степь? Какая зима? Она совсем с у тебя ума сошла от старости? Пусть она лучше расскажет мне, чем таким умудрилась напоить ребенка, что у него воспаление легких. Или во льду купала? Откуда у ребенка летом — воспаление легких?
Бабушка пробилась через главврача, через заведующую отделением, сидела теперь по ночам у постели Димки, клала ему на лоб холодные компрессы, и тихонько плакала, слушая его жаркий шепот:
— Нюрка, ты только не бойся! Все будет хорошо! Я точно знаю — все будет хорошо! Наши все равно победят! И папка твой вернется домой! Ты мне верь! Я точно знаю!
Рыцарь Светы
Рыцарь всегда встает по будильнику.
Если он не встает по будильнику, то его разбудит мама. Папа никогда не будит Рыцаря. Потому что вставать по будильнику — это специальное рыцарское правило. А кто его нарушает — тот просто ребенок. С ребенком занимается мама.
Рыцарь делает зарядку. Каждое утро он делает зарядку. Если он не делает зарядку, то какой он тогда Рыцарь? Просто никакой. Любой перешибет такого Рыцаря. А все вокруг будут смеяться.
Рыцарь умывается и долго чистит зубы. Даже когда выключена горячая вода, Рыцарь моет шею. И дело вовсе не в гостях, которые могут прийти. Просто не может настоящий Рыцарь ходить с грязной шеей.
Рыцарь идет на кухню и завтракает. Рыцарь не хочет есть утром, но он должен. Иначе любой перешибет Рыцаря. А все вокруг будут смеяться.
Сопя и потея, Рыцарь сам одевается и сам завязывает шнурки на ботинках.
Через минуту Рыцарь с грохотом скатывается по лестнице в пустой подъезд, замирает у железной двери на мгновение, чтобы отдышаться, а потом бьет ладонью по красной кнопке замка.
Как раз в это самое время Светка идет в школу мимо его дома.
Она на самом деле уже давно вышла, потому что аккуратистка, и у нее все всегда по плану. И портфель всегда собран правильно. И тетради всегда обернуты. И домашняя работа всегда выполнена.
Светка несет свою голову гордо и красиво. Вокруг головы облако мелких светлых кудряшек. А сзади, точно между лопатками, у нее спускается из-под шапочки толстая золотистая коса.
— Привет, Светка! — кричит радостно Рыцарь.
Светка неторопливо кивает в ответ. Ей уже холодно, но ведь нельзя показывать, что давно ждешь.
— Давай твой портфель, что ли…
Рыцарь Светы несет портфель и глупо улыбается. Ему самому не видно со стороны, но улыбка именно глупая. Потому что она без всякого смысла. Просто так улыбка, потому что ему просто так хорошо.
— Тили-тили-тесто, жених и невеста! — кричат сзади какие-то мелкие, которые, взявшись за руки, идут в свой детский сад.
Светка и ее Рыцарь презрительно щурятся, не оборачиваясь.
А потом снова расплываются в улыбках и идут дальше.
Рыцарь Светы не должен обращать внимание на всякие крики.
Он должен нести портфель.
Свидание
Мишка торопился. У него сегодня было назначено свидание, в реале, а не как всегда, поэтому он сначала долго и тщательно мылся, переодевался по-всякому, рассматривая себя в объемном голо и слева и справа, и сверху тоже. Подбор ароматов тоже занял какое-то время. Тут ведь ошибаться никак нельзя. В общем, когда он вывел свою новейшую «Лайоту», времени уже почти не оставалось.
— Врешь, — сказал Мишка, хищно улыбаясь всем экранам сразу. — Не возьмешь!
Он недавно смотрел старые фильмы про давнюю войну. Это было круче всякой фантастики. Там взаправду умирали люди. Никакого сохранения, как в играх — все насовсем! Но оставшиеся в живых крепко сжимали зубы, шептали свое «врешьневозьмешь» и пробивались дальше. И побеждали всех врагов. Почти так, как в наше время. Только в реале.
— Сохранение!
Выворачивая на основную, он нажал кнопку сохранения. Тут дело такое: может, ничего и не будет. То есть, скорее всего ничего и не будет — что может быть в наше время-то? Но последний раз он сохранялся еще вчера, и не хотелось бы опять начинать день с подготовки к свиданию.
Последний перекресток впереди подмигивал оранжевым сигналом скорого переключения цветов. Автопилот пискнул, предупреждая об опасности. Но Мишка знал свою скорость — успеет. И только крепче ухватился за джойстик, чтобы не потерять контакт с управляющей системой на высокой скорости.
Сигнал вызова он сбросил, чуть скривив губы. Ну, чего названивать, когда ясно же — все равно успевает.
Уже влетая на перекресток и радуясь, что впереди чистое шоссе и можно еще прибавить, он краем глаза уловил какую-то тень. И тут же страшный удар сотряс новенький механизм, раздался скрежет металла, визг вышедших из границ режима турбин, тупой удар…
…
— Во, блин, — сказал Мишка, восстановившись в несущейся по основной дороге новенькой скоростной «Лайоте».
Это словечко он тоже подцепил из старых фильмов.
Друзья над ним смеялись. Ха! Если бы они знали, как на эти старые словечки клюют девчонки! Вот и эта, новенькая, она как раз запала в разговоре на все эти «блин», «черт», «в жопу», «растудыть» и еще «едрён-патрон». А когда Мишка рассказал несколько старых фильмов — она уже просто не могла не пригласить его в гости, чтобы вместе пересмотреть «Два товарища».
Перекресток впереди замигал оранжевым.
Мишка прищурился:
— Врешь! Не возьмешь!
Прибавил скорости. Надо просто проскочить перекресток раньше, чем тот мудак слева. Слово «мудак» было крепким, как все старые слова. Терпким. Явно оскорбительным, но без моральной запретности. Так казалось Мишке.
Еще быстрее! Ну же…
Слева мелькнула тень, раздался страшный тупой удар, потрясший, казалось, весь мир, скрежет металла, визг уходящих в неконтролируемый разгон турбин, мгновенная чернота, как при выключении голо.
…
— Кха, кха, — прокашлялся Мишка, откинувшись на удобном полулежачем сиденье своей новенькой «Лайоты». — Вот же гад какой…
«Гад» — это было просто сокращение от «гадины». А «гадина», он проверял по словарям, всего лишь старое название ядовитой змеи. Еще говорили «гадюка». Но Мишке казалось, что «гадюка» — это уже просто какое-то оскорбление. Вот все слова, что на «юк» или «ук» — они очень оскорбительны. Так он решал.
А время-то, время… Хотя, все равно успевает. А вот если ускориться раза в два, так и вовсе перед тем гадом можно проскочить.
Мишка заранее повысил скорость, а увидев уже привычное оранжевое мигание впереди, прибавил еще. Автопилот предупредил о значительном превышении в границах населенного пункта и вблизи перекрестка. Мишка ответил устно, не снимая руки с джойстика, что все видит и за все отвечает.
В перекресток он влетел на трехстах.
В этот раз он не заметил даже тени. Просто страшный удар, вспышка и сразу темнота.
…
Нет, все же он молодец, что сохранился. Другой бы сейчас откатился дня на три назад — и давай все с начала. А все может и не повториться. Потому что каждый в пределах своего участка времени имеет достаточно большую свободу. Каждый, в том числе и не только ты, а те, с кем ты встречался в предыдущей жизни.
Кстати, древние были сильны в философии. Ведь додумались, «дотумкались» без всяких технологий до теории множества жизней одного индивидуума. Только они думали лишь о далеком прошлом. А на самом деле, как определили уже современные физики, количество жизней человека даже не девять, как раньше говорили о кошках (были такие специальные домашние животные для поддержания порядка и режима дня в доме), а просто бесконечное. Сколько хочешь, столько и восстановишься. Главное — вовремя сохраняться.
Мишка, как настоящий виртуальщик, знал, что вечных и бесконечных в своей деятельности устройств записи и сохранения, и снова перезаписи информации просто не существует. То есть, когда говорят «бесконечное восстановление», это они просто утрируют, упрощают для населения. На самом деле какое-то конечное число, конечно, есть, но оно настолько большое, что просто представить невозможно. Как нормальный виртуальщик, Мишка представлял и возможный процент ошибок. Ну, сбой там в записи-перезаписи. Или вдруг дырка в модуле памяти. Или еще что… Молния, скажем. Ну, мало ли что. Но это редко, очень редко. Можно не учитывать в расчетах.
Он резко затормозил у перекрестка, дожидаясь, пока тот чудак пролетит мимо. Ведь на самом деле время еще было. А по магистральному шоссе потом можно было еще и нагнать.
Две секунды. Три. Уже пять.
— Где эта сволочь? — сказал Мишка голосом старого генерала из древнего фильма.
Время уходило. Так можно было и опоздать. Дождавшись разрешающего сигнала. То есть, еще на самой-самой грани, на переходе, он резко рванул с места. Его машина разгонялась до пятисот за две секунды!
И получил страшный удар прямо в водительское место.
Темнота спасла от внезапной вспышки боли.
…
В этот раз он ничего не говорил. Просто включил автопилот и специально снял руку с джойстика. Машина сама сбавила скорость в виду перекрестка.
— Время — это процесс…, - глубокомысленно сказал Мишка.
Слева очень медленно, на цыпочках, можно сказать, выдвинулась точно такая же «Лайота». Только яркой зеленой расцветки. У Мишки-то была практичная и приличная золотая.
Он отключил автопилот, остановил машину на самой линии «Стоп» и вышел. Просто хотелось взглянуть в глаза этому…
Этой…
— Ой, Миша! Это же вы! А я так торопилась, так торопилась! Мы же договорились на пятнадцать часов семнадцать минут? А уже почти совсем время… Я так спешила! А тут какой-то… Ой, а это вы!..
Сначала Мишка хотел плюнуть, развернуться и поехать домой. Сесть там за голо, поиграть с ребятами в полный вирт. Потом хотел подойти и поломать что-нибудь в чужой машине. Еще хотелось…
Но тут он понял — это ведь она ведь спешила к нему! То есть, на свидание с ним лично. Наверное, была в настоящем ателье. Не в сетевом, не дома, а в самом настоящем, в реальном. Потому что готовилась. Оттуда и едет домой, похоже.
— Мутить-колотить! — сказал он четко и громко старинные модные слова. — Оля! А я как раз к вам спешу. Только о вас и думаю — больше ни о чем. Мы же на пятнадцать семнадцать ровно договаривались! А тут — вы. Как же удачно мы встретились!
Перед тем, как шагнуть к ней, он наклонился и нажал большую зеленую кнопку на панели.
Выпрямляясь, заметил, что и она сделала знакомое движение рукой.
«Тоже сохранилась, — подумал он. — Молодец. Умная девочка».
Ну, он с дурами-то и не встречался.
Спасатели, вперед!
Мама работала в библиотеке. А Янка училась в школе.
Каждое утро, кроме выходных и праздничных дней, мама завтракала вместе с Янкой, а потом уходила в сеть. Их библиотека, как и все остальные, была районным филиалом государственной. То есть, «все остальные» — это как раз филиалы. А еще могли быть частные. Но они были локальными и влияния почти никакого не имели.
А Янка брала планшет и шла в школу.
Раньше, говорят, все было наоборот. Учились из дома по сети, а на работу ходили. Это, наверное, было здорово. Потому что утром, да еще если смена сезонов… Вот еще странно: всю природу уже победили и подчинили, а сезоны все равно меняются. И если лето — оно всем нравится, то осень или зима… Янка подумала и решила, что она бы жила там, в прошлом, у моря, где всегда лето. А в школу бы выходила через сеть. И оценки через сеть. И лекции всякие тоже. Еще она подумала, что надо не забыть и записать эту мысль. И развить. А еще украсить и сделать начало и конец, и как-то связать с современностью. Любой текст, учил их Петр Иванович, старый литератор, обязательно надо связывать с современностью. Пусть не напрямую, а намеком каким-то. Янка подумала, что вот это и есть намек — что в школу ходить не надо. И это может вызвать дискуссию. И это хорошо.
Нет, понятно, что раньше все хотели не ходить в школу, а пыриться в сеть. И даже, говорят, так однажды и сделали. Но потом что получилось? Получилось так, что учились все в сети, работали в сети, покупки делали тоже в сети. И развлечения все были в сети. И вообще все-все-все. То есть, не жизнь, а сеть, получается. И во-первых, как объяснили в школе, хуже стало здоровье нации. А во-вторых, как сказала мама, когда Янка спросила, не было социализации. Вот для здоровья и социализации ввели режим и обязательное посещение школы. Это потом, когда уже взрослый, когда сам за себя отвечаешь, можешь хоть вообще из дома не выходить. Это ты уже сам себе вредитель, и это твое личное дело. Но пока ты подрастающее поколение, в тебя стараются по максимум вложить здоровье, распорядок дня, привычки всякие полезные.
Янка подумала, что главная привычка у нее — это высыпаться по выходным. Это когда никуда не надо идти, можно валяться в постели до ломоты в боках и спине, и никто тебя не поднимает с раннего утра на зарядку и в школу. Потому что мама по выходным тоже отсыпается. Она на своей работе так уматывается, что спит без снов — так говорит. А в выходные спит со снами. И даже рассказывает потом. А Янка записывает.
Петр Иванович требует от них, чтобы ни дня без строчки. Некоторые, как Пашка, например, таки делают — ровно строчку. Чтобы не приставал никто. Но большинство пишет помногу. Потому что это развитие письменной речи, что пригодится в работе, а еще — та же социализация. Ты как бы всем рассказываешь что-то. А они отвечают. А если напишешь много, то твой текст появляется в районной библиотеке. И можно говорить всем, чтобы заходили и читали. Это уже уровень.
У Янки так несколько раз было. Раз она сон мамы расписала на пять страниц. А раз просто написала про школу. Там ведь если подробно писать, так целый роман может получиться. Им такой роман в музее показывали. Как раз про школу. Но тогда, в древности, писали на бумаге. Ну, сколько людей могло прочитать такой роман? Единицы? Вот в сети, да еще если попасть в библиотеку… Тут ведь, если интересно напишешь, тебя могут прочитать миллионы. А теоретически — миллиарды.
Янка даже остановилась. Миллиарды! Это же просто невозможно, какое большое число.
— Чо стоим, кого ждём? — спросили сзади.
Это Пашка подкрался незаметно.
Янка вздохнула и пошла дальше. Школа — вон. Уже видна. Теперь весь день там проведешь. В детстве, когда еще не все понимаешь, Янка говорила маме совершенно честно, что ходить в школу ей не тяжело. И из школы домой — не тяжело. А вот сидеть в школе — бр-р-р!
В школе, кроме уроков, были еще и внеклассные мероприятия. И вот тут-то прозвучало, что тексты из библиотек исчезают. Мол, кто-то полез посмотреть свой текст, а его там нет. Но ведь был!
— Янка, — сказал народ. — Ты бы как-нибудь тихонько спросила у своей матери. Что за дела? Старался, писал. Даже в библиотеку попал. А тут — раз, и нету текста. И что теперь? Снова его писать, что ли? Это как работа получается. Натурально — самая настоящая работа. Может, сбой у них программный? А где тогда копия? Нет, Янка, ты точно узнай!
Вот поэтому вечером за ужином разговор вышел не о школе и отметках, а о маминой работе. Столько нового узнала!
А на другой день рассказала всем, кто интересовался:
— Есть такое правило, что если три месяца никто текст не открывал, то текст помечается «на удаление». И потом еще месяц просто в индексы не вставляется. Пролетает мимо. А еще потом — просто удаляется из библиотеки. Она же не безразмерная, в конце концов! И это не люди делают, а программа. Все чисто автоматически. Нет просмотров — давай, до свидания…
Народ был просто ошеломлен.
А потом все шумели и кричали и чуть по столам не прыгали. И создали тайное общество по поддержке книг. Чтобы обмануть бездушную программу и сохранить литературу. И Янка тоже туда вступила. Потому что тоже хотела сохранять литературу. А Пашка, как самый громкий, стал вроде председателя в тайном обществе. Составили списки, разделили по буквам. И чтобы каждый, значит, заходил регулярно в библиотеку и открывал тексты. Сначала — всех своих. Это в первую очередь, чтобы своих. А потом уже и остальные. Тогда программа будет видеть, что тексты читаются, и не удалит ничего. И литература в целом сохранится. А Пашка еще сказал, что надо связаться с другими школами, а потом даже и с другими городами. Потому что если не мы, то кто возьмется за такое? А глупая программа так ведь просто вычистит всю культуру и литературу из библиотек. Что останется нашим детям?
Это так Пашка вещал, насчет детей. А девчонки краснели и хихикали. А парни ржали. Дураки, ясно.
Но этим вечером Янка выполняла норму по спасению литературы.
И на другой день — тоже.
И на третий.
Это ведь совсем не трудно: зайти в библиотеку, по фильтру найти те тексты, которые давно не открывались, кликнуть мышкой, вернуться, зайти в следующий…
А через неделю Пашка подводил итоги кампании. Спасли, сказал он, столько-то. Под угрозой — столько-то. Роботы проклятые жрут нашу человеческую литературу! Но мы на стоим стрёме, мы здесь не просто так! Нас поддержали все три районные школы!
— А тебя, Янка, — сказал он строго, когда все стали расходиться, — я попрошу задержаться.
Она как раз торопилась домой, чтобы скорее поужинать, а потом…
— Ну? — спросила она.
Пашка помолчал, сурово глядя ей в лоб, а потом показал, как много текстов пропало из-за Янки. Потому что она редко кликает мышкой. Потому что ей в лом, что ли, поддержать народ, когда все вместе и разом и заодно.
— Когда мы едины, — сказал Пашка, — мы непобедимы. Понятно тебе, Зайцева?
И это было даже как-то страшно — по фамилии. Как Петр Иванович, прямо.
Она стала говорить, что каждый ведь вечер. И что вот сейчас специально торопилась домой, чтобы — в библиотеку. И что у нее свидетель есть — мама. Но говорила как-то неуверенно, как-то тихо. И глаза — вниз и в сторону.
— Постой-постой, — сказал Пашка. — Так ты — что? Ты, может, это… Ты их читаешь, что ли?
— Ага, — кивнула Янка, чуть не плача.
— Эх, ты… Мы здесь не для того, чтобы читать и удовольствие от этого получать. Мы — чтобы спасать литературу! И чтобы писать литературу. Вот ты сама — сколько текстов написала вчера?
— Я просто не успела. Я читала.
— А надо — писать!
И это — Пашка. Который — ни дня без строчки. А что еще скажет Петр Иванович, когда узнает?
Но Янка все слушала, все кивала, а сама ждала, когда можно будет бежать домой. Там поужинать, а потом — в библиотеку. Там такой прикольный текст нашелся. Как раз про школу, только не как у них сейчас, а как раньше. И там про старшеклассников, и про любовь, и про большую войну…
— Спасатели — вперед! — крикнул в конце Пашка.
И рукой так показал: мол, в атаку, вперед, беги, Янка!
И Янка побежала домой. Она решила быстро-быстро покликать мышкой, чтобы помочь спасти литературу. А потом, думала она, можно будет открыть тот прикольный текст и прочитать, наконец, до самого конца. Потому что в очереди есть еще про единорогов, и еще про рыцарей и драконов. И еще много всего интересного.
Но сначала — спасать литературу.
Талант
В кабинет директора школы бочком-бочком прокрался какой-то совершенно не местный тип. Городок был маленький, все и всех тут знали — так вот этот как раз был совсем не отсюда. И по одежде, и по повадкам своим осторожным, по прическе странной — чужак.
Он подсел на указанный ему стул, а потом, оборачиваясь на закрытую дверь, полушепотом объяснил свою миссию.
Новое открытие. Гениальное. Оно же — изобретение. Специальный аппарат, испускающий специальные мыслительные волны. Повышает талант ребенка от десяти до ста процентов — в зависимости от податливости мозга. Гарантировано. Но — дорого. Потому что нигде в мире, кроме как тут и прямо сейчас. Проездом. А то, что дело дорогое, так он, проезжий, для того к директору и зашел. Договориться.
— Десять процентов, — сказал он строго, еще раз зачем-то оглянувшись на дверь.
— А звать-то вас как? — спросил директор, как бы невзначай кивнув, соглашаясь.
Был предъявлен паспорт общего образца. Из паспорта следовало, что изобретателя зовут Александром Григорьевичем, фамилия его была длинная — Пиотровский. Вот сама эта фамилия еще раз подтвердила, что все серьезно. Потому что — такая фамилия. Именно такими должны быть фамилии у настоящих ученых и изобретателей. Ну, еще Эйнштейн, конечно. Но у того чистая теория. Формулы непонятные и сплошное емцеквадрат. Тут же — специальные мыслительные волны и настоящий аппарат для их испускания. Экспериментальная модель.
— А на взрослых — никак? — поинтересовался директор.
— Поздно, — вздохнул Александр Григорьевич. — Раньше бы. Хоть даже и перед выпуском из школы, когда уже самые эти таланты пробиваться начинают. Я же к вам — почему? Потому что — школа. Потому что — дети. Ну, и родители еще, конечно. Я же понимаю.
Договорились о завтрашнем дне.
Потом, когда приезжий ушел в гостиницу, директор поднялся к выпускникам и, остановив движением ладони вещающую что-то умное математичку, сообщил, чтобы завтра приносили деньги, потому что будет специальный эксперимент с мыслительными волнами. И многие после этого станут просто талантами.
— Это, — сказал он вполголоса, внимательно глядя в лица, обращенные к нему, — Большой секрет совершенно и новое научное изобретение. Так что кроме родителей — ни-ко-му! Понятно?
Старшеклассники всегда были самыми понятливыми. Они и тут сразу поняли, что не будет какого-то урока, и приняли это с воодушевлением. А деньги… Что — деньги? Перед выпуском они и так летели из семей, так уж сразу и сюда — понятное дело. Тем более — обещали добавить таланта.
…
Секретный прибор был в черном коленкоровом чемоданчике. Сверху была большая красная кнопка. Сбоку — решетка, как у микрофона. Эту решетку изобретатель и большой ученый Пиотровский, как его представил директор, направил на класс, а потом нажал большую красную кнопку. Прислушался к чемоданчику, прижав ухо к решетке, и нажал сильнее. Внутри что-то слегка зажужжало.
— Не спать! Смотреть сюда! — повторял большой ученый в течение всех десяти минут работы уникального прибора.
Потом он отвечал на вопросы о мыслительных волнах и о талантах, и о том, как и на сколько именно поднимается талант после такого облучения. У всех, сказал он, по-разному. Но минимальная прибавка в таланте — десять процентов. Это просто гарантировано и проверено. А максимальная — все сто. То есть, талант мог вырасти в два раза уже после одного сеанса облучения.
— Эх, жаль, — говорил со вздохом Александр Григорьевич, — Что нет у меня на вас времени. Такое вот облучение надо было делать с первого класса. Каждый учебный год. И тогда рост таланта был бы — в десять раз! Представляете? В десять раз больше таланта!
Кто-то из отличников черкал бумагу, делал расчеты, кричал с места, что получается не в десять, что тут другая пропорция, но ученый пресек разговоры просто:
— Я же вам говорил, что бывает десять процентов, а бывает — сто. И у всех по-разному. Вот и в десять раз — это не точная цифра, а усредненная, можно даже сказать — рекламная, чтобы понятно было каждому. На самом деле, кто-то из вас уже вдвое талантливее, чем был вчера. Осталось только талант этот свой проявить и применить.
И тут-то все сразу и замолчали. Потому что — а какой же именно талант? И как его проявить и куда применять?
— У всех — разный. Вот то, что все дети талантливы — это аксиома. Просто один талантлив в математике, например, другой — в химии, а третий, наоборот, в приготовлении пищи или в шитье или еще в чем-то прикладном. Надо просто этот талант в себе найти. Разыскать то, что лучше всего получается. И тогда — применить. И будет у нас тогда целых тридцать человек самых настоящих талантов.
— Двадцать девять, — заметил из своего угла учитель, чей урок был занят научным экспериментом. — Смирнова не принесла деньги.
— Ага, значит, двадцать девять талантов. Итого — двести девяносто тысяч, — деловито сказал ученый.
…
Директор жал руку, прятал в сейф полученные из рук в руки оговоренные десять процентов, желал хорошей дороги, удачи в дальнейших исследованиях, приглашал обязательно заезжать на следующий год.
— Ну, это уж как получится, — отвечал Александр Григорьевич, ученый и изобретатель, унося свой черный чемоданчик. — Знаете, сколько у нас в стране таких школ? Ого-го! Мне еще ездить и ездить! Поднимать уровень, так сказать.
…
Потом была маета.
Все хотели сразу узнать, какой же талант и насколько у них развился. Кто-то поступал в университет, кто-то пошел на производство, потому что действительно лучше шил, чем думал, кто-то отправился в армию — там тоже нужны талантливые люди. В общем, искать свой талант, проявлять его и применять как-то пытались все двадцать девять человек. Потому что Смирнова не принесла деньги. А так было бы тридцать талантов сразу.
…
Через десять лет в кресле директора школы сидел бывший выпускник, который пошел за своим талантом в педагогический институт. Вернее сказать, пошел, ведомый талантом. Так он тогда думал. Были те, кто ударился в коммерцию. Кто-то крупно сел в тюрьму — оказался талантливым бандитом. Наворовал и награбил столько, что получил по самому максимуму. А он вот — директором в своей же школе.
Правда, бывало, просыпался иногда и мучительно раздумывал: не ошибся ли, не промахнулся ли. Ведь, даже если всего на десять процентов больше, думал он, то все равно — талант. А тут получалось, что в школе работать оказалось не так уж и интересно, да и талант как таковой тут не сильно нужен. Усидчивость нужна. Память хорошая. Язык подвешенный правильно. Хотя, если подумать, усидчивость с памятью тоже могут быть талантом. Да и вообще — всего десять лет, как закончил эту школу, а уже тут же в ней директором. Разве это не талант?
— Разрешите? — постучался в кабинет смутно знакомый мужик. — О! Витёк! Здорово, брат! А где тут директор?
На пороге стоял бывший одноклассник, голимый троечник и немножко хулиган Петька Овцов. Тот самый, который за «овцу» тут же бил в нос. Поэтому его ласково звали в классе Бычарой. Еще — Быней.
— Быня…, — растерялся Виктор Семенович. — Так, это… директор — я.
— О! Круто! Так это еще проще, выходит, — прошел Петька в кабинет и по-хозяйски уселся в кресло. — Это, выходит, такой талант у тебя прорезался? Молодца, Витёк! Просто рад тебя видеть! Честное слово!
И он действительно радовался, улыбаясь сверкающей дорогими импортными зубами челюстью.
— Да, — вдруг посерьезнел он. — А ведь я к тебе, брат, по делу.
Дело было такое.
Талант прорезался в Петьке почти сразу после школы. То есть, сначала он попробовал поступить, как все, потом его загребли в армию, а потом и прорезался его талант. И похоже, именно он получил от того прибора целых сто процентов. Потому что изобрел новый аппарат, который испускал те самые мыслительные волны и повышал талант учеников уже не на десять процентов, а минимум вдвое. Сразу — вдвое. Гарантировано. А по максимуму, если получится, так как раз в десять раз. Все уже проверено и апробировано. Знаешь, сколько в нашей стране школ? Ого-го!
— В общем, десять процентов, — завершил свое выступление Петька.
— Пятнадцать? — задумчиво спросил директор школы. — И заодно — а документы какие-то есть? Мне же с родителями говорить, с учениками.
Тут же был предъявлен паспорт общего образца, из которого было видно, что сидит в кресле Петр Сергеевич Барановский. Не какой-то там Овцов.
— А это…, — ткнул в фамилию директор.
— Давно поменял. Нельзя было изобретать с той фамилией, — небрежно отмахнулся Петька.
Ну, что. Это было резонно и правильно.
— Так, завтра, значит, — сказал директор. И добавил строго. — Пятнадцать.
— Эх, — махнул рукой Петр Сергеевич Барановский, большой ученый и уникальный изобретатель. — Только для тебя, Витёк. По старой памяти.
…
Прибор был черный. В настоящей тисненой коже. Кнопка была серебристой. А кроме жужжания еще мигала синяя лампочка.
Старшеклассники сидели, завороженные действом и словами директора школы о том, что Петр Сергеевич Барановский стал большим ученым и гениальным изобретателем именно после облучения мыслительными волнами десять лет назад. И вот он создал свой прибор, который поднимет уровень таланта у всех старшеклассников вдвое — это минимум. Гарантия такая. А некоторым, у которых мозг лучше воспринимает эти специальные волны, в целых десять раз.
— Надеюсь, — говорил строго и одновременно возвышенно директор школы, — Что через несколько лет кто-то из вас постучится в мой кабинет и представит новое изобретение. Еще более уникальное и гениальное. И вы все будете гордиться, что учились в этой школе, в этом классе, и видели самого Петра Сергеевича Барановского с его уникальным прибором, который так поможет вам в будущей жизни.
…
— Ну, ты заезжай, если что, — сказал директор, укладывая стопку купюр в сейф.
— Да ты что, Витёк! Знаешь, сколько еще школ не окучено? Мне же по стране еще кататься и кататься! Таланты выращивать — это тебе не за столом в кресле сидеть!
На том и расстались директор школы и гениальный ученый и изобретатель.
…
Эх, думал директор, а может, мой талант-то как раз в чем-то другом? Может, я тоже мог бы стать изобретателем и ученым? Упустил свой шанс, промахнулся…
Хотя — директор школы всего через десять лет после окончания…
Но вдруг что-то было бы еще лучше и сильнее?
Он пересчитывал деньги в сейфе, делил на пятнадцать и умножал на сто, прикидывал, сколько еще школ в стране. Да-а… Повезло Петьке. Бычара свой талант проявил и применил в полной мере. У него, небось, как раз на сто процентов и выросло после того облучения.
Талант. Что еще сказать. Просто талант. И мыслительные волны.
Те, кто рядом
Медведь — это тот, кто мед ест в лесу. Отведать — это же откушать? Бабушка всегда так говорила, приглашая гостей к столу — «отведайте». Значит, садитесь, гости дорогие, сейчас будем всякое вкусное кушать.
Медведя нельзя называть по его настоящему имени, потому что он тогда может услышать и прийти. И будет все, как в старой сказке про медведя с липовой ногой. Страшная такая сказка. И очень правдивая. Придет такой и всех раздерет. Потому и говорят о нем — медведь, а не как-то еще по-другому. Люди давно договорились его так звать, им понятно, о ком речь, а вот он не слышит свое настоящее имя, и не идет, не нападает…
И тех, кто живет с людьми, их тоже нельзя называть по-настоящему. Это только в очень старых книжках и старых сказках о них пишут прямо, называя по имени. Нельзя так. Потому что придут ведь, осилят, заполонят все, займут место человека, и будут жить одни. А потому что — ну, зачем им люди? Людей они терпят, только пока люди сильнее — потому что их не осилить. И еще пока люди кормят, да.
Мама разбирала белье, которое вытащила после стирки, и ругала вполголоса «того, кто живет в стиральной машине». Он в этот раз, что сделал — вывернул пододеяльник, а потом уже в вывернутый насовал все остальное, что в машине было. Это, выходит, всякие там полоскания были совершенно ни к чему и бесполезно, потому что все — внутри. Вот мама и ругалась потихоньку, разворачивая и раскладывая, и думая, что опять придется кидать в машину — теперь для второго полоскания. Но вот она становилась:
— Зинаида! — когда она так говорит, сразу страшно становится до мурашек по коже. — Где твои носки?
— Они же совсем дырявые! — развела маленькие ладошки в стороны Зинка. — Совсем-совсем дырявые! Я их выкинула.
— Так, — сказала мама и села на старинный бабушкин табурет, крашенный белой масляной краской. — Иди сюда, глупый ребенок, и я тебе сейчас все объясню.
— Ага, — ответила девчонка с двумя задорными хвостиками на голове уже из-за угла, из коридора. — И — по попе?
Нет, мама у нее добрая на самом деле, но по попе в сердцах иногда могла залепить свернутым кухонным полотенцем. Ну, это если Зинка ее совсем из себя вывела.
— Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой! — сказала мама заклинание.
— Иго-го! — закричала Зинка, а потом сказала упрямо. — И вовсе я не никакая не «сивкабурка»! У меня волосы нормальные — вот!
Это когда она совсем маленькая была, не понимала. И покрасила волосы чернилами. Не все волосы — столько чернил не было. Вот тут спереди. И косичку одну. Папа смеялся. Мама ругалась и называла «сивкобуркой». Но теперь она не «сивкобурка»! Она нормальная девочка.
— Вылезай, подлый трус, — рассмеялась мама. — Иди уж сюда.
Она похлопала по своему колену и отложила какие-то футболки, которые только что разбирала.
— Слушай и запоминай. Те, кто живут с нами и вокруг нас — они на самом деле не друзья и не враги. Они — просто чужие. Поэтому надо всегда ожидать от них всякой вредности. Всегда ожидать и знать правила. А правила эти вывели еще наши предки. Того, кто за печью, надо кормить. Того, кто в бане — надо кормить. Того, кто под кроватью — вот не смейся, не смейся — тоже надо кормить.
— Я кормлю! — тут же вспомнила Зинка.
— Это твои-то яблочные огрызки — еда? Ты же там все высасываешь, до прозрачности, до самых косточек! Что же ему останется? Ему, который живет под твоей кроватью? Вот он тебя и пугает иногда. Потому что вредничает так. Голодный он просто.
— И что же? — хитро прищурилась Зинка. — Теперь в стиральную машину мои яблоки и конфеты кидать будем, что ли?
— Нет. Тот, кто живет в стиральной машине, не ест нашу пищу. Он ест, — мама оглянулась, как будто боялась, что ее кто-то подслушают, и щекотно выдохнула горячим шепотом прямо Зинке в ухо, — носки! Он всегда ест только наши носки!
Зинка хихикнула и потерла ухо.
— Щекотно!
— Вот ты хихикаешь, а вспомни лучше, как папа после стирки ищет свои носки. Ну, вспомни!
Зинка расхохоталась в голос. Потому что эта история с носками повторялась как минимум каждый понедельник, когда папа, который вставал раньше всех и на кухне поднимал вверх тяжелую гирю — Зинка ее ни разу не могла пошевелить — начинал искать носки. И если стирка была в воскресенье, обязательно получалось, что все носки перепутаны, да еще никак нельзя было найти пару.
— Вот! — страшным громким шепотом продолжала мама. — Это как раз тот, кто живет в стиральной машине, ест один носок. А остальные перепутывает, чтобы никто не заметил. Но мы, люди, все знаем и помним! Вот я всегда, даже когда стираю постельное белье, обязательно кладу хоть дырявые, хоть старые, хоть даже совсем чистые носки. И тогда он, из стиральной машины, ничего не путает и не портит. Тогда он ест. Понятно?
Зинка подумала, повспоминала, что вспомнилось, и кивнула. А потом еще вспомнила:
— А тот, кто живет в холодильнике?
— Ну, это совсем просто. Ты помнишь, я всегда кладу кусочек хлеба?
— Это же от запаха?
— Какой может быть запах от свежих продуктов в нашем совсем новом холодильнике? Сама подумай — откуда? Этот запах — вредность того, кто живет в холодильнике. Но он не ест наше, запакованное и завернутое. Ему хочется хлебца. И не свежего, горячего, а чуть подсохшего.
— Вот и Верка мне говорила, что сухой — полезнее!
— Что это еще за Веерка такая? Она — Вера. Она же твоя подруга?
Зинка пожала худыми плечиками. Ну, да, подруга. Так подруги всегда так и говорят — Верка и Зинка. И ничуть тут не обидно. Потому что — подруги.
— Но она права, это врачи даже говорят, что подсохший хлеб — полезнее. Вот и тот, который живет в холодильнике, любит именно чуть подсохший хлеб. И если успевать подкладывать, то никогда из холодильника не будет пахнуть. Ясно тебе, глупый мой ребенок?
— Я не глупый, — обиделась Зинка. — Я просто еще маленький.
— Ты, маленький ребенок, что мы делать теперь будем? Белье надо снова полоскать.
Зинка попыхтела, как маленький ежик, делая вид, что это вовсе не про нее. Но потом слезла с маминых колен и пошла к своему комоду в углу. Порылась там и достала красивый гольф в полоску. Красивый-прекрасивый. И очень яркий. Полоски были красные и зеленые. Только он был с дыркой во всю пятку.
— Вот, — сказала Зинка и шмыгнула носом. — Это очень хороший гольф. Только совсем дырявый.
— Господи, — всплеснула мама руками. — Где же ты его откопала? Ему же года три уже!
— Он красивый, — упрямо нахмурилась Зинка.
— Понятно, красивый. Ну, пойдем, дочка, поможешь маме.
Мама взяла белье и понесла в ванную. Там она набила все в стиральную машину, понажимала кнопки, попискивающие от каждого касания, а потом сказала:
— А теперь корми его, корми.
Зинка положила сверху свой гольф и закрыла дверцу машины. Мама проверила, защелкнулся ли замок, а потом пустила воду.
— Ну, что, пошли делать ужин?
— Нет, — мотнула головой Зинка. — Я потом.
— Ага, — хитро улыбнулась мама и тихонько вышла, прикрыв дверь.
А Зинка погладила белый гладкий пластик стиральной машины и зашептала куда-то туда, куда мама засыпала порошок:
— Ты прости меня, пожалуйста. Я же не знала, что ты голодный. У нас дома никто не должен быть голодным — я теперь всегда буду тебя кормить. Простишь, да?
В машине что-то громко заворочалось, и Зинка почему-то сразу поняла, что — все. Никаких обид. Все теперь будет хорошо. И пошла к маме на кухню, потому что уже пора было ужинать.
А уже совсем ночью, когда стало темно, когда надо было ложиться спать, она выковыряла из кармашка на платье совершенно растаявшую за день конфету, опустила в щель между кроватью и стеной, и сказала туда же:
— Вот. Это тебе, который под кроватью. А ты не пугай меня больше. Я уже не такая маленькая, как раньше. Я теперь уже стала больше. Я больше знаю. И про тебя тоже знаю. И буду кормить.
И почти сразу уснула, крепко-крепко. И никто ей не мешал этой ночью, никто не пугал, никто не хватал холодными пальцами за голые ноги, высунутые из-под одеяла.
А утром первым делом, едва проснувшись, она специально проверила, лежит ли кусочек хлеба в холодильнике.
Теплый дождь
— Сегодня точно будет дождь.
Сказано было серьезно и основательно. Так, как говорят: солнце восходит на востоке. Еще можно так: снег — холодный. И еще: огонь — жжется.
— А если не будет?
А это было сказано уже так: а вот если врешь — ответишь за слова? Или еще так говорят, когда вдруг слабосильный гимназист говорит, дрожа, что нет у него с собой денег.
— А если найдем? — вроде бы дружелюбно и с улыбкой спрашивают у него.
Вроде бы дружелюбно. Только он сразу начинает сам шарить по карманам и выгребать медяки, которые сберег, не потратил на сладкую булочку с корицей.
Непогоду сегодня не предвещало ничто. Но в городе, в их большом городе, в их просто огромном городе, в котором на разных окраинах мог идти дождь, снег, или светить солнце — и все это одновременно, в одну и ту же минуту — в этом городе уже привыкли к внезапным проливным ливням. Проливные ливни — разве так можно говорить? Наверное, нет. Но как еще сказать, когда не просто ливень, а проливной, пробивающий все на свете, проливающийся сквозь крышу, сквозь запертые окна и двери, который вдруг начинается посреди зимы? Да, такое тоже было. Но старожилы только кивали: магия, колдовство. Все понятно. И никакое изменение климата не позволит небу в самый короткий день вдруг натянуть тучи, скрыться в черноте, врезать тугими струями, как из пожарных брандспойтов, залить все водой, скрыть из глаз соседние дома и даже соседний подъезд. Нет, ясное дело — самое типичное колдовство. Шаманизм и камлание. Или что там еще делают во дворце королевские шаманы.
Никакая одежда, никакие зонтики не устоят перед такой погодой. Только черные кожаные плащи внутренней гвардии. Только черные кожаные фуражки с длинными козырьками. Только большие, во все лицо, стекла очков черной гвардии, плотно прилегающие к лицам.
К лицам? Да кто видел эти лица хоть раз? И кто видел эти плащи? Это только мальчишки во дворе, поглядывая в небо на клубящиеся облака, на глазах превращающиеся в дождевые тучи, передавая украдкой друг другу сворованную у отца и раскуренную на всех сигарету, рассказывают всякий страх и ужас о черных внутренних гвардейцах, о стрельбе на окраинах, о пропавших детях… Почему в этих рассказах-страшилках пропадают всегда дети? Если вдуматься, столько нестыковок в таких рассказах. Но думать не хочется. Хочется зябко бояться, вздрагивать, передергивать плечами, затягиваться торопливо горячим едким дымом — «Петер, блин, что за гадость курит твой отец?»…
И вовсе не гадость. Это ему в пайке дают. Отец иногда покупает, если уж совсем не хватает. Но это не каждый месяц. И если он покупает, то там совсем другой табак. Потому что за деньги — оно всегда лучше. Вот возьмем паек, скажем. Он полезный и вполне съедобный. Кто-нибудь видел, чтобы от пайка человеку становилось плохо? Или чтобы болели от пайка? Вот и сигареты, что в пайке — они, может, и не такие вкусные, как покупные, но ведь наверняка не вредные!
— Папка твой сегодня опять до ночи, небось? — понимающе кивает головой Михась. — Раз дождь — он всегда на работе, да?
— Да причем здесь работа? Если дождь — никто вообще на улицу не высунется. И мы тоже все по домам…
— Ну, это ты про всех-то не говори. Я вот — запросто. Могу и по лужам, если что.
Ну да, ну да. Конечно. И родители его не ругают, потому что родителей у него нет. Конечно, ему можно под дождем торчать. Наверное, это ужасно неприятно, когда промокает одежда и холодная вода начинает течь между лопатками и вниз, цепляться за пояс, впитываться в рубашку… Бр-р-р… Нет уж, лучше дома.
— А дождь, между прочим, вовсе и не холодный. Вас чему в гимназии учат? Раз на улице холодно, а от дождя пар начинает подниматься, туман такой — значит, он теплый!
Ну, по физике если, то он вроде как прав, этот малахольный Михась. Но физика — это просто книжка такая. Учебник. А город и дождь — это вовсе в натуре город и дождь, а не книжка и не выдумки какие-то. И про кожаные плащи в физике тоже ведь не написано ничего. И про детей, которые пропадают — ни слова. А папка говорил, что вовсе никто и никуда и не пропадает. Он говорил, что в нашем городе ничего просто так не происходит. Как и во всем мире. И если где-то кто-то пропал, то он же где-то сразу же и появился. Вот, например, если бандита какого или даже подпольного революционера арестуют, и их не станет у них дома — они же исчезнут, так? Но они тут же появятся в тюрьме. И в целом в городе все останется, как будто так же, одинаково, вроде как было. Но на самом деле — лучше. Упорядоченнее. Потому что те, кто против народа, обязательно должны быть в тюрьме.
— А этот дождь специально напускают шаманы из дворца. Они там камлают, и приходит дождь. Даже если на дворе полная зима. Все сразу прячутся, поднимается густой туман. И в этом тумане легче работать гвардейцам.
Это говорит Виктор. Он маленького роста, но у него очки, как у черной гвардии — такие же большие. И он очень умный с самого детства. Так бывает. Его даже бить неудобно как-то.
Вот Михася лупить — это совсем другое дело.
— Вот я же что и говорю, — талдычит он. — Это твой отец, получается, в дождь по городу разъезжает и маленьких детей ворует! Ну, раз его никогда в дождь дома не бывает…
И он так говорит «отец», что я ему тут же бью в нос. Потому что откуда ему знать, что такое папка? Он же сам без родителей, вот ничего и не понимает. А левой я мажу и попадаю ему по уху. Но и мне прилетает не слабо. Ухо взрывается острой болью, гудит в голове. Но тут парни наваливаются на Михася, и он сразу бросается в бега. Я не бегу за ним. Я сижу на земле, а Виктор сует мне совсем маленький окурок. На две затяжки, максимум. А я делаю всего одну, киваю благодарно, и передаю ему обратно. Он тоже затягивается. Потом кашляет, выдыхая синий дым, и говорит:
— А дождь все равно будет. Я тоже чувствую.
Они как сговорились с Михасем. Но Виктора лупить нельзя. Он еще маленький. И умный — страсть!
— И чо теперь? — говорю я. — Если дождь — так чо?
— И все. По домам надо.
А все и так уже расползаются по домам. Потому что тучи, и воздух сразу такой густой, и голову как-то… Нет, голова — это от кулака, наверное. Это Михась, гад, удачно приложил своей колотушкой. Бабка его кормит хорошо — вон какой облом вырос. С родителями, небось, таким бы здоровым не был! С родителями всяко делиться надо.
— Ага, — говорю я. — По домам, значит.
Виктор бежит, смешно перебирая короткими ногами. А я прячусь за сарай. Михасю, значит, все можно, да? Он, значит, храбрый такой, да? Даже, может, плащи видел черные кожаные? Хотя, про плащи — это он не говорил. Он только про теплый дождь.
Ну, и где он, этот дождь?
И тут небо проливается. Обрушивается вдруг и сразу. Как в бане, когда папка выливает всю шайку мне на голову, чтобы сполоснуть. Я ору в воду, но кто же тут и чего услышит. Вода по-настоящему теплая. Она приятная, почти как в бане. Поднимается густой туман. Точно, настоящий колдовской дождь.
Я уже хотел попрыгать под окнами по лужам, показать язык и скорчить рожу всем, кто струсил.
Во двор бесшумно въезжает большая машина, из которой молча полезли страшные люди в черных блестящих от воды кожаных плащах. И сразу стало понятно, что плащи у них вовсе не кожаные, а резиновые. Это я очень близко от них оказался. И их всего пятеро. Так что весь дом они окружать и не собираются. Они сразу подходят к нашему подъезду, и двое входят внутрь. А остальные о чем-то разговаривают, сблизив головы в блестящих капюшонах. Один поворачивает голову, и я вижу очки. Как маска на пол лица. А он в эти очки видит меня. И идет ко мне. А мне даже убежать некуда. Потому что тут самый угол.
Я корчусь, втискиваюсь глубже, жмурюсь, чтобы он не чувствовал моего взгляда. Это все знают: если не смотреть на охотника, то он тебя не почувствует. Так пишут в книжках. Но этот черный меня уже видит.
Он подходит и берет меня за плечо. Больно и крепко берет за плечо. Надо было заорать, как под дождем. Так громко, чтобы все сразу услышали. Но я просто не могу. У меня перехватывает дыхание. И еще я плачу, кажется, но дождь смывает слезы, и поэтому совсем не стыдно.
Страшный черный гвардеец тащит меня к подъезду. Как куклу. Я еле успеваю переставлять ноги. А навстречу выводят бабку Михася. Вернее, она сама идет. И сразу в машину. А за ней волокут Михася. И тоже — в машину. Но он меня не видел. Он на бабку свою смотрел. И в окна на двор никто не смотрел — потому что дождь.
А меня гвардеец проводит мимо машины, впихивает в подъезд и указывает пальцем вверх по лестнице.
— Что? — не понимаю я.
А потом вижу за стеклами очков сердитые папкины глаза. И очень быстро убегаю домой — переодеваться и сушиться.
Я сижу дома вечером один, потому что родители на работе. Я закутался в одеяло. Мне тепло и сухо. Рубашка, штаны — все висит на веревке в коридоре.
Я думаю: если завтра хоть кто, хоть даже если маленький Виктор что-то скажет про дождь или там про детей, которые пропадают — ух, я ему врежу. Потому что нечего тут лишнего всякого языками трепать. Учиться пора.
Скоро мы сами станем взрослыми.
Школьная форма
При входе в школу на высоком крыльце стоял директор и при нем два дежурных учителя. Они заворачивали всех, кто, по их мнению, был неправильно одет. Мишка хитрый. Он сразу, ещё издали увидев, свернул налево. Он знал, как можно пройти через начальную школу. Там только нельзя было попадаться училкам — сразу к завучу потащат. Борька же вздохнул, но следом за ним не пошёл. Вдвоём там тем более делать было нечего. Он упрямо наклонил голову и пошёл прямо на директора.
Учителя с директором уже второй год так над ними издеваются. То стрижку проверяли и гоняли всех, у кого волосы длинные. А чего гонять? Ну, длинные. Зато чистые! Борька их в хвост собирал, так даже девчонки некоторые завидовали и спрашивали, не конским ли шампунем он их моет. Потом школьная администрация привязалась к разным фенечкам, браслетам и серёжкам. Борька серёжку не носил, потому что не девчонка, а парень. А вот кожаные браслеты-напульсники — было дело. Как раз когда за это стали гонять, тогда он их и надел, намотал плотно на каждую руку. И все равно пробирался в школу. Каждый день — в школу. Потому что учиться он хотел. И учиться любил.
Говорят, что хотеть в школу — это как-то не по правилам. Мол, все должны школу ненавидеть и обязательно мечтать её скорей закончить и забыть, как страшный сон. Но Борьке нравились преподаватели. И история нравилась. И география тоже. И прочие интересные предметы.
А теперь — что?
— Стой! — сказал директор школы и вытянул руку, преграждая проход. — Ну, вот, опять… Борис Фролов? Девятый «А»? Ну, и что ты нам скажешь сегодня?
— Здравствуйте, — вежливо сказал Борька всем троим сразу.
— Здравствуй, здравствуй… Ты как одет?
— А как? — удивился Борька, осматривая себя. — Все чистое!
— Но это же простые джинсы! А мы приняли решение, что формой одежды будет костюм.
— Мы — это вы? — угрюмо спросил Борька, понимая, что опять не пустят.
— Мы — это мы. И никаких дискуссий. Я не допускаю тебя до уроков. Иди домой и переодевайся, — сказал директор и отвернулся к подходящим к школьному крыльцу.
Костюм у Борьки, конечно, был. Он висел дома в шкафу, и Борька даже надевал его пару раз. В театр один раз и ещё раз, когда ходил на день рождения к Олесе. Она тогда всех пригласила, и пришли почти все. А Борька так даже был в костюме и при галстуке.
— И чо теперь? Учиться уже в джинсах нельзя? Это мне на мозг давит, типа? Джинса мешает процессу? — пытался огрызнуться Борька, но один из учителей, военрук, кстати, уже отводил его в сторону, похлопывая успокаивающе по плечу — «иди, мол, иди и не спорь».
Ну, он и пошёл. Сначала прямо, чтобы все видели, что ушёл со двора. А потом повернул вдоль ограды, протиснулся между раздвинутыми прутьями, подошёл к школе сзади и задрал голову. Сверху из класса смотрел весело Мишка — уже прошёл, значит. Проскользнул, как ниндзя в кино.
— Ну? — спросил он сверху.
— Лови, чо…
Рюкзак полетел в окно, а потом Борька подпрыгнул, уцепился за кронштейн, куда вставляли знамя, когда на площадке проходили разные смотры и построения. Потом перехватился рукой за карниз, а тут уже и народ помог. Подхватили под локти, с шумом и смехом втащили в класс и рассыпались по полу, упав.
— Фролов? — на него сверху смотрела учительница химии. — Ты, никак, очень учиться хочешь?
— А чо, уже и хотеть этого нельзя? — спросил Борис и быстро сел на своё место.
— Ну, тогда ты зря сел. Тогда, давай, голубчик, к доске. Раз уж так рвёшься учиться.
Борька химию знал. Он вообще всё знал, потому что учил уроки всегда. Скоро должна была проходить аттестация, а потом надо было выбирать, куда идти — в простую школу в старшие классы, или в колледж, или на усиленное какое обучение. И отец дома всегда говорил, что права качать можно, только если дело своё знаешь и делаешь. Вот Борька, выходит, «права качал», но дело своё знал — за это его и терпели в школе, наверное.
Если бы ещё не все эти придирки…
В классе, кстати, длинноволосый остался он один. Мишка и Васька даже специально побрились «под ноль» и щеголяли блестящими головами в знак протеста против притеснений администрации школы. И их даже вызывали к директору и там допрашивали: не заставил ли кто, не издевался ли кто, не насильно ли. А Борька просто упёрся. И вот сегодня они даже внимания на волосы не обратили. Зато — джинсы.
От доски весь класс был виден хорошо. В джинсах были только они трое — двое бритых, да один волосатый. Интересно, что ещё придумает директор школы перед аттестацией?
…
— Следующий — Борис Фролов! — высунулся из класса секретарь комиссии.
Борька сказал всем «к чёрту», и чётко ставя ноги в роскошных ярко-красных кроссовках, зашагал на итоговую аттестацию. После полумрака и прохлады коридора класс с широкими окнами на юг тонул в солнечном сиянии. Все плыло перед глазами, и только аттестационная комиссия — целых пять человек, удобно раскинувшихся в принесённых специально креслах — были в фокусе зрения.
— Ну, вот, товарищи, — сказал директор, хмыкнув в кулак. — Это вот и есть наш Борис Фролов.
— О-о-о! Тот самый? — зашевелился, наклонился вперёд, всматриваясь, один.
— А на вид — совсем нормальный…, - сказала незнакомая женщина.
— А кроссовки-то, кроссовки какие! — не выдержал кто-то ещё.
Борька покраснел от такого внимания и успел только спросить:
— А чо — кроссовки? Нельзя, чо-ли?
Но тут поднялся председатель комиссии, успокоил всех одним движением брови, а потом негромко сказал:
— Поздравляю вас, Борис. Вы зачислены без вступительных экзаменов в наш колледж. Специализацию выберете сами вместе со своим куратором.
И замолчал.
А Борька не понял.
— И все, чо ли? А как же аттестация? Я готовился! Я могу!
— Аттестация была весь год. Вернее, два последних года в средней школе. Ты нам подходишь. Ты же учиться хочешь, невзирая ни на что. Так?
— Хочу, — набычился Борис. — А нельзя?
— Вот и будешь у нас учиться.
— А кроссовки?
— Очень красивые. Яркие такие. Весёлые. Поднимают настроение.
— А ещё у меня — вот, — крутанул он головой, махнув длинным «хвостом».
— Ого! Чем моешь? — это, конечно, женщина среагировала.
— А форма одежды у вас есть? — прищурился Борька, заранее готовясь к битве.
— Есть, есть, — подмигнул Борьке директор школы. — Форма у них очень простая: все должно быть чистым и удобным. Так что, поздравляю, Борис! Рад, что ты учился в моей школе.
Скука
— Вставайте, граф, вас ждут великие дела! — привычно раздалось ранним утром в тесной спальной.
— Господи, — простонал молодой граф, пытаясь накрыться с головой тяжелым ватным одеялом.
По традиции рыцарей закаляли с детства, поэтому в спальной комнате никогда не строили камин, а окна не имели стекол и ставен. Летом это было даже приятно, если не считать комаров, да мух, но вот осенью и зимой… Бр-р-р…
— Господи, — повторил он, когда твердая рука старого слуги сдернула одеяло. — Ну, за что мне это? Почему?
— Вы должны, потому что вы рыцарь и вы граф.
— И что с того?
— Вам надлежит совершить утренний туалет и выехать в полном вооружении для совершения подвига.
— Господи, — третий раз за утро возопил юноша. — Как же мне надоели эти ранние вставания, эти ежедневные подвиги, эта скачка по лесам и полям, эти спасенные девицы, дурищи из дурищ с восторженными глазами, эти повешенные разбойники, эти убитые драконы… И такая канитель — каждый день, каждый день… Какая же тоска… Какая скучища… А вот быть бы мне лучше торговцем, водить караваны, как делают Уильям с отцом, смотреть на новые города и страны, останавливаться в гостиницах или даже просто так на берегу реки, на поляне… Новые встречи, новые знакомства. Вот где романтика, вот где жизнь!
…
— Уильям! Почему ты еще спишь?
— Отец, прошу вашего прощения, но я лег только в два часа ночи…
— Я лег после тебя. Я еще проверил груз и охрану. И встал — раньше. Почему же ты еще спишь?
— Ох-х, — зевая, вылез из спального мешка, новейшего изобретения северян, Уильям.
Вилли — так его называли только самые близкие друзья. Остальные за такое сокращение благородного имени могли и в харю получить. Потому что вышел Уильям не в мать и не в отца. Родители были маленькими и кругленькими, аккуратненькими и похожими, как пуговицы на мундире стражника. Сын у них был один, и с детства они все силы и все средства вкладывали в него. Вот и выросло… Что выросло. Огромного роста, широкоплечий, мускулистый, рыжий, как огонь — не в одном селе после прохода торгового каравана плакали девчонки, так и не сумевшие оставить его при себе.
— Ну, вот, встал, — пробасил он, взгромождаясь над отцом, с восхищением смотрящим на любимое чадо.
— Встал, значит? Ну, тогда — утренний туалет, как положено купцу. А потом считать и укладывать товар, проследить за упряжью, чтобы не попортили лошадей, переговорить с охраной — въезжаем все же в леса, послать голубя, что въезжаем в эти самые леса, пусть готовят отряд для встречи, проверить кассу, выдать на расходы квартирьерам, отправить квартирьеров вперед — не забыть про охрану для них, распланировать график движения, получить отчет и проверить его…
— Ох, отец… Какая же все это скучища и тягомотина… И вот так — каждый день. И что, теперь мне до конца жизни — так? Постоянные поездки, грязные ночлеги, умывание в реке, сельские девки, пересчет товара, недоверие ко всем, контроль и учет, учет и контроль… И все зачем? Затем, чтобы приехать домой, переночевать там — и снова в путь? Как же это скучно и неинтересно… Вот жить бы, как вчерашний наш трактирщик, на пересечении дорог в своем трактире. Встречать проезжающих, слушать рассказы, знать все и обо всех, писать книгу о приключениях со слов путешественников, завести себе жену, детей кучу, ходить с ними в лес по грибы и ягоды…
…
— Джек, тудыть твою и растудыть! Ты почему еще спишь? Ты почему спишь, скотина? Ты почему…
— А-а-а, — вскочил Джек на своем топчане, получив по мягкому месту розгой.
Отец у него раньше служил в армии, дослужился до сержанта. После отставки на накопленные деньги купил трактир. А вот повадки у него остались сержантские. Розги, палки, беспрекословное выполнение приказов…
Зато его трактир славился по всей округе своей чистотой и вкусными обедами. И на пиво никто не жаловался.
— Больно, па! — Джек почесался. — Слышу я, уже слышу!
— Так будет еще больнее! Ты что, забывать стал свои обязанности? Точно, сожгу все твои книги — один вред от них. Быстро умываться, бегом — и за дело! Проследишь за уборкой, поглядишь, как там помыли посуду, подберешь у крестьян пару овец на жаркое, да чтобы не так, как вчера, а посвежее, помоложе выбирай, чтобы ребрышки после жарки были мягкие и сочные! Потом сходишь с Михой на рынок, принесете овощей и зелени. Потом посчитай, что у нас там с вином и пивом. Потом рассчитайся со сторожем — он уже полчаса ждет у кассы. Потом сходи на конюшню — чтобы было там чисто и солома свежая. Потом начисть до блеска краны, потом обновить надо вывеску, потом…
— Ох, па… Уже иду, — совершенно убитым тоном прервал Джек отца. — Но все-таки, как же это скучно — каждый день одно и то же. С самого, извиняюсь, с ранья. И до самой, так ее, ночи. А то и до утра… Голова уже не варит. В глазах все двоится и плывет, хоть и не пил совсем. Ни тебе почитать, ни посидеть минутку. Даже на любовь времени не остается. Изо дня в день, изо дня в день… Такая скучища и тягомотина. Вон, даже простому крестьянину, хоть и тому же Питеру, что пил пиво вчера до ночи — ему в сто раз легче и интереснее жить. У него есть свои четыре времени года, и со сменой времен меняется жизнь, у него есть свое поле, есть природа вокруг, есть урожай… А у нас — ох, такая скучища!
…
— Ах! — вскочил, отплевываясь, Питер с сундука, на котором спал. — Ты что, батя, охренел?
— Я охренел? Это я охренел? Вот сейчас возьму грабли, да поломаю о твою спину, бездельник! Солнце уже встает, а ты еще спишь? Какой ты, к чертям собачьим, крестьянин? Ты пьяница беспутный, забывший свои обязанности перед семьей и перед богом!
— Да какой пьяница-то… Одна кружка пива раз в неделю…
— Вот именно! Каждую неделю — что это, если не пьяница? А нам сегодня травы косить — вот квитанция от лесника, по опушкам разрешено. Нам сегодня после этого надо еще успеть вернуться и накормить-напоить всю скотину. Днем-то она попасется в общинном стаде, а вот вечером и перед ночью… Значит, надо кормов задать. Коров подоить всех — мамка одна не справится. Приготовить к утру товар для рынка и то, что отвезем в замок за защиту. А там уже и время будет бороновать, а потом…
— Вот же, угораздило крестьянским сыном родиться, — бурчал Питер, собираясь.
Хотя, что там было собираться? Подпоясал рубаху, в которой спал, повесил на плечо холщовую суму, в которую кинул луковицу да кусок хлеба, и выскочил за отцом на улицу.
— Ну, и где твое солнце?
— Я не сказал, что оно встало. Я сказал, что оно встает. Вон там, видишь, край неба уже посветлел?
— Черт-черт-черт…
— Не чертыхайся!
— Как же мне надоела эта идиотская жизнь! Этот, так его, повседневный идиотизм сельской жизни, как говорят в книжках умные люди…
— А кто их кормит, этих твоих умных людей? Мы! Что они без нас? Они же просто сдохнут все, если не мы. Да на нас вся земля держится, понял?
— Это мне ясно… С детства знаю, заучил… Но как же это скучно, батя! Какая же это скучища: год за годом, месяц за месяцем, день за днем делать одно и то же. Встречать рассветы в полях. Зимой перебиваться мелкими заработками. Летом не спать почти. Осенью жениться, плодить новых крестьян. И опять — поля, вонючая дурная скотина, навоз, мозоли на руках… И пустая голова на плечах. Совсем пустая, понимаешь? Остановиться и задуматься некогда. А ведь есть в мире такие люди — писатели. Они, знаешь, пишут книги, описывают разные страны и континенты, приключения всякие. А еще можно сказки писать про рыцарей, про драконов, про принцесс и пастухов… Сидишь, в окошко смотришь, и пишешь сказку — представляешь?
…
— Какая же все это скучища и тягомотина! — вскричал резким козлиным голосом писатель, бросая в угол перо. — Как же мне все это надоело! Выдумывать, вживаться, мучиться, сидеть каждый день до твердых мозолей на заднице, до головной боли, писать всю эту муру, которая по большому счету никому не нужна… Кто это все читает, кроме нескольких умников? Эх… Вот ведь, некоторые — подвиги совершают, девиц освобождают, драконов бьют, разбойников разгоняют… Или ходят с караванами… Или вот кормят народ в трактирах на перекрестках дорог… Или просто пашут землю. И все их знают, любят, уважают… Не то, что меня. Ну, кому я нужен со своими сказками-рассказками? Что это за жизнь? Каждый день, каждый божий день — за стол. И как приговоренный, как прикованный, как настоящий раб на галерах: писать, писать, писать, писать… Ох… Скучища. Скучища и тягомотина. Нет в жизни счастья…


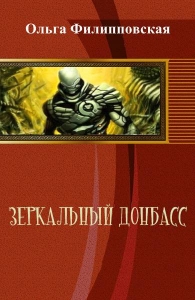



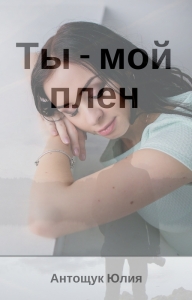


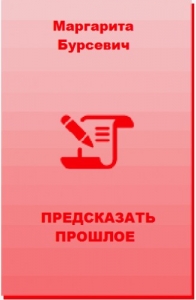
Комментарии к книге «13 плюс», Александр Геннадьевич Карнишин
Всего 0 комментариев