Роман Барский ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Где-то торжественно звучат трубы оркестра. Выводят знакомую мелодию «Марша победы»…
«Значит я жив, — подумал Афанасий, — Потому как ни в аду, ни в рою, ни в чистилище, если они существуют, таких маршей наверняка не играют». Ни рука, ни нога, ни вся его плоть не слушались Афанасия. Ни позвать кого-либо, ни открыть глаза он не мог. «Наверное, это мои последние минуты и отведены они мне, чтобы мог я сосредоточиться перед концом своим, осознать свою жизнь, повиниться хотя бы перед самим собой. Наверное, в такие предсмертные минуты люди призывают к себе священника, чтобы он им составил протекцию на том свете, каются в содеянных грехах и преступлениях, раздают своё состояние, составляют завещание», — думал Афанасий.
Но Афанасий не верил в Бога ещё с малолетства. Потому что, где же мог быть Бог, если люди поднимались за облака на аэропланах и дирижаблях, — и Бог терпел такое надругательство над своею обителью, если можно было плевать в скорбные очи господни на бабкиной иконе — и даже не оступиться после этого! Отец его, верно, тоже не верил в Бога. Когда он приходил вечером с работы в заляпанной краской робе, волоча за собой ведро с малярными кистями, мать встречала его причитаниями и упрёками, призывая в свидетели Бога. Отец заплетающимся языком хвалил советскую власть за то, что она, наконец, позаботилась о трудящемся человеке, — разрешила продавать в кооперативе настоящую казёнку, и теперь де будет радость не только у нэпманов, шляющихся по ресторанам, но и у пролетариев. При этом он посылал мать вместе с Богом и двенадцатью апостолами к прародительнице кем-то осквернённой и падал посреди комнаты. Господь и тогда не гневался на такое богохульство. Тем не менее, мать становилась на колени, крестилась в пустой угол и шептала и что-то шептала. Потом освобождала неподвижное тело отца от грязной робы и укладывала на клеёнчатую кушетку.
Мать, как женщина крестьянского роду, была недоверчива ко всему, что говорили люди и писали в газетах. Ей казалось, что всё это преходяще, а истина, настоящая правда, — это то, чему её учили сызмальства, что передавалось веками из поколения в поколение в коренных крестьянских семьях. Вложенные в её душу десять заповедей, были ей понятны и логично согласованы со всем строем крестьянской жизни.
Мать была родом из пригородного села и отдана замуж за Павла Сиротина в город, потому что парней в селе было мало и на всех невест женихов не хватало. Город забирал себе своих бывших кормильцев и превращал их в заводских пролетариев, которые в недалёком будущем должны были завоевать весь мир.
Павел Сиротин был мужик справный, хоть и городской. Имел в руках хорошее ремесло. А что пьёт, так это же после трудов. Кто ж после трудов не пьёт? Правда, в деревне труды заканчивались осенью, — вот тогда и пили, свадьбы гуляли.
«Кто же среди трудового года пьёт? Разве што лодыри да служивые. Ну ещё казаки. А у Павла работа такая. Закончил работу — вот и пей. Это тяжело, потому как работа у ево быстрая… — объясняла бабка Афанасия своей дочери Матрёне, матери Афанасия, — Да и кому сейчас легко?»
Афанасий попытался открыть глаза, но у него ничего не получилось. Звуки оркестра приближались…
«Да и зачем открывать глаза? — подумал он, — Всё, что я увижу, давно мне знакомо. Соседей полошить ни к чему. Всё равно мне уж не помочь… К тому же и праздник… Нельзя было пить вчера. Доктор ведь сказал, — «Как выпьешь, — так полный паралич и смерть. Вот здесь распишись, что предупреждён». — Но как тут не выпить? День Победы… Сороковый… Может быть для меня самый счастливый был первый… Потому что в тот день меня привезли на войну, а она кончилась»…
…Ласковое майское утро… Падает тёплый весенний дождик, прибивая кирпичную пыль, гася догорающие остовы зданий. Тихо в Берлине. Где-то ещё идёт война, где-то ещё падают, сраженные металлом люди, а здесь нынче только ласковый шелест дождя…
…«Взвод! В ружьё!» — кричит старшина…
…Отлетела весенняя тишина…
…Две тридцатьчетвёрки, урча двигателями, пробираются засыпанными битым кирпичом улицами к западной окраине Берлина… На броне, уцепившись левой рукой за скобу на башне, сидит Афоня, правой сжимает ППШ.
Перед небольшой площадью танки останавливаются. Молоденький лейтенант в помятой каске, весь белый от известковой пыли, что-то объясняет своему коллеге, командиру танкового взвода.
Танки, чуть высунувшись на площадь из провала улицы, задрав кверху пушки, стреляют по амбразурам окон большого пятиэтажного здания на противоположной стороне площади.
Среди сухого кашля танковых орудий никто не услышал шипения огненной змеи фаустпатрона…
Ближний к Афоне танк осветился желтобелым ореолом… Глухой взрыв — и его башня, подпрыгнув, съехала набок. Орудийный ствол, как рука убитого бойца, безжизненно опустился…
…Ползёт Афоня по битому кирпичу, укрываясь за обломками стен, к тому проклятому окну, откуда метнулся огненный шлейф фауста… Ползут рядом с ним его товарищи. В глубине оконного проёма в такт стрёкоту пулемёта багрово вспыхивают выхлопы газов… Свистят пули, щёлкает по каске битая кирпичная крошка… Охнул справа сержант, затих слева солдат… Афоня один перед тёмным зевом окна… Ещё миг — и граната летит в окно. Многократно отраженное резонатором комнаты эхо взрыва гремит весенним громом и наступает тишина…
Афоня сидит у стены и размазывает пыль по мокрому от пота и дождя лицу… Шелестит весенний дождь по берлинским руинам…
…«Как твоя фамилия, солдат?» — спрашивает лейтенант. — «Сиротин, — отвечает Афоня, — Афанасий Павлович Сиротин». — «Представлю к награде, Сиротин! Молодец! Геройски действовал!» — говорит лейтенант.
…У догорающего танка лежат шесть мертвых тел. Три обгорелых танкиста и трое пехотинцев из взвода Афони. Рядом стоят два оглушенных афониной гранатой подростка лет по четырнадцати в форме СС-ваффен. Фаустники. Пожилой танкист с короткими седеющими усами остановившимся взглядом смотрит на лежащие тела. Потом опускается на колени перед обуглившимся трупом танкиста, долго смотрит на него и гладит черными от копоти руками то, что было ещё пол часа назад головой… «Петенька, сынок… Как же так?.. Ить войне уже конец пришел, а ты не уберёгся… — слёзы катятся по его лицу и застревают в усах, — Чо ж я матери-то скажу?» — тихо шепчет танкист…
…Зловещая тишина нависает над площадью…
…Рокот танкового двигателя, запущенного на полные обороты, резанул тишину. Танк присел и дёрнулся вперёд. Раздался лёгкий треск расколотого ореха-черепа и на мостовой отпечаталось чернобагровое пятно у обезглавленного, дёргающегося в агонии туловища в эсэсовской форме… У второго мальчишки-эсэсовца крик застрял в горле, круглящиеся распахнутые глаза, лицо перекошено ужасом… Два танкиста держат его за руки, готовясь сунуть головой под черную от крови гусеницу рычащего танка…
«Оставьте его, хлопцы… Дурной ведь он… Сопляк… Дали в руки игрушку, засрали мозги — вот и наделал делов… Петьку мово не вернёшь… Не его то вина… Оставьте… Пленный он…», — сказал пожилой танкист, растирая по черному лицу слёзы…
…«Ахтунг! Ахтунг! — надрывается громкоговоритель, — Ди криг капут!!!»…
…«Войне пришел пиздец!.. Загнулась, окаянная!..» — шепчут солдатские губы в запёкшейся крови, в згустках засохшей мокроты, потрескавшиеся на ветру… Слёзы облегчения бороздят усталые запылённые щёки, застревая в щетине небритых подбородков…
…«Как прекрасен венский лес…» — поют скрипки чудную мелодию весны…
…Вальс, вальс, вальс, — слабо бьётся усталое сердце в груди Афанасия, хрипят запёкшиеся никотинной смолой лёгкие…
«Жив я ещё…» — шепчет отравленный алкоголем мозг…
«Што ж, малец, с первой наградой тебя! Дай Бог, штоб была она последняя», — говорит старшина и хлебает из котелка водку. Идёт по кругу котелок, причащаются из него солдаты, позвякивает о донышко котелка новенький серебряный диск медали с надписью кровавыми буковками — «За отвагу».
«Носи, Афанасий, эту самую солдатскую медаль. Честно ты её заслужил, сынок, — гладит его по голове старшина, — Поедем вскорости по домам, а тебе ещё послужить придётся… Много нас полегло… Ох, и много… — вздыхает старшина, — За упокой душ ратников за правое дело полегших с честью…», — прикладывается он к котелку по второму кругу…
…Голова идёт кругом у Афонии… Хорошо ему… Только клонится горизонт земной, да ноги не держат…
…Баба Горпына гладит маленького Афанасия по голове своими большими руками с выпуклыми жилами и потрескавшимися ногтями на узловатых пальцах. Поит тёплым парным молоком и называет его Панасиком. В хате у бабы Горпыны пахнет свежей травой. Под потолком в полутьме жужжат мухи. В садочке в лопухах копошатся большие коричневые куры во главе с черносиним петухом… Вишни пылают среди глянцевой листвы крупными сгустками запёкшейся крови. Глупый котёнок гоняется за большими зелёными мухами. Воздух насыщен утренней сыростью и кизяковым дымом. Как это было давно… Да и было ли?..
Когда Афанасий пошел в школу, отца уже не было. Он уехал куда-то на стройку. На заработки. Через месяц после его отъезда пришло письмо от администрации стройки… «Ваш муж и отец погиб на своём рабочем месте в результате аварии, содеянной вредителями…». Мать поплакала и пошла работать уборщицей в ЖЭК. Сначала она хотела вернуться в село, но потом, когда начался там страшный голод и мор, оставила эту мысль, решив, что уж лучше кормить Афоню с её скудного пайка в Городе, который она получала по рабочей карточке.
Единственное чувство, которое не оставляло Афоню ни на минуту — желание поесть чего-нибудь. Мать приходила с работы и варила пшенную кашу, которую ели с ржавой селёдкой…
«Синенький скромный платочек Падал с опущенных плеч.Ты обещала, что не забудешь…» — стонет с надрывом из динамика Клава Шульженко за стеной…
…«Цоп — цоп — цоп», — клюёт сердце черный петух…
…Рвутся мышцы сердца…..Черный эсэсовец бьёт наотмашь прикладом по голове Ваську… Розовые мозги брызжут в черную грязь базарной площади… Ноги его ещё дёргаются некоторое время, продолжая бежать, потом затихают и тело его превращается в обезображенный труп. Эсэсовец сдергивает с головы бабы платок, старательно стирает им кровь с приклада и забрасывает карабин за плечо…
«Русише швайн! Он есть вор!» — морщится презрительно немец и бросает на землю окровавленный платок…
…«зачем это я, — зачем это я», — трепещет сердце, стучат колёса…
…«В Германию, в Германию, в Германию», — мелькают телеграфные столбы за окошком вагона, забранном колючей проволокой. В вагоне смрад. Прижавшись друг к другу на соломе, брошенной на пол, лежат люди. Афоня приник к стенке вагона. Не хочется ему лежать. Душно. Гадко. Смотрит в окно на убегающие к его родному дому столбы, разъезды, поля, убогие хаты…
«Вот тебе и дратвы раздобыл, — думает Афоня, — Попал, как новичок в облаву… Что ждёт впереди? Разное говорят люди»…
…Написал домой открытку. Приклеил марку за пять пфеннигов с портретом фюрера. Полетела домой весточка, что жив ещё…
…«Бр-р-р-р», — сыплется мокрая картошка в корзину. Несёт Афоня корзину под навес, высыпает клубни для просушки…
«Шнель, шнель», — подгоняет управляющий. Мелкий осенний дождь засевает поля Остланда, влажнит выкопанные клубни, насыщает мокротью рыжую, как сосновая кора, старую ботву…
Великая Германия, напрягая последние силы, ведёт войну в Африке и на Кавказе, в Заполярье, в тихвинских болотах, под Воронежом и на Волге. Ей нужно много хорошей картошки. Герр Шульце старается. Он хороший хозяин. Он сделает на этих восточных землях образцовое немецкое хозяйство. После войны Шульце выпишет новую сельскохозяйственную технику, осушит болота и обводнит скудные песчаники. Ему не понадобятся больше эти ленивые русские скоты, работающие только из-под палки. К сожалению, они ему пока нужны. А чтобы они хорошо работали, их нужно прилично кормить. Да, это так. Любой настоящий хозяин знает, — чтобы лошадь везла кладь, её нужно кормить. Ведь она нужна будет и завтра…
…Панна Ванда разливает по мискам капустняк. У каждой миски лежит пайка хлеба и чистая алюминиевая ложка. Панне Ванде восемнадцать лет. Она из Варшавы. Все знают, что герр Шульце неравнодушен к панне Ванде. Потому и поставил её на лёгкую работу — раздатчицей. Знает об этом и фрау Хильда Шульце. Она зорко следит за своим мужем, чтобы, упаси Бог, он не нарушил расовых законов, — не спутался бы со славянкой.
Красивая девушка панна Ванда, статная. Когда она наливает в афонину миску капустняк, у Афонии сердце бьётся часто-часто, он в смущении опускает глаза. Панна Ванда знает, что Афоня из самого Города, значит из приличной городской семьи, а не какое-то там деревенское быдло. Она его иногда подкармливает — положит в его миску лишнюю ложку супа или картошки. Им нужно держаться вместе, чтобы выжить. Да и фрау Шульце устраивает их взаимная приязнь…
…Боль в груди наростает. Афанасий на миг теряет сознание… Сколько лет прошло, а он, как только вспомнит ту проклятую осень 42-го, так сердце у него рвётся на части. С криком вскакивает среди ночи, обливаясь холодным потом. Снова и снова переживает тот проклятый хмурый ноябрьский день. Ужас сводит его мышцы, спазмы перехватывают его гортань…
…Недалеко от фольварка Шульце остановилась на формировку танковая часть. Машины новые, только из заводских цехов. Формируется часть для отправки на восточный фронт. Солдаты большей частью из резерва, после ранений. Словом, понюхавшие пороху и на западе, и на востоке, и даже в Африке.
Рабочие фермы Шульце живут в наскоро сбитых дощатых бараках. Мужчины в одном, женщины в другом. Женский барак очень интересует немецких солдат. Кто знает, чем кончится для каждого из них новое путешествие на восток. А жизнь-то всего одна…
Панна Ванда живёт отдельно, в каморке при кухне. Герр Шульце не хочет, чтобы она попадалась на глаза доблестным воинам Рейха. Фрау Шульце совсем не против, чтобы эту польскую курочку немного потоптали бранденбургские петушки. Может быть это отвратит от неё внимание супруга.
С утра герр Шульце отправился в Белосток по своим коммерческим делам, и к вечеру ещё не вернулся…
Фрау Шульце угощает солдат пивом и шнапсом. Из кухни слышен смех и пение…
…После ужина панна Ванда, управившись с посудой, подходит к Афоне.
«Пане, Афанасий, я боюсь тых жолнежей!.. Бардзо боюсь!..Я не могу там ночевать сегодня! Спрячьте меня где-нибудь!» — говорит панна Ванда и её большие серые глаза полны слёз…
…Они устроились в картофельном складе прямо на мешках с черными орлами.
«Я скажу, что вы мой брат. Хорошо?» — «Да, да, конечно!» — отвечает Афоня. Он лежит рядом с панной Вандой и тело его сотрясает нервная дрожь…
«О-о! То пан мне кохае? Так?» — мурлычет Ванда и целует Афоню. Афоня обнимает её и его рука неумело скользит по телу Ванды. Кожа у Ванды мягкая и горячая. Ласкают пальцы Афонии Ванду. От прикосновения к атласу кожи её бёдер у Афонии дух захватывает. Он весь напрягается и погружается в неё… Инстинктивно содрогается Афоня, испытывая неизведанное блаженство. На него накатывется волна нежности, и почти теряя сознание, он извергается, как вулкан, приобретая своё тело и реальные ощущения…
Они лежат в объятиях друг друга и шуршание мышей навевает на них дрёму…
…Яркий свет фонаря, пьяная немецкая речь возвращает Афоню к реальности. Его отрывают от Ванды и сначала бьют по голове и груди, потом привязывают к столбу. Афоня ничего не понимает. Он слышит крики Ванды — «Ой, пане жолнеже, не тшеба-а! Не тшеба-а-а!!»…
…Их трое. Пока двое били и привязывали Афоню, третий держал Ванду. Теперь они сдирали с неё одежду… Кровь прилила к голове, сердце готово выскочить из груди… Афоня что есть силы дёргается, столб трещит, верёвки впиваются в тело… Солдат бьёт Афоню по голове… Он теряет сознание…
Когда Афоня приходит в себя, он видит голый колышащийся зад немца между беспомощно раскинутых в стороны согнутых колен Ванды… Афоня стонет, хотя ему кажется, что он кричит. Нижняя челюсть ноет в скулах и кажется отрывается вовсе. И только теперь он понимает, что во рту у него большой картофельный клубень. Немец встаёт, подтягивает штаны и его место занимает другой. Третий в нетерпении готов последовать за первыми двумя… Первый, тем временем, достаёт из кармана гранату и вывинчивает из неё запал, освободив от чеки предохранителя, и как только третий поднялся, сунул запал туда, откуда вышел…
…Хлопок взрыва, страшный крик Ванды, пьяный смех и улюлюкание солдат — последнее, что мог восстановить в памяти Афоня, прежде, чем потерял сознание от ужаса.
…Их нашли утром рабочие склада. Ванда была уже мертва. Её белое обнаженное тело покрыто черно-синими пятнами, а между ног — страшное месиво запекшейся крови…
…«По просьбе ветеранов войны из города Иваново исполняется песня…» — слышится из-за стены…
«С боя взяли город Брянск. Город весь прошли. На последней улице Название прочли. А название такое, Право слово, боевое — Минская улица На запад нас ведёт…»— бодренько выводит своей хрипотцей Леонид Утёсов…
«Господи, Господи, — думает Афанасий, — Опять ветераны будят свою кровавую юность…»
…Афоня нашел заброшенную в угол сарая гранату, достал к ней запал и опустил через вентиляционный люк в выгребную яму солдатского сортира, как раз после обеда, когда солдаты сидели над ямой, как куры на насесте…
Глухой взрыв слился с ужасным визгом…
Вымазанные дерьмом солдаты вынесли из сортира своего окровавленного товарища с напрочь оторванными всеми мужскими частями его тела…
«За Ванду…» — шептали губы Афонии…
В тот же день Афоня бежал.
Далеко уйти ему не удалось. Уже к вечеру, в пятнадцати километрах от фольварка Шульце, Афоню задержал первый же шуцман. Пожилой шуцман, из старых служак, вполне годился ему в отцы. То ли пожплел он Афоню, то ли не было у него ориентации на розыск, принял он его за беглеца из рабочего лагеря в Пруссии. Афоня не стал исправлять ошибку шуцмана…
Так из Афонии Сиротина он превратился в Ивана Безуглого, который разыскивался по представлению администрации прусского лагеря для ОСТ-рабочих. В сущности, пробыл Афанасий Иваном Безуглым недолго, так как в кацете его и вовсе лишили человеческого имени и присвоили порядковый номер из пяти цифр.
…Разноязычный многолюдный Майданек… Здесь-то и встретился Афоня с цивилизованной Европой, организованно отправляющейся через трубы крематория в рай…
…Разламывается голова у Афанасия, глазные яблоки ноют тупой болью… Черный петух… Оберштурмфюрер Мартин Вейсс бьёт на аппеле его по голове…
«…Как прекрасен венский лес…», — выводит сопрано за стеной. Нежно шелестят листвой буки и клёны в венском лесу… Кружит старая мелодия кринолины дам… — «…Как прекрасен венский лес…», — поют скрипки вальс Штрауса… — «Тук-тук-тук», — стучат пулемёты, падают в свинцовом вихре под весёлые звуки вальса еврейские дети из восставшего варшавского гетто на пятом поле Майданека холодным ноябрьским утром 43-го…
«Господи, Господи, за что эта пытка?.. Я уже один раз пережил всё это. Хватит на несколько поколений.», — хочет сказать Афоня и не может…
…Зима на исходе. Сугробы осели и почернели. Кое-где синеют лужи воды…
Пригородный поезд идёт медленно и часто останавливается посреди поля. В вагоне мало пассажиров. Все какие-то молчаливые и озабоченные. Мать часто достает из узла платок и, всхлипывая, прикладывает его к глазам и носу. Афоне всё время хочется есть. Утром он выпил пустой чай с черным сухариком.
На станции непривычно пусто. По перрону ходят красноармейцы с ружьями и островерхих будёновках на голове. Как на плакатах в городе. До села они идут пешком ещё зимней, не успевшей подтаять дорогой. Что0то непривычное видится Афоне в облике села, а что — он сначала не может понять.
«Господи, Господи, — причитает мать, — За что же такая погибель? За какие грехи?..». И тут Афоня соображает — тихо в селе… Собаки не лают, петухи не кричат, скотина не мычит… И птиц не видно и не слышно. Дымы над хатами не вьются… Двери кое-где отворены. Следов человечьих на снегу не видно… Страшно стало Афоне. Прижался он к матери и взял её за руку. Вот и хата бабы Горпыны. Тихо вокруг. Не слышно курьего кудахтанья, не видно черносинего петуха. Нет в стайне коровы…
Баба Горпына лежит на лавке, прикрытая старым тулупом. Встать навстречу не может. Ноги у неё опухли, глаза слезятся, руки совсем почернели…
«Ой, жэ ж, мамо, що ж то з вамы стало?» — причитает мать. — «То за грихы наши, донэчко, Господь покарав… Нияка крывда Господом нэ прощаеться… Цэ й за тарасови грихы, твого батька, що чужу зэмлю дилыв помиж голодранцямы… Нэхай жэ зэмля йому будэ пухом… Омманулы, нэ видав, що робыв… Ой, лышэнько, лышенько… Заслужылы мы тую кару». — «Ось я вас зараз, мамо, нагодую, а потим пойидэмо до нас, у мисто». — «Ни, донэчко, ни. Никуды я вжэ не пойиду. Ногы мэнэ нэ дэржать. Чэкають мэнэ на тому свити. Вжэ й Тараса свого бачыла у ви сни. А можэ й дийсно прыходыв… — медленно, через силу говорит баба Горпына. — Звав до сэбэ… Казав, що йому одыноко там… Так й стояв у тий шинэли, в який його охвицэры забылы… Ой, жэ, Богородыцю, маты Господня, заступысь за нетямущого раба твого Тараса…», — тянется Горпына рукой ко лбу. Не слушается опухшая рука, не может осенить себя старуха спасительным крестом. Мутными каплями текут по сморщенным щекам слёзы…
…Афоне кажется, что в дверях копошится что-то лохматое. Может быть собака? Афоня смотрит на дверь. У самого порога две фигурки. Живые. Большие неподвижные глаза. Маленькие сморщенные лица. Фигурки молча стоят и смотрят на Афоню…. Переминаются с ноги на ногу и от этого кажется, что их рваные тулупчики колышутся…
«Бабо Горпыно, кто это?» — спрашивает Афоня шепотом. — «То устымови диткы, Панасыку. Уси вжэ у ных помэрлы… Пам'ятаеш дядька Устыма? Сусида наш був. Тэбэ на рыбалку з собою брав…»
Мать молча развязывает торбу и достаёт сухари. — «Отдай дитям, Мотрэ, мэни вжэ нэ трэба… А диточкам надо житы… Люды казалы, що йиздять по сэлам солдаты й забырають дитэй, що щэ жыви… Можэ й йим пощастить…» — тихим голосом говорит Горпына.
Баба горпына умерла к вечеру. Всю ночь Афоня не спал и сидел, прижавшись к матери. Ему всё казалось, что сейчас в хату придёт дед Тарас, которого он никогда не видел, дядько Устим и его жена тётка Ганна. И будут они его стыдить, что вот он живой и у него есть сухарь в торбе, а им никто не дал ни каши, ни сухаря, и потому они умерли…
Утром в село приехали красноармейцы на лошадях. Они помогли похоронить бабу Горпыну и взяли с собой детей Устима…
Афанасий тяжело вздохнул. Казалось, совсем забытые детские воспоминания вернули его в далёкое прошлое, и проступило оно так ярко и образно, как будто всё это было вчера. Боль жалости сдавила ему грудь так, что из-под прикрытых век у него выкатились слезинки.
…Петух… Черносиний петух с большим алым гребнем, как флаг, шагает голенастыми ногами со шпорами… Он стучит ими по полу… В голове стучит кровь… Красная, как петушиный гребень…
…«Господи, опять этот эсэсовец… Нет!.. Это же петух!.. Красный гребень Красный флаг… Красный кумач лозунга… — «Пятилетку — в четыре года!»… — бредит Афанасий…
…Афоня сидит в классе за партой рядом с аккуратно причёсанная девочка. Волосы у неё черные и вьются мелким барашком. Зовут её Сарой. Они сидят и внимательно слушают, как пионервожатая рассказывает про доблестного пионера Павлика Морозова. Им нравится этот храбрый мальчик, который не пожалел отдать свою жизнь ради разоблачения кулацкого заговора.
«Могли бы вы поступить, как Павлик Морозов?» — спрашивает пионервожатая. — «Да-а!» — отвечают дети хором, и их руки в восторге тянутся вверх. Они решили назвать свою пионерскую дружину именем героя-пионера…
Афоня и Сара тоже тянут руки вверх и тоже кричат…
Дома Афоня задумывается и с ужасом осознаёт, что плохой он пионер, так как не смог бы пойти и рассказать в милиции, что его баба Горпына спрятала хлеб. Ведь она такая добрая, так любит его, Панаса, и маму, и деток дядька Устима — отдала им свой последний сухарик и умерла…
«Отчего умерла баба Горпына, дядько Устим и тётка Ганна? Почему у них не было хлеба? Раньше ведь был. И черный петух был, и корова Зирочка… Куда всё делось? Почему им не дали хлеба или каши, чтобы они жили?» — спрашивает Афоня мать. — «Цыц, глупый!.. — говорит мать, — Не вздумай такие вопросы в школе задавать»…
Девочка Сара тоже не знает. Её папа, дамский портной, посмотрел поверх очков на Афоню и сказал: «Ах, хлопчик, хлопчик, в мире тысячи вопросов, на которые не могут ответить тысячи мудрецов. Послушай лучше, что я тебе расскажу…». И он рассказал Афоне сказку о любопытном слонёнке, которому крокодил вытянул нос, превратив его в хобот. «Я думаю, ты не хочешь, чтобы господин крокодил тянул тебя за нос?» Афоня не хотел.
Учительница сказала, чтобы дети открыли учебники на страницах, где были изображены портреты Маршалов Советского Союза. «Дома заклейте портреты Маршалов Егорова, Блюхера и Тухачевского. Это — враги народа.» — сказала учительница.
Афоня нарисовал усы на портрете Маршала Тухачевского и выколол пером глаза Маршалу Ворошилову…
Учительница отчего-то очень испугалась, забрала у Афонии учебник и вызвала в школу мать…
Мать вернулась из школы заплаканная, взяла старый отцовский ремень и отстегала Афоню. Афоня сжал зубы и не плакал. Плакала мать. Потом она прижала его голову к своей груди и долго гладила его волосы. Афоня чувствовал на макушке её тёплые слёзы…
Короткие тёплые ночи сменяются ясными жаркими августовскими днями. Грозовые ливни смывают пыль с кружева листьев каштанов и клёнов. Запахи зрелых пригородных садов, полей и лесов вытесняют со старых улиц дух раскалённого асфальта и бензина. Афоня пойдёт уже в шестой класс. На верхней губе пробились усики. Вернулась из фабричного пионерского лагеря Сарра. Её папа работает теперь закройщиком на фабрике со странным названием «Индпошив». Спереди её кофточка слегка оттопыривается, а лицо, — лицо Афоня не помнит. Он видит перед собой только два громадных черных глаза под взлетевшими крыльями бровей. Когда он смотрит на неё, у него во рту становится сухо и что-то внутри как бы обрывается. Сарра улыбается и что-то рассказывает Афоне о лагере, но он ничего не слышит.
«Ну а что же, Пан, произошло за лето в нашем доме?» — спрашивает Сарра. Пан — это прозвище Афонии. Производное от Панаса. Очень не нравится Афоне его имя. Какое-то старорежимное. То ли дело Володя или Вилен, как у Ленина. Или вот, как у Гражданкина, который сидит на передней парте — Красноарм! Чудесно! — «Ну же, Пан!» — торопит его Сарра. Афоня, как бы возвращается с облаков, сглатывает слюну и рассказывает о новых пароходах на реке, как он учился плавать, как увезли Толика и его мать из соседнего подъезда в «черном воронке» поздним июльским вечером. «Как это было? — спрашивает Сарра — Мне папа ничего этого не рассказывал». — «Сначала забрали его отца. А потом и его с матерью. Говорят, что он — враг народа. Замаскированный. Агент фашистов.» — «Кто? Толик?» — «Нет. Его отец». - отвечает Афоня. — «Его отец — старый чекист. Ещё с товарищем Дзержинским работал». — «Откуда ты знаешь?» — «Мне папа рассказывал». — «Вот видишь, а оказался врагом». — «Может и не враг. Разберутся и отпустят. Может быть ошиблись». — «Нет, Сарра. Я слышал тётка Степанида, соседка Толика рассказывала лифтёрше, что у него нашли при обыске золото и бриллианты. Награбил в Гражданскую войну. Она всё слышала через стенку. И ещё — она давно подозревала его. А то, где бы взял Толик золотую пятёрку, которую хлопцы снесли в ювелирторг?» — «Что это за история с пятёркой? Расскажи скорее!» — Афоне приятно, что Сарра с таким вниманием слушает его. — «Плёвое дело. Вовсе не Толика была та пятёрка. Просто Вовчик и Толик дали свои адреса в ювелирторге, когда пятёрку сдавали. Может быть эта пятёрка даже Вовчика была. У Вовчика тоже был обыск. Он ведь живёт в нашей квартире. Я, правда, ничего не слышал. Спал. Обыск-то ночью был. Соседка наша, Даниловна, рассказывала — пришли четверо. С дворником дядей Мишей. И её пригласили. В свидетели, что ли. Всё перерыли, стены простучали, половицы поотрывали. Родители Вовчика стоят, ничего не понимают. Бледные. — «Что ищите?» — спрашивают. — «Знаем что». - отвечают. Под утро все утомились. Ничего не нашли. — «Ваше счастье, — говорят, — Золото искали. Ваш малец в ювелирный снёс». — «Какое золото? Мы отродясь его не имели! Я по кузнечному делу». - говорит вовчика батя. — «Вот потому вас и не берём. Может действительно хлопец где и нашёл. Сами с ним разбирайтесь. А это мы для профилактики. Драгоценный металл — достояние государства. Ни к чему он нашим советским людям. За него мы покупаем у капиталистов машины так необходимее нам для строительства социализма. До свидания.». И ушли. Тут батя вовчика взял ремень, зажал его меж колен и драл, пока тот не охрип от крика. Это уж и я слышал»…
…Стучит у Афонии в голове. Контуры видения расплываются… Черносиний петух с красным гребнем долбит его темя… «О-ох!.. Проклятый петух… Что ему от меня нужно?»… — думает Афанасий.
…Афоня сидит за партой рядом с Сарой. Он тайком поглядывает в её сторону…
«Сиротин! Повтори, что я сейчас сказала?» — это учительница по истории. Она рассказывает, что вчера, 17-го сентября, Красная Армия вынуждена была перейти границу, чтобы спасти жителей западных областей Украины и Белоруссии от рабства капитализма. Афоня стоит и молчит. Он не знает, что именно сию секунду говорила учительница. — «О чём ты думаешь, Сиротин? Во время урока нужно слушать!» — Афоня подумал и сказал — «Я думаю, раз немцы теперь наши друзья, то зачем нам спасать от друзей население Западной Украины и Белоруссии?» — «Сиротин!!! Вон из класса!! Без родителей в школе не появляйся! Черт знает, что у тебя в голове!»
Афоня нехотя собирает свою сумку. Ему не хочется расставаться с Сарой…
…Раннее летнее утро. Афоня проснулся. Он вновь переживает выпускной бал… Свидетельство об окончании седьмого класса лежит на столе. Вчера он в первый раз танцевал вальс с Сарой. Кончилась школьная жизнь. Сарра пойдёт учиться в техникум лёгкой промышленности. Её папа сказал, что люди всегда будут хотеть хорошо и красиво одеваться. И при социализме, и, тем более, при коммунизме. Значит всегда нужны будут хорошие портные, которые сумеют сшить хорошую и красивую одежду.
Афоня решил пойти в речной техникум. Он будет капитаном на самом большом пассажирском пароходе, который плавает до самого моря вниз по реке. Да! Так и будет! Через десять дней он отнесёт документы в техникум, и будет готовиться к экзаменам. Афоня обязательно поступит в техникум. Будет хорошо учиться. В техникуме платят стипендию. Можно будет Сарру пригласить в кино. И маме будет легче. С первой стипендии Афоня купит маме красивый платок. И ещё эстонских конфет…
…Глухой грохот вдали прервал течение его мысли. Грохот ближе, ближе… «Как будто взрывы, — думает Афоня, — Как в фильме «Если завтра война…»». Он смотрел этот фильм три раза…. Опять грохот… — «Что бы это значило?»…
Война наступила сегодня.
…Голова у Афанасия, как будто стянута обручем. Звон в ушах. Звон перемежается с трубным звуком оркестра, прославляющим «десятый наш ударный батальон», готовый заплатить за победу любую цену.
…«Кто я — что я, кто я — что я, кто я — что я… пир-р, пир-р, пир-р». - стучит кровь в висках, рвёт грудь своими шпорами черносиний петух, свесился на бок, как флаг, его яркокрасный гребень…
«Господи, — думает Афанасий, — Зачем всё это?.. Дай мне смерть принять без мук, о, Господи!.. Не такой уж я большой грешник… Я достаточно видел мерзостей на этом свете, но не мог противиться им или предотвратить их… Может быть в этом моя вина?.. Да, я стал пить, потому что трезво смотреть на эти мерзости не мог. За это я наказан. Моё тело — развалина, мой мозг разрушен… Я так и не стал капитаном, потому что мне некого пригласить на мостик…»
«Пир-р, пир-р, пир-р, кто я — что я, кто я — что я», — стучит кровь в висках, рвёт сосуды…
«Почему так странно стучит в голове?.. При чем тут Пирр? Ах, да!.. Это, кажется имя древнего царя, который победил римлян… Он тоже за ценой не постоял…».
…Тёплый сентябрьский ветер гонит по булыжникам древних мостовых черные клочья сгоревших бумаг, обрывки газет, первые палые листья. С глухим звоном бьются о мостовую колючие коробочки конских каштанов, разбрызгивая во все стороны карие шары плодов. Улицы безлюдны. В городе безвластие. Намедни мощный взрыв оповестил об уходе последних частей Красной Армии из города — девяностолетний Цепной мост над рекой, построенный английскими инженерами, во второй раз за последние двадцать лет рухнул в воду… Навсегда…
Шуршит ветер старыми плакатами и афишами Блеском фальшивых драгоценностей играют в солнечных лучах осколки разбитых витрин ограбленных магазинов…
По улице движутся желтоватозелёные тупорылые грузовики, транспортёры на гусеничном ходу, пятнистые в своей защитной окраске. Солдаты в серостальных тужурках и лихо сдвинутых набок картузиках с орлами погоняют громадных, лоснящихся от сытости лошадей белокоричневой масти с толстыми ногами, обросшими выше мощных копыт длинными рыжими космами шерсти. Лошади легко тянут орудия и фуры, груженные ящиками, мешками и прочей, необходимой на войне утварью.
У подъездов и даже у самой бровки тротуара стоят люди. Большая часть пожилые. Они без опаски смотрят на проходящую армию завоевателей.
Стоит у подъезда Афонин сосед, старый Свадрон. Он помнит немцев по 18-му году и не ждёт от них никаких неприятностей. Ведь он старик. Никому никогда ничего плохого не сделал. Не был ни партийцем, ни чекистом, ни совслужащим. Советскую власть уважал, потому что она — власть. А всякую власть нужно уважать. Писали в газетах, что немцы убивают евреев, но он этому не верит. Однажды, ещё до германской войны, он ездил в отпуск в Германию. Хозяин дал ему отпуск за безупречную двадцатилетнюю службу. В Германии всюду Свадрон видел удивительную чистоту и порядок, вежливость и предупредительность. Он не верил, что цивилизованный европейский народ может убивать людей просто потому, что они другой национальности.
Едут мотоциклы и машины. Колышутся над ними прутья антенн. «Фельджандармерия» — читает на борту машины надпись Свадрон и объясняет соседкам, что это как бы полиция, только полевая. Что такое «полевая» — он не знает. Но что такое жандармерия — помнит. Помрачнел Свадрон. У солдат в машинах глубокие каски на головах, закрывающие уши и шею сзади. На груди подвешены металлические бляхи, похожие на ломти арбуза. На бляхах тоже надпись — «фельджандармерия».
Из коляски остановившегося мотоцикла вылез немец. У него на маленьких погончиках светлые кантики по контуру. Солдат делает несколько приседаний, чтобы размять ноги, пока его коллега возится в моторе. Солдат внимательно смотрит на Свадрона. «Юдэ?» — тычет солдат пальцем в грудь старику. «Йа, йа!» — кивает головой Свадрон.
Немец молча берёт из коляски карабин, щёлкает затвором, и, не целясь, стреляет в старика. Свадрон охнув хватается за грудь и медленно оседает на тротуар. Солдат ещё дважды стреляет в лежащее тело. После каждого выстрела тело дёргается и подпрыгивает, пытаясь инстинктивно уклониться от следующего удара. Потом в конвульсиях замирает под старым каштаном. Солдат смеётся. «Аллес пиздец!» — говорит он и садится в каляску мотоцикла. Можно ехать дальше. Подворотни и подъезды пустеют…
Вечером с дворником дядей Мишей Афоня подходит к старому каштану. Труп старика лежит на правом боку. Седая борода растрёпана. В ней запеклась крупная капля крови, вытекшая изо рта. Кажется, что старик пил вишнёвую наливку и косточка пьяной вишни застряла у него в бороде. Внезапная смерть поразила его на месте, и широко открытые голубые глаза застыли в немом удивлении. Поздние осенние мухи обследуют его полуоткрытый беззубый рот, крупный нос и крутой лоб философа. «Жил себе человек, никому зла не делал, пришел другой и убил его… За што?.. Шо ж то за люды?..» — задумавшись говорит дядя Миша.
…Сентябрь на исходе, а на дворе тепло, как летом. Завтра все евреи города должны собраться у старого еврейского кладбища. Так написано в приказе. Приказ расклеен по всему городу. За невыполнение — расстрел. Говорят, что всех евреев вывезут из Города. Афоня прибежал к Саре. Уж он-то знает, что никуда евреев не повезут, а расстреляют в ближнем овраге. Как старика Свадрона. Афоня просит Сарру не идти завтра к кладбищу. Он спрячет её и никто не узнает где. У Сарры полные глаза слёз. Она не может бросить отца, мать и младшего братика. Она должна с ними идти. Пусть Афоня не волнуется. Просто их вывезут в другое место. Она будет писать ему письма…
…В висках стучит кровь и Афанасию кажется, что это стучат пулемёты в старом пригородном яру, наполненном обнаженными желтыми людскими телами…
…Приятный женский голос под домашний задумчивый рокот гитары выводит — …«но только нам нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим…».
Во рту у Афанасия сухо. Шершавым языком не пошевелишь. «Господи, попить бы, что-ли…» — думает Афанасий. Ни встать, ни пошевелиться. Только мозг ещё работает. «Да зачем же пить? Конец скоро… Скорей бы уж…».
…В комнате Свадрона теперь живёт Валентина. Ей лет девятнадцать. Может быть двадцать. Раньше она жила с матерью на окраине в маленьком глинобитном домике. Валентина работает официанткой в офицерском казино. Ей далеко добираться домой, вот она и переселилась в центр города. Комнат пустых сейчас в городе много. Кто успел эвакуироваться — эвакуировался, кто попал в пригородный яр, кто бежал из города… Валентина приходит с работы поздно ночью, а иногда даже утром. Потом спит почти весь день. Соседки говорят, что она, как сыр в масле катается.
…Идёт второй год войны. Кое-кто из соседей перебрался в деревню к родственникам. Там всё же сытнее. Земля есть земля. Хоть как, а прокормит. Не то что в городе.
Сидит Афоня в кухне, чинит свой прохудившийся ботинок. Задумался. Дратва на исходе. Гвоздей нет… Придётся опять идти с Васькой на промысел на базар. Скрипнула свадронова дверь. Неслышной походкой вошла в кухню Валентина. Заспанная, с синими кругами под глазами. На плечах поверх старого цветастого ситцевого халатика наброшен платок. Желтые нечесаные волосы спутались.
«Што, Панасик, чеботаришь?» — спрашивает Валентина. Афоня молчит насупившись. — «Поздороваться даже со мной не хочешь? Презираешь. Знаю. Немецкой овчаркой меня называете. Што ж, может и так. Только больше это от зависти. Всякий живёт, как может. А я ведь ещё молодая. И жить хочу. Не хочу подыхать от голода. Вот и ты сердишься на меня. Будто я у тебя кусок отняла. А ведь я-то тебе его дала. Не устрой я твою мамку в казино судомойкой, давно б вы оба с голоду опухли. Да не дуйся ты на меня. Разве ж человек виноват, што хочет жить? Для того и родился он на свет. Собака и та гавкает за то, што её хозяин кормит». Валентина набирает воду из афониного ведра и долго пьёт. Вода капельками падает на черный кухонный пол с её нижней полной красной губы. Она ополаскивает лицо и утирается платком. «Ну, будет тебе дуться», — говорит Валентина и кладёт свою руку Афоне на плечо. От руки исходят дразнящие запахи незнакомых заграничных духов. — «Пошли ко мне. Позавтракаем. Составь компанию. Сегодня у меня есть селёдочка и ветчинка. Как до войны. А то хочешь — угощу португальскими сардинками. Вечер у них был вчера. Вроде как праздновали взятие Эльбруса».
Валентина гладит Афоню рукой по голове, и не в силах он сбросить эту руку. Весь он какой-то ватный, голова кружится, во рту пересохло. Он молча встаёт и идёт за Валентиной. Как во сне жуёт Афоня душистую ветчину, пьёт какую-то коричневую водку из бутылки с заграничной наклейкой. Валентина всё подкладывает ему в тарелку, нагибается над ним так, что видны ему под халатиком холмы её грудей, прикрытых полупрозрачной шелковой рубахой. Темнеет у Афонии в глазах и непонятная дрожь сотрясает тело. Валентина улыбается, гладит его по щеке своей мягкой рукой, и лицо её преображается, глаза становятся громадными и туманит их таинственная дымка. Афоня знает, что обычно происходит между мужчиной и женщиной, но как это бывает, он ещё не имеет понятия. Ему хочется прижаться к Валентине. Он простил ей всё, что о ней говорят, и, как во сне, тянется к ней. Перед ним её полураскрытый рот и запахи, запахи…
«Ну, ну, что ты, Панасик. Старая я и гадкая. Не для тебя. Твои невесты ещё не выросли. Как я потом буду смотреть тебе и твоей матери в глаза? Успокойся, мальчишечка», — вздыхает Валентина и отодвигается от Афонии.
Сидит Афоня, закрыв глаза. Валентина гладит его по голове, как маленького, приговаривая: «Ах ты ж мой мальчишечка несмышленый… Да рази ж я виновата, што приходится каждодневно улыбаться этим гадам? Допустили их, вишь, большевички-комиссары аж до самой Волги. Отдали-то сколь народу на поругание-растерзание… А кто виноват? Мы же и будем виноваты, што просто хотели жить, да с голыми руками не шли на танки… А где ж это видно, штоб люди сами шли на смерть? Вона, прошлый год осенью сколь наших пленных было в лагере в заречьи. Сказывали — сто тысяч. Бабы да девки ходили к лагерю искать своих мужиков. Хто попроворней, за бутылку самогонки и за кусок сала вызволяли своих из плена. Да и не только своих. Галка, моя сменщица, привела себе солдата. Курский он. Щас устроила кочегаром, штоб аусвайс имел, да в Германию штоб не отправили. Живёт с им, как с мужем. Говорит, Как выпьет он — матерится по чём свет. — «Предали нас врагу вожди да большие командиры, — плачет, — Всё нашим народным горбом искупать будем. Наказание нам то дано за легковерие и простодушие. Ни винтовок, ни снарядов, когда надо не оказалось. Ни танков, ни самолётов. Всё песни пели, што забодаем врага. Гитлеру пшеницу и нефть нашу везли, а он нас танками да самолётами утюжил, в которых нашенский-то бензин залит, — и плачет, плачет всё, — Загубили Рассею, дурики». — Так-то вот, Панасик», — Вздыхает Валентина и целует Афоню.
…«Кто-кто, кто-кто, кто-кто», — бьётся пульс, туманит видение… Больно клюёт грудь черный петух… Хочет застонать Афанасий, да не может…
…«Как ты похудел, мой мальчик, — обнимает Афоню мать, — От тебя долго не было писем. Я уже думала, что никогда тебя не увижу. — Мать смотрит Афоне в глаза, — Твои глаза видели много страшного… В них страдание и боль… Бедный мальчик, что они с тобой сделали?..» — плачет мать и прижимает афонину голову к груди, как когда-то в детстве. Её тёплые слёзы жгут темя сквозь поредевший короткий ёжик его волос.
…Нет больше Валентины… Заразилась она дурной болезнью от итальянского лейтенанта… Её забрали в гестапо и никто её больше не видел. Официантки в офицерском казино должны быть здоровыми и красивыми…
…Вернулись соседи из пригородных сёл. В их комнатах хрусталь и серебро, картины и патефоны тех, кого уже больше нет. У них есть картошка и сало. На Большом базаре за кусок сала можно выменять даже музейные редкости. Перемалывая крепкими зубами домашнюю колбасу, сдобренную самогонкой, они называют афонину мать немецкой овчаркой, а его самого немецким щенком. За то, что они работали на немцев…
Медленно восстанавливает силы Афоня. Кормиться как-то нужно. На работу его не берут. Нет у Афонии квалификации, да и документов никаких, кроме справки из госпиталя…
…Старого инженера трамвайного депо Бирнбаума вызвали из эвакуации восстанавливать транспортное хозяйство города. Он работал на городском трамвае ещё до революции при бельгийских хозяевах городской электрической железной дороги.
Бирнбаум прочитал на афониной справке слово «Майданек» и принял его учеником слесаря…
Теперь Афоня имеет рабочую карточку. Жить можно.
…«Вьётся в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза…» — Слушают ветераны старую окопную песню… Наворачиваются слёзы на глаза, давит горло ком жалости к своему изувеченному войной поколению. Слышит Афанасий людскую скорбь в этих словах, боль матери, боль Васьки, боль Валентины, стоны изуродованной Ванды и предсмертные крики замученных в Майданеке его товарищей… Хочет застонать Афанасий и не может…
…Весной 45-го Афоню призывают в армию. Вышел срок и его году повоевать… Не отдал он ещё своего долга войне… Быстро учат новобранцев. Некогда. «Добьём фашиста в собственной берлоге! Дойдём до Берлина!» — улыбается с плаката солдат, поправляя обувку.
…Тянется эшелон израненными полями Волыни, разорёнными сёлами Галиции. Знакомые места проплывают мимо отворенных дверей теплушек. Поют молодые солдаты «Катюшу». Вот и Германия… Вернулась война туда, откуда пришла…
…Горы битого кирпича, изогнутые стальные балки, закопченные стены и всюду разбитая военная техника среди развороченных человечьих жилищ… Это — Берлин. То, что от него осталось. Город взят. Дымят полевые кухни. Сегодня седьмое мая, день радио… Афоня во взводе автоматчиков Гвардейской стрелковой дивизии. Больше половины взвода такие же новобранцы, как и он сам.
«Што ж, ребята, видать вскорости она загнётся, проклятая. Даст Бог и вы получите медали «За взятие Берлина», — говорит ротный старшина, раздавая тушонку и патроны, — И-и-эх! Может и не будет боле расходу. Послужите положенное — и по домам. Много сирот и вдов понаделали. На тысячу лет норму выполнили…» — вздыхает он.
…Бегут солдатские будни от подъёма до отбоя, от караула до караула. Вот и срок вышел афониной службе. Съедено положенное количество каши, выпито положенное количество кружек чаю. Едет Афанасий домой в новенькой гимнастёрке, новеньких кирзачах и добротной шинелке, выменянных у ОВС-ного старшины на трофейные часы. На груди у него блестят четыре медали — «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейная медаль «ХХХ лет Советской Армии». В большом фибровом немецком чемодане среди разных бытовых мелочей кусок немецкого искусственного шелка — матери на платье…
…«Ха-а-а-ра-ша-а страна Болгария, А Расея-а лучше всех…»— поют солдаты в вагоне, звенят стаканы. Шнапс сменяет «Польска водка выборова», её в свою очередь белозелёная «Московская»…
…«Идее ж ты так подорвал свой организьм, ефрейтор, што тебе и стакана много?..» — спрашивает Афанасия здоровенный воздушный стрелок из Витебска.
«В Майданеке… Слыхал?» — отвечает заплетающимся языком Афанасий. — «А-а-а, извини, браток», — с уважением замечает стрелок… Нехотя разбередил старые раны. Размягчил афонину душу алкоголь. Вспомнил он Ванду и Майданек, старого танкиста у обгорелого трупа сына, сопливых фаустников… Поют солдаты песни, жмут в тамбуре проводницу и подсевших по дороге попутчиц. Плачет в измятую пилотку на третьей полке ефрейтор Сиротин…
…«Вернулся я на родину. Шумят берёзки с клёнами…»,— поёт за стеной стереофоническая установка молодым голосом старую песню, хрипит в предсмертной агонии Афанасий…
…У Афанасия новенький паспорт. Первый. Афанасий идёт в трамвайное депо оформляться на работу. Теперь здесь целый отдел кадров. У начальника кабинет. В кабинете у стола квадратная фигура в зелёном сталинском френче. Выбритый шар головы лежит прямо на плечах френча и сверлит Афанасия маленькими глазками из-под безбровых дуг глазниц. Водянистые эти глазки упрятаны в складки подглазных мешков. Крупный ноздреватый нос нависает над еле заметной безгубой прорезью рта. Афанасию кажется, что на этой голове вообще ничего не растёт. Разве что из ушей, оттопыренных лопухами, и больших сплюснутых ноздрей…
…«Што, демобилизованный? — спрашивает голова, не меняя своего положения. — Эт-та хорошо. Люди нам нужны. Восстанавливать разрушенное хозяйство. Тута работал?.. Эт-та хорошо… Воевал значица… Награды правительственные имеешь… Эт-та хорошо… А мне вот не довелось… Нада жа комуй-то и кадрами ведать… Враг, вить, не дремлеть… Да и астма у мене… Врачи до фронту не допустили… Так вот. Бери анкету, бланки там всякие под биографию. Седай и строчи всё, как есть. Ручку имеешь? Нет? Што ж ты в Германии проклятой не разжился какой ни то есть самопиской? Тоже мне победитель! Х-хе! Вот тебе ручка. Там чернилка. Дуй. По быстрому. А то мне через час в райком надо. На совещание».
Пишет Афанасий, старается. Анкету заполняет — где и как служил, чем занимался до революции, был ли на оккупированной территории и не был ли в стане врага, контрреволюции, окружении.
…«Э-э-э! Да ты никак был здесь при немцах! Да ищо за границей на их работал! Не-е, не место тебе в нашем боевом колектифе. Мало ли, што потом воевал. Да и воевал-то всего день, как сам пишешь… Хто тебе сюды на работу брал в 44-м? Што? Марк Лазаревич? Тем паче. Космополит он безродный. Ещё на иностранных буржуёв работал до революции. Ихний ставленник. У ево ищо открылись сродственники за границей. Ослобонился наш здоровый колектиф от энтой нечисти, к счастию. Взяли ево ищо в том годе. Видать, ныне гдей-то лес рубит. Пущай поработаеть на социализьм, иде Макар телят не гонял. Гад! Хе-хе-хе… Так што тебя, как ставленника энтого вражины не возьму. Для того здеся и сидю на кадрах, штоб бдеть!»
Съёжился Афанасий. Гадко стало на душе, будто вновь на аппеле побывал. Смотрит на него с портрета с укоризной Генералиссимус и кажется Афанасию, что покачивает он головой и голосом кадрового начальника приговаривает: «Нехорошо, товарищ Сиротин, в оккупации ты был, на немцев работал, против нас значит, против своего родного народа. Не подсказала тебе твоя совесть, как Олегу Кошевому или Саше Чекалину вступить в борьбу с оккупантами. Нехорошо…».
…Идёт Афанасий улицей, никого не замечает. На душе камнем лежит обида. Уж месяц ходит он по кадровым отделам заводов и фабрик — нет, не нужны слесаря. Хочешь — иди грузчиком или на стройку.
«Так слесарь я! И радиомастером стал в армии. Удостоверение — вот оно! Нравится мне эта работа. Отчего же мне идти мешки таскать, когда профессия у меня есть нужная людям?» — спрашивает Афанасий. — «Не нужны нам ни слесаря, ни радиомастера.» — отвечают в кадрах, прочитав его анкету. — «А што ж объявление висит?» — «Старое оно. Взяли уж»…
…«Эй, служивый, ходи сюда! — зовёт Афанасия малый на одной ноге с сизым лицом алкаша. — Фронтовик?» — «Да как сказать», — объясняет Афанасий. — «Повезло тебе. Ещё «За отвагу» успел схлопотать. А у меня вот отняли. — Показывает на культю инвалид. — В 41-м. На Буге-реке. Тогда ить не давали наград, а только брали… Ноги, руки, жизни… Хе-хе-хе. Слышь, поставь шкалик за ради знакомства, а? Тя как кличут?» — «Афанасий». — «Ну вот, Афоня, и знакомы будем. Я — Фёдор, сын Фёдора. Бывший наводчик противотанкового орудия. 45 мэмэ. С первого выстрела не попал в гусеницу — жми в сторону, забодаеть. Одним словом, орудие — смерть фашизму, пиздец расчёту!.. Так что, гвардеец, ставишь шкалик?» — «Пошли, Фёдор Фёдорович. Только где пить станем?» — «А вон в том кульдюме. Забегаловка такая. Борисыч наллёть и хлебца с селёдочкой дасть закусить. Душевный человек. Не дасть погибнуть. У ево тож одна нога. Тольки левая… На Одере оставил. В танке горел. Наград — полна грудь. Жалко, ежели посадять». — «За што посадят?» — «Как за што? Работа опасная у ево. Как у сапёра. Што ж ты думаешь, на горючке сидеть честно можно? Не-е… Да и нашего брата он жалееть. Даром, што жид. Об-бязательно какой-то из наших жа жлобов заложить ево. Так што пошли, Афанасий».
В кульдюме тесно и душно. Пахнет прокисшим пивом и старой селёдкой. На столиках пивные лужи, рыбьи кости, луковая шелуха. Приглушенный шум задушевных бесед, сизый табачный дым. Столиков-стоек всего пять. Пристроились Афанасий с Фёдором у крайнего столика в углу.
«Можно возле вас присуседиться? Не помешаем?» — спрашивает Фёдор у мужика лет сорока, стоящего у стола.
«Бога ради, не помешаете, если не очень шуметь будете». — Мужик в старой заношенной гимнастёрке. На гимнастёрке три орденских колодочки — «Красная звезда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Пишет что-то в блокноте и изредка прихлёбывает пиво.
«Так што, Афанасий, какие у тебя трудности? — спрашивает Фёдор, вылив в горло первый полустакан водки. Бутербродик с селёдкой понюхал и положил рядом со стаканом на обрывок газеты. — Валяй, как на духу. Может чем и помогу. Как никак — инвалид Отечественной войны первой группы».
Афанасий ещё не притронулся к своей порции. — «Не. Не поможешь ты мне, Фёдор». — «А всё жа?» — Настаивает Фёдор…
Не заметил Афанасий, что его рассказ давно уж слушает мужик с орденскими планками, отставив в сторону блокнот…
«Молодой человек, завтра встретимся в 10–00 на углу Бульвара и Пироговской. Я вас устрою на работу. Хотите работать на приборостроительном заводе?» — «Хочу. Простите, а кто вы? Волшебник, что ли?» — «Нет. Я — журналист. Корреспондент республиканского телеграфного агентства. Мне часто приходится писать об этом заводе. Потому я хорошо знаком с его директором. Вот к нему мы с вами и пойдём. Мимо кадровиков. Я понял, что вы уже на этом заводе были». — «Был… А что же вы не спрашиваете у меня документы?» — «Зачем. Я знаю, что вы говорите правду. Этого достаточно. Вижу вы с сомнением смотрите на меня. Особо ваш приятель. Мол, как это, корреспондент, а пьёт пиво в этой забегаловке. Объясняю. Во-первых, мы с Аркадием Борисычем старые друзья. По фронту. Во-вторых, мне удобно здесь писать. Дома у меня негде. Комната в коммуналке 14 метров, а в ней пятеро со мной. Грудной ребёнок. Не сосредоточиться. Так что, вот, приходится работать в таких условиях».
…Новые корпуса приборостроительного завода на самой окраине города. В широкие окна светлых цехов задувает ветер с пригородных полей и садов. У самых окон шелестят листвой пирамидальные тополя. Целый час добирается Афанасий до работы. Сначала идёт пешком до Большого базара, там садится в трамвай и едет с полчаса, потом опять пешком. Первый басовитый гудок встречает его у проходной. Нравится Афанасию на заводе. Спасибо Андрею Филипповичу. Зашел к директору — и в пять минут дело было решено. Теперь Афанасий слесарь — сборщик точных электроизмерительных приборов. И ребята на участке хорошие. Почти все бывшие фронтовики. Завод ходит в передовых. Потому о нём столько пишут. Посещают иностранные делегации. Директор — баба хитрая. Помимо станков и оборудования вывезла из Германии с электротехнических заводов АЭГ Сименс колоссальные запасы сырья и полуфабрикатов, целые узлы для приборов и техническую документацию. Так что своим конструкторам осталось только скопировать чертежи и поставить заводские штампы. Пока разворачивается подающее производство, сборочные цеха на полную мощность гонят, перевыполняя план, сверхточные приборы из немецких узлов и деталей довоенного образца, которыми можно укомплектовать не только все лаборатории в Союзе, но ещё и останется впрок лет на десять вперёд.
…«Тик, тик, тик», — клюют иголки в мозг. — «Наверное, лопаются сосуды. Инсульт называется это…» — соображает Афанасий…
…Работа у Афанасия чистая, тонкая. Сам в белом халате, как доктор в госпитале. Инструмент, как у часовщика. Каждый день перед началом работы обходит всех сборщиков комплектовщица Катя — раздаёт узлы и детали под сборку, разливает спирт по баночкам. Спирт нужен для промывки деталей. Его расходуют экономно. В обед можно тяпнуть грамм 25. Для бодрости, как говорит бывший танкист Коля. Петя не пьёт. Собирает излишки за всю неделю. В субботу вечером святой день — рыбалка. На рыбалке нужно погреться. Петя никак не согреется с осени 44-го. При атаке немецкого конвоя у берегов Норвегии его торпедный катер накрыл снаряд. Чудом оставшегося в живых раненого Петю вытащили из ледяной воды через 20 минут…
Коля стал танкистом уже после войны, как и Афанасий радиомастером. В 41-м не доехал его эшелон до фронта. Перед самой разгрузкой попал под бомбёжку на како-то станции под Смоленском. От эшелона ровным счётом ничего не осталось. Коля, как был в исподнем, так и выскочил из горящей теплушки, прихватив с собой трёхлинейку. Пошел наугад. Хотел пристать к какой-нибудь части. Вошел в большое село, а там были уже немцы… Его не били и не пытали, а почему-то обмерили рост, объём груди, пропорции головы.
«У тебя в роду кто-то немец», — сказал эсэсовец, оглядывая Колю. — «Нет у меня родственников немцев», — ответил Коля. — «Глупый. Такие физические данные, как у тебя, могут быть только у настоящих арийцев», — настаивает немец и постукивает длинным указательным пальцем по бумажке, на которой записаны результаты обмеров. — «Нет у меня в роду никаких немцев!» — настаивает Коля… Так он попал в Бухенвальд. Потом в Заксенхаузен. И для коллекции — Равенсбрюк. С последнего этапа при эвакуации лагеря в апреле 45-го в страхе перед возмездием охрана разбежалась… Три месяца болтался Коля с такими же, как он освободившимися кацетниками по Германии, пока не добрался до сборного пункта… Там его и определили в танковые войска. От службы его вскоре уволили, так как открылся у него туберкулёз и язва желудка…
…«Што ж ты, Смротин, хорошо работаешь, нормы перевыполняешь, а не вступаешь в передовые ряды строителей коммунизма?» — спрашивает Афанасия комсомольский секретарь.
«Сам же говоришь, што хорошо работаю, — значит в первых рядах», — отвечает Афанасий. — «То-то и оно! В первых рядах, а не комсомолец. Давай, подавай заявление. Дам тебе рекомендацию».
Посмотрел на секретаря Афанасий и ляпнул, — «Сопляк ты ещё. Пороху не нюхал, а собираешься мне рекомендации давать! Куда мне в комсомол? В моём возрасте выходят из него. Переросток я. Да и сам посуди, што будет, ежели все будут впереди и выстроятся в один ряд? Возможно ли такое? Кто кого вести будет?» — «Знаешь, Сиротин, за такие слова можно и загреметь кой-куда!» — Обиделся комсомольский секретарь.
Кто знает, может и «подал» он «сигнал» кой-куда, да наступили пасмурные мартовские дни траура по родному отцу и учителю, почившему после долгой и продолжительной болезни…
…Жаркое лето выдалось в 53-м. Цеха-то на заводе новые, послевоенной постройки. Не приспособлены к таким перепадам температуры. Мыслимое ли дело при такой жаре отлаживать точные приборы? Вся их точность полетит к чертям собачьим.
«Нельзя днём отлаживать», — говорят технологи.
«Что же это? Об чём думали, как будували эти цеха? — ворчат ребята, — Говорят, за границей в таких цехах на заводах специально держат нужную температуру». — «Откуда знаешь?» — «Ведущий говорил. Вот лафа! Всегда 20 градусов и влажность 70 %!» — «Дурыло! То ж не об рабочих забота! Об сверхприбыли!» — поясняет комсомольский секретарь. — «Будя болтать! Пока што с завтрева работаем с шести утра до двух часов дня. Ясно? Перерыв после двух. Затем желающие на пляж. План выполнять всё одно надо. Вопросы есть?» — Это уже мастер. — «А добираться как же? Час ведь идти мне. А транспорт не ходит». — «Как. Как — пеши. Считай, што на фронте. Вроде как немецкие танки прорвались к Москве. Понял?»
…«В ЦК КПСС и Совете Министров…» — зычный голос за стеной слышен по радио, — «…борьба с пьянством и алкоголизмом…» — долетают до Афанасия обрывки фраз. Металл и торжественность в голосе диктора напоминают военные сообщения, читанные прославленным диктором Юрием Левитаном — «…войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом-крепостью Кенигсберг…»
«…Э-э-эх, что теперь бороться… Конец уж мне пришел…» — думает Афанасий…
…Белый песок пляжа. Ласковое журчание реки. Солнце раскалённым шаром висит над головой. На часах четвёртый час. Самая жара. Воздух клубится над раскалённым песком, как над сковородкой. Хорошо-то как окунуться в прохладную воду, ласково шевелящую своим потоком слипшиеся от пота волосы…
…Галка раскладывает на полотенце снедь, какую прихватили с собой на обед. Тут и огурцы, и редис, лук зелёный и зелёный же чеснок веником, кольца полтавской колбасы, варёные яйца, холодные котлеты, четыре бутылки пива, только что вынутые из мокрого песка у самой кромки воды, трёхлитровая банка компота. Есть и баклажечка со спиртом.
Дружно работают челюсти. Разбавленный пивом и компотом спирт кружит молодые головы… Завтра воскресение, послезавтра на вторую смену… Можно пляжиться до самого захода солнца…
…Афанасий провожает домой Галку, поскольку он единственный холостяк и вполне располагает своим временем…
…Июльские сумерки медленно ползут с востока… Вот и домик на окраине города, где Галка живёт с матерью и бабкой. Домик спрятался в густой зелени вишен, и кажется, что это не окраина большого города, а тихое село где-нибудь в распадке меж крутых холмов правобережья Украины…
…Подзадоренный хмелем, укрытый бархатным одеялом летней ночи, Афанасий ласкает Галкино тело, податливое и пышное…
…Первые лучи воскресного солнца будят Афанасия. Незнакомая комната, старая железная кровать, мягкая перина… Рядом на подушке Галкина голова в папильотках…
«Господи, что же это? — думает Афанасий. — Как попал я сюда? Зачем эта чужая женщина здесь рядом?». Острый запах пота и кислятины сжимают ему сердце клещами безнадюги. «Неужели я её врезал? Боже, Боже… Ничего не помню…»
…За завтраком Афанасий впервые так напился, что едва на другой день был в состоянии выйти во вторую смену…
Через пол года без сожаления они разошлись…
…«Где же вы теперь, друзья однополчане, Боевые спутники мои…»— выводит тенор за стеной. Нравится Афанасию эта песня. А кто поёт — не знает. Хорошо поёт, душевно. Нет у него друзей — боевых спутников. Те, с кем полз к последней амбразуре, плюющейся свинцом, либо погибли, либо уехали вскоре по домам, не успев похлебать из одного котелка с Афоней. Война кончилась. Но всё равно, очень любит он эту песню…
…«Опять, Сиротин, выступаешь не по делу. Хоть бы посоветовался со старшими товарищами, с мастером, со мной! Шутка ли, первый в мире конвейер точных приборов! К Сталинской премии представили его создателей, а ты на собрании — «Никому не нужен! — говоришь, — Не обеспечен деталями, стоять будет». — Не в том дело, что стоять будет! Может быть, действительно, иногда будут простои. Но первый ведь! Не сразу Москва строилась! А то, что морёным дубом отделан, так сам знаешь, иностранные делегации посещают наш цех. Будет что показать. Ты ведь дома приборку делаешь, прежде чем гостей звать? Так и тянет тебя на выступления! Тот раз вылез со своим почином ни к селу ни к городу. Когда и какой почин нужен, скажут «там», — и начальник цеха тычет своим коротким перстом в небо, — Почин — это политический акт, зовущий на трудовой подвиг! Следовательно, кому и когда его выдвигать, — решают «там». А то нашелся, видите ли, какой-то Сиротин! Ведь кто выдвигает почин — это тоже большая партийная политика… Горе мне с тобой, Сиротин. Неорганизованный ты какой-то, Сиротин. Сам по себе. Одно слово — твоя фамилия тебе соответствует». — «Ваша тоже, Нина Андреевна», — нехотя выдавливает из себя Афанасий, глядя в глаза этой маленькой круглой женщине, чем-то похожей лицом на императрицу Екатерину II-ю с портрета художника Левицкого. — «Ты что, хочешь сказать, что я кухарка, если у меня фамилия Кухарь? Не ожидала от тебя, Сиротин, такой грубости», — обиделась начальник цеха. — «А что вы обижаетесь? Сами, небось, на политинформации вчера говорили, что Ленин считал кухарку вполне достойным государственным управителем…»
…Опять Афанасий напился в усмерть, благо получку в этот день выдали… Как попал в только что учреждённый вытрезвитель — не помнил…
…«Вот, товарищи, до чего доводит пьянка, — выступает на собрании Нина Андреевна, — Нет сил терпеть дальше это безобразие! Поддерживаю предложение комсорга товарища Хлебопёкова о переводе слесаря-сборщика Сиротина за систематическое пьянство и нарушение общественного порядка на месяц в грузчики!»…
…«Эк, тебя развезло с бутылки! С виду вроде нормальный мужик, а ты…» — это уже Надежда, кладовщица склада готовой продукции, где Афанасий отбывает наказание. Надежда лет на пять старше Афанасия.
«Э-э-эх, — вздыхает Афанасий, — То ж у меня, видать, наследственное. Батя сколько помню пил, вот и у меня организм предрасположен», — заплетающимся языком выдавливает из себя он. — «Ну да, вон мой родитель как пил, можно сказать, сгорел от водки, а я — ничего. Могу наровне с грузчиками запросто бутылку употребить. Потому и поставили на склад». — «Ты, Надежда, баба здоровая. Не по моим силам…», — лепечет Афанасий и тянется за стаканом. — «Дурачок! Хороший ты хлопец. Видать добрый, да беспризорный… Найди себе хорошую бабу. Вон сколько их безмужних, бери — не хочу. А мои-то женишки пали смертью храбрых за Родину, за Сталина… Што ж мне, конец света?.. Вот и перебираю вас, как гнилую картошку… Уж не суди…» — пьянея говорит Надежда…
…«В коммунистической бригаде С нами Ленин впереди…»— дурным голосом за стеной орёт сосед. Сосед, то есть Прокофьич, как его все зовут, немножко «тронулся» на почве разоблачения культа личности Сталина и увольнения в запас Никитой Хрущовым шестисот тысяч воинов. Был он замполитом в артдивизионе, а уволившись в запас, остался без профессии, разменяв пятый десяток. Помешательство его никому не мешало. Получал он небольшую пенсию, так как нужного срока в армии не выслужил. Пенсию почти полностью регулярно отбирала дочка, якобы в уплату за заботу о нём. На оставшиеся гроши он покупал в соседнем киоске «Союзпечати» газеты «Правда» и «Красная звезда». Внимательно штудировал их от доски до доски, и каждое утро минут на двадцать проводил на кухне коммуналки политинформацию соседкам, спешащим кое-что приготовить перед уходом на работу. А когда кухня пустела, продолжал излагать изгибы политической линии партии внутри и вне страны кастрюлям и вёдрам. Старшие школьники и даже студенты всего дома обращались к нему, как к энциклопедическому справочнику перед сдачей зачётов или экзаменов по общественным наукам. У него можно было узнать имена руководителей братских компартий дружественных, не совсем дружественных и совсем недружественных стран, осведомиться об отчетных цифрах урожая хлопка-сырца за прошлую пятилетку, дебете добычи нефти, запланированном на конец текущей пятилетки. Чувствовал себя он нужным человеком, что придавало ему уверенности в себе и, как ни странно, здоровья. Словом, все его считали добрым, никому не делающего зла дурачком.
…Снова болевой обруч стягивает череп Афанасию. Бьётся в рваном ритме кровь в сосудах, рвёт их стенки, крушит тканевые клетки… Поднялась температура… Жарко… Хочется пить… Пот влажнит давно немытое бельё…
…Уф-ф… Жарко… жарко…. Белый августовский полдень… Старая соборная площадь до самых Присутственных мест полна народу. Представителей предприятий и организаций собрали на торжественный митинг по поводу вручения городу Ордена Ленина. Должен быть «сам». Трибуна, обтянутая кумачом, с гипсовым гербом, раззолоченным бронзовой краской, торчит рифом среди людского моря перед выходом из соборной колокольни. Вокруг трибуны протянут канат, у которого прохаживаются дюжие парни с военной выправкой. Густой воздух обволакивает всё вокруг. Камни зданий и асфальт мостовой пышут жаром. Пыльные листья деревьев в сквере безжизненно застыли в дремотной истоме. Площадь полнится терпким духом множества людских тел, изнывающих от избыточного тепла. Жарко. Пить хочется. Топчется на месте народ. Уже рассказаны все анекдоты, обсуждены результаты последних футбольных матчей, а митинг всё не открывают. Два часа уже топчется толпа. Никого не выпускают с площади. За каждого присутствующего несут ответственность старшие делегаций. Афанасия тоже отрядили с делегацией завода. Благо, сейчас начало месяца, работы нет. Человек он вполне надёжный, когда не пьян. Всё же — бывший солдат-фронтовик. Выступать, правда, любит, да там ему слова никто не даст. В крайнем случае, товарищи присмотрят. Дано указание. К тому же, живёт он в центре, близко будет домой возвращаться с митинга. Текут струйки пота по спине у Афанасия, язык шершавый, едва ворочается во рту. Забился Афанасий под старый клён у бокового скверика. Ему ещё ничего, а каково тем, кто посреди площади? — «Вот и будь тут лучшим из лучших, — думает Афанасий, — Сунут вот так в пекло, поближе к трибуне… Можно и коньки отбросить от такого старания…».
Афанасий расстёгивает рубаху, вытирает шею и грудь. — «Эх, попить бы… Пивка бы холодненького», — мечтает Афанасий…
«Засранцы… Зачем народ собирать заранее?.. Мучился чтоб?.. Сказали б в три, пришли бы в три. А то — давай к 12-ти». Упаси Бог — опоздают! Накажут!» — рассуждают рядовые партийцы. — «Из-за таких вот у нас всё наперекосяк». — «Полно трепаться! Небось, на собрании не выступишь. Язык в задницу заткнешь! Бьёшь в ладоши «Браво» и орёшь «Ура». Теперь терпи и не выступай».
«Хорошо ему. Летом не жарко, зимой не холодно», — думает Афанасий, глядя на бронзового гетмана, взобравшегося на своём татарском коне на каменную глыбу посреди площади. На шляхетской шапке у гетмана сидит большая ворона в сером жилете. А может ворон. Поди, различь их. Старая, видать. Очень крупная. «Может встречалась с живым гетманом», — думает Афанасий. Ворона чистит пёрышки, как артист перед выходом на сцену. Афанасий замечет, что не он один обратил внимание на птицу. И черная птица чувствует, что в центре внимания сотен человечьих глаз. Она закончила свой туалет, важно шагая по вытянутой руке гетмана, прошлась к концу гетманской булавы и уселась на кулаке, сжимающем булаву.
Сначала Афанасий видит, как тело птицы вытянулось вперёд, почти горизонтально земле, мощный черный клюв раскрылся, и ворона как бы напряглась. Только потом, когда тело вернулось в прежнее положение, Афанасий услышал хриплый вороний крик.
«Ну вот, открыла митинг», — сострил кто-то.
По толпе пробежал шепот и смешок. Всё же отвлеклись немного в своём ожидании.
А ворона тем временем, польщённая общим вниманием, не на шутку «взяла слово» и стала хрипеть на всю площадь, перескакивая с гетманской руки на булаву и обратно.
Вокруг памятника засуетились какие-то личности в штатском, пытаясь прогнать непрошенного оратора. Удалось это не сразу. Только после того, как один из блюстителей внутреннего порядка стал лобызать копыта коня, умная птица поняла, что этот целеустремлённый юноша всерьёз намерен лишить её слова. В последний раз крикнув, она сделала боевой разворот над изнемогающей от жары толпой и улетела куда-то за соборную колокольню.
«Едут! Едут!», — зашелестела в нетерпении толпа.
Действительно, минут через двадцать зашевелились молодцы в штатском у трибуны да и по всей площади, занимая свои посты согласно расписанию. На трибуне появились во главе с «самим» отцы города и всей республики. «Сам», странно покачиваясь, проследовал к микрофону в центре трибуны и уцепился руками за её край.
«Митинг по случаю… считаю открытым!» — хорошо поставленным голосом провещал городской секретарь. А может и не секретарь. Бог их знает. Не знает их Афанасий в лицо. Издали и на фото в газетах все одинаковые — тусклые, оплывшие салом лица, как задницы, да одинаковые серые шляпы.
«Слово предоставляется Генеральному Секретарю… Председателю… товарищу Никите Сергеевичу Хрущову!»
Измученные долгим ожиданием в раскалённой каменной чаше площади, массы не выявили должного энтузиазма и аплодисменты не были столь бурными, какие хотели бы услышать устроители собрания да и сам вождь. Это можно было расценить, как явную недооценку заботы партии, Правительства и лично товарища Никиты Сергеевича Хрущова о благе славного древнего города.
Тем не менее, вождь надел очки и стал старательно читать свою речь. Голова его покачивалась из стороны в сторону, язык устало заплетался и, как бы дразня толпу, изнывающую от жажды, докладчик поминутно прикладывался к стакану. Мощные усилители разносили по площади звуки булькающей воды и жадных его глотков.
Наконец, докладчику показалось, что речь, написанная ему референтами, слишком пресна, и решил добавить несколько слов от себя. Он отложил в сторону бумагу и стал излагать простым, доступным самым широким массам языком, свои взгляды на проблемы строительства «коммунизьма», современного «империализьма», обещая последний «закопать» и показать ему кузькину мать. Поскольку слово «мать» вождь стал употреблять слишком часто и не только имея в виду почтенную женщину, родившую загадочного Кузьму, отцы города позаботились о том, чтобы не всё, произнесенное докладчиком, попало в мощные усилительные тракты всесоюзного радио и телевидения.
Никто не заметил, как крыши прилежащих зданий покрылись массой черных птиц. Несомненно, давешний пернатый оратор пригласил на митинг своих товарищей со всей округи. Вряд ли эти интеллигентные птицы хотели познакомиться с новыми концепциями строительства «коммунизьма». Вероятно, по старой памяти — нынче наука называет это явление условным рефлексом — они посчитали, что большое скопление двуногих непременно закончится потасовкой, а значит обилием трупов.
Тем временем, вождь, размахивая руками, что-то кричал перед онемевшим микрофоном. Отцы города бережно ловили его руки, осторожно подталкивая к краю трибуны, чтобы там, вконец охмелевшего вождя, уложить на мягкие сидения громадного, как парадный катафалк, лимузина и отвезти на отдых в загородную резиденцию.
«Митинг, посвященный… объявляю закрытым!» — рявкнули напоследок громкоговорители. Как по команде, тучи черных птиц с криком поднялись над площадью и закружились водоворотом, помечая представителей трудящихся и их вождей желтозелёными плевками своих клоак.
Афанасий, не дожидаясь конца, кинулся в сторону старой каланчи, стоящей в проезде к древнему городу, где за углом — он помнил, в подвальчике, можно было глотнуть живительной влаги.
Кажись, в этот день за кружкой пива и познакомился он с Анатолием Викторовичем. Точно он не помнил, поскольку встречи эти со временем стали регулярными, и усталый мозг стёр из памяти достоверность времени первого знакомства.
В маленьком подвальчике большого углового дома постройки 10-х годов нашего века прохладно и тихо. В него можно папасть через угловую дверь, спустившись на десяток ступеней вниз. Старые вытертые гранитные ступени, как вся громада дома, построенного в стиле модерн, как бы приглашают изнемогающего от жары прохожего, спуститься вниз под низкие своды передохнуть, освежиться стаканом холодной фруктовой воды, отведать мороженого или выпить бутылочку охлажденного пива. Посетителей здесь не бывает много. Небогатый ассортимент прохладительных напитков не всегда предлагает своим клиентам даже обычное пиво. Поэтому посещают этот подвальчик жители близлежащих кварталов, редкие случайные прохожие и те, кто знает этот уютный уголок. Всё же при случае здесь можно в спокойной обстановке скоротать время с приятелем за беседой.
Афанасий ещё на площади мысленно неоднократно проделывал к этому подвальчику путь. Он мигом скатился вниз по ступеням, взял две бутылки «Жигулёвского» и выбрал свободное место за столиком, у которого сидел мужик лет сорокапяти в хорошем сером костюме при галстуке. Перед ним стояли две пустых и одна недопитая бутылка пива.
«Я вам не помешаю?» — осведомился Афанасий.
Мужик внимательно его осмотрел несовсем трезвым взглядом и, убедившись, что Афанасий не станет выяснять у него меру уважения к себе, утвердительно кивнул головой, сделав приглашающий жест рукой.
Смыв первым стаканом пенистой влаги наждак жажды во рту, Афанасий вздохнул и огляделся вокруг. В этой маленькой забегаловке был занят ещё один столик, за которым бабушка кормила внука шоколадным мороженым.
Визави Афанасия хоть и был выпивши, вполне нормально держался и даже как-то изучающее приглядывался к нему, видимо чувствуя острую нужду в собеседнике.
«Что, мичуринец, с митинга?» — пользуясь правом возрастного преимущества и хмельного состояния, обратился мужик к Афанасию.
«С митинга. — тускло ответил он. — А почему мичуринцем вы меня назвали? — минуту подумав спросил Афанасий. — Я яблоки и груши только потребляю».
«А-а, вот видишь, сам сознаёшь, что полтребляешь, а наука считает, что творишь… На заводе работаешь?» — «На заводе…» — «Судя по рукам — чистая у тебя работа…» — «Слесарь-сборщик точных приборов. Работа не пыльная. В белом халате…» — «Да-а, не кузнец… Оч-чень колоритно получалось. И символика понятная даже безграмотному… Кузнечный молот. Он же скуёт, он же разобьёт… Хорошо и просто. Кузнец — создатель будущего. Символ пролетария… То бишь, рабочего. Хотя ты, возможно, наковальни не видел… А вот рабочий. Следовательно, по науке — создатель, двигатель прогресса, гегемон… Мичуринец значит… Понял?» — «Понял». — «Не обижайся. Конечно, Мичурин был создатель, энтузиаст. Но — своего маленького сада. И не более. Наверное, он был хороший добрый человек…» — «А я и не обижаюсь». — «Ну вот и хорошо… Будем считать, что познакомились. Тебя как зовут-то?» — «Афанасием». — «Хорошее имя. А меня зовут Анатолием Викторовичем».
Анатолий Викторович плеснул в стакан Афанасию пива, потом в свой, и отставил в сторону порожнюю бутылку.
«Что ж, за знакомство, — поднял он свой стакан, — За союз науки и производства… Сколько тебе лет? — осушив стакан спросил Анатолий Викторович, — На войну не успел?» — «Как раз на последний день». — «Повезло… Война, брат, хоть справедливая, хоть несправедливая — дело страшное и жестокое. Я ушел с пятого курса философского факультета в июне 41-го. Добровольцем. Прошагал от Шепетовки до Воронежа, потом от Воронежа до Берлина. Закончил войну старлеем. Командиром разведки артдивизиона. Демобилизовался. Закончил учение. Учу теперь других. Читаю курс партийно-политической работы в ВПШ…
Так что там было на митинге? Сам не пошел. Жарко очень стоять несколько часов под солнцем. Не для моего здоровья. Слушал по радио. Что-то часто прерывалась трансляция. Похоже на митинг вождь прямо с обеда пожаловал». — «Не знаю, с обеда ли, но выпивши был изрядно. Тут ещё жара его разморила». — «Да, любит он это дело. Приходилось мне с ним встречаться на фронте. Член военного совета фронта был. Чуть меня не расстрелял… Как раз перед началом боёв под Курском сбежал у меня солдат из свежего пополнения к немцам. Спасло, что земляками оказались».
Что-то подкупало Афанасия в этом мужике — то ли, несмотря на хмель, добрые с грустинкой глаза, то ли большие белые руки с длинными тонкими пальцами пианиста, то ли какая-то неуловимая изящность во всём его облике вопреки некоторой неопрятности в костюме. От него исходило дружелюбие и доверие, какое редко чувствуешь, когда хочется откровенно исповедаться и поделиться с человеком своими радостями и горестями.
«Видимо такими качествами обладали раньше старцы-отшельники где-нибудь в Оптиной Пустыне или Печерской Лавре, проповедники, прорицатели и пророки. Ещё реже бывает, когда встречаются два таких человека. Наверное, между ними устанавливается наивысшая гармония, которая и есть счастье», — подумал Афанасий, внимательно выслушав Анатолия Викторовича. И тут же изложил ему свою короткую, но драматическую биографию так, как она «прокручивалась» нынче в его памяти, заостряя внимание на тех её эпизодах, которые казались ему значительными и памятными.
«Да-а… Хлебнул ты почище моего… Считай, всю войну был в окружении… И без снарядов… Спереди враг — сзади заградотряд… Что ж, видать, судьба свела нас с тобой не зря… Давай выпьем за тех, кому удалось выжить, то есть, за нас с тобой…» — сказал Анатолий Викторович и вынул из бокового кармана пиджака фляжечку армянского коньяку. Таких флакончиков Афанасий ещё не видел. То есть, видел, но в Германии, когда служил. А здесь спиртное продавали больше в поллитровых бутылках.
«Тося, дай нам, пожалуйста, маленькую шоколадку», — обратился Анатолий Викторович к женщине за стойкой.
«Щас, щас, Анатолий Викторович, вот отпущу деток и сей секунд выдам». - ответила буфетчица, рассчитываясь с мальцами.
Тем временем, Анатолий Викторович отвинтил пробочку на горлышке фляжечки-флакончика и налил в стаканы ароматную янтарную жидкость.
«Вижу, Афанасий, не пробовал ты такого напитка». — «Не пробовал, Анатолий Викторович. И не видел, чтоб в такой таре он продавался». — «Верно. Пока в такой таре продают в некоторых магазинах, куда тебе нет входа… Но, думаю, скоро появится такая тара и в других магазинах. Другое дело — содержимое. За него не ручаюсь. То есть, этикетка будет та же, но качество влаги — вряд ли. При массовом производстве качество продукта всегда проигрывает. Это — наука. Потому вещь, изготовленная вручную, — уникальна. Даже самый лучший мастер дважды одинаково сделать не может. Потому стоит такая вещь много дороже, чем вышедшая из-под машинного штампа. Так что — выпьем!»
…«Урожай наш, урожай, Урожай высокий!..»— надрывается хор за стеной в репродукторе. «Надо же, — думает Афанасий, — Нынешнему Генеральному нравятся песни его молодости. При Никите и при Лёлике эти песни не пели. Правда, Лёлик любил эту, как её, где«…парнишка на тальяночке играет про любовь». Видать, будила воспоминания, когда они вместе с Кучером ещё могли сыграть в любовь». — Это так Анатолий Викторович говаривал. А он-то уж знает».
Так получилось, что ещё несколько раз Афанасий случайно встретился с Анатолием Викторовичем в том подвальчике после памятного митинга, а потом встречи их стали регулярными.
«Понимаешь, Афанасий, ты для меня — прямой контакт с жизнью, — заплетающимся языком говорил Анатолий Викторович после первой бутылки. — Через тебя я щупаю истинный пульс наш. Что есть наши средства массовой информации? — спрашивал он, — Пропаганда! — Сам же и отвечал Анатолий Викторович. — А пропаганда — сиречь реклама! Сам учу, как её, сердешную, делать. Реклама не всегда даёт правдивую информацию о том, что рекламирует. А поскольку у нас нет конкурирующей фирмы, то и вовсе можно «лепить» что угодно. Вот, к примеру, что говорит Никита? — «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» — То есть, через двадцать лет. Хитёр, сукин сын! Беспардонный спекулянт! Знает, что не доживёт. Авантюрист! А нам потом выкручивайся! Живёт сегодняшним днём. Попомнишь мои слова, плохо это кончится. Ничего из его затеи не выйдет. Потом, поди, исправляй! Оправдывай его загибы. Вторая целина будет!» — «А што целина? Всё в порядке! «Героев» люди получают, как на войне. По телеку сам видел». - возражает Афанасий, прихлёбывая пиво. — «То-то, что по телеку всё в порядке. Я то сам видел. Ездил, с людьми говорил. Старожилами. Учёными, которых, правда, Никита записал в отступники. Ты думаешь там дураки живут? Или только вчера человек начал заниматься земледелием? Сухо там. Урожай может будет раз в пять — шесть лет. Зато травы — по грудь лошади! Там несметные стада скота можно содержать на отгонных пастбищах. Кормить мясом всю планету при умелой постановке дела. А он что? — Перепахал всю степь! Выдует ветрами всю почву, незакреплённую травой, погубит земли. Да и урожай, когда есть — собрать его некем. Людей нет, техники нет, дорог нет, хранилищ нет! Авантюрист! Сукин сын!» — «А вы бы написали в ЦК!» — Ехидничает Афанасий. — «Писал, Афоня… За то и кафедры лишили… Выговорешник схлопотал… Не понимаю текущего момента… Наливай, да излагай, как там дела на вашей фабрике…» — «А што наша фабрика? Гудок отменили, а так всё по-старому. Первую декаду отгуливаем, вторую раскачиваемся, третью через пень-колоду работаем, четвёртую — вкалываем с прихватом, последний день — до утра нового месяца. Как всегда дня не хватает. Но план выполняем и перевыполняем. Знамёна дают, ордена тож, иностранцев к нам водят. Не знаю, как там уж всё это делается». — «Да очень просто. План кто даёт? — Министерство. Кому нужен план? — Министерству. Значит и корректирует его при нужде. На сём вся наша экономика построена. Сам дал, сам взял, сам отчитался, сам себя наградил.
А как же ваши «фокусники», Афанасий, демонстрируют работу конвейера иностранцам, коли у вас такая лихорадка?» — «Х-хе! По этому случаю есть резерв деталей на 15 минут работы. НЗ. Такую «клюкву» выдаем, аж гай гудэ! Да и кто поймёт, что мы там делаем? Сидят люди у конвейерной ленты, отделанной морёным дубом, лента идёт, на ней стоят полусобранные приборы — и все дела!
Щас уж полон склад приборов. Девать их некуда. Старые ведь. Надежда говорит — на пять миллионов уж собралось. А нам што? Мы лепим на полку. Я так понимаю, што если я товар делаю, то его надобно продать. Иначе — в трубу вылетим. Это ж и ежу понятно. Не нужно быть учёным!
Опять же, на собрании профсоюзном выступил. Принимали соцобязательства. Хмырь у нас один есть. Профорг цеха. Больше шастает по «общественным» делам, нежели работает. Но зарплату получает справную. Как асс, только в деле-то едва тянет. Зато языком «а-ла-ла» получается. Потому и подался на общественную работу. Всё-то он почины выдвигает, обязательства и прочее. Не сам, конечно, а когда скажут. В общем, «от имени».
Так вот, зачитывает он соцобязательство, где, между прочим, сказано, что обязуемся мы из съэкономленного сырья сверх плана изготовить приборов на 400 тысяч рублей.
Как положено, спрашивает, кто хочет высказаться по существу. Я возьми да подыми руку. Однако знает он меня. В курилке с массами общается. Понимает, что могу «ежа» подпустить. Вертит головой, ещё раз спрашивает, будто моей руки не замечает. А остальным-то все эти обязательства до лампочки. Коротают время, благо всё одно рабочее, делать нечего по случаю начала месяца. Отбывают номер на собрании.
Однако же, нужно изобразить прения. Даёт мне слово. Вот я возьми да и спроси, как это получается, если плановая продукция лежит на складе никем не купленная, а мы ещё собираемся сделать не только план, но и сверх плана. Не прослывём ли мы иванушками-дурачками, что наливали воду в полную бочку? И потом, как можно съэкономить сырьё, то есть детали, если их выдают ровно по счёту на план? Что же это получается? Наши инженеры-экономисты, которые планируют производство, посчитать сколько чего нужно на план не могут? Если так, то гнать их, двоечников, а за одно и тех, кто их на работу брал, зарплату с премией с них удержать, которую на этих кумовьёв-неучей истратили! А если правильно посчитали, стало быть, дирекция вкупе с профкомом и парткомом очки нашему правительству втирают!»
Што тут стало после этой моей речи! Ни в сказке сказать, ни вырубить топором. Профсоюзный хмырь стоит весь зелёный, глаза выкатил, руки трясутся, слова сказать не может. Нина Андреевна, начальник цеха, так в роде бы, как в лихорадке. Народишко оживился, предчувствует скандал. Точно, как вы, Анатолий Викторович, говорили — массы любят «бой быков». Штоб кровь, шум, скандал. Хто хихикает в кулак, хто подзадоривает: «Правильно, Сиротин! Хай ответ дадут на вопрос! Дураков с нас делают!» — Не любит народ этого профсоюзного хмыря. Все понимают, што копейку получает не заработанную. Но прощают. Потому как никому не охота заниматься этой мутью профсоюзной. Вроде бы нужно кому-то этим заниматься, а зачем, — никому в голову не приходит спросить.
Да. Так вот, жужжит собрание, бросили друг дружке анекдоты травить да в морской бой играть. Бабы так вообще в стойке напряглись, забыли свои заботы и аж-но рты поразевали. Щас кинутся в бой. Вроде, как действительно коррида начнётся сейчас. Как в том фильме про торреодора. Бык — это, понятно, я. Значит рогами вперёд на тореро. Хвост трубой. Тореро — это профорг. Его ход. А он всё ни мычит, ни телится. Язык проглотил. Не сообразит, что делать.
Тут, как в кино, когда всем ясно, што бык в сей момент взденет на рога быкобоя, подоспела помощь. В лице начцеха. Быстро очухалась, — и, как из засады на выручку враз выскочила. Без всяких демократических формальностей. Руки не вздымает, слова не просила, а с места ударила прямой наводкой. Только я тогда сначала и голоса-то её не признал. Визжала, как соседка на кухне, когда кипяток плеснула себе на брюхо: «Антисоветчик! Клеветник! Не место тебе в наших рядах! В то время, как весь советский народ, напрягая последние силы в последнем рывке к коммунизму, опрокинет проклятый капитализм, ты, Сиротин, сеешь неверие и панику в нашем монолитном боевом коллективе, ставишь под сомнение компетентность людей, принявших исторические решения…» — понесла в том же духе. И спутники вспомнила, и праздничную улыбку Гагарина, и борца за мировую революцию Федю Кастро и его лучшего друга Че Гевару. Едва остановилась.
А я стою спокойно и говорю: «Всё это хорошо, Нина Андреевна, только я не про спутники спрашивал, а про выполнение и перевыполнение плана по производству никому не нужных приборов. И спрашивал не у вас, а у профорга товарища Хилько. Вот пусть и ответит конкретно. Тогда и разберёмся, хто из нас против советской власти и где её дели эту советскую власть».
Анатолий Викторович смеётся глазами. Весь хмель пропал. — «Скажи спасибо, что сейчас не 37-й год. А то ответили бы тебе по существу, кто и какая есть власть». — «А што? И ответили. Уклончиво. Работу стали давать такую, што ни фига не заработаешь. Хотят, штоб сам ушёл либо заткнулся. Вот и все дела. А я што? — Один. Мне хватит и того, што заработаю». — «Ну а массы-то? Поддержал кто тебя?» — «Не. В курилке втихаря, штоб никто не видел — да, а на людях — нет. Отсмеялись, отмолчались. Всем чего-нибудь надо. Кому — квартиру, кому — лишнюю десятку заработать, кому — путёвку в санаторий либо ещё што. Мало ли. Как крепостные. Делай с ими, што хошь. Сцы в глаза, — скажут божья роса. Это я уж усвоил». — «Кончай, Афанасий, выкобениваться. Один в поле не воин. Ничего не добьёшься. Сам говоришь, поддержать тебя никто в открытую не поддержит. «Там» всё это знают. Не сомневайся. Сомнут тебя и никто не узнает, где могилка твоя. И по какому случаю ты загнулся. Живи как-нибудь. Мычи в подушку. Не пришло ещё время, — говорит Анатолий Викторович, — Мой тебе совет». — «Когда же время придёт?» — «Нескоро ещё. Вот дадут плоды все наши загибоны, тогда может и придёт время. Мы с тобой до того времени не доживём. А потому, — давай-ка лучше потравимся…» Чокнулись…
«Всё выше, и выше, и выше… — орёт за стеной бывший комиссар, — И в каждом пропеллере дышит Спокойствие наших границ…» —Пытается перекричать Африка Симона «тихий» романтик революции, собственноручно расстрелявший в осаждённом Ленинграде припоздавшего к утренней атаке ротного командира. Земля была мёрзлой в городском сквере. Слишком долго ротный копал могилу для шестилетней дочки…
«Он ничего не видел и не слышал, не обращал внимания на маячившее перед глазами дуло моего пистолета. Он был вне себя… — в минуты просветления рассказывал бывший комиссар. — Я его расстрелял в назидание другим… Так надо было…»
«Так надо было, так надо было, так надо было…» — стучит сердце Афанасия.
«Что-то не нравишься ты мне сегодня, Афанасий. Вроде бы в отпуск съездил в Крым, загорел, попил вина из бочки, а нет в тебе бодрости. Уж не женщина ли тут виновата?» — Спрашивает Анатолий Викторович. — «Не-е… Отдыхал я чудесно. Даже очень. Дали «горящую» путёвку в пансионат «Крымзеленстроя». Тридцатипроцентную. За десять рэ». — «Видишь, а ты поносишь свой профсоюз», — смеётся Анатолий Викторович. — «Так начало же мая! Завтра ехать — вот и сунули! Не было желающих. Теперь вспоминать этот факт будут лет десять. Благодетели. Заботу проявили». — «Однако, сам говоришь, что отдохнул чудесно». — «Конечно, такого отдыха у меня никогда не было и не будет. Знали б эти дурики, куда меня послали, — ни в жисть бы того не сделали! Сами бы друг другу глотки порвали за эту фиолетовую бумажку». — «Ничего не понимаю. Ты бы, Афанасий, по порядку». — «Так я и говорю по порядку. Так вот, снарядили меня этой синькой», — «Какой синькой?» — «Ну, чертежи вы когда-нибудь видели? Отпечатаны с кальки на фиолетовой бумаге. Синька называется». — «Ага, понятно. Ты уж меня прости непонятливого. Я же гуманитарий. Чертежей никогда в глаза не видел». — «Во — во, гуманитарий. Нагляделся, как ваши «гуманитарии» отдыхают.
Снарядили, значит, меня этой синькой. Напечатано на машинке и — хлоп — копии сняты. Я даже сначала подумал, что это «липка» какая. Однако, полагаю, где ни где — койка будет, море есть, выпить-закусить найду. Всё же отдых. На море никогда не был, а видел, как люди пляжатся только в кино. Прибыл на место. Едва нашел. Оказывается это территория обкомовской спецдачи. Всё, что там есть, обихаживает этот самый «Крымзеленстрой». А штоб иметь лишнюю копейку, они пустили в служебные помещения на пансион весной и осенью, когда те, для кого эта дача предназначена, там не отдыхают». — «Позволь, позволь, так что же ваши профсоюзные руководители не знали об этом?» — «В том — то и дело! Этот самый «зеленстрой» имел какие-то дела с соседним заводом. Потому и давал ему места. А ребята с соседнего завода с нашими сделали взаимообмен. Поскольку бумажка-синька на вид уж очень несерьёзная, то и попала она мне.
Так вот, выделили мне койку в служебном корпусе, где обычно живёт обслуга. Шатаюсь я по территории — балдею. Райский уголок. Дух — пьяный без вина. Всё в цвету. Соловьи да птички певчие разные надрываются. Вроде, как первый раз в жизни природу слушаю. Благодать. Хожу себе, питаюсь в городской столовой, запиваю «столовым белым» из бочки. Двугривенный кружка. Море шумит камешками. Загораю. Купаться, правда, ещё холодно. Дни бегут.
Осталось уж добыть дней десять. Подходит ко мне тамошняя комендантша. Молодая баба. Живёт там же с дочкой и мамашей. «Послушай, Афанасий, — говорит, — задало мне начальство задачу. Без твоей помощи не разрешу». — «А што за задача?» — спрашиваю. — «Да вот завтра должны прислать взвод военных строителей перекладывать канализацию в пристройке при главном особняке. Где малая кухня. А поселить их велено в корпусах, где вы проживаете. Отдыхающих же разрешили рассовать по жилым корпусам дачи. А там после ремонта не убрано. Не поможешь ли ты мне хоть как прибрать, чтоб вас там расселить?» — «Отчего же не помочь, — говорю, — помогу».
Помог я ей. «Ну, а где ж мне селиться?» — спрашиваю напоследок.
Тут ведёт она меня в самый красивый двухэтажный дом с верандами по углам да балконом по середине. Белый весь, к горке приник. Дорожки к нему гравием усыпаны, кругом кипарисы, олеандры да розы. Как жемчужина в ораве.
«Вот здесь будешь ночевать». - говорит Юлия — это так комендантшу зовут, — и из связки ключей сымает эдакий с замысловатой бородкой. Открывает им входную боковую дверь и протягивает мне. — «Держи, — говорит, — Вижу ты парень спокойный, можно тебя за твои труды и отзывчивость сюда временно допустить. Пошли. Я тебе покажу, где тут что».
Заходим. На первом этаже — зала большая. — «Это, — говорит, — банкетная зала». При ней же небольшая комната, метров на двадцать, вроде, как гостиная. Далее спальня. Всюду ковры, мебель импортная, хрусталь в горках, как в музее.
«А тут что?» — спрашиваю и тыкаю пальцем в дверь. Юлия усмехается и говорит, — «А ты погляди».
Открываю дверь — надо же! Такого дива не видел никогда. Ванна — голубая, унитаз — тож, умывальник, эдакий замысловатый, как гриб груздь. Только тоже голубой. Крантики — никель и фарфор — чудо! И ещё какая-то лохань голубая с фонтаном по середине. Кафель по стенам тож в голубых цветочках. — «А это что ж за лохань такая? Какое её предназначение? Пить вроде бы ни к чему с неё, ноги мыть — ванна есть», — спрашиваю. Юлия пояснила, што пользуются ею после того, как потрудятся на унитазе. Ишь, до чего додумались! Позже и я опробовал. Хорошо! Сразу уразумел, што к комфорту человек сразу привыкает, даже, если к нему не был приучен.
Поднялись во второй этаж. Ну, там, я вам скажу, как в кинофильме «Весёлые ребята». Помните, где Утёсов пришел в гостиную и стал на дудке играть? Да. Так вот, во втором этаже самая большая комната — гостиная. В углу в гостиной — старый рояль. Юлия сказывала, што самой наилучшей фирмы. «Беккер» называется. Может и так. Я в этом не смыслю.
«А отчего это он такой поцарапанный? — спрашиваю. — Даже совсем неприличные слова на нём просматриваются, как у нас на заводе в сортире на двери». — «Это, — отвечает, — шалости внуков ихних. Внуков обучают играть на рояле, а они, естественно, хотят бегать и купаться в море, как всякие пацаны в их возрасте. Вот и портят инструмент. Хотят, чтоб его убрали.
Спать можешь вот здесь», — показывает на спальню. Комната большая, на весь пол толстый ковёр. Две кровати деревянные. Ложись хоть вдоль, хоть поперёк. Тюфяки пахнут сухой травой, но мягкие. Бельё грубой ткани, как домотканое. Подушки и одеяла пуховые. Ещё были там два шкафа, зеркало и при нём эдакие два маленьких мягких стульчика. И ещё места свободного — хоть в футбол играй. Из спальни выход прямо на балкон. А с балкона вид на море и прилегающий парк. Море голубое, поблёскивает на солнце. Красота! Тут же на этаже ещё две спальни. Но поменьше. И кабинет. В кабинете приёмник «Фестиваль» и куча телефонов. Во всех комнатах на полу ковры толстенные затейливых рисунков. Видать, настоящие персидские.
«Если хочешь позвонить домой, вот только по этому телефону, — показывает Юлия, — Остальных не трожь. Упаси Бог!» — «Не опасайся. Не стану звонить. Мне звонить некому. А соседи и без моего «привета из Крыма» обойдутся», — говорю. — «В эту спальню тож не входи. Нежелательно». — «Ну, — думаю, — как в сказке про Синюю Бороду». — «Отчего?» — спрашиваю. — «Потом объясню. Как выйдем», — говорит. Ну, а когда вышли, излагает: «Понимаешь, — мнётся она, — в марте приезжал как-то ко мне Лёня», — это её хахаль. Я знал его. Приезжал при мне. Угощал каким-то хитрым вином. Духмяное, вкусное, но градусов в нём мало. Мне лично не понравилось. — «Так вот, говорит, — приехал в марте Лёня, задержался допоздна. Понятно, удалились мы на ночь в эту спальню. Всё одно пустует. Утром он уехал, а часов в 12 приезжает парень из местного горотдела. Знакомый. Когда-то вместе в школе учились. — «Ты, — говорит, — Юлия, более в той спальне не ночуй. Тем более, со своим Лёней. Скажи спасибо, что я на дежурстве был, да все ваши «звуки» стёр с ленты. А если бы кто другой?» — «Как так?» — спрашиваю, — «А так. Ты что, вчера поступила сюда на службу? Не знаешь, что всё здесь прослушивается?» — «Вот те на, — думаю, — А ведь я же там бывала не раз. С Лёней. Значит, всё, что мы там говорили друг дружке, да иные звуки издавали кто-то слушал. И записывал на магнитофон. На потеху можно крутить и слушать. Меня аж передёрнуло. Гадость-то какая! Потом искала, где там может быть спрятан микрофон. Но не нашла. Так что смотри, будь осторожен».
Мне как-то смурно стало на душе после этого. Даже расхотелось в том доме ночевать. И такое настроение скверное стало у меня, што пошел, взял бутылку «Российской» и под липкие пельмени в прибрежной забегаловке выдул.
Понимаете, Анатолий Викторович, я, конечно, не против того, чтобы человек, который несёт большую ответственность, хорошо отдохнул. Получше, чем все иные. Это нормально. Я б тоже обиделся, если б какой хмырь бездельный стоял вровень со мной. Не справедливо это было бы. Однако, как же это его товарищи по партии, — с одной стороны ставят его на столь высокий и ответственный пост, доверяют, значит, а с другой стороны, — подслушивают, какие звуки издаёт он в спальне или в туалете, к примеру. Выходит никакие они не единомышленники, как сказано в уставе партии, а разбойники, которые не доверяют друг другу».
«Во-от оно что! Опять тебя одолевают сомнения и вредные для тебя мысли, Афанасий! Простак ты! Впрочем, как и весь наш народ… Нет, пожалуй, не весь, — подумав, продолжает Анатолий Викторович, — А то по тюрьмам одни уголовники и сидели бы. Я тебе сколько раз говорил, брось напрягать свои мозги, в дурдом попадёшь. Ты же предрасположен!» — «Ладно, Анатолий Викторович, не буду. Только вы мне ответьте начистоту. Честно. Не заложу. Вы — то сами верите во всё это?» — «Знаю, что не заложишь. Иначе бы не вёл с тобой никаких бесед. Не было бы у нас дружеских отношений, как нынче говорят.
Что же касается твоего вопроса, если честно, мыслящий человек не может в «это» верить. По крайней мере, в большую часть. Слишком много противоречий. И количество их со временем увеличивается. Так, была гипотеза. Даже на рабочую не вытянула, хоть и тянули усердно. Как бы тебе это лучше объяснить, — результат решения задачи «подтягивали» под ответ, указанный на последней страничке учебника. Понял?» — «Понял». — «Раньше верил. Да и поумней меня верили. Кто по незнанию, кто просто верил. Как раньше в Бога верили. Ведь в партию я вступил в 43-м. На фронте. Это двойной риск. Коммунистов и евреев немцы стреляли на месте. В плен не брали.
Вера сначала потускнела, а потом и вовсе ушла… Много тому было причин. Обо всём не расскажешь. А что никакие мы друг другу не товарищи, а тем более, не единомышленники, ты прав. Чиновники мы. Винтики, как образно заметил товарищ Сталин. Притом не государственные, а партийные, могущественнейшей организации, стоящей над Законом и Государством. У неё свои Законы и Правила, своя иерархия, у которой государство в подчинении. Чем выше иерарх, тем большей властью он обладает. Практически беспредельной. В таких условиях не могут сохраниться товарищеские отношения. Тем более — единомыслие. Отсюда — недоверие друг к другу, высших к низшим и наоборот. Это неизбежная дань человеческим слабостям. В этом ты прав. Верно заметил.
Я помню, как-то было у нас партсобрание. Закончилось поздно. Тогда долго заседали. Вышли все на улицу после собрания. Время было зимнее. Не то, чтобы было очень холодно, но шлёпать домой зимней ночью не очень приятно. Транспорт городской уже не ходит, такси тогда ещё тоже было не много, а личными автомобилями ещё не обзавелись. У ректора была служебная машина ЗИМ. Громадный рыдван Кроме него могли ещё человек пять поместиться. А если потесниться, то и все шесть. Что же ты думаешь, он кого-нибудь пригласил в машину? Нет. Сел и укатил. Ему и в голову не пришло подвезти кого-нибудь из своих партийных товарищей, сотрудников. Хотя бы тех, кому с ним по дороге. А ведь были среди них и пожилые, и даже инвалиды войны без ног. Чем не директор царского департамента? В тот вечер улетучились мои последние иллюзии. Правда, никому ничего не сказал. Только обратил внимание, что такие мысли пришли не одному мне в голову. Хоть и подбирали тогда уже контингент не особо склонный к сомнениям». — «Што ж вы молчали, Анатолий Викторович?» — «Эх, Афоня… Человек я слабый. Не могу лечь на амбразуру. Привык к хоть и минимальному, но комфорту, который дан мне благодаря моему положению. Знал, что рыпнусь — сотрут в порошок, уничтожат. Также, как и тебя никто не поддержит. Да и где скажешь? На собрании? В газете? Не дадут. Вот и остаётся мне отводить душу с тобой в обществе бутылки. Хочешь не хочешь, станешь циником. Сам себя презираю. В бою не боялся, а тут боюсь. Не за себя, за семью. Ведь заложники они. Тебе легче, нечего терять, никого из близких не подставляешь».
«Ты что разлагаешься на корню, сукин сын?! — орёт на соседского Валерика бывший комиссар. — Какой из тебя выйдет строитель коммунизма?! Это же блевотина буржуазной культуры для одурачивания трудящихся масс! Щас же прекрати крутить эту похабную музыку! Нето напишу в твою комсомольскую организацию!» — «А я, Прокофьич, не комсомолец. И потом это не буржуазная блевотина, а ритмы угнетённых народов Юго-Западной Африки». — Парирует выпад Валерик…
…Бьют туземные барабаны, отбивают ритм сердца… Тук, тук, тук…
…Впервые Наташку увидел Афоня в цеху. Мельком. Мало ли новеньких приходит. Посадили её на монтаж. Видать, где-то уже работала, знает, что такое паяльник.
«Так, ничего себе, — отмечает про себя Афанасий. — Складненькая, носик пуговкой, волосики рыженькие выбиваются из-под белой шапочки, конопушки на щёчках под зелёными глазками. На среднем пальчике — обручик желтенький — замужем. Да и как ей не быть замужем — на дороге такие не валяются». Раз, другой глянул на неё Афоня, вздохнул, позавидовал в душе кому-то, и пошел на своё рабочее место. Так бы и ходил он каждодневно, поглядывая в её сторону, не приключись как-то в конце августа всеобщий выезд в совхоз на уборку помидоров. Так уж получилось, что работали они рядом. Приспособились. Наталья наполняла вёдра, Афанасий носил, помечая у учётчицы выработку. В перерыве сели поодаль, объединили свои свёрточки, и вышло, что у запасливой Натальи вполне хватило на двоих.
«Сколь лет тебе, Наталья?» — спрашивает Афанасий. — «Двадцать семь». — «Руки у тебя красивые. Натруженные только… Глянь, как жилочки-то вздулись… Видать, дома-то не пальчиком машешь…»
Опустила глаза Наталья, как два мохнатых шмеля ресницы, мутная капелька слезинки размыла полевую пыль на веснущатой щеке… И так защемило в груди у Афанасия, такая на него нахлынула нежность к этой маленькой женщине, так захотелось прижать её к груди, гладить её медные волосы и голубить, голубить её, как малое дитя. Никогда такого не случалось с Афанасием. Погладил её по руке… — «Што ты, Наталья?.. Извини, если што…» — «Не. Ничего, Афоня… Это так… — улыбаются сквозь слёзы её глаза, — Добрый ты, видать. И несчастный. Знаешь, как тебя девки кличут? Бобыль непутёвый. Што не женишься?» — «Не нашел себе жены, Наталья». — «Плохо значит искал». — «Может и плохо. Только не складываются у меня отношения с женщинами…» — «Как же так? Вот заметил же, што руки я себе надорвала… Значит имеешь ты чуткость в душе… Вёдра с помидорами таскаешь, не даёшь мне тяжесть поднимать… Дуры, што не видят такого…» — «Дуры не дуры, а вот я не вижу средь них такой, как ты… Жаль, што мне уж скоро сорок, да и ты вон окольцованная…»
Ещё слезинка скатилась по светлой дорожке на щеке, промытой первой…
Гладит Афанасий Наталью по голове, льются её волосы её волосы тёплым ручейком меж пальцами, саднит в груди у Афанасия…
После работы позволили совхозники купить заводским подёнщикам помидоры. По продажной магазинной цене. Все довольны. Совхозники получили неучтённый «навар», рабочие обошли шалавую торговую братию — достался им, наконец, отборный товар.
«Што не берёшь себе, Афанасий?» — спрашивает Наталья. — «Нашто они мне? Вот десяток на закусь взял — и будет». — «Возьми на себя, а то мне более десяти килограммов не дадут. Где такие хорошие купишь? А я тебе пару баночек законсервирую. Будет на зиму. Очень полезно».
Совсем растрогала Афанасия такая Наташкина забота. Несут они вдвоём две авоськи с помидорами — в правой руке у Афанасия меньшая, в левой ручка большей. Другая ручка авоськи в маленькой наташкиной ладошке.
Не доходя нового жилого массива остановились.
«Вот и пришли. Спасибо тебе, Афоня. Дальше не ходи. Сама управлюсь. Я в первом доме живу. Нас как снесли, так в этом доме квартиру дали. Маме однокомнатную, а нам — двух. А был здесь у нас хороший дом. С садом. Правда, без удобств. А сейчас и горячая вода, и ванна. Только тесно. И привыкнуть никак не могу к этажам». — «Как же ты уволокёшь одна эдакую прорву помидоров? Тяжесть ведь нешуточная! По технике безопасности тебе не положено. Беги за «своим», а я подожду. Што тут такого? Ну помог донести. Всё же вместе работаем».
Опустила Наталья голову. — «Нет его дома. Сама управлюсь». — «Боишься соседи наплетут?» — «Нет. Не боюсь. Я же говорю — нет его дома». — «Так придёт же». — «Совсем нет его… Уже третий год. Как сюда заселились, так и уехал. На заработки куда-то на север завербовался. Уехал и пропал. Ни самого, ни денег, ни писем. Сначала писал. Сама Ирку с мамой воспитываю. В общем, соломенная вдова». — «Што ж ты мне голову морочишь? Давай сюда сетку. Пошли».
Чисто у Натальи в квартире, уютно. Хоть и не новая мебель, разная, но подобрана со вкусом.
«Што ж ты стоишь у порога? Заходи. Умойся, вот чистый рушничок. Старинный. Ещё от бабушки. Домашней выделки. Я сейчас соберу на стол. Иришка у мамы пока побудет. Тут рядом. Этажом ниже. Не стесняйся».
Плещется Афанасий в ванной и слышит, как Наталья гремит в кухне за стеной посудой, как шипит на сковороде сало и аппетитный запах жареного мяса щекочет ему ноздри. Афанасий жмурит глаза и представляет себе, как Наталья мечется по кухне, как летают её маленькие руки, и вновь волна нежности захлёстывает его…
Ещё несколько раз Афанасий заходил к Наталье. По случаю. Хотя поглядывал на неё в цеху с обожанием. Никак не мог разобраться в своих чувствах. То виделась она ему родной дочкой, которая попала в беду и надобна ей его отцовская помощь и забота, то сестрой, родной, кровной. Всё чаще думы о ней одолевают Афанасия. Даже пить стал меньше. Не думается на хмельную голову.
В конце сентября резко похолодало. Западные ветры гонят по небу рваные тучи — посветлее выше, черные, дымные грозовые — пониже. Ветви каштанов и акаций осыпают тротуары ржавым листом и ветер собирает его пышными копёнками у подворотен. Дни окорачиваются и хмурятся, предвещая зимние холода и умирание. Холодные октябрьские дожди уныло сеют влагу.
В один из таких дней, когда свет ртутных светильников уличных фонарей с трудом проникал сквозь густую мглу, Афанасий зашел в гастроном, купил колбаски, сыру, коробку шоколадных конфет, лимон к чаю и бутылку Крымского Муската. Для Натальи. Уже на автобусной остановке мелкая водяная пыль вдруг превратилась в мощный летний ливень. Афанасий вмиг промок насквозь.
Когда Наталья открыла дверь, в её глазах было удивление и радость.
«Боже, посмотри, Афанасий, на кого ты похож! Ты же весь промок до ниточки! Заходи скорее, раздевайся. Я сейчас тебе в ванну воду пущу. Тебе нужно согреться, миленький!»
Она помогает раздеться Афанасию, и он нисколько не стесняется её. Афанасий погружается в тёплую белую пену Вода булькает и он блаженно закрывает глаза…
Потом они пью чай с клубничным вареньем, Наталья пробует сладкий Мускат, хвалит его. Афанасий не пьёт сладкие вина, крутит головой, отказывается.
«Может тебе водочки налить, Афоня? Есть у меня где-то в шкафу. Полбутылки. От праздника осталось…» — «Не, Наташа, не буду. Чувства у меня нету, когда выпью. Быстро хмелею и ухожу в себя… И от людей. Не хочу сегодня от тебя уходить…» — сказал и сам испугался собственной смелости.
Глядит на него Наталья, разгребает рукой его влажные волосы, слипшиеся на лбу и такая у неё в глазах нежность… Не заметил Афанасий, как села она рядом с ним на софу, как прильнула к нему. Гладит его лицо маленькими мозолистыми ладошками. Чувствует он, как счастье проникает в каждую его пору, в каждую клеточку… Афанасий целует её пальцы, её руки, её глаза, шею, её грудь, выскользнувшую из распахнувшегося халатика… Его губы шепчут ласковые слова, которые он никогда никому не говорил, руки ищут её тело, чтобы ласкать его и лелеять… Наталья зажмурила глаза, улыбается в блаженстве… Они засыпают в объятиях друг друга под утро, насытившись ласками, так и не выключив свет, чтобы поутру вновь найти друг в друге что-то новое, неизведанное…
Пожалуй, эти пол года были самыми счастливыми в жизни Афанасия. Наталья, домашний уют, их взаимная опека, любовь, которой, казалось, не будет конца, а будет она всё глубже и совершенней. Пить Афанасий бросил совсем. Даже за пивом почти не встречался с Анатолием Викторовичем. Теперь у него была семья, которой был нужен он, и которая нужна была ему.
…«истопи ты мне баньку по-черному…» — рыдает за стеной Высоцкий, рвёт душу песня. Подступил откуда-то снизу комок к горлу Афанасия, видать душа рвётся наружу…
…В апреле плохо чувствовать себя стала Наталья. Побледнела, исхудала, голова кружится, рвота…
«От любви сохнет», — шутят полнотелые деревенские девки на монтажном конвейере…
«К доктору тебе надо…», — говорит Афанасий. — «Ничего, пройдёт. У меня по весне так бывает. Я в прошлом годе ходила. Докторша сказала, что витаминов не хватает»…
А на следующий день упала в обморок. Прямо на рабочем месте. Девки её в санчасть снесли, Афанасию сказали. Бросил он инструмент — и мигом вниз, в санчасть. Наташка бледненькая сидит на кушетке. Как увидела Афанасия — заплакала, прижалась доверчиво к его груди. Дали ей освобождение от работы, чтобы можно было выйти с завода, за проходную, и направление в поликлинику. Скорее это была записка к старому доктору. Повезло Наталье, что дежурила в этот день на здравпункте фельдшерица-пенсионерка. Вот и написала записочку своему старому коллеге…
Долго смотрел её старый доктор. Ухом слушал грудь и спину, длинными пальцами жал живот и стучал по ключицам, расспрашивал, что делает на работе. Потом написал направление на всяческие анализы и велел придти через неделю.
Хмурится доктор, смотрит бумажки с результатами анализов. — «Вам немедленно нужно лечь в клинику института профзаболеваний. У вас тяжёлое отравление. Свинец в крови. Менять работу нужно. И — немедленно. Вот вам направление. Вас положат сегодня же. Начальник отделения мой бывший ученик. Я ему позвоню сейчас же. Отправляйтесь прямо туда…»
Через неделю её не стало… — «Слишком поздно, — сказал начальник отделения, — Если бы ещё год назад, можно было бы спасти. Ей нельзя было работать на пайке. Да и, видимо, вытяжки на рабочих местах слабые, не отсасывают в достаточной мере свинцовых паров. Вы ведь с её работы?..» — обращается доктор к Афанасию. А он ничего не видит, ничего не слышит. Серая вязкая тина горя обволакивает его… Он не может поверить, что нет болше его зеленоглазой Наташки, что не взлетят её маленькие руки и не будут её мозолистые ладошки гладить его щёки…
…«и только нам нужна победа-аОдна на всех, мы за ценой не постоим…» — мурлычет за стеной гитара…
…«не постоим, не постоим, не постоим…» — рвётся из груди усталое сердце…
…«вот, товарищи, пускай Сиротин объяснит коллективу, почему он прогулял три дня. Опять наш коллектив из-за недисциплинированности Сиротина не занял первого места в социалистическом соревновании.
Выйди сюда, Сиротин, посмотри в глаза своим товарищам и объясни им свой проступок. Вроде бы стал исправляться, пить перестал, а тут опять сорвался. Это и наша, товарищи, с вами вина. Плохо воспитательная работа у нас поставлена, — жужжит осенней мухой голос профорга Хилько, — …слово предоставляется Сиротину…»
Стоит Афанасий и видит перед собой над хирургической белизной белых халатов светлые пятна лиц, насупившихся в тупом ожидании конца собрания. И эта скотская покорность и безразличие вонзилась в него штыком. Он ощутил реальную боль под сердцем и, превозмагая её, стал говорить, поражаясь своему спокойствию.
«Я не вижу, чтобы кого-либо из здесь сидящих интересовали причины моего прогула. Кроме вас, — бросил он в сторону президиума и его председателя Хилько. — Но я скажу. Позавчера исполнилось сорок дней со дня смерти Наташи. Вот я и справлял по ней поминки. Вы уж и забыли о ней. Вывесили некролог, собрали по полтиннику на цветы — и все дела. Даже не поинтересовались, как и отчего она умерла. А ведь это и вас касается». — «Сиротин, прошу говорить по существу. Это к делу не относится», — прерывает его Хилько. — «Нет. Относится. Наташа умерла от отравления свинцом. Потому что рабочие места монтажников не оборудованы вытяжками. А вы, — повернулся Афанасий к белым халатам, — как последнее быдло, даже не знаете, что заняты на вредных работах! Что ваши рабочие места не соответствуют требованиям техники безопасности! Что вам положено каждый день молоко и дополнительный отпуск! Я интересовался в городском комитете профсоюза. Есть такой справочник. Там всё сказано. И у нас на заводе есть. Только наши ловкачи из отдела труда и заработной платы назвали вашу профессию — сборщики. Вы же — пайщики, монтажники аппаратуры. И все дела. Экономия зарплаты. Значит — премия!
А что профсоюз?! Это ж его кровное дело следить за этим! Чем он занят? — все более распаляется Афанасий, — Новый почин готовит?! Делит дефицит?! Путёвки в Сочи? Квартиры? Составляет соцобязательства?! Граки! Бараны! Жрите свинец! Вкалывайте по полторы смены! Получите десятку из фонда мастера! Потом даже на лекарства не хватит! Рабочий класс называется! Все подохните, как Наташка, только поначалу выблюете свои внутренности!» — «Прекратите, Сиротин! Вы клевещите! Я лишаю вас слова!!» — визжит Хилько.
Поздно. Белые халаты зашевелились растревоженным муравейником, — «Пусть говорит!»
«Говори, Афанасий!»
«Неча рот затыкать!»
«Понаели хари на нашем здоровьи!»
Горячая волна затопила мозг Афанасию. Никого не видит он, кроме Хилько. Лицо Хилько мнётся в гримасе и открытый рот исходит дурным духом больных внутренностей.
«Это ты, сука, виноват в смерти Наташки! — голос Афанасия крепнет и наливается металлом. — Это ты, падла, вместо того чтобы следить за техникой безопасности рожаешь почины! — Он приблизился к Хилько. — Гад! Дармоед! Подонок!!» — руки Афанасия тянутся к Хилько…
Он не помнит, как схватил его за грудки и трясёт так, что халат и рубаха, стреляя пуговицами, с треском рвутся. Голова Хилько болтается из стороны в сторону. С трудом члены президиума отрывают Афанасия от потерявшего сознание от страха Хилько. У Афанасия в кулаке зажаты обрывки халата… Пресс ненависти и отчаяния давит ему на виски… — «Убью гада!!!» — хрипит Афанасий в истерике. У него на руках висят по два человека…
…Афанасия не тронули.
Через неделю на конвейере стали срочно мастерить вытяжки Начальника отдела труда и заработной платы перевели на работу в райисполком начальником жилотдела. Хилько перевели на работу в профком завода как пострадавшего…
…«тихо вокруг, сопки покрыты мглой…» — стонет голос из репродуктора, выводя скорбную мелодию старинного вальса беспомощности и безнадюги обречённых воинов.
«Видать, ветеран какой-то расслабился в сантиментах и вселенской скорби, заказал этот вальс… — думает Афанасий. — А мне уж всё. Кто я? Не ветеран даже… Всего-то день провоевал. И то после официального окончания войны. Значит, не участвовал. А сколько ребят уже после победы полегло?..»
Силится вспомнить Афанасий, что было дальше, да кроме густой тьмы хмельного угара и свинцового похмелья не вспомнит. Перестали его брать даже в вытрезвитель. Что заработает, то пропьёт. Да и заработки пошли вниз. Перешел по началу Афанасий в грузчики. Руки стали дрожать. Не мог делать тонкую работу сборки точных приборов. Потом дальше. Ушел с завода. Подался в грузчики в соседний продмаг. Всё ближе к бутылке. Темень, темень, липкая, вонючая, как болото…
…«Крепкое у тебя сердце. Ещё поживёшь, если не выпьешь». - сказал доктор в больнице.
«А зачем? — думает Афанасий. — Зачем мне дальше-то жить теперь?»…
…Нежная бирюза видится Афанасию. «Это море. Как в Крыму.» — вспоминает он. Зеркальная водная гладь сливается с горизонтом. Густой воздух, напоенный ароматами щедрой южной земли, нежит его тело. В море плещется рыжеволосая девушка. У неё глаза цвета морской воды, а медные волосы текут по плечам, прикрывая белоснежную грудь… Девушка машет рукой, зовёт к себе Афанасия.
«Да ведь это же Наташка! Она!» — думает Афанасий. Он разбегается и прыгает в воду, погружаясь с головой. Ему хорошо. Только, вот, воздух кончается… Дышать нечем… Ноющая боль под левой лопаткой охватывает сердце…
…«Наташа, я к тебе!.. Подожди меня!.. Не уходи!..» — проносится у Афанасия в мозгу… Он пытается крикнуть — и не может… Тело его дёргается в последней конвульсии и затихает…
…«Дух какой-то чижолый. Как после боя», — замечает бывший комиссар соседкам на кухне.
«Вам всё бой снится, Прокофьич. Уж сколько лет прошло. Пора бы и успокоиться», — замечает соседка.
«Да не, Фрося, трупами пахнет», — настаивает комиссар.
«А и верно. Я всё думаю, што за дух знакомый. Откуда бы это?» — «Да крыса, видать, где-то под полом дохлая», — «Не. С коридора дух идёть. Може где у Афанасия сдохла?» — «Придёт — узнаем. Кстати, чтой-то я давненько ево не видела. А што, Прокофьич, ты когда видел последний раз Афанасия?» — «Кажись, на праздник». — «У-у! То ж три дня тому было! А ну, постукай ему!..»
…Доктора обругали соседей, что не сообщили вовремя о смерти Сиротина. Такой прекрасный экземпляр пропал для анатомического театра мединститута!
В пустой комнате Афанасия осталась железная кровать синего цвета с никелированными шариками по углам спинки, старый стол и табурет. Прямо к обоям прилеплен цветной портрет Никиты Хрущова в обнимку с улыбающимся Юрием Гагариным…
1985 Киев. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






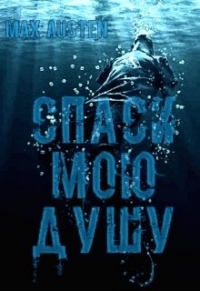
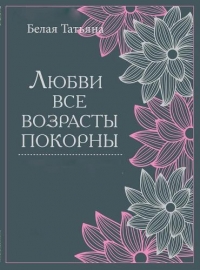
Комментарии к книге «Последний день», Роман Израилевич Барский
Всего 0 комментариев