Александр Карнишин ПРО ПЕТРОВИЧА
Как Иван стал Петровичем
Петровичем тогда в городке стал Иван, что до того по выходным дням обычно бездельничал на ступеньках винного магазина в ожидании компании или же сидел в парке, если компания находилась.
Однажды утром пришли к нему люди и спросили:
— Петрович, ну, ты как?
Вот он и понял тогда, что быть теперь ему Петровичем. Был бы это большой город, там бы Михалыча искали. А тут — Петрович.
Потому что все знают: без Петровича нельзя. Трудно без Петровича. Даже и не поговорить ни о чем друзьям, даже и не перекинуться словцом мужу с женой за поздним ужином. А если есть Петрович — есть и тема разговора. И карикатуры можно рисовать. И анекдоты рассказывать.
Одно плохо: становясь Петровичем, меняется человек. И проходит какое-то время, смотрят на него — а это уже вовсе и не Петрович.
Надо нового Петровича искать.
Петрович и волшебная палка
— Петрович, закурить есть? — прохрипел, с трудом продираясь через густой воздух и мелкий мусор на дорожке Лёха Кент.
— Что там — закурить… У меня все есть, — немножко замедленно, как бы даже задумчиво и где-то плавно ответил Петрович.
В руке он держал палку. Некоторые скажут, что так не говорят, и надо говорить — жезл. Но Петрович держал именно палку, которая была не раскрашена в полоску, не ошкурена, не покрыта лаком…
Просто палка. Просто так.
— Вот, смотри, — Петрович, нахмурившись и закатив глаза под брови, махнул палкой, зажатой в левой руке, и в правой у него появился холодный до испарины бокал пива. Он отпил три больших глотка, ополовинив сосуд, задумался на минуту и произнес важно:
— Балтика номер семь.
— А закурить, Петрович?
— Да, не мешай!
Петрович поставил свой бокал на скамейку, нахмурился, махнул палкой — в правой руке снова был бокал, до краев полный пива.
— На вот, похмелись лучше.
— Так это что? — выпив одним длинным глотком поллитра, спросил Лёха Кент. — Это как, типа?
— Типа — оп-па, — веско сказал Петрович. — Ты про Незнайку знаешь?
— Это про которую? — Лёха Кент мучил лоб морщинами. — Надьку, что ли?
— Незнайка, коротышка…, - не отрывая глаз от палки, напомнил Петрович.
— А-а-а! Ирка! Ик! — икнул, зажав рот Лёха Кент. — А чего тебе Ирка-то сделала?
— Книжку, блин, про Незнайку читал когда-нибудь? Может, хоть мультик видел?
— А-а-а, Нез-най-ка-а-а… Это который на Луне! — сообразил Лёха Кент, рассматривая прищуренным глазом солнце сквозь дно бокала и намекая этим, что в бокале, в сущности, больше-то ничего и нет. То есть — пива нет.
— Дурень ты, Лёха, — сказал Петрович грустно. — И все мы тут дурни.
— Ну, ты только не обобщай, Петрович!
Лёха Кент был длинный и лысый. Петрович был кряжистый и с животом, нависающим над ремнем и закрывающим пряжку. Дело было поздней весной. Погода была хороша. Под деревьями было свежо. Пахло свежими тополиными листьями.
— Это волшебная палка, Лёха. Понимаешь? У Незнайки вот была палочка, так он и был всего лишь коротышка. А у меня — волшебная палка. И вот, смотрю я на мир и вижу: у Лёхи Кента кончилось пиво. Я улыбаюсь внутренне, сосредоточиваюсь внешне и машу волшебной палкой. Ап!
Пустой бокал в руке Лёхи налился свежим пивом.
— Понял, да?
Лёха Кент сделал три глотка. Глотка у него была ого-го, какая здоровая. Поэтому больше трех глотков не помещалось ни в один бокал.
— Уф, — выдохнул он. — А еще?
— Ап!
Этот стакан Лёха Кент не стал пить залпом. Теперь он рассматривал пиво на свет, отпивал мелкими глотками, проверял следы от пены, чмокал губами, задумчиво глядя вверх:
— А хорошее пиво, Петрович!
— И вот я смотрю вокруг и получается — исправляю несправедливость. Палка помогает мне в этом. Она, блин, чисто волшебная, в натуре!
— Так ты и чипсы можешь?
— Ап!
На скамейку грохнулся большой пакет чипсов.
— Это какие?
— Без рекламы, понял? Без названия. Ты хотел чипсов — вот чипсы. Хрусти.
В кронах деревьев чирикали воробьи. Вдали по случаю очередного праздника звенела колоколами колокольня местного храма. Легкий ветерок гонял бумажки вокруг урны. Петрович и Лёха Кент пили пиво и ели чипсы.
— А еще что можешь?
— Все! Это, понимаешь, волшебная палка. Она может все.
— Ну, так у тебя же пусто…
Петрович махнул палкой, и у него в руке образовался очередной бокал пива. Он окунул губы в пену, не дожидаясь ее осаждения, сделал два быстрых глотка, прищурился на солнце, блестящее зеленым сквозь тополиные листья.
— Клинское золотое, епть!
— Круто! А водку тоже?
— Все могу. Но водку не сейчас. Водку — потом.
— Ну, да. Утро же еще. Всего два часа…
Мужики сидели в тени на парковой скамейке, смотрели вокруг нежно и употребляли.
— А вот жена не понимает, — вдруг как будто продолжил давний разговор Петрович.
— А?
— Жена, говорю, не понимает. Шумит, что дурак я, что надо от палки этой больше просить — и больше, мол, тогда дастся…
— Куда — больше-то? Оно же согреется? — не понял Лёха Кент.
— Вот и я говорю ей: согреется. Не понимает. Ну, женщины, они — сам знаешь…
— Ага. Это…
— Ап!
— О! За наших, стало быть, за женщин? — они оба были женаты и знали, что женщины — очень странные создания. Но каждый раз пили за них специально. Потому что — куда же без них?
— Погоди чуток… Ап! За женщин!
Как Петрович «завязал»
Однажды Петрович завязал.
У него все-таки была сила воли. Да еще какая сильная сила воли! И когда жена затюкала, затумкала, затуркала, запилила вконец за слабость и полное безволие, он стукнул кулаком… Хотя, нет. Не настолько Петрович был пьян, чтобы на женщину — кулаком. Он хлопнул ладонью по столу. Аккуратно так положил ладонь рабочую широкую на стол, выдохнул, проморгался, кашлянул — не в то горло пошло, видать, от крика жены, и сказал:
— Ты ж меня — ал-ко-го-ли-ком… А я ж за тебя… Да я ж все для тебя… Эх-х-х…
Вот так сказал Петрович и даже чуть не заплакал от чувств. А жена вдруг замолчала, подошла к нему, провела пальчиком розовым по щеке, вздохнула:
— Эх, ты, Петрович… Горюшко ты мое.
И — всё.
И он завязал.
В понедельник он встал по будильнику и пошел работать. У Петровича была работа, он не все время сидел в сквере на скамейке с бутылкой пива. У настоящих Петровичей везде и всегда есть работа!
На работе он работал, не отвлекаясь на предложения пойти покурить или глотнуть чуток от головной боли. Был Петрович хмур и задумчив. Иногда отрывался от работы и долго смотрел в стену. Переживал. А потом снова брался за работу.
После работы он привычным маршрутом дошел до магазина, кивая в ответ на приветствия встречных. В магазине продавщицы тоже стали весело кричать:
— Привет, Петрович!
Но он ни с кем отдельно не поздоровался, а кивнул неловко всем сразу, смотря в пол, и тут же подошел к прилавку с молочными продуктами.
И во вторник он работал. А после работы заходил в магазин и купил хлеба и курицу.
И в среду он работал.
А после работы на ступеньках магазина остановили его люди и долго смотрели на него со всех сторон. И в глаза заглядывали. И даже привели с собой местного врача-нарколога, который тоже смотрел Петровичу в глаза прямо на улице, стучал резиновым молотком по локтям и коленям. А Петрович стоял, опустив голову, согнув плечи, и хмуро о чем-то думал. Переживал.
Врач-нарколог сказал, оглянувшись на людей:
— Здоров.
И тогда сказали люди:
— Петрович, ты не прав. Нет, ты совсем не прав, Петрович.
Он поднял голову, взглянул на них с тоской и ответил:
— Так… Народ… Это… Жена у меня… Вишь, как…
Вокруг зашумели радостно — заговорил Петрович! Общается! Раздались крики:
— А у нас кто? И мы с женами! А у нас еще и дети есть!
— Моя не одобряет…, - почти прошептал Петрович, снова опуская голову и краснея немного щеками.
— Ну, так мы же ей и не предлагаем, верно? Мы же с тобой хотим пообщаться, Петрович! Поговорить нам с тобой надо. Обсудить проблемы семейные. Насчет детей посоветоваться. Опять же о вреде бытового алкоголизма… Ну, Петрович? Кто, если не ты?
И понял Петрович, что, действительно — кто, если не он?
И — развязал.
Так город не лишился своего Петровича. И потому история эта не закончена.
Как Петрович консультировал
Петрович сидел на лавочке в парке, что как раз через дорогу, наискосок, и консультировал.
— Скажи нам, Петрович, — негромко спрашивали его два солидных человека с красивыми кожаными портфелями под крокодила. — Что нам делать? Как нам деньги держать? Евро, доллар или все же рубль? Или все в товар? Нам страшно, Петрович, потому что кризис.
Петрович знал про кризис все. Жена смотрела по вечерам телевизор и громко обсуждала с ним сказанное с экрана. Сейчас он хмурился, сводил брови домиком, морщил лоб в умственных усилиях, щурился на солнце, пробивающееся тонкими лучами сквозь листву старых, еще его родители сажали, тополей.
— Мужики, вы же специалисты, ёпть! Как же мне вам советовать?
— А ты так посоветуй, как думаешь! Нам же не знания нужны. Знаний и так много у нас, даже лишние они бывают. А нужно нам корневое понятие всего происходящего, от земли, от народа. Потому что даже если и гикнется все, к чему идет, то народ наш и земля наша останутся.
— А вы, вижу, правильные мужики, — кивал Петрович и смотрел в свой стакан, в который тут же начинала наливаться прозрачная жидкость. — Ну, как вам объяснить по-простому, по-нашему? Слушайте, и не говорите, что не слышали. Вот есть, положим, водка, есть портвей и есть пиво. Стоят они все по-разному. Если считать на стаканы, то водка — самая дорогая, портвей — второй, а пиво — так, газировка. При этом и водка и портвей и пиво в голову бьют, если выпить по норме, удовольствие доставляют, и вообще, как говорится в наших кругах, водка не только вредна, но и полезна. И вот, положим, сравниваем мы эффект от употребления. Вот ты, молодой, сколько водки выпить можешь?
— Э-э-э…, - замялся тот, что моложе, в красном узком галстуке под воротником белейшей рубашки.
— Да ты не мнись, не мнись. Это же, типа, эксперимент. Ну, сколько в удовольствие?
— Стакан, наверное, — неуверенно сказал тот.
— Хм… Стакан. Нет, это не те пропорции. Тогда лучше будем от меня считать, ладно?
— Говори, говори, Петрович, — у старшего заблестели глаза.
— Значит, в удовольствие и без головной боли я выпью под закусь и в хорошей компании две бутылки водки. Если водки нет, то портвея я могу выглушить уже три бутылки — свободно, а еще с полстакана — уже потяжелее пойдет. Ну, портвей — он же сладкий, зараза. И закусь ему практически не нужна. А вот если пить только пиво, то выпью я за вечер пять литров. Ну, или шесть. Это опять же от компании и от закуски. Если много еды, то много просто не выпьешь — некуда будет лить.
— Так, так, — долил тут же ему в стакан из большой литровой бутылки, тряхнув ею предварительно, чтобы шарик, который в горлышке, сошел с места, тот, что постарше.
— Но это, мужики, я, — продолжал раскрасневшийся Петрович. Рубаха выбилась из-под ремня, открывая народу большое пузо, поросшее черным кудрявым волосом. руками он делал округлые движения, пытаясь передать как можно более точно свои мысли. — То есть, экспериментировать объемами на себе не рекомендую. Можно сдохнуть. Но!
Он сделал паузу, длинную, как в театре, когда все замирают и вслушиваются во внезапную тишину, а пауза тянется, тянется, тянется…
— Петрович, эй, Петрович…
— А?
— Ты сказал — «но», Петрович. Ты хотел что-то сказать нам важное.
— Но! Но не мешайте, мужики! На повышение — можно. То есть, если с пива начал, то водкой закончишь без вреда для здоровья. А вот если весь вечер пил водяру, а потом сушняк заливаешь светлым лагерным — тут беда. Тут никакая пропорция не поможет и любая будет только во вред организму. Понятно, нет?
— Петрович, дай я тебя поцелую! — старший вскочил, ухватил Петровича за уши, притянул к себе, чмокнул в макушку, в самую маковку, где начала проглядываться небольшая пока плешь. — Эх, да мы же теперь… Да ты понимаешь, что ты сказал?
— Ну, дык, — важно кивнул Петрович. — Это ж главное: пропорцию соблюдать и не смешивать. И тогда все, что выпьешь — на пользу пойдет и на удовольствие.
Финансисты унеслись в свой банк, перекидываясь на ходу репликами:
— Ты пропорции запомнил? Он там цифры называл… А если за пиво принять рубли а за водку доллары? Нет, доллары — это портвейн, наверное. Водка сегодня — это евро, потому что дороже… Эх, как мы закрутим! Завтра же!
А Петрович сидел расслабленно на лавочке, смотрел вокруг мягко и нежно, а возле него стояла литровая бутылка, пластиковый стакан, полбуханки черного в полиэтиленовом пакете.
Петрович сегодня консультировал.
«Наши»
В субботу Клим проснулся с головной болью. Источник боли обнаружился сразу: с открытого из-за летней жары балкона плотно несло краской.
«Нитроэмаль для наружных работ», — стараясь не ворочать головой, понял Клим.
Злости ни на что уже не хватало. Утро. Суббота. А вместо свежего воздуха с балкона втекал едкий запах растворителя, кружа и так до тошноты кружащуюся и болящую тупой затылочной болью голову. Натянув спортивные разношенные штаны, в которых когда-то он собирался бегать по утрам, но так и не начал этим заниматься, Клим буквально выполз на балкон, придерживая одной рукой голову.
Справа красил железные балконные прутья деревянные перила и даже стену на балконе сосед Лёха, которого во дворе все звали просто Кентом. Не потому что он там какой-то особый кент, в смысле кореш, то есть свой пацан, в доску, а потому что в давнее время он «подломил» киоск, а взял только блок сигарет «Кент». И ушел домой. Ну, просто с похмелья закурить хотелось — а не было. Милиция пришла к нему в тот же день. Он даже одну пачку докурить не успел. Заставили возместить ущерб, да еще ментам поставить пришлось, а Лёха стал для всех Лёхой Кентом. Никогда и никто не замечал за ним интереса к ремонтным работам. А сегодня с самого утра перемазанный белой краской длинный и лысый Лёха тщательно закрашивал всё, до чего могли дотянуться его мосластые жилистые руки.
— Привет, сосед! — весело окликнул он Клима. — Ты что так поздно?
Клим хмуро смотрел на веселого Лёху, не понимая вопроса. Что значит — поздно? Для чего — поздно? Кому — поздно?
— Ты глянь, глянь, — махнул тот вокруг себя кистью, разбрасывая во все стороны капли краски. — Сила-то какая, а? Смотри, ведь почти весь дом!
Клим посмотрел налево. Там весело улыбалась Ирка-студентка в белой футболке и свернутой из газеты шляпе-треуголке. Она уже покрасила сам балкон и теперь тоже красила стену, куда могла дотянуться. Прямо перед Климом упала на перила и разбилась жирная белая капля. Его затошнило от густого химического запаха. Вверху красили. И внизу — он осторожно высунул голову — тоже. И дальше, и еще, и еще. Субботник, что ли? Чего это они?
— А чего это вы? — наконец произнес он возникший вопрос.
— …А ты не в курсе? — удивился Лёха. — Так, может, тебе и не положено? Не, ну ты не подумай, я знаю, ты пацан правильный. Нормальный наш пацан, так ведь? Может, тебя просто дома не было?
— Да что случилось-то? — уже вскипел Клим. — Субботник, что ли? Чего вы все кинулись-то с утра пораньше?
— Климушка, ты не шуми, — прозвенела слева колокольчиком Ирка. — Ну, если тебе не положено, так и не крась. Чего шуметь-то? Кто тебя заставляет?
Никто его не заставлял, только вот после этих ее слов и Лёха и Ирка отвернулись от Клима, начав усиленно растирать краску по бетону.
Клим снова осторожно высунул голову и глянул вниз. Внизу в сквере стоял пузатый Петрович, и приставив ко лбу ладошку, прищурив глаза, рассматривал дом. Клим накинул джинсовую рубашку и не застегивая ее быстро спустился на первый этаж. Вышел из подъезда, оглянулся на дом: почти все жильцы стояли с кистями на балконах и усиленно развозили белый цвет по фасаду старого дома. Несколько балконов, не покрашенных с утра, выглядели грязными тусклыми пятнами на общем фоне.
— Петрович, а что, собственно, происходит? — обратился Клим к Петровичу, по хозяйски рассматривавшему панельный дом.
— В смысле? — задумчиво ответил Петрович. — В Гондурасе переговоры. В Африке голод. В Китае землетрясение. Тебе, парень, надо радио слушать, тогда тоже все знать будешь.
— Да я не об этом, Петрович! Чего вдруг все кинулись дом красить?
Петрович оторвался от рассматривания дома и посмотрел на молодого с укоризной:
— Так ты, это, ничего не знаешь, что ли?
— Да что случилось-то?
— …Хотя, может, тебя просто дома не было? — почти повторил тот слова Лёхи Кента. — Ты же не виноват, да?
— В чем — не виноват?
— Ты вчера когда домой пришел?
— Ну, так пятница же, Петрович! Честная пятница!
— Ты. Когда. Домой. Пришел. А?
— Ну, в два часа. Я совершеннолетний, если что, — нахмурился Клим.
— А-а-а… Ну, тогда ты просто пропустил. А ящики наши всегда открытые стоят. Все понятно. Ты, парень, беги давай в магазин за краской и кистями, и крась балкон белым цветом.
— Блин, Петрович! Да что случилось-то?
— Ничего не случилось. Но наши все покрасили. Понял? Нет? Повторяю, читай по губам: НАШИ, — он выделил слово, дополнительно к голосу еще и расширив глаза, — понял? НАШИ — все покрасили. Ясно?
Клим замер. Разговоры о «наших» на работе ходили. Их обычно ругали за полный дебилизм. Но те «наши» были совсем молодые придурки. С флагами ходили, листовки клеили. А тут…
— А не наши? — спросил он осторожно.
— А не наши — не покрасили. Вон, смотри сам.
Клим повернулся и еще раз посмотрел на фасад своего дома. А ведь точно, почти все покрасили. И только несколько — раз, два, три… восемь балконов — остались не покрашенными.
— Петрович, так это как, значит? Значит, время?
— Выходит, так, — кивнул Петрович. — Выходит, время. И вот так поглядишь — и все ясно. Любому ясно, даже в самом малом звании.
— Так я, это…
— Беги, беги, пацан. Может, успеешь еще.
…
Вечером на скамейках в сквере мужики пили пиво, а одинокие девчонки — портвейн пополам с колой. Возле Петровича стояли ящики, и он щедрой рукой вытаскивал бутылки и раздавал лично в руки, глянув предварительно на дом за спиной. Получил бутылку и Клим. Сковырнул пробку, отпил половину и подошел снова послушать, что говорят старожилы.
— Так, Петрович, это как же? — угрюмо гудел Лёха Кент. — Ты что же, вот это все — сам, что ли?
— Скажи мне, Лёха, — округлыми движениями рук с бутылками в них Петрович сопровождал почти каждое слово. — Ты покупал это пиво?
— Нет.
— Но тебе нравится его пить?
— Да.
— Так в чем проблема, и о чем твой вопрос?
— Петрович, нас ведь никто проверять не приходил?
— И не придет никто. Вот я проверяю и я раздаю. Я вижу — Лёха Кент наш мужик. И я из этого ящика вынимаю и даю ему бутылку. Пей, Лёха. Ты — наш. И Клим — наш. Хоть и поздно встал, но успел он — вон его балкон, смотри. А кто не успел — тот, значит, бутылку не получит. Зачем мне поить тех, кто не наш?
Лёха поморгал молча. Логика в рассуждениях Петровича была. Действительно, зачем поить тех, кто не наш? Но все же…
— Петрович, так это ты придумал?
— А кому еще? Приходил вчера хозяин хозмага, плакался. Кризис, понимаешь, строители перестали закупаться. А он, хозяин, он — местный. Наш он. И вот смотри, что получилось: хозмагу мы выручку дали — это раз.
Петрович загнул палец.
— Теперь, глянь на дом: дом освежили — это два.
Второй палец оказался прижат к мясистой ладони.
— Дальше, думай: мы же теперь знаем, кто наш, а кто — нет. И это — три. А четыре — это вот это пиво, и портвей, и водка, если нам этого не хватит. Хозяин поставил, как и договаривались. И что мы имеем? Смотри, смотри!
Петрович показал Лёхе четыре прижатых пальца и пятый, большой, отставленный вверх.
— Ну?
— Ох, Петрович… Ну, ты умен, блин. Во!
И Лёха Кент тоже выставил вверх большой палец.
Петрович экспериментирует
— Скажи мне, Лёха, как ты понимаешь, что нас объединяет? — Петрович был суров и задумчив. Вчера он разговаривал с опустившимся пенсионером-политологом, и теперь его ела и глодала мысль, что было непривычно.
— Ну, — задумался Лёха Кент, чеша правой рукой в затылке и подняв глаза к небу. Вернее не к небу, а к густой листве тополей, за которыми не только неба видно не было, но и солнце пробиться не могло.
— Говори, говори, — Петрович ждал ответа, ему это было не просто интересно, а необходимо. Мысль требовала развития.
— Пиво? — неуверенно спросил-ответил Лёха Кент.
— М-м-м… Пиво… Это интересная мысль. Но тогда почему нас так мало? Ты видишь вокруг других? Кто вышел с нами вместе в парк, чтобы вечером после работы выпить пива? Никто? Почему? Неужели они не любят пиво?
— Э-э-э…, - Лёха наморщил лоб, пытаясь переварить слишком много слов и смыслов сразу.
— Вот смотри, смотри на наш дом, — они оба повернули головы. — Видишь, мы все в субботу красили. Мы были вместе. А почему? Что объединило нас, тех, кто красил?
— Ну, так… Пиво! — уже уверенней сказал Лёха.
— Разве? Ты знал о пиве? Нет? Но ты красил. И сосед твой красил. И соседка — красила. Почему?
— Потому что ты сказал!
— А-а-а…, - Петрович задумался. В этом что-то было. Да, он сказал, он придумал — и все объединились и стали красить. Но неужели объединяет людей он, Петрович?
Они с Лёхой синхронно подняли полуторалитровые пластиковые «сиськи» и сделали по несколько глотков пива. Пиво было холодным.
— Все же, Лёха, ты не прав. Да, я тоже был фактором объединения, но где те люди сегодня? И объединились ли они сами?
— Да ты заставил!
— О! Я заставил… Это как на демонстрацию согнать народ. Вроде все и вместе, но не едины. А когда мы едины мы — что? — строго спросил Петрович.
— Когда мы едины — мы непобедимы! Венсеремос, венсеремос! — запел Лёха и тут же замолк, запивая внезапно пробившееся творческое начало очередной пивной порцией.
— Молодец! — поддержал его Петрович и снова тяжело задумался.
Легкий ветерок шелестел листьями над головой и гонял какие-то фантики вокруг урны. На лавочках в сквере не было никого — народ только что вернулся с работы домой. И только двое старых знакомых попивали пиво, сидя на ближайшей к дороге скамейке на чугунных ножках.
— Лёха, а у тебя краска осталась? — вдруг спросил Петрович.
— Белая? Полбанки!
— Тащи!
— Нафиг?
— Тащи, будем делать эксперимент! — глаза Петровича сверкали. Мысль нашла свое решение и теперь требовалось проверить его экспериментальным путем.
Еще через пять минут они стояли во дворе своего дома, и Петрович старательно вел кистью толстую белую линию.
— И чего это? — удивился Лёха.
— Вот тут — можно. А вот тут — нельзя, — и Петрович написал: «Машины не ставить».
— Ну, ничего себе. Ты прям гаишник, Петрович!
— Не ругайся на меня нехорошим словом. Вот — двор напополам. Что будет?
…
Ночью Петрович вышел во двор. Пара автомобилей залезли капотами за линию. Остальные тесно сгрудились на половине двора. Некоторые заняли даже аллею в парке. Петрович вздохнул — но эксперимент есть эксперимент. Той же кистью он провел линию по капотам тех двух, что залезли за черту, подсунул под щетки заготовленные заранее записки: «В следующий раз — отпилим».
…
И еще день прошел. И пили они вечером пиво, посматривая на скопившихся во дворе злых автомобилистов, размахивающих руками. И вышел ночью Петрович на балкон. И смотрел сверху на костерок, вокруг которого стояли три мужика с монтировками. И улыбался он нежно.
…
— Вот, смотри, Лёха! — Петрович показал на двор, где почти все машины, ну, сколько смогли, наверное, тесно встали за белой линией, в том месте, где было написано «Машины не ставить», а на лавочке сидели злые водители, поигрывая разными тяжелыми штуками. У кого монтировка в руке, у кого — бейсбольная бита. Они сидели молча и хмуро, наблюдая за своими машинами. И было ясно, что если что, если найдется герой с краской или с пилой, то за этим первым патрулем из дома выскочат все автомобилисты, и тогда будет кому-то больно, стыдно и обидно.
— Ни фига себе! — сказал Лёха.
— И ты думаешь, их объединил я?
— А кто же еще?
— Нет, Лёха, нет. Этих людей объединил запрет. Вот, что объединяет нас всех. Если запретят пить пиво в парке — мы будем это делать. Если запрещено переступать черту — мы ее обязательно переступим. Мы — такие люди, Лёха, что нам нельзя запрещать. Нарушим, да еще все вместе, чтобы было не страшно. Всех не накажут! Вот в чем смысл.
— Ну, за смысл?
— За смысл! За объединение!
Петрович и время
— Петрович, закалымить хочешь? — подошел от своей машины косящий под крутого Василий Косой, что с первого этажа. У него была толстая золотая цепь. И часы были из желтого металла. И вел он себя, как настоящий крутой. Но никто не верил в его крутость, потому что жил он на первом этаже, поставив решетки на все окна, а на работу ездил на «девятке» с тонированными стеклами. И хоть походка, разговор, бычья шея, пузо, выпирающее из-под одежды — все говорило о его крутости, но жилье и машина перевешивали в глазах местных жильцов.
— Ну? — поднял голову Петрович. Он привычно сидел на скамейке в парке, отдыхая от долгого летнего дня, и только что аккуратно слил в большой пластиковый стакан остатки «Арсенального Классического» из полуторалитрового пластикового баллона. «Крепкое» он не брал принципиально. Цена была почти та же, и в голову било сильнее, но смешивать водку с пивом Петрович считал в корне неправильным подходом к вечернему отдыху.
— Не нукай! — попытался обидеться Василий. Но у него не очень получилось.
— А ты не подначивай, — спокойно ответил Петрович, грустно заглядывая одним глазом в стакан, в котором как раз все закончилось. — Ты говори конкретно.
— Я тебя конкретно и спрашиваю, Петрович, ты подкалымить хочешь?
— В этом вопросе я чувствую подвох, — со вздохом начал Петрович. — С одной стороны, правильный мужик должен ответить — да. Но с другой стороны, у правильного мужика всегда хватает на пиво.
— Ну? — неудачно изобразил мыслительную деятельность Косой.
— Скажи мне, Василий, откуда берутся деньги?
— Ну, так, известно откуда — из кассы.
Ошалевший от такого подхода Косой даже и не заметил, что теперь уже у него спрашивали, а он отвечал, стоя, как школьник перед учителем.
— А почему тебе в кассе дают деньги, Василий?
— Ну, так… Работаю же!
— И это правильно. Трудиться надо. Но скажи мне, много ли времени ты работаешь?
— Как положено, весь восьмерик. Ну, и если мастер попросит…
— А чтобы больше заработать, надо, наверное, больше трудиться?
— А как же!
— А теперь подумай, сосед. Чтобы больше получать, надо больше работать. Так?
— Так.
— Чтобы больше работать, надо больше времени. Так?
— Ну, наверное так, — Василий чувствовал подвох, но никак не мог понять — где.
— А чтобы было больше времени, надо меньше работать. Понял?
— Э-э-э… Нет.
— Вот поэтому ты стоишь и предлагаешь мне подработку, а я сижу и пью пиво, — вздохнул Петрович. — А все потому что не могут люди свести вместе узлы своих рассуждений.
— Узлы? — рука Василия непроизвольно поднялась к затылку. — Какие узлы, Петрович? Я же…
— Погоди, дай договорю. Итак, показываю на пальцах: чтобы больше зарабатывать — надо больше работать. Чтобы больше работать — надо больше тратить времени. Чтобы больше тратить времени, надо его больше иметь, свободного от работы. Отсюда, следи за пальцами, сосед, все по-честному: чтобы больше зарабатывать, надо иметь больше свободного времени. Усёк? Пока все верно?
— Ну, вроде…
— А раз так, чем меньше работаешь, тем больше свободного времени — тем больше заработаешь. Во как.
— Не понял…, - ошалело выкатил глаза Василий.
— Я тоже не сразу допер. Сбегай-ка за бутылочкой, мы с тобой сейчас всю цепочку пройдем. Будет у нас сегодня тренинг, — он вкусно причмокнул толстыми губами, — по таймменеджменту.
— Чего?
— За бутылкой, говорю, тебе бежать.
Ну, Василий и побежал, смешно переставляя ноги под торчащим вперед пузом.
А кто бы не побежал?
Возмездие для черножопых
— Наконец-то! — громко сказал Клим оглянулся вокруг — слышно ли было? Он вчера купил себе в кредит ноутбук, и сидел сегодня на скамейке в парке, щелкая кнопками, стрейфясь по Интернету. Ему очень хотелось, чтобы все заценили предмет роскоши, а заодно зауважали его, Клима.
— Теперь прижмут черножопых! — еще громче сказал он.
— Скажи мне, Климка, а в чем коренное отличие жопы черной от такой же жопы белой? Функции у них одинаковые. И форма такая же. А цвет под штанами не виден.
Рядом присел Петрович, неодобрительно смотря на бутылку в собственной руке. Бутылка была почти пуста. Глоток, может два — и все.
Обычно, если получалось взять пиво в пластиковых баллонах, Петрович прикупал в том же киоске и пару стаканов. Пару — чтобы не мялись и не ломались. А вот если пиво было в стекле, то из горла пилось легче и лучше. Опять же — не выдыхалось. И температуру держало лучше.
— Так, скажи мне это, Климка! Скажи честно и откровенно, чем же тебе так не нравится черная жопа Анджелины, мать ее, Джоли?
— Да нет, Петрович, ты не понял, я это о черножопых, что засирают Россию!
— Малыш, — голосом Карлсона откликнулся Петрович. — А ты не срешь, что ли? Может, ты и не ссышь? А?
Клим сконфузился. Он, конечно, хотел внимания, и чтобы его признавали и с ним беседовали, как со своим. Но с Петровичем просто так не побазаришь. Петрович всегда зрит в корень. Клим понял, что проигрывает раунд, и отступил:
— Да я так просто, Петрович! Я без смысла заднего какого! Это просто тут написано, что тех, кто наркотой торгует, расстреливать станут…
— А! Так дело, выходит, вовсе не в черной жопе, а в белом порошке? Интересная логика, имеющая право на существование, — задумчиво произнес Петрович. Теперь он глядел на бутылку с некоторой грустью. Бутылка была пуста.
— Петрович, ну, как тебе не понятно, я же не за расизм, я за наказание!
— А наказание, как надо понимать, смертная казнь? Это кто же наказывать будет?
Петрович втягивался в беседу. Пива не было. Время было. Ветерок шумел листьями над головой. Дурной и молодой сосед по дому сидел рядом и требовал воспитывающего слова. А слова Петровичу было не жалко:
— Вот смотри, сосед, — Петрович приподнял до уровня глаз пустую бутылку. — Я выпил эту бутылку. Значит ли, что теперь остальные бутылки могут в отместку «выпить» меня?
— Петрович, это не о том! Просто надо же, чтобы за каждое деяние, — Клим запнулся на мгновение — «деяние» ему понравилось. — За каждое, повторяю, деяние, должно быть возмездие.
— Так ты — о возмездии! Вон как! А должно ли возмездие быть в зависимости от проступка или ты рекомендуешь просто убивать всех, у кого жопа не того цвета?
— Конечно, в зависимости… Я же не расист… Главное — чтобы все знали о неотвратимости возмездия! — Клим аж покраснел, так ему понравилось, как красиво все вышло.
— Неотвратимость, говоришь? И в зависимости, говоришь? А тогда, если кто обманул — обмануть его, украл кто — надо украсть у него. Если кто избил — отколошматить самого. Если кто убил и съел, потому что маньяк — убить его. И съесть. Вот это — возмездие. И если ты съел свинью, то свиньи съедят тебя. А если я выпил пиво, то оно…
— Ты прикалываешься просто, Петрович?
— …А вот если кто меня угостит пивом, то и я в ответ — его. И это — тоже возмездие, пацан. Но тема эта широка и необъятна, и требует длительного обсуждения. Ну, если тебе интересно, конечно.
— Мне интересно, — часто закивал головой Клим.
— Ну, так, чего сидишь, чего ждешь?
— А?
— Угощай, говорю. А я буду говорить. Вот тебе и возмездие.
Клим опять кивнул, похлопал себя по карманам, и кинулся к выходу из парка, к «Пятерочке», что стояла на углу.
— Эх, молодежь… Понаехало вас тут, а потом кричите невесть что. А за крик покрасить ему жопу черным… Х-х-хе… Ну, ничего. Будем воспитывать, — Петрович повернулся всем телом к открытому ноутбуку и с интересом уставился в экран.
Петрович и интеллигенция
— Какие-то проблемы? — спросил Петрович, обнаружив на своей скамейке незнакомого мужика.
Мужик был тощ и бледен. Из воротника застиранной рубашки торчали нитки основы. Штаны, то есть бывшие брюки, ставшие окончательно штанами, блестели и спереди и сзади. На ногах, на босых ногах были летние босоножки, больше всего напоминающие детские сандалии с дырочками. Взгляд мужика бродил, перескакивал, туманился и рассеивался. Иногда на глаза его наворачивались слезы, которые тот мужественно вытирал тыльной стороной ладони, показывая испачканные чернилами пальцы.
— Проблемы, спрашиваю, какие? — переспросил Петрович, не дождавшись ответа. И тут же пояснил:
— Это мое место, если что.
— Что? — переспросил глупо мужик. — Ты кто?
— Я-то Петрович. А ты, видать, по делу?
— Дело? Какое это дело, Петрович? Это так, безделица. Игры ума. Графомания чистая.
— Так ты писатель? — оживился Петрович. — Ну, показывай, что там у тебя?
«Писатель» вытащил из потертого портфеля начатую литровую бутылку «Парламента». Не того, что просто «чищен молоком», а того, что с черной смородиной, «духи», как называл его Лёха.
— О! — одобрительно крякнул Петрович. — Это по-нашему. Это на серьезный разговор. А закусь?
Из того же портфеля без лишних разговоров появились газеты, расстеленные на скамейке, пакетик с солью, несколько вареных вкрутую яиц, на блюдечке — сразу видно, что готовился человек — тонко порезанное сало, а в конце появилась буханка ароматного свежей выпечки, еще теплого, черного хлеба и две стопки. Мужик дунул в каждую по очереди, глянул на свет, поставил с двух сторон от блюдца, тряхнул в руке бутылку и уверенно разлил граммов по пятьдесят.
— Ну, — поднял стопку Петрович, — мы с тобой не алкоголики, я понимаю так. Мы — за ради беседы. Ну, и психотерапевтически, если что. Будем!
Мужик молча выпил, занюхал рукавом, промокнул заслезившиеся глаза и начал:
— Петрович, я книгу пишу…
— Это хорошо, — кивнул Петрович, отламывая хрустящую горбушку.
— Но книга никак не получается.
— Это плохо.
— Но я с детства мечтаю книгу написать.
— И это хорошо.
— А выходит у меня все хуже и хуже…
— Ты рассказывай, рассказывай.
— Я фантастику люблю, — застенчиво признался мужик. — Вот, роман пишу…
— Так это же хорошо! — Петрович положил на горбушку кусок сала, макнул очищенное яйцо в горку соли, положил рядом, осмотрел натюрморт и сам разлил водку по рюмкам. — Фантастика — это хорошо. Она, понимаешь, призывает и где-то показывает. Она, типа, предсказывает и в натуре предостерегает. Она иногда веселит и почти всегда зовет.
— Не выходит, — выдохнул писатель. — Никак не выходит…
Выпили. Помолчали. Петрович кашлянул:
— А что не так-то? Что у тебя там не выходит?
— Понимаете, Петрович, я как будто конструирую целый новый мир. Я беру то, что вокруг нас, добавляю в сюжет остроты и специй и разных детективов и случаев, а потом смотрю, что получится. Вот, например, прилетают инопланетяне и предлагают мне стать президентом. И я соглашаюсь, потому что понимаю, что нельзя не согласиться. Надо же как-то спасать страну.
— Ну?
— А вместо спасения развал получается… Я уж и так придумывал, и этак… И армию укреплял, и милицию чистил, и олигархов всех посадил, и итоги приватизации отменил — а все только хуже и хуже выходит. Страшно и противно.
— А ты другое что-нибудь…
— Было другое, начинал. Там наши же, только из будущего, ко мне приходили и предлагали новые технологии, много денег на развитие, чтобы там у них все было хорошо от этого. Только опять у меня не вышло. Опять все к войне приходит. И даже весь мир против нас поднимается. И опять противно и страшно.
Чокнулись, выпили, закусили.
— Кхм… А может про космос лучше? Про полеты, про открытия разные? Ну, там как у классиков: «Юная марсианка закрыла глаза и потянулась ко мне полуоткрытыми устами. Я страстно и длинно обнял ее». А?
— Не мое это, — засмущался писатель.
— Ишь, зарделся-то… Что, было? — и Петрович довольно засмеялся, загоготал.
— Правда, не мое это. Путешествия, приключения, космос, наука эта… Я о своей стране писать хочу. Так, чтобы как вы сказали, Петрович, чтобы звало и призывало, чтобы перспектива и вообще.
— Погоди, — выставил перед собой широкую ладонь Петрович. — Погоди. Текст у тебя хороший выходит?
— Друзьям нравится.
— Текста этого много? На роман — тянет?
— Да там сериал целый!
— Я правильно понимаю, что просто концепция не та? Что тебе надо, чтобы все развивалось, а оно агонизирует, что тебе мир нужен, а начинается война… Но при этом — все у тебя интересно и увлекательно?
— Да, — печально кивнул писатель. — Посоветуйте, Петрович, что делать? Может, ну ее, книжку эту? Может, к станку, как в юности? Может…
— Тпру-у-у! Так все же просто, — улыбнулся тот. — Бери свою книжку, которую ругаешь, и переворачивай. Чтобы тот конец был началом, понял? От плохого к хорошему хочешь? Просто переверни книжку. Вот и будет все хорошо. Даже и переписывать не надо будет ничего.
— Как это — перевернуть?
— Вот там, в конце, у тебя все плохо — сделай это началом. И двигайся к хорошему. Ну? Что тут непонятного? Ты же писатель, старик! Не от сохи!
Мужик задумался, глядя на носки своих сандалет. Лицо постепенно разглаживалось, на нем проступила улыбка, наконец, он рассмеялся счастливым смехом:
— Петрович, дайте, я вас обниму! Ведь получается!
Не обняв и не глядя на налитую рюмку, он вскочил, пританцовывая от нетерпения, пожал протянутую руку и убежал. Только стук подошв еще слышался некоторое время в вечерней тишине парка.
— Эх-ма, — выпил Петрович и посуровел лицом. — Вот они, писатели… Фантасты, видишь… Выдумают же… А ведь это же ко мне прилетали. И из будущего — тоже ко мне приходили. И предлагали, да. Но я не взялся. Ну, какой из меня президент, в самом деле? А эти… Сразу за должность хвататься. Культу-у-ура… Интеллигенция. Ну, пусть.
И он махнул и вторую стопку, занюхивая ароматной горбушкой.
Петрович и Китай
— Вот, Петрович, я себе какой ноут купил, — похвастался Клим. — В кредит…
— Китайский?
— Ты что, сони!
— А сони твои разве не в Китае делают?
Петрович был сегодня хмур. Достали его эти, которые с кредитами. Машины все покупают, компьютеры. Один даже квартиру купил в их доме в кредит. И жена стала тоже приставать, ну, то есть намекать: давай, мол, кредит возьмем! А отдавать как? Вон, уже и по заграницам поехали в кредит…
— Нет, ты глянь, глянь, где твою соню сделали!
Там и искать особо не надо было: на боку коробки чернело крупно «Made in China».
— Вот и вся твоя соня. Все — из Китая.
— А мне друзья говорили — из Японии привезли…, - расстроился Клим.
— И Япония твоя — в Китае, — мрачно ответил Петрович.
— Ой, — сказал Клим, чуть не подавившись. — Как это?
— А так. Всё — в Китае. Дурят вас. А все — в Китае.
Лето заканчивалось. Утром и вечером было уже совсем темно. И теперь пиво Петрович пил на той лавочке, что под фонарем. Те фонари, что в боковых аллеях, были разбиты еще в тот год, когда «Спартак» в последний раз стал чемпионом страны. А этот на виду. Тут даже лампочки иногда вкручивают. Приезжают на специальной машине с подъемником, и вкручивают новую лампочку. А потом Петрович садится пить пиво в светлый круг под фонарем.
— Нет, Петрович, я вас уважаю, но все же… Я вот в Турцию ездил в этом году…
— Турция — в Китае, — тяжело вздохнул Петрович.
Нет, в осени есть своя прелесть. И листья яркие и красивые, и комаров-мух нет. Но — холоднее. Сидеть долго не получается.
— Петрович! Ну как же так?
На шум подошел Лёха Кент, кивнул Климу, пожал руку Петровичу, показал ему торчащую из кармана куртки головку поллитровки. Петрович помотал головой. Лёха понимающе развел руки. Мол, понимаю, что хотел бы, да нельзя, так?
— О чем шумим, молодежь?
— Да вот Петрович говорит, что все — в Китае.
— Ну, так правильно говорит!
— Но я был в Турции! В море купался!
— А ты думаешь, в Китае нет моря? — ласково улыбнулся золотым зубом Лёха Кент. — В Китае есть все…
Петрович поднял голову:
— Скажи, Клим, а китайцев ты в своей Турции не видел? Совсем не видел?
— Ну-у… Были там туристы…
— Ты головой подумай, головой! Ты что сказал, а? Китайцы — туристы? Это анекдот такой? Это ты был турист, а они были дома, понял?
Клим помотал головой, приводя разбежавшиеся мысли в порядок.
— А соседи мои в Египет ездили!
— Египет — в Китае!
— Он там настоящие пирамиды видел!
— Ой, Климушка, — влез опять Лёха. — А ты считаешь, что китайцам не по силам пирамиды построить? Они вон какую стену забабахали — строители, что надо!
— Но ведь из космоса видно, где пирамиды! — чуть не плача от досады крикнул Клим.
— А ты летал в космос? — взглянул исподлобья Петрович. — Вот скажи, откуда вы такие доверчивые, а? Вам показали развалины — сразу: Ри-им, Ри-им! А Рим — в Китае, потому что там земля дешевле! Увидели пирамиды — Египет! Да Китай это! Вон, ты в джинсах фирменных, в Леви Страус, вижу. И джинсы эти — в Китае сделали. Сейчас все делают в Китае. Там дешевле…
— А вот Василий — он в Америку летал! — продолжал спорить Клим.
— Это Косой, что ли? Ну, ты сам подумай, головой своей… Не верь всему на слово! Во-первых, это же страшно нерентабельно — летать через океан. Во-вторых, в Америке земля стоит ого-го сколько! И вся — частная. Кто туда на частную землю нашего Ваську Косого пустит, а? В третьих, это он сам тебе сказал, что в Америкке был? А ему кто сказал, что это — Америка? Он уже и по американски разговаривает?
Клим стоял, разинув рот, пытаясь найти какой-нибудь сногсшибательный аргумент.
— Не спорь, пацан, не спорь. Ты кино американское смотришь? Там в каждом фильме — Чайнатаун. Знаешь, что такое?
— Ну, это место поселения китайцев…
— Местом поселения китайцев является Китай, понял? Это не Чайнатаун при Нью-Йорке, это Нью-Йорк построен в Чайнатауне А уж как там его зовут, этот таун — дело десятое. Города в Китае огромные. Там не то что Америку — там Россию построить можно! И думаю я, что уже построили. Только тайги у них нет, вот они на Сибирь и зарятся. С тайгой у них самая натуральная Россия будет…
В кармане рубашки у Петровича заиграла грустная мелодия. Он послушал немного, потом достал телефон и нажал кнопку приема.
— Петрович, — сказала жена. — Иди уже домой, Петрович. Ужинать будем. А в девять твой Спартак играет. Иди домой, Петрович!
— Вот, тоже в Китае сделано. А передает, блин, правильные слова. Понял, молодой?
И Петрович, тяжело вздохнув, бросил пустую бутылку в урну и пошел домой.
Петрович и кадровый вопрос
— Как к вам обращаться? — склонился в полупоклоне к Петровичу крепкий мужик какого-то серого, потертого вида. Вроде как из органов, что ли. Или отставной.
— Зови меня Петровичем, — солидно произнес тот, не вставая со скамейки, на краю которой, слева от него, была развернута газетка и лежали сваренные вкрутую холодные яйца и горка серой соли. Вот интересно, почему дома из солонки соль белая, но не соленая, а тут, на природе, в парке, она всегда какая-то грязноватая, но вкусная?
Кроме яиц было еще пиво в пластиковых баллонах и пластиковые же одноразовые стаканы. Хлеб был черный. Не серый, а настоящий черный, тяжелый и пахучий. Из мутного кулька выглядывали желто-зеленые огурцы свежей засолки. От них тоже пахло. Была пятница, и Петрович был на своем месте.
— Скажите, Петрович, — осторожно, даже морщась немного, как будто пробуя на язык какую-то неизвестную пищу, снова обратился серый. — А по кадровым вопросам вы как?
— По кадровым вопросам я — всегда, — со значением ответил Петрович, откусил половину яйца и тут же запил половиной стакана пива. Холодное пиво и холодные яйца вкрутую с солью — это любил Бисмарк.
— Вот и Бисмарк всегда говорил…, - непонятно, но строго сказал Петрович и допил пиво. — Кадры, говорил, решают. Ты по кадровому делу, что ли? То-то я смотрю — серый ты какой-то…
— Сталин.
— Что?
— Это Сталин сказал: «Кадры решают все».
Петрович окинул серого взглядом, приценился к выглядывающим из под обшлага часам, посмотрел на туфли, потом на галстук. И ничего не сказал. Петрович давно не спорил по пустякам. Вернее, он просто давно не спорил. Он знал. И все знали, что он — знает. И что спорить? Он просто налил стакан — осторожно налил, по краешку, тонкой струйкой, почти без пены. Прихватил щепотью сольцы, посыпал круто на половинку яйца, положил в рот, пожевал. Кадык дернулся, яйцо провалилось, а следом хлынуло холодное пиво.
Серый тоже сглотнул. Но он был на работе — ему было нельзя.
— Мне директор сказал к вам обратиться.
— Ну, обращайся, раз директор сказал.
— Вот, — серый выудил из бокового кармана простой не заклеенный конверт, достал фотографию, показал, засунул обратно. — Данные — на обороте.
— Серега, что ли? — Петрович знал в городе всех.
— Нам бы рекомендации, — серый мужик подвинул по окрашенной в ярко-синий цвет лавке конверт к Петровичу.
Петрович подержал ладонь над конвертом, хмыкнул.
— Телец. Год Петуха. В момент рождения Марс был в Весах. Не женат. Характер скверный. Потому что не женат. Или наоборот… В детстве болел свинкой. Аттестат с тремя тройками.
— О! — глаза кадровика как бы включились и горели теперь неземным огнем. — О! Это здорово у вас так получается. А конкретнее, конкретнее можете? Директор хочет знать, брать его к нам или не брать. «Пробить» как-нибудь сможете, а? У вас же связи, я слышал…
— Оставляйте, — очень усталым голосом сказал Петрович, задумчиво смотря на упавший на колено желтый лист. — Через два дня приходите за ответом. Два дня буду думать. Кости кидать буду. Гороскоп считать. Вечером, в понедельник, сюда же. А теперь идите. Медленно идите и не оглядывайтесь. Не нужно вам сюда смотреть.
Серый кадровик так и пошел — медленно, не оглядываясь, прямо к выходу из парка.
А Петрович, не глядя в его сторону, допил стакан и выдохнул облегченно.
— Ну, ты силен, Петрович! — подсел Лёха. — И что теперь? Два дня колдовать будешь? Карты кидать? Или как?
— А вот так, — Петрович взял конверт, помял его в руке и бросил в стоящую рядом урну. Туда же отправилась шелуха очередного очищенного яйца.
— И что ты им скажешь?
— Что и всем: не подходит им Серега.
— А как ты это узнал-то?
— И узнавать не буду. Я всегда по кадровым вопросам в отказ иду. Сам подумай: если я кого порекомендую, а он вдруг окажется плох — кто будет виноват, директор, кадровик или все же я?
— Пожалуй, ты, Петрович…
— Вот. А если я дам отказ даже по хорошему работнику — потерь-то ни у кого не будет. Будет, как есть. Меньше-то и хуже уж точно не станет. И кто станет такому решению основой? Может директор? Или кадровик этот?
— Ты, Петрович!
— Учись, брателло. Так что я скажу в понедельник?
— Серега — не подходит?
— Точно. Ну, за Серегу. Нормальные-то предприятия сюда не ходят. Вот в нормальное он сам и устроится.
Очередное яйцо было круто посолено, съедено и запито холодным пивом.
Была пятница. Был вечер.
Петрович и макароны
— Нет, ты понимаешь, Петрович, — бушевал толстый Василий, которого в его отсутствие звали просто Косым, — я, значит, прихожу с работы весь такой…
Он показал руками, что весь такой вот, ну, вот такой даже.
— Иду, злой, понимаешь, голодный, спрашиваю еще из коридора, что у нас сегодня пожрать есть. А она, прикинь, как в анекдоте — макароны, говорит. На кухне, мол, в шкафу. Иди, говорит, и свари себе макарон. А у нее — нет, ты слышишь, да — у нее голова болит!
Петрович подвинулся, меланхолично отпил пива и спросил, смотря куда-то сквозь начинающие облетать и осыпаться желто-прозрачные кроны окружающих деревьев:
— А какие макароны-то?
— Да какая разница, Петрович? — возмущенно завопил Василий.
— Разница есть. Как без разницы? Вот если это мелочь такая, «минутка», так за ней следить надо, и как закипит — сразу снимать. И вкуса в ней почти нет никакого. Ну, только если с кетчупом острым или там с другим каким соусом. Можно еще сосисок пару отварить. А лучше всего такую мелочь сыпать в бульон и делать суп на один раз. Горячего похлебаешь — и сразу добрее.
— Ты чего это, Петрович? — ошалело хлопал глазами Косой.
— …Самые хорошие — рожки толстые, с насечкой такой, из белой пшеничной муки, импортные. Они дольше варятся, но не развариваются, и потом можно их еще разжаривать. Просто пожарить на сливочном масле — уже хорошо. И запах хорош и вкус. Или вот еще не рожки, а ракушки такие — тоже вкусно, даже с молоком, сладкие…
— А вот отец мне рассказывал, что они жарили на подсолнечном и посыпали сахаром, — вмешался молча пивший пиво Лёха Кент. — Во время войны, говорит, первейшее лакомство у них было.
— Во! Макароны! — поднял палец Петрович. — Их, вон, артистки великие жрут — и только лучше выглядят. Еще же можно вбить в макароны яйцо, перемешать все, а потом запечь под крышкой, как запеканку, а для вкуса покрошить сверху зелени разной. И не забыть про сыр! Он добавляет остроты и вкуса, кроме того, он вкусный и полезный сам по себе. Но и сыр надо выбирать с умом. Мягкие сорта через терку не пробьешь, их тогда можно просто тонко порезать и положить рядом. На терку мелкую лучше, конечно, Пармезан, но его не все любят за твердость и пыльность. Потому простой голландский уже пойдет. Но тогда терка средняя, чтобы такие длинные стружки получались…
— Ы-ы-ы…, - пытался что-то сказать Василий, размахивая руками, но Лёха перебил его:
— А еще макароны по-флотски! Это даже с ливерной колбасой раньше делали!
— С ливерной-то проще простого была, точно, — солидно согласился Петрович. — Но все равно, хоть ливерная, та еще, что по восемьдесят восемь копеек была, почти растворялась на сковородке, а вкус-то, вкус — не спрячешь! Потому обязательный момент — пожарить туда, в макароны, лучку. Не до черноты, не до гари, а такого золотистого, пахнущего на весь подъезд лучку. Но лучше, конечно, не ливерной никакой, а купить кусок свининки, отварить, да прокрутить на мясорубке…
— А как ты к чесноку, Петрович?
— Чеснок хорош, но в меру. Я к макаронам чеснок вижу только в составе соусов.
— Вот и я так же думаю, — закивал головой часто, как китайский болванчик, Лёха Кент.
— Кстати, — продолжил мысль Петрович. — С мясом-то если проблемы, так просто в кастрюлю с макаронами можно вывалить банку тушенки, да перемешать, да прикрыть крышкой…
Василий только переводил глаза с одного на другого.
— Или вот простейшее, казалось бы — спагетти. Длинные макароны. Их некоторые перед варкой ломают. Но тогда зачем покупал длинные? Ломать не надо. Надо варить целиком и следить, чтобы не переварить. На самом деле, лучше даже чуть-чуть недоварить — тогда появляется возможность что-то с ними сделать хорошее и красивое. Вот, например, итальянцы делают лазанью. А я бы рекомендовал просто макароны с грибами. Это так: макароны варятся — не до полной готовности. Это главное! А в сковородке одновременно разжариваешь лучок, морковку, помидор можно порубить для красоты и для массы, вот в это блюдо и чесночка можно покрошить и оставить тушиться. Грибы же жарить отдельно. Если любишь поострее — тогда возьми у метро кулечек лесных грибов, что бабки продают. А если красиво и на гостей рассчитываешь — обойдешься магазинными шампиньонами. Если они мелкие, то даже и не резать, а обжарить как есть, целиком. Ну, а потом выкладываешь свои длинные макароны кольцом и курганчиком таким на большое блюдо, потом поливаешь сверху поджаренными овощами, которые как соус, выходит, а сверху горкой выкладываешь грибы…
— Красиво…
— А вкус! — мечтательно закатил глаза и причмокнул пухлыми губами Петрович.
— Изверги! Я же жрать хочу! — Василий вскочил с места и быстро пошел к дому, бормоча что-то про себя.
— Я, пожалуй, тоже пойду, Петрович? — спросил Лёха.
— А? Да-да, иди уж… Ишь, макаронники голодные…
Петрович улыбнулся задумчиво и наклонил бутылку над стаканом. Вечер был теплым. Воздух свежим. Пиво — прохладным и вкусным.
Жить было хорошо.
Такая история
— Петрович, а у меня водка!
— Ну, ничего себе…, - Петрович, уже раскладывающий на газетке плавленые сырки, порезанный дольками белый лук, черняшки полбуханки (зачем больше-то? не жрать все же собрались), пол-литровую банку развесной астраханской кильки пряного посола с плавающими в рассоле черными, как килькины глаза, перчинками, развел руками. — Ты чего это, интеллигент?
— Петрович, прошу, не побрезгуйте. Душа болит, Петрович! Душа!
— Ну, если душа… Душу пивом не залить. Это ты правильно. Ладно, тогда пиво останется на опохмел, на завтра. Душа — она же много требует. Не стопку и не две.
«Интеллигент» позвякал чем-то в сумке, потом вынул ноль-семь «Парламента».
— О! — сказал Петрович, щурясь на бутылку. — О! Никак, фантастику любишь? Лукьяненко, никак, читаешь?
— Что? — дернулся внезапный собеседник. — А-а-а… В этом смысле? Ноль-семь? Так у меня и еще есть.
— Это понятно. Одна бутылка звенеть не будет. Ну, наливай, да рассказывай. Облегчи душу, интеллигент!
— Учитель я. Историк. Какое там — интеллигент…
— У-у-у… Сложный разговор будет. Ну, за историю, — голосом генерала из фильма подыграл Петрович и в два глотка, солидно опустошил налитую емкость — пластиковую стопку граммов на сто. После выпитого он не кинулся сразу за закуской, как некоторые. Он выдохнул медленно. Пошевелил губами. Посмотрел сквозь прозрачный шатер ветвей на сумрачное небо. Вдохнул широко и привольно, расправив грудь. Отщипнул от корочки и аккуратно поднес к ноздрям, втянув хлебный запах.
— Хо-ро-ша…
— Сам остужал, в морозилке, как положено, — учитель уже накладывал кильку на кусок хлеба.
— Между первой и второй…
— А вот.
— Ваше здоровье!
— И ваше!
После второй Петрович закусил, аккуратно отломив плавленого сырка и похрустев луком. Лук был хороший. Сочный и сладкий, не требующий тут же запить и залить чем-нибудь.
— Ну?
— Так вот же!
— Нет. Ну — в смысле, что за дела?
— Ох, Петрович… Какие дела? Душа горит. Я не могу больше учить, Петрович. Я не верю тому, что рассказываю!
— Во как… А ты верь.
— Не могу! Я же учил историю, я ее любил! А у нас теперь каждые пять лет — новый учебник. И если их сравнить — ого-го, какая разница!
— А-а-а… Так дело не в том, что ты не веришь, а в учебниках. Это понятно. А сам не пробовал? Без учебника? Ты же историю, говоришь, знаешь?
— Сам… Чтобы сам, Петрович, надо спецкурс разрабатывать и методичку писать. А ее не принимают, если я пишу, как учили раньше. Нельзя, говорят, прославлять то, что прославляется. И нельзя ругать то, что ругается. А как бы не наоборот все. А у меня душа горит… И дети уже смеются. Тоже не верят.
Петрович пригорюнился. Потом подставил стопарик под горлышко, дождался наполнения, кивнул и молча выпил, не дожидаясь тостов. Закусил по-настоящему. И килькой, и хлебом, значит.
— Выходит, так как есть — ты не можешь, и дети не верят. А так, как тебя учили — нельзя. Ага. А по-другому, по новому, по современному не хочешь?
— Научите, Петрович!
— Ну, чему я тебя научу, образованного? Факты у тебя есть. Я тебе сейчас методологию дам, а ты слушай. Наливай, закусывай — и слушай. Итак, сейчас у нас время прагматиков, экономистов и юристов.
— И их сыновей!
— Юмор. Сатира. Это хорошо, но это не история. Слушай дальше. Значит, надо свести исторический процесс к понятному каждому вопросу: кому выгодно?
— Куи продест? Это по латыни…
— Вот-вот. Куи, значит. Матерно как-то, но правильно. Ну, вот берем с начала века прошлого, откуда весь крик у нас происходит и все перемены в учебниках. Кому была выгодна война России и Японии?
— Англии и Германии!
— Молодец. Отсюда и пляши. Считай кредиты, заказы оружия, дипломатические шаги. А кому было выгодно участие России в Первой мировой?
— Англии и Франции!
— Так вот и шагай. И тогда никто тебе ничего не скажет! А революция Октябрьская?
— Германии. Это же опять о золоте немецком, что ли?
— И что? Можно и о нем поговорить. Посчитать, сколько должно было быть заплачено за такие результаты. Ну, чтобы выгоду получить — надо же платить. Как в мультфильме: чтобы продать что-то ненужное — надо сперва купить что-то ненужное. А война гражданская?
— Англии, Франции, Японии, Америке… Да всем практически.
— Ты следи, следи за мыслью. Вот гражданская закончилась, большевики у власти. Они долги царские признали?
— Нет! А с Германией договор заключили — Германии выгодно!
— А потом с Германией схлестнулись…
— Англии, Франции, Америке… А как же наши интересы?
— А что, война может быть интересна народу? Вот тебе и про народ в методичку. Народ воюет, когда его довели, когда прижали вконец. А государства — согласно выгоде. Ну, логично излагаю?
— Логично, Петрович. Только противно как-то.
— А политика — вещь противная. Ну? Развал СССР?
— Америке, в первую очередь. Так?
— Ты меня не спрашивай, ты сам себя спрашивай. И сам себе отвечай. Вот так сможешь вести урок? Мол, если революция на немецкие деньги, то развал Союза — на американские. А если тут все по-честному, то с чего там — не так? Аналогии ищи. Аналогии и — кому выгодно.
— Но как же народ? Нас же учили о народных массах…
— А ты мне хоть одно историческое действо приведи, которое на пользу народу. Ну?
— Отмена крепостного права? Хотя, тут все от помещиков и буржуазии шло. Чтобы землю можно было закладывать, а с крестьян — деньги брать. Революция? Но если она для народа — немцы не при чем выходит…, - забормотал себе под нос учитель. — Ага, ага… Значит, если так, то… Выгода? А вот…
— Наливай, наливай — потом обдумаешь.
— Война идет — народу невыгодно. Война закончена — народу выгодно, — шептал учитель все быстрее и быстрее. — Это выходит, учебник истории старый — тоже по выгоде. А новый — выгоден другим… Что же делать-то… Съедят ведь!
— Не бойсь, не съедят. Ты главное — учи методологии учеников своих. И факты давай. А уж они сами свою выгоду поймут.
— Пятерка — им выгодно. Двойка — не выгодно. Да-да, понимаю… Петрович, вам надо в методкабинете работать!
— Вот еще! Мне и своего станка — во как хватает, — резанул Петрович ребром ладони по шее. — Я уж тут лучше. На природе. А ты заходи иногда, заходи. Ты правильный учитель, смотрю.
Учитель торжественно доставал из сумки вторую бутылку.
14 февраля
— Петрович, а ты своей-то валентинку подарил? — хитро прищурился над краем кружки Василий.
— А тебе что за интерес? — Петрович даже свою кружку отставил в сторону.
По случаю зимы пиво пили мужики не на улице в парке на скамейках, как обычно, а в недавно открытом пивном баре, что чуть наискосок. Ну, то есть очень удобный бар — как раз по дороге с работы домой.
— Да я что… Я просто поинтересовался, — Василий, которого по зимнему времени и редкости встреч как-то постепенно перестали Косым называть, смущенно наклонился над шапкой пены, вдыхая свежий хмельной аромат. — Просто говорят тут разное…
— Ну, подарил, — вдруг признался Петрович. — Да. И что? Что говорят-то такого?
— Так, праздник, говорят, не наш…
— Не понял… Это как: праздник — и не наш?
Петрович покрутил головой, нашел у прилавка Лёху Кента и помахал тому рукой — мол, поскорее там. Лёха через минуту подскочил, неся в каждой руке по три кружки. Бар был «под старину». То есть, не совсем под старину, когда дворяне там или рыцари какие в бары ходили, а вокруг них все бабенки в фартучках и коротких юбках, а как в ту старину, когда надо было отстоять самому очередь к кранам, которыми заведовал могучий черный Магомед. Отстоять, значит, сказать, сколько тебе — хоть десять кружек, лишь бы сил хватило донести. А потом, когда Магомед нальет, тащить их к столикам, где стояли друзья. Вот, шесть кружек — в самый раз. После первых трех если считать.
— Лёха, скажи ты мне и еще вот Василию тоже — что значит такое: не наш праздник? Ты знаешь какой-нибудь не наш праздник?
Лёха выдержал паузу, отпил полкружки, вытер ладонью пивные усы под носом, откашлялся и строго сказал:
— Петрович! Я так считаю, Петрович, что это какой-то провокационный вопрос. Это вопрос про политику — так я считаю.
— Нет, ты погоди, — вмешался Василий, нагибаясь вперед и прижимаясь выпуклым даже под дубленкой животом к столу. — Я сейчас не про политику. Но говорили по телевизору даже, что праздник этот, когда разные сердечки и прочие валентинки — он не наш. А сегодня рассказывали еще, что он в честь мужика, который, это, как его… Нетрадиционный, в общем…
— Да-а…, - проскрипел недовольно Петрович. — Телевизор они все смотрют, понимаешь. Новости всякие знают…
Он тоже отпил пива — совсем немного, только чтобы глотку промочить, а потом повернулся всем телом к Василию:
— Василий, а вот скажи теперь ты мне такую вещь. Когда все праздновали седьмое ноября и был выходной — ты тоже отмечал?
— А как же! Красный день календаря и вообще…
— Ага. Теперь тот праздник отменили и на октябрь перекинули. Ты его тоже празднуешь?
— Не пойму я твои вопросы, Петрович. А как не праздновать, если государство дает?
— Погоди мне с государством! А новогодние каникулы и Рождество — тоже?
— Ну, так я крещеный, мне, типа, положено…
— Тебе, если крещеный, положено на новый год поститься — я, между прочим, тоже телевизор смотрю…, - вмешался Лёха Кент и разулыбался сразу на одобрительный кивок Петровича.
— Вот, видишь, Василий? Если ты, типа, крещеный, то для тебя свой праздник — седьмое января. А первое — никакой и не праздник вовсе.
— Ну, нет… Как же… Раз дали праздник, надо праздновать!
— А еще вот, знаешь, скоро у Магомеда будет курбан-байрам такой, так он обещал всех поить и весело праздновать… Ты придешь?
— Я, что ли, крайний какой? Чего это вопросы такие странные? Конечно, приду!
— А ведь это не твой опять праздник, Василий…
— Ну-у…, - толстый Василий задумался, подтянул штаны, отпустив сначала на одну дырку ремень, почесал зачем-то в затылке. — Ты скажешь тоже, Петрович… Сравнишь… То — с народом, типа…
— А это — не с народом? Я тебе так скажу: праздник — он праздник и есть. Особенно если все его празднуют. Вот отнес я своей цветок… Да, блин, цветок! И ничего смешного! Сам отнес. И теперь пью с вами пиво на полном законном основании, потому что меня любят и любя — отпускают. Без скандалов. Вот ты, Лёха…
— Я валентинку подарил! Купил открытку, как с работы шел, и вручил. И поцеловал.
— И что? Плохо тебе было? Ломало с этого?
— Ты что, Петрович! Жена расчувствовалась, аж слезу пустила. Иди уж, сказала, выпей вон с Петровичем. Я и пошел.
— Вот! Ты слышишь, Василий? Лёха — он же у нас как народ, понимаешь? А ты подарил что своей?
— Дак ведь, это… Вроде как не наш… И вообще…
— И вообще… Вот мы придем с Лёхой домой. И дома нас будет ждать праздник. Так, Лёха? Во! А ты придешь — и у тебя дома будет скандал. Даже и спорить не надо. И кому хуже? А? Тому, кто с народом празднует и пьет на законном основании, потому что праздник, или тому, кто пьет просто так, а праздник ругает?
— Петрович, но ведь нетрадиционный он был…
— И что? И потому тебе лень сердечко красное жене дать? Или денег нет? Может, тебе рублей двадцать дать — на открытку?
— Да есть у меня…, - даже засмущался Василий, который считал себя вполне успешным предпринимателем.
— А раз есть, то чего ты тут стоишь? Беги, мужик, пока магазин не закрылся…
— Да у меня в машине, там… Я заранее купил.
— А-а-а… Вон оно как. То есть, ты не против праздника, выходит?
— Ну, выходит, вроде так.
— А чего ж тогда выпендриваешься? Ну, да ладно. С праздником, мужики! Чтобы дома не журились!
Петрович и футбол
— Петрович, твоя палка волшебная еще действует?
Леха Кент был бледен и зол. У Лехи Кента болела голова с самого утра. А утро в воскресенье обычно начиналось у Лехи в полдень, не раньше. На часах же сейчас было всего одиннадцать, весь микрорайон еще спал, кроме ошалелых воробьев, которым наплевать на сезон, а главное поорать. И вот, Петрович не спал: задумчиво смотрел на парк, на песчаную дорожку под ногами, ковырял ногтем скамейку, на которой сидел, и изредка медленно и с достоинством делал глубокий и гулкий глоток из белой алюминиевой банки с пивом.
— Ты, Лёха, фантазер, — сказал Петрович, сдержав благородную отрыжку. — Сказочник ты, Лёха. Какая палка по такому времени? По такому времени все магазины уже открыты — действуй, последний герой!
— Ты, никак, выспался, Петрович? Как же это?
— Что значит «выспался» и что значит «не выспался» в твоей терминологии? — Петрович уселся поудобнее, расстегнул рубаху на еще одну пуговку, распустил ремень, выпустив на волю большое пузо, откинулся на спинку скамьи. — В любом серьезном разговоре необходимо поперву определиться с терминами. Итак, скажи мне, дружище, что с твоей точки зрения «выспался»?
Лёха развел руки, потом спрятал одну в карман, а второй рефлекторно провел пару раз по длинному чубу, прикрывающему уже заметные залысины.
— Петрович! Ты опять за свое, что ли?
— Нет, Лёха, это ты за свое. Гляжу я на молодежь, а ты все же помоложе меня будешь, и сильно огорчаюсь. Не умеют они сегодня вести дискуссию, Лёха. Нет, не умеют.
Петрович подержал над раскрытым ртом банку, собирая последние капли, потом метко запустил ее в недалекую урну. Из сумки, стоящей возле скамейки, как раз между ног, достал, нагнувшись, еще одну, с щелчком сорвал кольцо, перехватил зашипевшее пиво, сделал два глотка. Лёха рефлекторно повторил за ним — глыть-глыть.
— Вот ты, Лёха, должен сначала решить для себя: о чем будешь говорить. Затем — обдумать, какие слова будут восприняты собеседником на твоем уровне понимания. Чтобы говорили вы об одном и том же, а не ругались в крик, при этом совершенно о разных вещах. И наконец, Лёха, — Петрович сделал вескую паузу, привлекая внимание, — на самый конец, ты должен знать, для чего ты начал разговор. Понял?
— Нет, — честно сказал Лёха Кент. Но головой при этом не помотал, потому что голова болела.
— Сядь рядом со мной, и мы с тобой разберемся во всем, что ты хотел сказать. Итак, друг мой Лёха, ты спросил меня, выспался ли я. А я спросил в ответ — что значит «выспался». И на этом разговор наш завис. Я правильно воспроизвожу?
— Ну, — сказал Лёха, умащивая худую задницу на брусьях садовой скамьи. «Ну» было очень удобным, позволяющем сказать практически все, что угодно. Сейчас это «ну» означало, что он согласен, так все примерно и было, но к чему ты ведешь, Петрович?
— На самом деле, Лёха, ты хотел поговорить не о моем сне. Была у тебя тема, но ты не знал как к ней подойти. А надо было просто сказать мне, что не так для тебя в нашем мире.
— Петрович, — вскрикнул в сердцах Лёха. — «Футболисты» замучили! Всю ночь под окнами песни пели и свое «оле-оле» тянули, гады!
Петрович вздохнул, отпил чуть-чуть, вытер ладонью каплю, чуть не сбежавшую по колючему небритому по воскресному времени подбородку.
— Лёха, Лёха… Они каждый день так кричат? Тебе с детства эти крики не нравились? Ты уже замучился с этими криками? Все ночи — вот так, с флагами и «оле-оле-оле-оле», — пропел баритоном Петрович.
— Ну-у… Причем здесь — каждый день? Вот, вчера и всю ночь.
— Тогда вот тебе два слова о футболе. Первое слово — это игра. Второе слово — это болельщики. Игра развлекает народ. Игра позволяет гадать, прикидывать, рассчитывать. Игра заставляет быть в курсе… Кстати, ты в курсе?
— А как же! Орали так…
— Вот видишь. Ты — в курсе. То есть, информация получена. Теперь болельщики.
— Да эти гады…
— Тихо-тихо. Было бы тебе приятно, Лёха, если бы они каждый день сидели под твоим окном и каждый день пили там свои напитки поздней ночью и орали свои кричалки?
— Еще не хватало — каждый день!
— Вот! Вот именно! Им, тобой нелюбимым болельщикам, выделили всего один день в неделю. А кричат они и того реже, потому что собираются разом, когда играют «наши» против «не наших». Или ты забыл, Лёха, что мы все должны быть за «наших»?
Лёха вспомнил историю с «нашими» и даже улыбнулся.
— Скажешь тоже, Петрович. Это ж ты тогда придумал.
— Причем здесь я? Есть, понимаешь, «наши». А есть — «не наши». И иногда, даже не раз в неделю, они играют. И иногда, еще реже, «наши» выигрывают. Мы сейчас говорим абстрактно и отстраненно, не вспоминая вид спорта?
— Почему? Футбол.
— А в футбол вчера наши выиграли у голландцев.
— Врешь! — уверенно сказал Лёха. — Наши у голландцев выиграть не могли.
— Лёха, когда я врал?
Лёха Кент задумался и даже покраснел от раздумий, тяжело крутивших мозговые шестеренки внутри его черепа.
— Ну, не помню…
— Так вот, Лёха, был редкий день, когда «наши» выиграли. Сколько раз в году так кричали болельщики под твоими окнами?
— Ну, второй раз уже. И что? Значит, им можно?
— Притормози, притормози. Это я ввел тебя в курс дела, и теперь тебе понятны мотивы тех, кто не дал тебе спокойно поспать в ночь с субботы на воскресенье. А теперь обратимся к твоим мотивам, заставившим тебя с самого утра с хмурой мордой выйти из дома и сесть возле меня. Итак, ты все еще хочешь спросить меня, выспался ли я? Тебе интересно, чем я занимался ночью? Ты хочешь узнать, не было ли у меня секса с моей женой? Ты хочешь спросить, не болел ли я за «наших»? Ты…
— Ой, Петрович, — взялся за голову Лёха. — Не шуми. Голова болит.
— Вот! — поднял палец вверх Петрович. — Вот!
— Что — вот?
— Вот почему ты вышел из дома в такую рань! Вот почему ты пришел ко мне! Не футбол тому виной, не болельщики. Головная боль! Ну? Продолжай.
— Чего?
— Лёха, ты совсем не спал, что ли? — сочувственно причмокнул Петрович. — Туго как у тебя все вертится в голове. У тебя болит голова. В парке — я пью пиво. Вывод?
— Петрович, дай пива, а? — жалобно протянул Лёха.
— На!
Как по волшебству в руке Лёхи Кента оказалась холодная банка. Он только теперь разглядел, что сумка у Петровича была не простая. Такая зеленая, клеенчатая, угловатая — сумка-холодильник, которую подарили какие-то посторонние люди после важной консультации. Щелкнуло, зашипел, полилось…
— А-а-а, — размяк и осел Лёха, распластавшись по спинке скамьи. — А-а-а… Хо-ро-шо!
— А то! И футбол нам — не помеха.
— Петрович, а точно наши выиграли?
— Еще как выиграли, Лёха!
— Ну, тогда за наших.
— Оле-оле-оле-оле, — хором, но вполголоса прокричали они и приложились каждый к своей банке.
И даже чириканье надоедливое шумных воробьев прекратилось вдруг, сменившись соловьиными трелями.
Петрович и история
— Ой, — сказал Петрович и стал убирать пиво и закуску в траву за скамейку.
— Петрович, — строго сказала девочка. — Мы тут по другому делу. Нам насчет учебы надо.
Пять школьников стояли перед Петровичем, занимающим привычное место в парке. Тут его можно было найти почти всегда. А особенно, когда выходной день, когда погода теплая, как сейчас. Ранняя осень — это тебе не ранняя весна. Это почти лето. Ранней осенью есть всякие овощи и фрукты. И пиво на скамейке в парке пьется лучше ранней осенью, а никак не ранней весной. Но, конечно, не с детьми.
Петрович не то, что не любил детей. У него самого дети были. Мальчик. И еще мальчик. Они уже выросли и разъехались из маленького городка. Учеба, работа… С родителями можно поговорить и по телефону.
Но вот незнакомые дети, чужие… Как-то он их опасался. Вот что делать с чужим ребенком, если он что-то сделает такое не правильное? А? Своего — там понятно, что и как. А с чужим?
Со взрослыми все понятно. Можно сесть и перетереть за жизнь, попивая пиво и замолкая со значением в самые острые моменты обсуждения мировых проблем.
— Спокойно, Петрович, — сказал высокий и худой пацан с длинной шевелюрой. — У нас с собой есть.
Школьники выгрузили на край скамейки свои ядовито-яркие напитки, какие-то упаковки с сухой едой, налили в прозрачные стаканы, обернулись:
— Ну, Петрович? Ты — как?
Он хмыкнул удивленно, достал свое пиво и тоже налил — в высокий стакан матового пластика, проминающийся в руках.
— О чем речь, пацанва? — лихо, как своих, спросил Петрович.
И тут же поправился:
— И девушки, конечно. Это я по привычке, извините.
— Да ладно, Петрович! Мы про школу.
Петрович заскучал. Школа была не по его ведомству, как всегда думалось. Да и что он мог им сказать о современной школе?
— Вот скажи нам, Петрович, зачем мы учимся? Ты скажи, а мы расскажем другим. Потому что не понимаем мы нашей жизни.
Петрович отпил мелкими глотками половину стакана, посмотрел задумчиво на солнце, пробивающееся по вечернему времени как раз сквозь тополиные листья над головой, а потом откашлялся и сказал:
— Так ведь, учение человеку необходимо. Это даже без вопросов разных. Даже кошка учит котят. И собака учит щенят. И утка утят. И…
Он мог бы еще много примеров привести, но дети — они не понимают субординации.
— Постой, Петрович! Это мы и так знаем. Это нам и на математике объясняли, и на русском языке, и даже на химии с биологией. А вот что ты скажешь насчет истории?
Тут Петрович задумался. Допил пиво, налил еще из большой баклажки. Снова отпил. Закусил какой-то соленой мелочью. Смотрел по сторонам. Думал.
Ему не мешали. Пили свое разноцветно-ядовитое, шушукались потихоньку, рассматривали этикетки, посматривали — готов ли к ответу.
— История, скажу я вам — это чуть ли не наиглавнейшая наука, — начал, наконец, Петрович.
— Вся учеба дикого первобытного человека — это история. Так ему и втолковывали, что деда твоего съел пещерный лев — не ходи один в пещеры, что отец твой умер от заразы — кипяти воду… Ну, и так далее, значит…
— Постой, Петрович, — строго сказала отличница.
Отличниц видно издали. У них такой вид, что узнаешь в любой толпе — это отличница. Она знает. Она может. Но никогда не поможет, да.
— Ты говоришь — наиглавнейшая. А пресса и Интернет…
— О-о-о, — закачали головами ее одноклассники. — О-о-о… Интернет!
— Так вот, Интернет говорит, что история — вовсе не наука. И потому нечего ее и учить.
Да. Умные все стали. Интернеты читают.
— Давай так, — сказал Петрович. — Есть факт, а есть его интерпретация. Например, вчера я выпил пять литров пива — это факт. Так? Но друзья сказали, когда я уходил домой, что ухожу из компании рано, что не по-мужски поступаю, что пятница — это специальный день. Понятно? А, скажем, жена…
Он сделал паузу, глотнул пива, посмотрел на зелень листвы над головой.
— Ну, чисто теоретически, понятно? Скажем, что жена интерпретировала этот факт, так, что я пьяница и чуть ли даже не алкоголик, и напился опять и пошел вон спать в гостиную… И вовсе не смешно, кстати. Это же мы об истории. Так вот — и друзья не правы, и жена не то, чтобы совсем уж права, потому что я вовсе и не пьян был…
— Петрович! — восхищенно воскликнула самая маленькая ростом школьница. — Да что тебе — какие-то там пять литров? Да, тьфу!
— Вот! Тьфу, да и только. Но это — тоже всего лишь интерпретация. Одна из.
Это слово — интерпретация — он произносил легко и свободно, как будто занимался такими разговорами каждый день. Хотя, возможно, именно такими разговорами он и занимался. Все же — Петрович. Не Михалыч какой-то, до которого не достучишься, не Владимирыч.
— А если не смотреть на интерпретации, так было вчера, была компания и было у меня пять литров пива. И это факт. Я вам его рассказал — теперь это история. Вопрос: есть ли история? А как же! Вы теперь точно знаете, что вчера Петрович выпил пять литров пива. О крепком разговора не было. Ну?
— Так как же, Петрович, — строго спросила отличница. — Правильно ли я понимаю, что есть факт, а есть его интерпретация?
Умная девочка. Просто умная.
— Умница, — сказал Петрович. — Вся история состоит из фактов. И совершенно незачем думать, как их интерпретировать. Такого-то числа такому-то королю отрубили голову. Факт. Независимо от того, нравится это кому-то или нет. Или вот революции разные. Любишь ты их или не любишь. Или даже ненавидишь всей душой. Но революции — были. Понятно, школяры? И война была. И в каждой войне были победители. А то, что потом пытаются сочинить на основе фактов — это уже не история. Это какая-то философия и даже еще хуже… О! Это — идеология! Но идеологию в школах не учат. Потому что меняется режим, меняется идеология. А вот история остается прежней. Факт, он как те пять литров пива. Никуда он не денется. Поэтому скажу я вам так: история учит. А учит она, кроме всего прочего, вычленять факты из общего хода рассуждения. И этот факт использовать в текущей жизни и в дальнейшей науке. Вот примерно так я думаю. В таком, значит, ракурсе.
Сказал и допил залпом.
А школьники подумали над сказанным, собрали мусор, выкинули его в урну. И тот мусор, что уже был у Петровича — тоже выкинули. А потом пошли молча по аллее. И только уже когда отошли чуток, слышал Петрович слова:
— Вот и Петрович в ту же дудку дует. Все взрослые, как сговорились!
А Петрович пил пиво, закусывал черняшкой с солью и думал с тоской: как же давно была школа. Уже давно. Как же быстро прошла жизнь.
Но и это, почему-то подумал он, всего лишь маленький факт одной большой истории.
Петрович и дым
— Петрович, там к тебе люди пришли.
Жена вернулась из прихожей и спокойно села на табуретку возле стола.
— Имей в виду, я дверь не закрывала. Иди, поговори с народом.
Петрович с утра был молчалив и грустен. У него болела голова. Трудно с хрипом дышалось. Чесались глаза, и так скрытые вечными утренними мешками от солнца. И солнца, кстати, не было видно за окном кухни. А это было, с одной стороны, хорошо, потому что летним утром раскаленное солнце отбивало всякий аппетит, а с другой — подозрительно и мерзко, как и дымка, скрывающая углы.
— Я не завтракал еще, — буркнул недовольно он.
— Так ты же не хочешь! — удивилась жена, приподняв правую бровь. Она умела так приподнять правую бровь, что разговаривать и что-то доказывать становилось просто смешно.
— Ну… Я пошел? — Петрович вбил ноги в растоптанные плетенки и взялся за дверную ручку.
— Иди, иди, Петрович. Народ ждет. К обеду возвращайся.
На лестнице никого не было. И ниже этажом — никого. Зато люди стояли полукругом перед подъездом. Знакомые люди и незнакомые, пришедшие откуда-то к Петровичу. В такую жару, в такое пекло — к Петровичу. Они стояли и молчали. Он тоже остановился и молчал. Жара текла сверху, сквозь белую муть, и давила на голову, заставляя нагибаться, съеживаться, корчиться. Жара вышибала тут же пот, и рубаха Петровича сразу покрылась мокрыми разводами. Жара отбивала всякое желание двигаться или говорить.
Петрович вдохнул типа воздух, кашлянул, и тут же задвигались люди. Они окружили его, задергали, затормошили, куда-то повели, на ходу что-то говорили, а очнулся Петрович уже в тени под старым тополем на своей скамейке. И в руке, что удивительно, был высокий пластиковый стакан, тут же покрывшийся туманными капельками от холодного содержания.
Петрович поднял левую руку вверх, останавливая всех, чтобы замолчали, наконец. Потом правой медленно поднес холодный стакан к губам, вдыхая брызжущие горечью капли пены, присосался, глотнул гулко и глубоко, а потом просто лил и лил, пока стакан не повернулся к небу своим дном.
— Уф, — сказал Петрович и икнул, смущенно прикрыв рот пухлой ладошкой. — Спасибо, люди. Спасли. Теперь говорите. Ну?
Но люди не говорили. Они смотрели с приязнью, ласково. Они наливали из холодной канистры еще пиво. И в руках у людей было оно — янтарное, с горчинкой, с шапкой пены, в которую окунается нос, холодное…
— Ну, что, — Петрович приподнял стакан, опять полный и холодный, взглянул сквозь него вверх, туда, где невидимое за дымкой солнце жарило и жарило, нагоняя температуру, как в печке. — Ну, будем жить, народ!
— Будем! — сказали все. И выпили.
Петрович сидел в своем парке, что через дорогу от его дома. Вокруг был его город. Люди его города стояли и сидели рядом с ним. И им все было понятно в этой жизни.
— Жить — хорошо, — сказал Петрович, промокнув глаза. — Наливайте, что ли…
Пахло осенью
Петрович скучал. Он не привык быть один. На работе всегда вокруг народ. Дома — жена рядом. Все возится, делает что-то, говорит. И на улице, если просто выйти в парк, что напротив дома, всегда придут к Петровичу люди, всегда есть повод поговорить.
— Во! Климка! — обрадовался он. — Садись, выпьем пива.
Клим шел домой. Он устал. У него болела голова. Но Петрович — это Петрович. Петровича обижать нельзя. Присел рядом, осторожно принял мнущийся высокий пластиковый стакан.
— «Жигули»?
— «Очаково»!
В принципе, разницы никакой, если пива много, оно холодное, и есть компания. Вот, например, Петрович — это хорошая компания.
— Куда бредешь? Чего такой грустный? — спросил подряд Петрович.
— Домой. Устал. И погода эта…
— А что — погода? Ты закрой глаза. Вслушайся. Нет, внюхайся. И не смейся, не смейся. Это я специально так говорю, чтобы любому было понятно. Или я не он? Так вот, Климка, закрываю я глаза, вдыхаю воздух… Вот это, горьковатое — это жгут листья. Значит, правда, конец лету. Но это не страшно. Потому что лето точно будет опять. А запах этот напоминает мне сразу старое — школьные и студенческие годы. Школьные, потому что мели в этом парке листья, собирали в кучи и жгли. А сами носились между белыми дымами… Ты сам-то местный?
Клим был почти местным. То есть, теперь-то — совсем местный. Вон его окно и балкон. Там уже больше года прожил. Всех соседей знал.
— А, все же приезжий у нас. Потому и не представляешь. Вот там, за углом, моя школа. Она старая, двухэтажная. Оттуда нас вели в парк, выдавали метлы и грабли. А потом были костры, да. А вот еще, ты чувствуй, чувствуй! Еще пахнет сырой землей. Вот тога этот дымок плюс сырая земля — совсем другой коленкор получается. Это, выходит, нас вывезли на картошку в колхоз. В резиновых сапогах, в наклон и вприсядку за каждой картофелиной. Потом мешки на тракторный прицеп. А в сторонке из сучьев разных и обломков — костерок. И картошка закопана по краям. Трактор уходит, а мы лезем за печеной, ломаем ее, перекидывая с ладони на ладонь, солим, вгрызаемся. Лица перемазаны сажей и углем. Нам весело и вкусно. Ты, Климка, на картошку ездил?
Клим на картошку не ездил. Он молодой был. Теперь такой обязанности нет.
— Ну, так тебе не понять, выходит. А я три года — каждый сентябрь. Жили в разных деревнях. В домах старых на тюфяках травяных. Еда — картошка, да молоко с ближней фермы. Парное. Хлеб пекли в печи. муку нам выдавали на пропитание. И еще выдавали сметану. Масла не было, что ли, не помню. А сметана была — ух, какая. Твердая почти. Ее отколупывали из большого бидона, куском клали в решето — вот сметану вместо масла на хлеб мазали. И вперед — спасать урожай. Ну, тебе не понять… Молодой.
Он налил по второму стакану. Клим потянулся к закускам, посмотрел вопросительно.
— Бери, бери, — радушно повел свободной рукой Петрович. — Питайся.
Клим выбрал кусок копченой колбасы, стал жевать, потягивая пиво. Хорошо с Петровичем. И накормит, и напоит, и поговорит. Ты только слушай.
— Или вот деревом сырым тянет. Ты думаешь, лавочки эти? Нет, сразу вспоминаются сначала деревянные тротуары. Были мы со стройотрядом в северных поселках. Там тротуары — дощатые. Идешь — поскрипывают. А посреди улицы — глина и ямы и лужи. Там на тракторах народ ездил. Почти у каждого возле дома — трактор. А мы там шли, значит, прямо, прямо — и в местное кафе. Единственное на весь поселок. Стекляшка прозрачная. В том кафе были красивые мраморные столики, высокая стойка, чистые витрины. А в витринах — ценник на пиво одного сорта, второй — на клубничный ликер, и еще на тарелочке бутерброд с сыром. Белый хлеб, а на нем тоненький дырчатый кусок сыр. Он уже слегка заветрился, края приподнялись, слеза выступила. Но это же сыр. Что ему будет? Вот мы там с ребятами пили пиво и этот ликер…
Петрович глянул на свой стакан, пошевелил бровями в мыслительном усилии.
— Вот такое, пожалуй. Только у нас оно — из пластика. А там в розлив было.
Он помолчал, зажмурившись.
— А еще это сырое дерево — пристань на большой реке. Река такая, что другой берег еле виден. Пахнет деревом и немного рыбой. Сыростью несет. Мы тогда приехали на практику. Никого и ничего не знали. Подходит ко мне мужик и просит трешку за настоящий болоньевый плащ. Что? Ха! Тебе не понять. Плащ из болоньи — это ж самая такая вещь, понимаешь… Ну, вот как костюм адиасовский позже. Как джинсы ранглеровские. Или импортные самые настоящие кроссовки, в которых потом и в театр, и в музей, и на свидание, и в ЗАГС. Болонья — вещь. Но я не купил, испугался. И потом — три рубля. Зарплата когда еще будет, а на три рубля можно было продержаться пару недель. Не веришь?
Клим верил. Как можно не верить Петровичу?
— А в другом стройотряде мы строили дорогу. Вот принюхайся, принюхайся. Чем пахнет? Мокрой пылью? Так вот — цемент как раз так пах. Берешь цемент — он аж синеватый такой, на него — песка, перемешиваешь тщательно лопатой до полной однородности. Потом потихоньку льешь воду. Тут главное — не перелить, иначе придется опять и песок и цемент добавлять и снова мешать. А сырой раствор мешается туго. Проверяешь мастерком: раствор стекать не должен. А если махнешь — слетает чисто, не задерживаясь. И — кирпич на кирпич, гони бабка магарыч. Хотя, это когда дома строили. А на дороге — там приезжали грузовики и сгружали нам готовый раствор в огромную бадью. И вот тут надо было быстро его выработать, пока не прихватило. нагружаешь носилки жестяные — и бегом, бегом. Да… Покатался.
Клим слушал, как сказку. Он тоже ездил. Был в Турции с родителями. В Египте на пляже. Но такое…
— Ты, Климка, слушай, слушай. Набирайся ума. Понимаешь, ездить надо обязательно. Страну свою посмотреть. Людей узнать. Понять, что тут и как. Да и просто — это ж какие приключения! Вот мы однажды возвращались осенью по реке. Баржа и катерок-толкач. На палубе сырость, ветер, холодно. Берегов не видно, потому что ночь. Все набились в трюм. Там светло. Стояли деревянные лавки, как в спортзале. Только привинченные к полу. И все. То есть, светло, тепло — и лавки. Народ расселся — а что дальше делать? Кто-то дремал сидя, кто-то в углу устраивался, чтобы к борту привалиться. Цыганская семья шумела, пока на них не цыкнули грозно и хором. А мы с друзьями нашли себе удобные гробики. Это я так для смеха. Там были полки для хранения пробковых поясов. Вот такие пояса, как корсет, только толстые. Говорят, если на одного надеть, так другой может за него держаться, если что. Только вот если что — нам было совсем не надо. Нам бы выспаться, потому что моя, скажем, пристань, была в шесть утра. Так мы в эти полки, что с поясами, залезали ногами вперед. Только голова наружу торчит. И — спать. За бортом вода плещется. Разговор негромкий под лампочкой. Запах сырой земли и картошки — многие везли ее мешками на продажу в областном центре. А утром выходишь на пристань, а под ногами все качается — как моряк с рейса. И тянешь в гору к своему дому. Останавливаешься, оглядываешься — красота ведь! Река, солнце вставать начинает — край неба розовый. А воздух!
В кармане у Петровича мяукнул телефон. Он вытащил модную модель, присмотрелся к экрану, вздохнул.
— В общем, так, Клим. Ездить надо. Особенно, пока молодой. Ездить далеко. так далеко, что в возрасте уже и не соберешься. Смотреть надо на страну свою, на мир вокруг, на людей. А все для чего?
— Для чего? — переспросил Клим.
— Для того, чтобы потом вернуться домой. Дом, Климка, это главное. Вот ты куда шел?
— Домой.
— Вот и пойдем. А то меня уже жена к ужину заждалась.
— А — это? — показал Клим на оставшееся пиво, на разложенные заботливо закуски.
— А это — мужикам. Вон уже Леха подтягивается… Да и мало ли кому еще нужно. Это, знаешь, как специальные охотничьи избушки в тайге. туда заходишь, а в печке сухая растопка, возле нее — дрова сухие, в мешочках подвешены консервы, сухари…
Петрович продолжал рассказывать, подталкивая Клима к дому. А тот переставлял ноги и думал, что Петрович просто не мог все это видеть. Придумывает, что ли? Ведь только раз в год можно выехать в тот же Египет на пляж. Или в Турцию. А тут и деревянные тротуары, и избушки охотничьи, и баржа… Врет ведь? Хотя, разве может Петрович врать? Тем более о том, что главное — возвращение домой. Откуда угодно — домой.
А вот и подъезд. И аппетитный запах жареной на сале с луком картошки. такой аппетитный, что рот наполняется слюной, а желудок начинает напоминать — пора ужинать, пора ужинать…
Петрович и третье нашествие марсиан
«Восемнадцатый день — ни корки, Терпеливо несем эту кару: Вот вчера мы доели опорки, А сегодня сварили гитару…»Петрович боромотал старую студенческую песню, произнося по слову на шаг. Идти даже на широких таежных лыжах было тяжело. Сыпучий холодный снег как будто затягивал, засасывал в себя тяжелое тело, а ветер, свистящий между деревьями, тут же засыпал след.
Песни — самые разные — надо было проговорить-пропеть десять раз. После этого можно было остановиться и отдышаться, присев на скрещенные лыжные палки, как еще в детстве научили. Уже темнело. Вернее, темнело еще с самого утра. Низкие тучи неслись куда-то на север, если верить компасу.
«Антициклон,»- подумал Петрович. — «Значит, будет мороз. Мороз и солнце, день чудесный…»
Ночевки в снегу он не боялся. За плечами нес хороший рамный рюкзак с палаткой, миниатюрной керосиновой печкой, запасом сухой еды. А снег дает воду. От жажды в тайге не помереть.
«Хорошо живет на свете Винни-Пух! Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, Если он худеть не станет…»Оп-па! А это что еще такое и почему?
В ложбине между двумя сопками, напоминающими очертаниями женские груди, торчала каменная башня, посверкивая красным огнем из расположенной на вершине стеклянной полусферы.
Петрович даже не стал проверять по карте. И так знал, что никаких каменных башен тут, в самом сердце Сибири, быть просто не может. Тем более, что шел он к заветной охотничьей заимке, которая как раз на его карте обозначена была точно. Он так и заказывал для себя: заимку бревенчатую в один этаж, но чтобы две комнаты, теплый туалет, дизель в пристройке, банька свежая, деревом вкусно пахнущая, речка чтобы рядом. Ну, то есть, чтобы подальше от народа, от города, поближе к природе, но с удобствами. И идти чтобы от ближайшего села было не менее трех дней. Вот эти дни и шел по компасу, да по карте. А тут…
Маяк, что ли? Какой еще маяк в сибирской тайге?
«…Подводная лодка в степях Украины,»- вспомнил он старую шутку.
Ну, что тут стоять? Вперед! Сейчас все будет ясно.
Еще полчаса переступания лыжами по сыпучему снегу. Еще полчаса ветра, подталкивающего сзади в широкий и высокий рюкзак. Башня все росла и росла ввысь, пока не заслонила собой все небо и не встала перед Петровичем, как старинная крепость перед рыцарем. Только штурмовать такую крепость не надо. Вон крыльцо, вон молоток на цепочке. Петрович скинул рюкзак к стенке, снял и отряхнул лыжи, поставил их в сугроб у крыльца. Заносить внутрь не стоит — оттают, а потом опять жди, пока будут нормально скользить.
Три удара молотком в крепкую дверь с блестящими бронзовыми гвоздями.
Тишина.
Петрович опять размахнулся, но тут дверь отворилась.
— А, Петрович! Заходи, заходи, не гони стужу в дом.
На пороге стоял Василий, который, ну все в курсе уже давно, что Косым его называть не стоит… Он держал в руке фонарь «под старину» и махал другой Петровичу: мол, не стой, заходи скорее.
— И вещи свои заноси. У меня тут тепло.
У него было тепло. Сухо. Пахло теплым деревом и немного псиной. И еще жареным мясом и луком и еще чем-то вкусным.
— Ого! Хорошо ты, Василий, устроился!
— Как заказывал, ага. Я им, марсианам нашим, все вот так и описал. Все так и получилось. С детства, веришь, Петрович, мечтал в смотрители маяка. Чтобы никого вокруг, чтобы башня с запасами, огонь наверху, и я за толстыми стенами сижу, книжку читаю возле камина. Или даже пишу! Не смейся, Петрович, я же грамотный, десятилетку закончил. Тут у меня и библиотечка есть, чтобы читать и чтобы учиться. И кладовка такая, что у меня в магазине старом склад был меньше. Продуктов — море. Могу пять лет никуда не выходить. И знаешь, что главное, Петрович? Ни-ко-го!
Василий сиял. И даже косина его была незаметна на довольном лице.
— Так ведь маяк — он на море должен быть, — задумчиво поскреб щетину Петрович.
— Да я тоже думал сначала на море, но как поглядел фильм… Там, понимаешь, волны такие бывают — что даже фонарь верхний заливает. Все трясется, понимаешь. Все дрожит и воет. Страшно.
— Ну, ладно. Море — страшно. Так надо маяк на горку ставить. Вон, на сопку, чтобы свет было видно.
— А там ветер свистит. Спать не дает. Воет и воет — какую бы толстую стену не ставить. Так и свихнуться можно.
— Ага. А без людей, значит, в низине этой, посреди тайги да еще на маяке — не свихнешься, что ли?
— И тут люди бывают. Вот ты зашел, Петрович, как раз к ужину. Переночуешь у меня? Тут три гостевых комнаты я задумал — на кучу народа места хватит, если что. А вчера жена твоя заходила. Записку тебе оставила, кстати…
В записке, простом листке, вырванном из блокнота, который обычно лежал возле телефона в прихожей, было написано знакомым почерком всего пять слов: «Дуркуешь, Петрович? Иди уже домой!»
…
— Бр-р-р, — помотал головой Петрович, выныривая из непонятного и такого реального сна. Приснится же такое. Фантастика просто. Марсиане…
А чего проснулся-то до будильника?
За окном, занавешенным плотной шторой, мелькали разноцветные огни и гнусавый голос раз за разом громко повторял:
— Соблюдайте спокойствие. Оставайтесь на своих местах. Не бойтесь. Ничего страшного. Это нашествие…







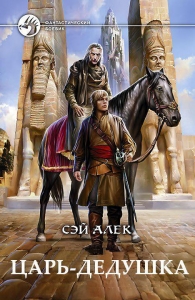





Комментарии к книге «Про Петровича», Александр Геннадьевич Карнишин
Всего 0 комментариев