Виталий Каплан И силуэт совиный
1.
Закат почти догорел, солнце свалило за горизонт и оттуда подсвечивало багрянцем гряду рыхлых облаков – словно остывающие угли костра.
Пронзительно пахло сосновой хвоей – стена древнего леса подступала едва ли не вплотную к монастырю. Грибов, наверное, здесь полно, – подумал я не к месту. Кладовые монастырские, небось, уставлены кадушками с маринованными опятами, солеными груздями, а уж тем более рыжики…
Впрочем, не до грибов сейчас, брат Сашка, – сказал я себе и обвел строгим взглядом собравшихся. Видно было не очень – света из высоких, закруглённых овалом окон явно не хватало, а пламя настенных факелов разгоняло тьму очень избирательно. Тем не менее, я разглядел всех четверых. Приземистая, плотная фигура отца-наместника, архимандрита Василия. Будь он покрупнее – сравнил бы его с медведем, но тут скорее подходит барсук. Отец-келарь, иеромонах Максим, скорее смахивает на лису – худенький, вёрткий, лицо бледное, длинные тонкие пальцы бессознательно теребят складки рясы. Отец-смотритель, иеромонах Анатолий, вылитый волк – сухой, поджарый, и сразу заметно, что не всегда он рясу носил. А стоящий у входа брат Никодим – тот и взаправду медведь. Подковы, небось, руками гнёт. И голос лесному хозяину подстать…
Небогоугодное, конечно, дело – сравнивать со зверями людей. Тем более, честных иноков. Но моя натура берёт своё, и хотя на каждой исповеди я каюсь в грехе насмешничества, толку ноль.
– Помолимся кратенько, братья, – предложил я. Мы чуть ли ни синхронно перекрестились на образа у дальней стены, спели «Царю небесный» и «Богородице Дево». На большее и впрямь не было времени.
– Брат Александр, – осторожно начал наместник, когда мы вновь опустились на скамьи, – не томи уже. Почему Защита обратила взор на наш Свято-Георгиевский монастырь? Ничем, по правде сказать, не примечательная обитель. Живём в лесу…
– Молимся колесу… – инстинктивно выдал я. – Прости, отче. Само вырвалось. А насчёт обители, сразу успокою: у Защиты к вам никаких претензий. Дело вот в чём… Слышали ли вы о неком страннике, который бродит в здешних краях, в Среднем Криволесье, и смущает своими речами тёмный народ? Сам он называет себя Философ, а настоящего имени мы пока не знаем.
– Какие-то смутные слухи, вроде, ходили, – задумался отец наместник, – но ничего определённого сказать не могу. В ближайшие к нам сёла этот Философ не забредал, на исповедях местные крестьяне тоже в сношениях с ним не каялись… А что, дело серьёзно?
Остальные тоже помотали головами: мол, ни сном, ни духом.
– Сам посуди, отец Василий, – усмехнулся я, – будь оно несерьёзно, потащился бы я к вам за триста миль? И не только к вам – у меня по плану ещё семь обителей в здешних землях. Вот сейчас поговорим, вы, братья, по кельям на перины, а мне в бричку, и ночной дорогой в Листопады… к рассвету и доберусь, если всё как надо сложится.
– Разбойников не боишься, брат Александр? – прогудел медведь-Никодим. – Слыхивал я, шалят. Поменьше вроде, чем при покойном базилевсе – государь Иннокентий хвосты им прикрутил, но бывают случаи…
– Не боюсь, брат, – успокоил его я. – Мне как мирянину оружие дозволительно, а навык имеется. Но не про то разговор. Мы о Философе. Так вот, появился этот человек сравнительно недавно, года ещё не прошло с появления первых слухов. Он ходит по городам и сёлам Империи, стоит ему где остановиться – и вокруг него собираются слушатели. Учит же он вещам довольно странным. Напрямую не посягает на святые догматы, но проповедует так называемое Возвращение. Дескать, все мы должны опомниться, осознать истину и вернуться туда, где наше подлинное место, куда нас поставил Господь. Его, разумеется, спрашивали, где находится это «подлинное место», но Философ отвечал уклончиво. Собственно, ответ сводился к тому, что сперва нужно вспомнить себя, и тогда уже ясно станет, куда именно возвращаться.
– А как надлежит вспоминать себя? – заинтересовался лисообразный отец Максим.
– Вот это-то самое любопытное, – заметил я. – По словам Философа, для этого следует отрешиться от всех дел и забот, скрыться от окружающих и просить Господа о пробуждении. И всё это было бы простой глупостью, очередной пустой ересью, кабы не одно занятное обстоятельство. Занятное и, если уж прямо говорить, жутковатое.
– От его речей люди отвращаются от Христа? – предположил отец Анатолий.
– Кабы всё было так просто… – Я вздохнул. Как они воспримут то, что сейчас скажу? – Некоторые люди, уверовавшие в учение Философа, исчезли. Исчезли в самом прямом смысле – пропали без вести. О судьбе таковых ничего неизвестно, свидетелей исчезновения нет, что и неудивительно – ведь «вспоминать себя» полагается в скрытом, уединённом месте… По нашим данным, с декабря прошлого года по июнь этого всего исчезло сорок три человека. В масштабах Империи, конечно, немного, но и они рабы Божии, и их скорбящие близкие – тоже. Это первое. Второе: никто не знает, сколько еще совратившихся попробует «вернуться в подлинное место». Может, это станет настоящей эпидемией. И третье: есть очень серьёзные подозрения, что в исчезновении этих людей не обошлось без нечистого. Возможно, магия, а возможно, и прямое служение сатане. Уж не принесены ли эти сорок три несчастных в жертву?
– Ничего себе! Матерь Божия, оборони нас! – выдохнул отец-наместник.
– Матерь Божия, конечно, нас не оставит, – согласился я, – но мы и сами должны действовать. Святая Защита одна не справится, нам нужно содействие на местах. Говорю простым языком: Философа нужно опознать и задержать. Придётся вам, братья, пошустрить. С народом пообщайтесь, только осторожненько. Выясните, в каких местах видели Философа, куда он направляется. Если что прознаете – немедленно известите наших людей в Охрянице. Я сообщу потом, как именно это сделать. Ну и если этот, с позволения сказать, Философ забредёт на монастырские земли – постарайтесь его задержать своими силами. Я не думаю, что это будет очень сложно.
– Как он выглядит-то хоть? – встревожено поинтересовался отец Анатолий.
– Роста среднего, – начал перечислять я приметы, – телосложения худосочного. Плешив, остатки волос лишь возле ушей. На вид – лет около пятидесяти. Лоб морщинистый, глаза карие, веко на левом глазу иногда непроизвольно дёргается. Одевается просто, как бедный горожанин. Но может и в крестьянском платье быть.
– Говоришь, несложно его взять? – хмыкнул отец Анатолий. – А если и впрямь колдун, если сатана ему помогает?
– А вы, братья, не бугры с горы, а честные иноки, – добавил я строгости в голос. – Вам надлежит не бояться сатану, а силой веры христианской сражаться с ним и с его отродьями. Не мне, мирянину, поучать вас, духовных, что истинная вера сокрушает всю силу вражию.
– Что ж за полгода-то его никто изловить не сумел? – подал медвежий голос брат Никодим.
– Божьи мельницы, как вам известно, мелют медленно, – меня потянуло в сон, пришлось мысленно встряхнуть себя. – Святая Защита не торопится. Сперва мы тщательно изучали вопрос, собирали свидетельства, анализировали их. Вопрос о задержании встал недавно. Так что изловим, брат Никодим, не беспокойся. Возможно, и ты в этом поучаствуешь. Отец Василий, – перевёл я взгляд на наместника, – надеюсь, в случае чего один из ваших подвалов можно будет срочно переоборудовать под темницу? Вот и отлично. Тогда держите свиток, здесь инструкции по связи. А я поеду себе в Листопады, тамошних предупреждать.
– Может, не стоит так-то вот, на ночь? – пожевал губами наместник. – С утреца бы и поехал, а ночь, как честные люди, в защищённых стенах провести…
– Рад бы, отче, да не выйдет, – сокрушённо помотал я засыпающей головой. – Совершенно нет времени. Так что благослови, да и отправлюсь потихоньку.
…Мне пришлось растолкать Илюшку, моего слугу, кучера, секретаря и телохранителя. Как говорится, всё в одном. Илюшка приладился было спать в бричке. Будто я и не предупреждал его о ночной дороге. Восемнадцать лет парню, габаритами вровень с братом Никодимом, но повадками подчас дитя дитём.
Сил ругаться у меня, впрочем, уже не оставалось. Я забрался в бричку, достал на всякий случай взведённый самострел – в обещанных разбойников не верилось, но бережённого ясно Кто бережёт. Илюшка, виновато сопя, взгромоздился на облучок, дёрнул поводья – и Журавль с Синицей, наши ко всему привычные лошадки, тронулись.
Дорога пахла дорогой, ночью, соснами и земляникой. На востоке, из-за чёрных древесных крон, поднималась в бледном желто-розовом сиянии слегка ущербная луна. Пронзительно кричали ночные птицы – горевестники и зверобои, глухо и тревожно ухала сова, но даже это не помешало мне упасть в сон.
2.
Здесь опять была очередь. Каждый раз банкетки все заняты и приходится стоять на своих двоих. Нервно стрекотали люминесцентные лампы на потолке – явно прошлого века. Если приглядеться, наверняка увидишь следы от мух. А вот полы протёрты тщательно – иногда, если мне назначают на после пяти, можно столкнуться с бабкой-уборщицей. Мы, очередь, ей мешаем работать, и она громко высказывается, куда, по её мнению, стоит нас отправить. Рыхлая, пожухлая, но пока что не дохлая. Конечно, её следовало жалеть и поминать в молитве, но у меня не получалось.
Сегодня бабки не было, и немудрено – талончик у меня на половину двенадцатого. И никого же тут не парит, что в разгар дня, что самое рабочее время. Кстати, приходить нужно не к назначенному часу, а намного раньше. Потому что вызвать могут когда угодно, а не пришёл – значит, прогулял… Будешь возмущаться – в лучшем случае ответят «это ваши проблемы».
Проблемы… те ещё проблемы. Григорьич ругался как актуальный художник, и я вполне сочувствовал бедняге-прорабу. Лето сырое, осень тоже, поплыл фундамент, пока укрепляли, вышли из графика, сдача 20 ноября, отделку хоть убейся веником, а сделай на уровне, каждый человек на счету, а я кидаю такие подлянки. Он, Григорьич, не тухлый – нормальный мужик и всё понимает, но всякому пониманию есть свой предел.
Сейчас тоже лило, оконное стекло иссечено струйками дождя. Зонтик я, конечно, забыл. Вечером Лена по этому поводу много чего интересного скажет.
Я пробовал читать, но здесь это невозможно, мысли расплываются. Всё здесь давит на мозги – и стены, грубо выкрашенные масляной краской – зелёный низ, белый верх, и стенды с картинками про толерантность, и запахи. Вот спроси меня, чем именно пахнет – не скажу, а стоит раз вдохнуть – и уже никогда не забудешь. Всё сошлось в этом букете – и пыль, и хлорка из туалета, и люди из очереди, похожие на промокших ворон. Да я и сам такой же, на взгляд стороннего наблюдателя.
– Белкин! – раздалось из динамика над белой дверью. Ну, считай, повезло, не прошло и часа. Прочитав мысленно Иисусову молитву, я вошел в кабинет.
– Добрый день, Антонина Львовна!
Кураторша тряхнула гривой накрашенных волос и милостиво кивнула:
– Садитесь, Белкин.
Я присел на хлипкий стул, стоявший боком к письменному столу. Интересно, а как выдерживает он воистину тяжёлых подопечных?
Антонине Львовне под полтинник, но, похоже, сама она считает, что только-только перешагнула рубеж тридцати. Лицо в косметике, всё как положено стильной современной женщине – и зелёные тени под веками, и лиловая кайма над бровями. На лбу – красное пятнышко размером со старый, вышедший из обращения рубль. Похоже, Антонина Львовна увлеклась какой-то индуистской оккультятиной.
– Что скажете, Белкин? – выдержав длинную паузу, произнесла она. И я как-то сразу понял, что ей скучно, что впереди у неё длинный муторный день, что зарплата маленькая, а очередную серию «Тайн парижской любви» она сможет посмотреть только в платной записи – потому что пока доберётся с работы в свой Павлов Посад, или Чехов – без разницы, будет уже десятый час. А главное – её никто не любит.
Ничего нового, короче. И, кстати, ещё не худший вариант. Вот у Лены эта её мадам Жукова – уж крыса так крыса.
– Ничего нового, Антонина Львовна, – я разглядывал кактус на окне. Большой, ухоженный. Наверное, она верит, что кактусы оттягивают на себя вредное компьютерное излучение.
– Работаете всё там же?
– Да, Антонина Львовна, – сказал я. – Компания «Домострой». Строитель-отделочник.
– А ведь программистом были, Белкин, – она скорбно поджала густо накрашенные губы. – В вашем досье написано, что руководили интернет-проектами. Делали полезное обществу дело. И не стыдно? До чего докатились!
– Так это не я докатился, – позволил я себе небольшую дерзость, – это меня докатили.
– И правильно докатили! – прошибить кураторшу было невозможно. – Общество вынуждено защищаться от личностей с ущербным, экстремистским сознанием.!
– Понимаю, – изобразил я лицом сознательность. – Таких не берут в программисты.
– И правильно не берут! Мало ли какую вредоносную закладку в программе сделаете, а потом поезда с монорельсов падают, куры гриппом заражаются. От вас, религиозных фанатиков, всякого можно ждать. Вам же мало вашего конституционного права исповедовать тот или иной религиозный культ в стенах культового учреждения! Вы же проповедовать рвётесь, хотите протащить своё мракобесие в общественные и социальные институты…
Тавтологии она, разумеется, не чувствовала.
– Антонина Львовна, ну не надо так, – вежливо заговорил я. – Да, не спорю, в церковной среде есть разные личности, в том числе и неадекватные. Но они ж погоду не делают. Подавляющее большинство – вменяемые граждане, точно так же болеющие за благо родной страны…
Подавляемое большинство – хотелось мне сказать. Но не стоило.
– Вы мне, Белкин, этот жалкий лепет бросьте! – встопорщила перья кураторша. – Вам тут не старое время, не путинская диктатура! Московская Федерация стоит на пути прогресса и общечеловеческих ценностей, мы строим толерантное общество, в котором никому не будет позволено развращать опасными бреднями чужие умы! Мы не против веры, но вера дело глубоко личное, интимное, религия же – это институт общественный! И социальный! Поэтому общество вынуждено защищаться! Хотите верить в Бога – верьте у себя под одеялом! Ну, или в рамках зарегистрированной религиозной организации! Но эта ваша Церковь! Это же дикость, средневековье!
– Антонина Львовна, – вздохнул я, – ну мы же много раз про всё это говорили…
– И ещё будем говорить много раз, пока вы, наконец, не сделаете правильные выводы. Вот почему до сих пор не поставили подпись за Пафнутия? Приличный же человек, не узколобый, уважает общечеловеческие ценности, идет в ногу со временем…
«Венчает гомиков, рукополагает баб», – чуть не сорвалось у меня с языка. Слава Богу, удержался. А то Львовна точно понизила бы мой социальный индекс единичек на десять. «Вопиющее, демонстративное проявление нетолерантности».
– Не могу, – тихо ответил я. – Совесть не позволяет.
– У вас извращённая совесть, Белкин! – сейчас же взвилась кураторша. – Почему-то она, эта ваша совесть, позволяла вам совершать психологическое насилие над сыном! Ещё немного – и вырос бы такой же тёмный религиозный фанатик. Вовремя ювеналы спохватились…
Вот это действительно был удар ниже пояса. Несколько секунд я сдерживал дыхание. Нельзя! Нельзя ничего сейчас возражать! Для Кирюшки это будет только хуже.
Антонина Львовна задумчиво взглянула на круглые часы над косяком двери. Похоже, уложилась в норматив. И запись, если что, подтвердит, как ревностно она относится к служебным обязанностям.
– Короче, Белкин, – закруглилась она, – подумайте над своей жизнью и сделайте правильные выводы. Перестройте своё сознание, избавьтесь от экстремизма, сделайтесь полноценным членом общества. И всё у вас наладится. В следующий раз явитесь… – она пощёлкала клавишами, – явитесь четвёртого ноября, в 16.30. Талон возьмёте в регистратуре. Всё, свободны.
И она надавила кнопку. Там, в коридоре, механический женский голос вызвал очередную ритуальную жертву толерантности.
Выйдя из-под козырька здания, я сразу попал в плотный серый дождь. Видимость – не больше десятка метров, и спустя несколько шагов Центр контроля социальной лояльности растворился, как сахар в чае.
Когда я нырнул в провал метро, сухой нитки на мне уже не было. Ну, хоть то хорошо, что в бытовке можно будет принять душ и переодеться в рабочую униформу. Профсоюз надзирает за удобствами.
3.
Солнце, расплескавшись в цветных стёклах витражей, рисовало на гранитном полу цветы: алые, васильковые, пурпурные. Казалось, это не пол, а поле – дикое, никогда не знавшее плуга и бороны, взошедшее после обильных весенних дождей всяким разнотравьем.
Сколько я ни сидел здесь, в Палате Милосердного Суда, всякий раз удивлялся: до чего ж талантливые мастера её строили! Ей больше двухсот лет – но она вовсе не выглядеть чем-то древним… не то что имперские замки, возведённые до эпохи Вторжения. Даже отремонтированные, приведённые в полную боевую готовность, они всё равно навевают мысли о седой старине, о пыли веков, о песнях, которые большей частью забыты. Да и свитков того времени осталось всего несколько штук… Я вспомнил прохладные светлицы в библиотеке собора апостола Павла – там эти древности хранились в особого изготовления шкафах, недоступные ни влаге, ни жучкам, ни, разумеется, вездесущим крысам.
Я любил там бывать – в тишине, настолько плотной и густой, что любое слово, казалось, должно завязнуть в ней, точно ложка в сметане. Жаль, удавалось редко.
– Начнём, пожалуй, отцы и братья? – негромко сказал владыка Дионисий. – Вроде все в сборе?
Нагнувшийся над его ухом секретарь подтвердил, что да, собрался весь состав.
Мы поднялись с жёстких кресел (специально такие поставили, чтобы не уснуть ненароком) и хором спели «Царю Небесный», затем «Достойно есть» и, традиционно, «Да воскреснет Бог». На заседаниях Святой Защиты – совершенно нелишняя предосторожность. Когда я, молодой и зелёный, только начинал службу в Защите – мне рассказали историю о том, как благодаря пению «Да воскреснет Бог», этой главной бесогонной молитвы, удалось разоблачить оборотня, принявшего облик одного из членов состава. Не знаю уж, правда оно или нет, но вполне могло быть правдой.
Затем, по знаку секретаря, в залу ввели отца Евгения. Как и положено, в сером подряснике. Отсюда он уйдёт или в белом – если будет оправдан, или в чёрном, если Милосердный Суд установит всё-таки его вину.
Был отец Евгений довольно молод, худ и невысок. Борода у него росла плохо – какие-то слабо соотносящиеся друг с другом пряди, а не борода. Усов не было и вовсе, волосы он перевязывал на затылке, а длинные тонкие пальцы всё время тискали друг друга. Меня ещё мой первый наставник, брат Николай, учил: хочешь понять, что у человека на душе – смотри не в глаза, а на пальцы. Можно умело врать, можно не моргнув глазом услышать ужасное – но движение пальцев всегда выдают волнение и ложь.
Стражники поставили обвиняемого на каменное возвышение и незаметно удалились. Владыка Дионисий дождался полной тишины и начал:
– Отцы и братья. Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть дело иерея Евгения, настоятеля Крестовоздвиженской церкви города Листопады. Против него высказаны были серьёзные обвинения, и обвинения эти наши братья изучили весьма внимательно. Мы должны сейчас выслушать их, выслушать и самого отца Евгения, а далее решить, что следует предпринять для блага Церкви, Империи и самого обвиняемого. Помните, что суд наш – милосердный, и что об одном кающемся грешнике Господь радуется больше, нежели о девяносто девяти, не имеющих нужды в покаянии.
Затем встал брат Герасим, которому по жребию выпало быть сегодня обвинителем.
– Отцы и братья! История вопроса такова. Полгода назад одна из прихожанок отца Евгения обратилась в листопадское отделение Святой Защиты не то чтобы именно с жалобой, но с недоумением. По её словам, отец Евгений в проповедях учит, что прощения достойны лишь те, кто раскаялись в своих злодеяниях. Нераскаявшихся же, пребывающих в злостном упорстве, прощать никак не следует, ибо таковое прощение оказалось бы не только ложью, недостойной христианина, но и принесло бы вред самому прощённому – тот лишь уверился бы в своей безнаказанности. То же самое отец Евгений говорил своим духовным чадам и на исповеди, когда те просили у него пастырских советов, как поступить в тех или иных житейских перипетиях. Поскольку по правилам Защиты, те служители, которым надлежит выяснять обстоятельства дела, не вправе самопроизвольно выносить богословские заключения, мы послали запрос в Свято-Успенский монастырь, к игумену Роману, известному всем как непревзойдённый богослов. Зачитываю послание отца Романа.
Брат Герасим поднёс бумагу почти к самым глазам и глухо заговорил:
– Мнение, будто прощать следует лишь раскаявшихся грешников, глубоко противно христианскому вероучению, ибо Господь наш Иисус Христос ещё до Своей смерти на кресте сердечно простил каждого из нас, невзирая на меру грехов и укоренённость в них. «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят» – говорил он, умирая, о Своих распинателях-римлянах. Как знаем мы из Писания, те и впрямь большей частью, за исключением благоразумного сотника Лонгина, не осознавали свой грех, но, тем не менее, Господь простил их. «Любите врагов ваших», призывал Он во дни земной Своей жизни, а как же возможно любить врага, не простив его предварительно? Ведь что есть прощение, как не изменение состояния своего сердца? Своего, а не чужого! Если мы не будем прощать упорствующих во грехе, то вызовем у них лишь ожесточение, что никак не приблизит их к покаянию. Что же касается наказания уличённых преступников, то это дело царской власти, а никак не подданных, и потому ложно мнение, будто прощение всех и вся приведёт к уничтожению закона и торжеству безнаказанности. Мы должны безусловно прощать согрешивших против нас, а как быть с согрешившими против государя, права и Господа Бога, решать слугам царским. Да и тем надлежит наказывать преступников со всем возможным снисхождением, простив их в сердце своём, творя свой суд без гнева и пристрастия. Посему речи, изложенные в прочитанном мною донесении, суть опасная ересь, сбивающая с толку простых людей. Роман, игумен Свято-Успенского монастыря близ Белых гор, седьмое августа года две тысячи пятьдесят шестого от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
– Что скажете, отцы и братья? – обвёл нас взглядом владыка Дионисий. – Есть ли у кого-то вопросы, сомнения, пожелания?
У меня были вопросы. Подняв, как положено по уставу, серебряный клинок, я заговорил:
– У меня вопросы к отцу Евгению. Вопрос первый: говоря со своими прихожанами о прощении, что имели вы в виду: внутреннее состояние души или внешние действия по отношению к прощаемому? Вопрос второй: прощает ли он сам ту свою прихожанку, которая обратилась со своими недоумениями в Святую Защиту? Вопрос третий: если окажется, что Милосердный суд примет всё же неблагоприятное для отца Евгения решение, считает ли тот, что нам, членам суда, следует его простить?
В переводе на обычный язык я сейчас сказал молодому батюшке: пацан, ты наворотил глупостей. Признай это – и никто тебя не обидит. Не лезь в бутылку!
Но он именно что в бутылку и полез. Когда владыка Дионисий предоставил ему слово, тот выпрямился и голосом звонким, точно первая струна, заявил:
– В том, чему я учу своих прихожан, ни малейшей ереси нет. Прощение – это не лицемерные слова, не один лишь отказ от ненависти ко грешнику, а подлинное дело, подлинное участие в его жизни. Украли, допустим, у тебя хлеб – ты, если прощаешь вора, не только должен избавить его от мирского наказания, но и принять его в свою душу, разобраться, отчего он ворует. Ежели бедствует он – помоги ему, последнюю рубашку с себя сними, а помоги. Из удальства и лихости украл он – исцели его душу от сего греха своею любовью и вниманием. Стань ему братом, сыном или отцом. Вот что такое истинное прощение. Но что толку так вести себя по отношению к нераскаянному грешнику? Нераскаянный, он оттолкнёт твое участие, посмеётся над твоей милостью, растопчет твою любовь. И тем самым введёт самого себя в ещё более тяжкий грех, а тебя – в гордыню, ибо, сделав вид прощения, сочтёшь ты себя совершенным. Нельзя толковать прощение так, как делает это старец Роман, никак нельзя! Нераскаянного спасают строгостью, а не любовью.
Вот так, – грустно подумал я, – и роют себе яму.
Больше вопросов ни у кого не возникло. Что тут спрашивать-то? И что делать с ослиным упрямством, когда оно исходит от человека в сане?
Так и вышло. Когда секретарь извлёк из кувшина опущенные нами шарики, белых оказалось только два, серых – один, а чёрных – девять.
– Что ж, иерей Евгений, – огласил приговор владыка. – Поскольку ересь ты проповедуешь несомненную, покаяться в ней не желаешь и явно намерен и далее проповедовать её неискушённым людям под видом учения церковного, то надлежит нам сие пресечь. А потому постановляем: раба Божьего Евгения извергнуть из священного сана и поместить в темницу Святой Защиты до исправления. По исправлении же, буде таковое произойдёт, выпустить его на волю, но в мирянском чине. Быть по сему!
А ведь когда-то, подумал я, за такое могли бы и на костёр отправить. В той, старой Византии. Но к хорошему привыкаешь быстро – вот и нынешний приговор кажется молодому батюшке жестокость.
Да и не только ему. Интересно, кто был тот второй, опустивший белый шар?
4.
– Сильно устал? – Лена обхватила меня за плечи и смешно дунула в лицо.
– Как обычно, – я не был сейчас расположен к нежностям. Отстранив ее руки, прошёл в ванную, пустил струю холодной (пусть счётчик вертится, плевать!) и, присев на край ванны, застыл соляным столбом. Ничего сейчас не хотелось – ни Лениных котлет с луком и яйцом, ни постели, ни даже R-подключения. Всё стало пусто, серо и бессмысленно. «Господи! – тихо сказал я, – забери меня отсюда! Ну не могу уже!».
Наверное, нужно было помолиться нормальным образом, а ещё лучше – прочитать вечернее правило, всё равно же сейчас пожую – и на боковую, ни на что иное сил не осталось. Но думать о вечернем правиле было тяжко. «Есть такое слово – надо», вспомнилась армия, казарменные поучения сержанта Епифанцева. Любил тот наставлять молодых. Эх, армия… Там, по крайней мере, всё было понятно. Есть правила игры, и дуй вперёд. А вот когда никаких правил, когда любая полянка может превратиться в трясину, а из любой лужи вырасти скала… И почему я не родился в прошлом веке?
Вечно так сидеть было нельзя, да и воду жалко. Копеечка к копеечке… Я встал и направился на кухню, навстречу котлетам.
Лена, как выяснилось, ждала меня, не притрагивалась к ужину. Тоже какая-то вся блёклая и серая. Волосы схвачены синей резинкой в пучок, на глазах старомодные очки – контактных линз она боится почти так же, как и лазерной коррекции.
Мы перекрестились на икону, я скороговоркой прочитал молитву перед едой. Неистребимая привычка, с детства. Кирилла это раздражало дико. Особенно если друзей приводил.
– Ну как прошло сегодня? – осторожно спросила она, накладывая мне макароны.
– Как-как… – уставился я в белую клеёнку стола. – Всё так же… будто сама не знаешь. Мотают нервы… для того и придумано.
– Я надеюсь, ты не выступал там? А то ведь индекс понизят…
– Не учи ученого, – я так сдавил вилку, что слегка погнул. – И так противно, словно дерьма наелся, а тут ещё твои наставления.
– Саша, успокойся. Ешь котлеты, они вкусные, – Лена сидела напротив меня, подперев ладонью впалую щёку, и смахивала на жареную рыбу.
– Да, вкусные, – сухо подтвердил я, хотя сейчас мне что котлеты, что рубероид – всё было едино.
– Мне сегодня Юрченкова звонила, из Ю-Центра, – сообщила Лена. – Говорит, у твоей справки по зарплате кончился срок. Сейчас ведь октябрь уже, а ты в августе брал.
– Завтра новую возьму, – кивнул я.
– Саша, не спи! – Лена смотрела на меня самым неприятным взглядом, на какой только способна: взглядом кролика, гипнотизирующего удава. – Ты слышишь меня? Надо же, в конце концов, что-то делать!
– Ты о чём? – я притворился, будто не понял.
– Я про Кирилла! – в её голосе послышались звенящие нотки. – Суд 14-го ноября, а мы с тобой даже не чешемся!
Я отодвинул тарелку с недоеденным.
– А как, по-твоему, следует чесаться?
– Адвоката нанять, – завела она старую шарманку. Ну, пойдёт сейчас по новой…
– Интересно, на какие шиши? Тебе напомнить, сколько стоит день адвокатской работы? Напомнить, сколько на картах лежит у меня и у тебя? Даже если всё выскребем, хорошему адвокату это будет совсем не интересная сумма. А плохой адвокат однозначно бесполезен. Я не уверен даже, что и хороший чем-то поможет. Сама видишь, что творится в стране!
– Это не вчера началось! – она добавила в голос металла. – Надо было заранее готовиться. И уж во всяком случае не подписываться на десятину!
– Ага-ага! – взвился я. – А кто мне плешь проедал, что будет стыдно в храме людям в глаза смотреть? Кто бегал советоваться к отцу Алексию? Как будто непонятно, что он насоветует…
Лена собрала тарелки со стола и громко сгрузила в мойку.
– Саша! Ну что ты вертишься, как уж на сковородке? Надо что-то делать! Иначе у нас ребёнка отберут, насовсем! Ты что, не понимаешь?
Я понимал. Очень хорошо понимал. День шестого сентября… чёрный день календаря.
Погода стояла совершенно летняя, солнышко светило, птички пели. Мне, впрочем, было не совсем до птичек… пока на основном объекте мудохались с фундаментом, нашу бригаду поставили на другой дом, тянуть встроенную электрику. И Ленин звонок был совсем уж некстати.
– Саша! – слова её шелестели в трубке точно пожухлые листья, какими они станут к ноябрю. – Кирилл пропал!
– Как пропал? – не понял я. – В каком смысле пропал?
– В прямом! Не вернулся из школы! Он же всегда до трёх приходит и отзванивается! А тут уже шестой час! Я всё время ему набираю, но «абонент не может с вами связаться». Я позвонила Зинаиде, его классной, та не берёт трубку. Друзьям его звонила, ну, Гошке и Рашиду, они не в курсе. Говорят, никуда сегодня не собирались, после уроков домой все пошли, и он тоже.
В животе у меня похолодело, но я изобразил голосом бодрость.
– Ленка, не вибрируй. Пацану двенадцать лет, начинается подростковый возраст с его закидонами. Мало ли куда намылился! Ну вот представь, что надоело ему тебе докладываться о каждом шаге! Ничего, есть захочет – вернётся. Всё будет нормально!
Оказалось, всё ненормально. До десяти вечера мы вибрировали, потом Ленка отправилась писать заявление в полицию. Конечно, без толку – толстый усатый капитан доходчиво объяснил, что таких загулявших мальчиков после двенадцати лет – табуны, и что если всех искать, то когда преступностью заниматься? Мало ли где он сейчас развлекается! Короче, согласно внутренней инструкции за таким-то номером, если ребёнку больше двенадцати, то заявление регистрируют только на четвёртые сутки пропажи.
Мы до часу ночи бегали по окрестностям, номер кирюшкиного мобильника я поставил на непрерывный дозвон. Думал, мы оба помрём этой ночью. Ну или по крайности один из нас. Выжили, однако, оба. На таблетках.
В семь я позвонил Григорьичу, объяснил ситуацию и выпросил отгул в счёт отпуска. Лене звонить в свой офис раньше десяти не имело смысла. А в девять пятнадцать зачирикал её телефон. «Гражданка Белкина, вам вместе с мужем надлежит явиться сегодня к десяти ноль-ноль в окружной Ювенальный центр, по поводу вашего сына Белкина Кирилла Александровича. В кабинет 17. При себе иметь социальные карты!»
И отбой.
Как мы по пробкам добирались до этого Ю-Центра – отдельная песня. И лишь одну грело душу: значит, всё-таки жив. Иначе звонили бы из другого учреждения.
В кабинете 17 нас приняла поджарая тётка в дымчатых очках и искусственной седине. Оказалось, 3-го сентября у Кирилла в школе проводили плановое ювенальное тестирование, и результаты теста выявили, что ребёнок подвергается дома психологическому насилию. 73 балла из максимальных ста по шкале Брундукова-Сайченко. Поэтому решением окружной комиссии ребёнок был изъят вчера из школы по завершении уроков и помещён в центр временного содержания проблемных детей. Он сейчас находится в комфортных условиях и нам не о чем беспокоиться. Дальнейшую его судьбу определит городской ювенальный суд. Который исходит из подлинных интересов несовершеннолетнего, а вовсе не из отживших стереотипов. Если нам, родителям, удастся доказать, что достойны воспитывать своего мальчика, то суд не станет разрушать семью. Если же тщательная проверка выявит негативные факты, ребёнок будет отдан приёмным родителям, а против нас с Леной возбудят дело по статье 139 Ювенального кодекса Московской Федерации. До суда видеться с ребёнком мы не можем, дабы не травмировать его хрупкую психику.
– Сами виноваты! – изрекла псевдоседая. – Насиловали детский мозг экстремистской версией религии, насаждали в нём нетерпимость, поститься заставляли, подвергая, между прочим, растущий организм огромной опасности. Заключение экспертов-медиков будет, не сомневайтесь. Запрещали даже самые невинные удовольствия вроде R-подключения, препятствовали детской половой дружбе… А уж если выяснится, что применяли физические наказания – тогда лишение без вопросов и уголовное преследование. До пяти лет, между прочим!
Дальнейшее противно вспоминать. Лена вспыхнула, будто бензином политая, начала орать на инспекторшу, а потом и вовсе обмякла и хлопнулась бы на пол, не успей я выставить ладонь.
– Вот, дополнительное доказательство, – расплылась псевдоседая в псевдоулыбке. – С такими нервами – и ребёнка воспитывать! Ну, знаете ли!
…И потянулись пустые дни. Поначалу я ещё на что-то надеялся, но после разговора с духовником, отцом Алексием, понял: бесполезно.
– Вы, Александр, – твёрдо сказал он, – не первый такой. И то, что произошло – оно неслучайно. Неслучайно это именно с вами… точнее, с нами, с церковными людьми. Нас вытесняют из мира… не как в прошлом веке, не расстрелами и тюрьмами… а в духе времени. Я того же боюсь, прямо уж скажу… моей младшей, Прасковье, ещё пятнадцать. Захотят меня раздавить – и в пять минут окажусь психологическим насильником. Только в нашем приходе уже несколько случаев было. Вы разве не знали? Я больше того скажу, тут и политика замешана. В январе ведь Собор, и сами знаете, кого они… – он возвёл очи горе, – хотят протащить в патриархи. Так что крепитесь. И не забывайте молитву. По человеческим раскладам, дело тухлое, но Господь-то с нами, а не с ними…
Я, конечно, звонил Деду, но он ничем не обнадёжил. Разве что пообещал молиться усиленно. Конечно, молитва у него железобетонная, это общеизвестно, но вот уже полтора месяца – а сдвигов никаких. В чудодейственного адвоката мне, в отличие от Лены, совсем не верилось. Это ж не обычный суд, а ювенальный, там прения сторон – не более чем декорация, а всё решается за закрытыми дверями.
– Саша, – выдернула меня в реальность Лена, – ты должен что-то предпринять! Именно ты! Ты ж глава семьи, муж! А ты полтора месяца сопли жуёшь!
– Пойди туда, не знаю куда, – огрызнулся я. – Ну что, что ты мне предлагаешь сделать? Написать челобитную президенту? Отдаться судье Таволгиной?
– Ты бы с папой связался, – тихо заявила она. – Я всё, конечно, понимаю, но Михаил Павлович – не последний человек там… – она ткнула пальцем в потолок. – В конце концов, речь идёт о его внуке…
Вот умеет она так сказать – и чувствуешь, будто таракана съел.
– Хватит, Лена, – я отодвинул чашку со слишком горячим чаем. – Не говори глупости. Ты же прекрасно знаешь: после самарского дела мы для него не существуем. Ни мы, ни Дед. Он стыдится такого родства. И ничем помогать не станет. Прин-ци-пи-аль-но! – передразнил я любимое папино словечко.
– А ты всё же попробуй, – пёрла она как танк. – Не может быть, чтобы если не к нам, то хоть к Кирюшке у него не было никаких чувств. Голос крови всё-таки…
– Девять лет этот голос дрых, с какой стати ему сейчас проснуться? – во мне медленно закипала ярость. – Да и кроме того, он давно блокировал все возможности с ним связаться.
– Напиши по почте, – парировала Лена. – По старой почте, бумажной. На адрес Департамента.
– Ему мешки таких писем от граждан каждый день приходят, – вздохнул я, удивляясь её тупости. – Но дальше старшего помощника младшего секретаря ни одно не проскочит. Но пусть даже и так. Допустим, он прочтёт. И даже не выкинет. И даже вмешается! Ты догадываешься, чего он потребует взамен?
– И что? – её ещё недавно бледное лицо сейчас побагровело. – И тебе жалко поставить эту несчастную подпись? Ради Кирюшки!
– Ты что? – у меня дыхание перехватило, я сейчас не говорил, а шипел. – Ты соображаешь? Ты мне что предлагаешь?
– А я думала, что ты любишь сына! – лоб её вспотел, как тогда, в 17-м кабинете. – Думала, что тебе его судьба дороже дурацких принципов! Ну что изменится от этой подписи? Всё равно же они протащат Пафнутия, даже если мы все за Даниила проголосуем… Ты что, маленький? Ты не понимаешь, как это делается?
– Я, может, и жую сопли, но по крайней мере я не предатель! – выдавилось из моего пересохшего горла.
– Ты не предатель? Это ты – не предатель? – зазвенела она. – Да ты трижды предатель! Ты сейчас сына предаёшь, меня предаёшь, семью нашу предаёшь! Из-за своего тупого упрямства! Ты всегда был такой! Эгоист! Ты красивыми словами прикрываешься, Богом прикрываешься, а на самом деле просто никого не любишь! Любил бы – так хоть что-нибудь сделал бы! – она выдержала драматическую паузу и тоном ниже добавила: – Между прочим, я сегодня поставила эту подпись… но нужно, чтобы и ты. Мы ж семья…
– Ты… – у меня перед глазами заплясали цветные точки. Нехороший признак. – Ты… поставила… за Пафнутия?
– Да мне хоть за Папу Римского! – выдала она. – Лишь бы Кирюшку вернули!
Дальше было плохо. Кажется, я плеснул ей в лицо горячим чаем. Кажется, я громыхнул входной дверью. Кажется, я решил сюда не возвращаться.
Но вернулся в третьем часу ночи. Мокрый, пьяный и никакой. А в половину седьмого надо было вставать на работу.
5.
– Останешься тут! – не слушая гневных Илюшкиных воплей, заявил я. – Сто раз уж сказано было, почему. Лошадей вон стереги, а то неровен час…
– Почему? – в сто первый раз проворчал Илюшка. – Я ж копьём доску в три пальца пробиваю! Я в полном доспехе сто пятьдесят раз приседаю! Я гвозди могу узлом завязать! А ты, брат Александр, не можешь, между прочим! И вообще, разве я не должен тебя охранять!
– Остынь, малой, – я слегка съездил ему по загривку, очередной раз отметив про себя, что парень-то уже на полголовы меня выше. А скоро и на всю голову будет. – Рано тебе на оборотня идти, тут не сила нужна и не доспех. Этому долго учатся, много лет. Дух упражняют, а не тело. А ты? Ведь не читал же сегодня утреннее правило! Да не мычи ты, знаю, что не читал!
Солнце жарило, я истекал потом под бронёй, да и остальные наши тоже мучились. Но идти в логово, не защитившись освящённым серебром, никак не следовало. Серебряные кольца кольчуги (за такую кольчугу, пожалуй, богатое село можно купить), конечно, полную безопасность не гарантировали. Но серебра эти твари не любят, а серебра, омоченного крещенской водой и укреплённого молитвами аввы Евстафия – тем более. Остановить не остановит, но силу удара снизит более чем вдвое.
Наших было немного – два десятка всего. И это не радовало – люди бы сейчас ой как пригодились. Но вчера пришлось пятерых отправить в Белополь – там обнаружилась то ли ведьма, то ли жертва оговора, брат Максим взял с собой в Гнилорожье десяток – там уже третий месяц шалил упырь, а крестьяне до последнего мялись и жались, не посылали гонца в Защиту. А ещё ведь немало людей занято в одиночном поиске – бродят по Криволесью, ловят неуловимого Философа…
– Поверь, брат Александр, это важнее, – мягко увещевал владыка Дионисий. Грузный, седой, тяжело дышащий, он был похож на старинный, как до Вторжения, самовар – такие порой ещё можно встретить в деревнях северян.
– Владыко, – морщился я, – никак не могу с вами согласиться. У нас тут просто какая-то эпидемия нечисти, безумство просто… за полгода уже сто пятнадцать вызовов, из них семьдесят восемь подтверждённых. Каждый человек на счету… А Философ… Ну что Философ… Я понимаю, какой вред от упыря, какой от ведьмы. Ну ладно, будь он классическим еретиком, искажающим учение Церкви – тоже можно понять. Но тут… Ходит какой-то невнятный дядька, произносит какие-то невнятные речи. И это – ужас-ужас-ужас?
– А исчезнувшие? – напомнил мне епископ и поправил оплывшую свечу. Тут же колыхнулись в поставце остальные, и заплясали на белёной стене кельи огромные чёрные тени. Как-то неуютно мне стало, вспомнилось прошлогоднее пещерное дело.
– Исчезнувшие… – усмехнулся я. – А кто может поручиться, что они действительно исчезли? Может, сбежали, дабы не платить подати? Как доказать, что даже если в самом деле исчезли – то из-за поучений Философа? Сами ж знаете: после того – не значит вследствие того.
– Брат Александр, – под внешней мягкостью владыки чувствовалась сталь, – просто попробуй мне поверить. А я тебе говорю, что Философ – это страшнее тысячи упырей. В некотором смысле это угроза самому существованию… не только Империи. Невнятный дядька… хорошо ты сказал. А теперь представь, что он нечто вроде бобра, подгрызающего корни дуба. А дуб – это сама жизнь. Я не могу тебе всего объяснить, и не только потому что во многом знании много печали. Просто есть вещи, о которых и мне запрещено разглашать. Так что бери сколько там у тебя осталось – и сделай мне этого оборотня поскорее. Князь Алексей уже всю плешь проел, – постучал он себя по темечку, на котором и намёка не было на лысину. Мне бы так в семьдесят шесть. – Надеюсь, трёх дней тебе хватит. А как вернёшься – все обычные дела спусти на брата Георгия и занимайся только Философом!
Но пока что заниматься приходилось оборотнем. И ладно бы обычным, волком или медведем. Тут, в селе Малые Праздники (вот уж названьице, и кому только в голову пришло?) завелось нечто куда более редкое. Крестьяне, отродясь не покидавшие родной земли и не бывавшие дальше ярмарки в Загорелье, называли это полосатым котом. И добавляли: «Только поболе коровы будет!». О тиграх никто из них, разумеется, и не слышал… А между тем тварь пристрастилась к человечине. Пятеро детишек от двух до семи лет, старуха Аграфена, бортник Паисий, молодой парень Венька – ему неделя оставалась до свадьбы… Ну, скотину даже и не считаем, скотина – дело наживное.
А третий день, отпущенный владыкой Дионисием, уже истекал. Завтра с утра мне надлежало представить на серебряном блюде голову чудовища. И лучше уж в зверином облике… как-то оно правильнее будет.
Пока что особыми успехами я похвастаться не мог. Два дня ушло на бестолковую беготню по окрестностям и бестолковые беседы с крестьянами, которые, конечно, все набивались в очевидцы, но большинству просто хотелось почесать языками перед новыми людьми. А проявлять строгость я не мог: стоит высечь одного явного враля – и остальные замкнутся, даже те, кто реально что-то видел. Приходилось тратить драгоценное время и выуживать крупицы золота в тоннах пустой породы.
И всё-таки выудили – восьмилетняя девчушка, сестра одного из сожранных малышей, вспомнила, в каком направлении удирала тварь. А сопоставив это с картой местности, мы уже смогли вычислить логово. Конечно, очень приблизительно, с точностью до мили. Дальше пришлось уже пользоваться освящённой лозой. Чем ближе мы подбирались к логову, тем сильнее дёргались ореховые прутья. Метод, конечно, спорный – некоторые авторитетные отцы полагали, что сие отдаёт магией – но действенный.
Теперь оставалось выкурить тварь из её берлоги – и молиться, чтобы та не ускользнула в какой-нибудь тайный выход. Мы, конечно, очертили святой круг, и с запасом, написали смертоносные для нечисти имена – но что, если подземный ход слишком длинный и выбирается на поверхность далеко за пределами круга?
Нам, впрочем, повезло. Наконец-то повезло за все эти дни. Едва только братья Иоанн и Артемий бросили в чёрное жерло чадящие факелы – из редкого южного дерева, дающего нестерпимый для зверья дым – как послышался возмущённый рёв.
Я подобрался поближе, махнул рукой бойцам – страхуйте, мол, и вынул из ножен длинный, слегка изогнутый меч. Левой же рукой держал серебряный крест. Не одно сработает, так другое.
Она выскочила. Куда больше, чем я думал – пожалуй, две полных сажени. И в самом деле тигр, только белый. И невероятно – не только не по-человечески, но даже и не по-звериному – быстрый. Причём не только телом, но и разумом. Тварь безошибочно вычленила самое слабое звено в нашей редкой цепочке – брат Пётр. Молодой защитный, немногим старше оставленного при конях Илюшки, он прошёл, конечно, обучение и в паре-тройке операций был на подхвате, но стоять в боевом строю ему довелось впервые. То ли зверь уловил запах страха, то ли сопряжённый с ним демон указал направление – но вот уже брат Пётр барахтается на траве, бестолково пытаясь задеть оборотня копьём. Учили же парня, что на близкой дистанции пика дура, а меч молодец! Урок, однако, не пошёл впрок, и вот уже когтистая лапа рвёт с его головы шлем.
Все эти подробности я видел уже на бегу. Спасибо суровым наставникам, я тоже умею двигаться быстро… не как оборотень, конечно, но явно побыстрее обычного человека.
Вот уже оскаленная морда в локте передо мной. Огромные клыки – пожалуй, вершка по четыре будут. Выкаченные жёлтые глаза с вертикальным зрачком, полные не звериной, а вполне человеческой ярости, прижатые уши с крошечными, смешными кисточками. И усы – длинные, белые, дёргающиеся прямо как поисковая лоза в руке у брата Антония.
Я ударил мечом. Не наотмашь – не было уже пространства для замаха, а ткнул вперёд, стараясь зацепить глаз. Частично мне это удалось, но клинок не пошёл вглубь черепа, а скользнул по кости и уклонился вправо. Тут же я обнаружил себя на спине, а залитую кровью морду – прямо над собой. Правую руку пронзила дикая боль – должно быть, её рвануло когтями.
Но левая, с крестом, была в порядке – и я, собрав все оставшиеся силы, вставил крест прямо в раскрытую пасть – заклинив челюсти. По тигриной шкуре прошла судорога – освящённое серебро начало оказывать действие. Но если пасть оборотня временно была выведена из строя, то когти – те оставались вполне дееспособными.
И тогда я понял, что время пришло. Время не металла – пускай и вобравшего в себя благодать, а подлинного духовного оружия. Того, что не против плоти и крови.
Не обращая внимание на боль, я закрыл глаза и медленно, чётко и внятно стал читать слова тайной бесогонной молитвы, которой научил меня авва Евстафий. Каждое слово представлялось мне молнией, вонзающейся в чёрное, смоляное море зла. А все вместе они были грозой – очистительной грозой, выжигающей из тварного мира то, чего никак не должно в нём быть.
Я не сразу заметил даже, что чудовищной тяжести, пригвоздившей меня к земле, больше нет. Ничто, кроме боли в правом предплечье, не мешало мне подняться.
Ко мне уже бежали остальные. А я, опираясь на меч точно на посох, стоял над гибким, худеньким телом девушки. На вид ей было не более шестнадцати. На пять лет меньше, чем брату Петру… чем лежащему с вырванным горлом в луже тёмной крови брату Петру – чей первый бой стал и последним.
Илюшка, самовольно бросивший лошадей (получит ещё за это по полной), давясь слезами, заматывал мне чистыми тряпками руку. А я, указав на бывшую тигрицу, хмуро сказал:
– Подвигов тебе хотелось? Что ж, начни с малого. Отсеки ей голову.
Самому мне этот подвиг был сейчас не под силу. И вовсе не из-за разодранной руки.
6.
Ноябрь выдался на удивление сухим и тёплым. Да, облетели уже листья, да, рано утром лужи похрустывали льдом – но густо-синее небо, но солнечные блёстки, но плюс восемь днём… Только вот я понимал: чем ласковее сейчас природа, тем злее она станет совсем скоро. Собирает силы, готовится к бою.
С Леной у нас было ровно. То есть – никак. Мы, не сговариваясь, стали друг с другом вежливы, но оба понимали, что такая вежливость маскирует пустоту. И что другой это понимает – тоже понимали. Молча.
Лена старательно готовила мне завтраки и ужины, гладила рубашки и задавала дежурные вопросы о самочувствии. О приближающемся 14 ноября не говорили – без толку. Я старался ухватить дополнительные работы – объяснял тем, что сейчас каждая копейка нелишняя, мало ли какие непредвиденные расходы случатся. Но сам-то понимал, что это законный повод пореже мелькать дома. Спали мы теперь порознь, и у Лены был благовидный предлог – что-то неприятное по женской части. Выспрашивать детали я постеснялся, главное, что не смертельное, а просто неприятное. Зато теперь хватало времени на R-подключения, тем более, что после полуночи вдвое дешевле тариф.
А потом было 7 ноября. Тоже чёрный день календаря, хотя чернота оказалась полегче сентябрьской. Как-то с утра всё не заладилось. Попал в поток, как выражается Дед. Сперва, спешно поглощая завтрак, облился чаем, пришлось срочно менять брюки – и терять драгоценные минуты. Потом меня крутило и мяло толпой в метро. Как итог – лишился нижней пуговицы на куртке. А едва вышел из метро – на меня напала ворона. Спикировала откуда-то сверху – и от всей своей вороньей души клюнула в макушку. Спасибо, что не в глаз, да и кепка смягчила удар. Хотя всё равно больно.
Впрочем, это всё были мелочи, а по большому началось уже на работе. Бригада наша спешно клала плитку в квартирах объекта. Обычный наш аврал – сдача через две недели, а тут ещё кот не валялся, как заметил Григорьич. Он-то меня и дёрнул уже под конец дня:
– Михалыч, слушай, тут такое дело… Короче, загляни ко мне в бригадирку, разговор есть.
Бригадирка Григорьича – это крошечная комнатушка два на два метра, отделённая фанерной стенкой от остальной бытовки. Вмещаются туда письменный стол, стул, табуретка для посетителей, ну и сам Григорьич.
– Садись, Михалыч, – гостеприимно повёл рукой бригадир. – Тут, знаешь, дело такое… Короче, этот объект мы скоро сдаём. Ясен пень, 20-го не сдадим, дай Бог хоть к декабрю, но это ладно. Короче, мне Сокольников сегодня скинул инфу по новому объекту. Мощный объект, серьёзный. Коттеджный посёлок для работников главного управления МВД – не хухры-мухры! Ну, ясен пень, не для самих министров и не для замов, для помельче, но тоже уровень! И смета очень приличная. Даже с учётом всех интересов – приличная. Но…
Он замялся, не зная как продолжить. Сунул палец в ухо и занялся раскопками.
– Но какое «но»? – убил я затянувшуюся паузу.
– Да понимаешь, такое дело… Даже не знаю, как сказать. Короче, раз объект такой серьёзный, то у них и требования большие… в том числе к кадрам. Это ж МВД, они ж за свою безопасность трясутся… за нашу бы так тряслись. Одним словом, они данные изучили, по нашей штатке. И говорят, некоторые позиции у них сомнения вызывают. В плане надёжности.
– Говори проще, Григорьич! – я уже смекнул, о чём речь. – Они думают, что я, как православный фанатик и потенциальный террорист, бомбу им засуну между перекрытиями?
Григорьич облегчённо вздохнул: я снял с него тяжкий груз поиска слов.
– Ну что-то типа того. Короче, я тут не при чём. Сокольников распорядился… Приказ с первого числа. Сказал, что премиальные хорошие заплатит, плюс отпускные… Но он тоже ничего поделать не может, сам понимаешь, он ради тебя от такого объекта не откажется.
Чего уж тут было не понять…
– Всё веселее и веселее, – выдавил я. – Тоталерантность на марше. Ну ладно, из программеров меня с моми соиндексом попёрли, но чтобы со стройки… В дворники, что ли, податься? Так и туда, небось, рылом не вышел.
Григорьич посмотрел на меня сочувственно.
– Я-то что? Я полностью согласный. Не понимаю вообще, что они на вас так взъелись. Ну самарское дело, это да, это православный терроризм в натуре, но нельзя ж всех под одну гребёнку-то. Да ты не боись, без куска хлеба не останешься. Я тебе в мыл контактик уже сбросил, фирмочка там мелкая, ремонтируют квартиры и дачи, им толковые люди нужны. Только там не постоянка, а от заказа к заказу. На устном соглашении. У меня там шурин заправляет, скажешь, что со мной работал. Можно зашибать не хуже, чем тут у нас, если быстро вертеться, конечно. Я-то всё понимаю, да что от меня зависит-то?
– Да какие к тебе претензии, Семён Григорьевич, – усмехнулся я. – За контактик спасибо. Воспользуюсь. Всё равно на горизонте других вариантов нет.
– Вот ведь какая история тухлая вышла, – Григорьич мялся, и было видно, как ему всё это осточертело. – С тобой работать хорошо было, ты надёжный… хотя эти отлучки твои… понимаю, всё понимаю, не по своей же воле. Ты вот что, Саша… как в церковь свою пойдёшь, подай записочку о здравии рабы Божией Марины. Дочка моя, рожать будет в конце месяца. Я-то сам, если честно, не шибко верю во все эти шаманства, но чем чёрт не шутит? Хуже-то явно не будет. Она крещёная, ты не сомневайся.
– Подам, Семён Григорьевич, подам.
Ну не лекцию же ему было читать про обрядоверие!
7.
14 ноября осень всё же вспомнила, что ей пора уходить, и высыпала на город первый снег. Тихо, интеллигентно, ночью. А утром уже сияло солнце, на термометре стоял небольшой плюс, и ясно было, что скоро эта сказочная белизна сменится привычной слякотью.
А суда не случилось. Накануне из Ю-Центра пришёл казённый мейл, что заседание переносится и о его новой дате нас своевременно известят.
– Ой, не нравится мне это, – высказалась в пространство Лена. – Как бы не провернули всё задним числом, кулуарно.
– Они могут, – кивнул я и больше ничего не сказал.
Нет ничего хуже неопределённости. Она грызла и выматывала, тянула жилы и сдавливала мозги. Всё я понимал – и не понимал ничего. Как это может быть, что мы с Леной больше не увидим нашего Кирюшку? Что совсем других людей он будет называть «папа» и «мама»? Если, конечно, будет. Что с ним сейчас? Наверняка истерит… или уже не истерит, а в депрессии. И его, конечно, кормят всякими таблетками… побочные эффекты которых только считаются известными.
Я то и дело пересматривал фотоальбомы на коммуникаторе. Вот годовалый Кирюшка бодается лбом с плюшевым медведем, больше его самого. Вот он, трехлетний, резвится на берегу Вихляйки, лепит из песка что-то урбанистическое… это мы в июле сорок седьмого ездили к Деду. Вот, шестилетний, он освоил двухколёсный велосипед и лихо рассекает на даче у Лениных родителей. Пузо голое, щёки измазаны соком черники, в глазах счастье. Вот первый класс, традиционные букеты гладиолусов, непривычная ему форма, настороженный взгляд… Вот совсем недавнее фото, август. Дома, за компом, играет во что-то, полуоборот головы, недовольство на физиономии: отвлекаю. Кажется, именно в тот день, 15-го августа, мы вечером опять с ним поругались – я твёрдо запретил ему R-подключение. Как минимум до совершеннолетия. И правильно запретил – а то мы с Леной не знаем, в каких мирах тусуются его сверстники! Вот только виртуального разврата и не хватало для полного счастья! Нет уж, не детская игрушка.
…Когда зачирикал звонок, я клал в ванной плитку. Пока стянул перчатки, комм всё заливался соловьиными трелями, и я таки успел нажать приём.
– Здравствуйте, Александр Михайлович, – этот бархатный баритон был мне незнаком. – Извините, что от дела отрываю. Это вас из Центра контроля гражданской лояльности беспокоят. Валуйков моя фамилия, Иван Лукич. Старший инспектор. Вы не могли бы подъехать к нам прямо сейчас? Дело-то важное, не скрою. Постарайтесь уж как-то с начальством договориться, лады? В двести пятом кабинете я обитаю, второй этаж, от лифтов налево. Ну, жду вас.
И отбой.
Григорьича уламывать не пришлось – он и так чувствовал себя виноватым. И чем ближе было 1 декабря, тем больше. А может, не 1 декабря, а срок Маринкиных родов? Может, суевер-бригадир не шутил насчёт «шаманства»? Может, опасается, что обиженный я могу порчу наслать? Что ж, радуйтесь, господа, вот вам и прогрессивное общество, свободное от средневековой дикости…
Старший инспектор Иван Лукич на вид гляделся моим ровесником. Ростом чуть пониже, но в плечах широк, и ни намёка на пузо – гибкий, поджарый волк. Небось, фитнесс всяческий. Лицо круглое, гладко выбритое, глаза как у кота, объевшегося печёнки.
Он не погнушался выйти из-за стола, крепко пожал мне руку и пригласил садиться. Не на хлипкий стульчик, как в кабинете Антонины Львовны – в нормальное, обтянутое чёрной псевдокожей кресло.
– Рад познакомиться, Александр Михайлович, – бодро начал он. – Для начала информирую вас, что теперь я ваш куратор, про визиты к мадам Плешкиной забудьте как страшный сон. Между нами говоря, Антонина Львовна – фантастическая дура. Хотя и незлая тётка. Судьба у неё сложная, в личной жизни катастрофы… впрочем, довольно о ней. Суть в том, что мы с вами можем говорить как интеллигентные люди. Я сразу скажу, что не считаю вас потенциальным террористом. Даже то, что в сорок восьмом вы подписали письмо в защиту отца Феофилакта, погоды не делает. Зря, конечно, подписали, сильно опустили себе социальный индекс, ну да ладно, с кем ни бывает… – в его глазах было искреннее сочувствие.
Да, пожалуй, мои неприятности именно тогда и начались, после подписания. Толку от письма всё равно не было – злополучного отца Феофилакта законопатили всё-таки на двадцать лет, что в его шестьдесят семь равнялось пожизненному. Впрочем, отсидел он всего-ничего – инфаркт поставил точку над всем. Я до сих пор писал его имя в записках об упокоении – хотя при разговорах о его святости мне делалось кисло. Какая уж там святость, если благословил на теракт этих ублюдков, Примухина и Костюкевича! Ревность не по разуму и крутой кипяток в мозгах, высказался тогда о нём Дед. Но всё равно злосчастного батюшку было жалко. Старенький ведь, и Бога любил. Насчёт людей – непонятно, а Бога – точно.
Но волна поднялась разрушительная. СМИ штормило, истерия росла в геометрической прогрессии, а потом уже и оргвыводы пошли. Сперва ввели систему социальных индексов, у кого индекс ниже пятидесяти баллов – пожалуйте на учёт в ЦКЛ, затем начались запреты на профессию. Поначалу это коснулось полицейских и военных, следующим ходом – журналистов, затем под раздачу угодили учителя, научники, дальше врачи, библиотекари… докатилось и до программистов. Мне ещё повезло, что руки не крюки, а будь я рафинированным интеллигентом, не способным ввинтить шуруп – пришлось бы на помойках побираться. Или, что вероятнее, нанялся бы за копейки на строительство дорог. Считай, в рабство.
– Я не считаю, что подписал зря, – кому-то надо было нарушить затянувшееся молчание, и почему не мне? – Иначе совесть потом загрызла бы… Понимаете?
Антонина Львовна уж точно затянула бы сейчас шарманку про извращённую совесть. Но Иван Лукич оказался не столь прост.
– Понимаю, – кивнул тот. – Что ж, мы сами себе выбираем маршруты, и это правильно. Неправильно, когда человек выбрал, но отказывается платить по счетам. Но видите ли, в чём дело… я не берусь судить, что такое совесть с религиозной точки зрения, хотя кое-что почитывал и версию насчёт голоса Божьего в человеческой душе знаю. Однако не буду притворяться: я агностик. Не атеист, заметьте, а именно агностик. Есть вопросы, на которые человеку невозможно найти ответ… а может, и не нужно. Так вот, я, как агностик, считаю, что совесть – это нечто вроде камертона, который генерирует наше сознание, и по этому камертону мы сверяем наши поступки с нашими жизненными установками. Совесть – это сигнал несоответствия. И не более того. Может, мы не правы в том, что отступаемся от принципов – а может, уродливы сами принципы.
– Например? – уточил я.
– Например, идейный коммунист в сталинское время услышал от кого-то антисоветский анекдот – и пожалел, не донёс в НКВД. А потом его грызёт совесть, что благодаря его мягкотелости вражина гадит на социализм. Или средневековый монах-инквизитор прельстился красотой юной девушки, которую невежественные крестьяне считают ведьмой – и отпустил её. А после мучится, кается. Или, если взять сравнительно недавнее прошлое, путинскую диктатуру, допустим, некий чиновник повёлся на призывы либералов и перестал брать откаты. Но это привело к разрыву всей цепочки экономических связей, и как следствие – тысячи людей остались без работы, произошёл локальный передел собственности – с рейдерскими захватами, перестрелками, кровью. И чиновника потом грызёт совесть. Хотя по сути он же прав, откаты – зло. Я к чему это всё говорю? Присмотритесь к вашей совести. Что чему не соответствует? Поступки принципам, или принципы – правде жизни?
Я помолчал, переваривая услышанное. Да, это не Антонина Львовна…
– Иван Лукич, а в чём, собственно, вы хотите меня переубедить? Хотите, чтобы я перестал верить в Бога? Чтобы вышел из православия? Чтобы порвал с Церковью? Вы всерьёз думаете, что мои убеждения изменятся, если вы мне их раскритикуете?
Новый куратор усмехнулся в густые усы.
– Эко у вас, Александр Михайлович, всё в кучу смешано! И Бог, и православие, и Церковь… А ведь наверняка читали, что вера и религия – не одно и то же, хотя и связаны. Вера – это что внутри, это глубоко интимное чувство. Религия же – систематизация индивидуальных верований, а Церковь – форма организации религиозной жизни. Всё это не всегда совпадает. Можно быть верующим, но не религиозным. Можно быть религиозным, но не церковным. Наконец, можно быть церковным, но не верующим. Скажите, так не бывает?
Я промолчал. Возразить тут было нечего. Взять хотя бы Клавдию Петровну из нашего прихода. И более того – отца Анатолия Пшеницына, о котором давным-давно рассказывал мне Дед. «Дядька-то он был хороший, что интересно, – в голосе Деда звучало искреннее удивление. – Прихожан своих даже любил в какой-то степени. Тщательно все требы исполнял, на проповедях всё правильно и гладенько говорил. Чтобы людей не смутить. И только у себя в блоге отрывался, развенчивал наши поповские байки».
– Но поймите меня правильно, – продолжал Лукич. – Я уважаю ваши религиозные убеждения. Я не призываю вас изменить вере отцов. Не призываю порвать с Церковью. Но ведь Церковь – это не что-то единое и монолитное. Да-да, знаю! – махнул он рукой, – всё знаю. И про Тело Христово знаю, и про столп и утверждение истины. Но я не про мистические измерения, я про земное, посюстороннее. А тут, на земле – всё сложно, всё противоречиво. Есть разные группировки, с разными взглядами на то, как именно следует идти по предписанному пути спасения. Причём я не про раскольников или сектантов – я про воцерковленных православных христиан, в лоне Московской Патриархии. Вы вот, Александр Михайлович, условно говоря, в одной группировке… условно назовём её Даниловской. А есть и другие варианты…
Ага, вот он к чему клонит! Ох как мягко стелет. Значит, из соображений симметрии сейчас будет жёстко.
– Чайку не хотите, Александр Михайлович? Вам какого, чёрного или зелёного? А может, кофе? Зиночка, – нажал он кнопку селектора, – сделай, лапушка, нам два чёрных чая, с лимончиком, и бутеров каких-нибудь. Ну, сообрази сама.
– Не хотелось бы вас стеснять, – пробормотал я. – На работе успел уже пообедать…
– Ну а после обеда чай – самое милое дело, – куратора было не прошибить. – Знаете, у восточных народов считается, что в доме врага нельзя ни есть, ни пить. Иначе становишься гостем и теряешь право на месть. Мы с вами, конечно, люди западные и предрассудками не страдаем, но давайте уж без всяких возможных коннотаций…
Я помолчал. Да и, прямо скажем, хотелось бутербродов. Соврал я Лукичу, что успел на стройке пообедать. Так вот, глядишь, и продам первородство за чечевичную похлёбку.
Пышнотелая Зиночка спустя пару минут вкатила в кабинет столик, где имели место два стакана чая – в старинных подстаканниках, не исключено, что и серебряных! – и тарелка с бутербродами.
– Угощайтесь, Александр Михайлович, – радушно предложил куратор. – И не стесняйтесь. Помните, как у Стругацких где-то… «чтобы нанести противнику максимальный ущерб».
Я помнил. Только там Рец-Тусов говорил «продаваясь» – и далее близко к тексту.
– Ну, так к чему была вся эта преамбула? – спросил я, когда Зиночка удалилась.
– И куда вам не терпится? – Иван Лукич отхлебнул чая. – Вроде так интеллигентно сидели, беседовали. Но что ж, давайте перейдём к сути. Наш сегодняшний разговор, как вы уже, я смотрю, поняли – не просто профилактическая беседа и не просто знакомство куратора с подопечным. Просьба одна будет к вам, Александр Михайлович. Связанная с одним вашим родственником… Да-да, именно с отцом Димитрием, вашим дедушкой.
Мне вдруг стало холодно, хотя фрамуга в кабинете была закрыта.
– Как вы знаете, Александр Михайлович, – продолжал куратор, – в Русской Православной Церкви сейчас проводятся выборы нового Патриарха, поскольку его святейшество Афанасий уже полгода в коме и врачи утверждают, что из неё он не выйдет. Мозг умер, а аппаратура поддерживает жизнь тела. А согласно постановлению архиерейского Собора от 2039 года, выборы Патриарха должны осуществляться не Поместным собором, то есть не узким кругом лиц, а напрямую, то есть всеми зарегистрированными членами Церкви, подписанными на десятину. Голосование именное, началось оно 1 октября и продлится до 31 декабря. Рождественскую службу уже будет вести новый святейший Патриарх. И в наших интересах… да что в наших, в интересах всех православных христиан, чтобы этим Патриархом был человек не узколобый, а широко мыслящий, открытый веяниям времени…
– То есть Пафнутий? – прервал его я. Возможно, зря я так свободно с ним общаюсь, глядишь, опустит мне индекс ниже плинтуса, но, с другой стороны, а чем я рискую-то? И так уже отобрали всё, что можно. Да и не казался он опасным. Видно же – человек всё-таки интеллигентный, несмотря на свою должность.
– То есть Пафнутий, – весело согласился Иван Лукич. – Это наиболее адекватный кандидат. У него, конечно, есть свои недостатки… лично я не одобряю некоторые его увлечения… но это дело частное, а как церковный политик он единственный способен интегрировать православных христиан в современное общество. Я больше скажу – этот ваш митрополит Даниил лично мне, как человек, симпатичен, он добрый, открытый… но Патриархом стал бы никаким. Не понимает суть времени, живёт устаревшими стереотипами…
– Я понял вашу позицию, – вздохнул я. – Не согласен с ней, но давно уже не лезу в споры. Без толку, только нервам больно. Но одно не пойму – я-то здесь зачем? Давайте уж начистоту. Мой голос – один из миллионов, что он решает?
– Начистоту хотите? Да, ваш голос, голос строителя Александра Белкина, ничего не решает. А вот голос архимандрита Димитрия Белкина весит куда больше. Если, предположим, ваш дедушка выступит с видео-обращением к церковному народу и призовёт голосовать за митрополита Пафнутия… тогда весы могут склониться куда следует. Вы ж знаете, какая у него репутация. «Последний старец» – кажется, его так называют в вашем сегменте сети?
Ну вот, всё и прояснилось. Во рту стало кисло. Это был вкус пряника. Каков же будет вкус кнута?
– С чего вы взяли, что отец Димитрий согласится поддержать Пафнутия? – изобразил я наивность. – Он же на дух его не выносит, называет лисицей. И, кстати, правильно называет. Взгляды широкие – это ладно, но гомиков венчать… опять же, диакониссы эти его…
Иван Лукич вышел из-за стола.
– Вот сейчас у нас пошёл серьёзный разговор, Александр Михайлович. Мне, прямо скажу, не очень приятен этот поворот, но долг обязывает. Вы спрашиваете, почему отец Дмитрий поддержит Пафнутия? Отвечаю: да потому, что он не только отец, но и дед. А также прадед.
Куратор помолчал, поглядел на меня сочувственно.
– Сегодня должно было состояться заседание Окружного ювенального суда по делу вашей семьи. Оно отложено… но на самом деле это чистая формальность, а решение уже принято. Учитывая тяжёлый психологический климат в семье Белкиных и систематическую религиозную индоктринацию подростка, а также результаты тестирования мальчика на толерантность, решено лишить вас с Еленой Николаевной родительских прав, а ребёнка передать на усыновление в приёмную семью. Причём уже известно, в какую семью. Вот, полюбуйтесь!
Иван Лукич развернул ко мне новомодную голографическую рамку, и на экране возникло двое пузатых мужичков в стрингах.
– Да, именно так, – сухо продолжил куратор. – Моногендерная семья. Всё в рамках не только закона, но и прогрессивных общественных представлений. Очень уважаемые люди, прекрасно обеспеченные. И, кстати, имеющие хороший опыт усыновления детей, давно этим занимаются. У них сейчас шестеро мальчиков, усыновлены, от десяти до пятнадцати лет, а многих уже выпустили… дали, так сказать, путёвку в жизнь. Ваш Кирилл седьмым будет. Не беспокойтесь, материально всё зашибись, отдельная комната, пятиразовое питание, бассейн, поездки на море…
Я до хруста сжал кулаки. Перед глазами заплясали цветные точки, и мне пришлось собрать остатки воли, чтобы не наделать глупостей.
– Проще говоря, вы собираетесь продать моего сына в педофильский притон, – голос мой превратился в змеиное шипение.
– При заскорузлом косном взгляде на мир можно и так выразиться, – кивнул Лукич. – А можно сказать, что в замечательную любящую дружную однополую семью. В общем, решение почти окончательное. Но именно что «почти». Пересмотреть никогда не поздно. Вполне может оказаться, что и в семье Белкиных Кириллу будет вполне неплохо. С родителями поработают психологи, проведут тренинги – и всё будет в ажуре. Понятно, при каком условии? Вы поезжайте к дедушке, Александр Михайлович, объясните ситуацию. Ну не зверь же он, правнук ему не чужой человек. Все эти Даниилы, Пафнутии – это так, накипь, а правда жизни – тут, во внуках и правнуках. А на работе не сомневайтесь, вам дадут недельку, в счёт неотгуленного отпуска.
Мне снова захотелось его убить. Но я просто молча вышел за дверь. И даже не стал ею хлопать.
8.
Дождило уже вторую неделю – что летом для здешних краёв редкость. Я кутался в насквозь промокший шерстяной плащ, хотя толку сейчас от него никакого не было. Хорошо хоть ноги сухи – спасибо расторопному Илюшке, сунувшему в багажный ящик брички яловые сапоги. Вот и пригодились.
Но сырость была повсюду – и в низком, грязно-сером небе, и в жадной грязи, которая когда-то была вполне безобидной пылью, и в нахохлившихся деревьях, готовых при малейшем дуновении ветра обрушить на нас новые потоки. Ну и, конечно, в толпе крестьян – возбуждённых, испуганных, злорадствующих.
Я сидел в тяжёлом кресле с очень высокой спинкой. Оказали уважение, притащили из дома здешнего старосты. За мой спиной стояли двое защитных братьев, Константин и Николай, оба в белых накидках, оба с обнажёнными мечами. Не безопасности ради, а для надлежащей пышности. Чтобы понимали пропахшие дымом и навозом мужики: к ним власть приехала. Власть, которую они сами же и вызвали. Власть, которая должна свершить милосердную расправу.
– Кто писал бумагу в Защиту? – сухо поинтересовался я у стоявшего ближе всех приземистого, по уши заросшего бородой дядьки, старосты.
– Так известно кто, писарь наш сельский, Леонтий, значит, – угодливо забормотал дядька. – Вот он там стоит, слева. Эй, Леонтий, голова два уха, а ну подь сюды!
– Это я понимаю, что писарь, – мне удалось убрать из голоса раздражение, оставив одну лишь холодную учтивость. – С чьих слов он писал? Или уважаемый Леонтий обвиняет лично?
Подошедший поближе Леонтий оказался невысоким щуплым мужичком. Внешность вполне писарская – если силёнок не хватает за плугом идти или брёвна таскать, значит, быть тебе при чернилах и бумаге. На вид Леонтию перевалило за сорок, а глаза были голубыми и совсем детскими. У кого-то я не так давно видел такие глаза – но никак не мог вспомнить, у кого.
– Так что, Леонтий? – осведомился я. – Сам сочинил, или с чьих-то слов писал?
Писарь помялся, потискал ладонями шапку. Затем степенно произнёс:
– Дык для того я чернильному ремеслу и обучен, чтобы прошения людские писать, да отсылать куда следует, сообразно о чём речь. Антонина всё обсказала, Матвейки Сухого супружница. А установленную десятину я в храм снёс в тот же день, нечто я порядка не знаю?
– Значит, Антонина, – протянул я. – И где же она, Антонина?
– Дык тут я, – протолкалась через толпу рыхлая, с бледными волосёнками баба.
– Очень хорошо, – кивнул я. – Так вот, писала Антонина – вернее, Леонтий с её слов – следующее…
Брат Константин тихо сунул мне свёрнутую в трубочку бумагу. Я развернул лист и медленно, внятно зачитал:
– Должно знать слугам Божиим из Святой Защиты, что в селе нашем, Перемышьем прозываемом, близ славного города Белоречий, со Сретения сего года ведьма завелась, и очень большие досады поселянам творит. Пришла она к нам неведомо откуда, про себя обсказать ничего не могла, обмёрзла потому что в дороге. Лет ей, почитай, пятнадцать будет, росту низкого, сложения слабого, вида отвратного. Один глаз бельмом заплыл, другой чёрный, недобрый. Поселили её милости ради у Викентия, кров дали и хлеб. А неделю спустя у Викентия корова сдохла, а уж какая справная была корова! Дальше-больше, повздорила она с Манькой, Акима дочкой, что на околице. И дня не прошло – захворала Манька, животом маялась аж до Благовещения. Тогда-то и смекнули люди, что дурной глаз у этой Дуньки пришлой. От Викентия общество решило её к Матвею с Антониной поселить и на прокорм из общинного припаса долю выделять. А после Вознесения град у нас невиданный случился, и посевы побило. А всё потому, что озлобилась Дунька, как Антонина ей за леность поучение сотворила. И мало того града, у Акима почти все куры сдохли. На Петра же и Павла так и вовсе захворал Аким, и до сих пор хворает, нутро у него болит. И все понятно, чему то причиной. А в церковь Божию Дуньку поначалу приводили, так там её колотун тряс, ну и отступились, батюшка Сергий велел не принуждать, болезнь в ней, сказал. Только все поселяне про то понимают, что не болезнь это вовсе, а бесы её не пускают. Батюшка же Сергий молод ещё, недавно на селе служит, к жизни не пообвыкся ещё и потому в делах таких не сведает. А меж тем многие замечали, как ночью Дунька совой оборачивается и в трубу печную вылетает, а перед тем, как петухам кричать – вертается обратно в трубу. И вот дабы не случилось у нас ещё и худших бедствий, обращаемся мы, поселяне Перемышья, в Святую Защиту, дабы истребила она означенную Дуньку, во славу Господа нашего Иисуса Христа.
– Ну что, Антонина, – выдержав паузу, начал я, – подтверждаешь всё написанное?
– Истинно, истинно подтверждаю! – мелко закрестилась она. – Как есть ведьма, костёр по ней, проклятущей, плачет!
– Кто ещё готов подтвердить вышеозвученные обвинения? – в голосе моём добавилось льда.
Крестьяне тихо загудели. Вроде и согласны они были с Антониной, но вот так выйти пред мои строгие очи, назвать себя и дать показания – как-то не горели жаждой.
– Что ж, – убедившись, что охотников нет, заговорил я. – В селе вашем, Перемышье, мы с братьями уже два дня провели. Вышеозначенную Дуньку, – тут я уже подпустил в голос иронии, – мы тщательно допросили, имели также беседы с отцом Сергием, с Викентием, Акимом, Манькой и другими здешними жителями. Следствием Святой Защиты установлено, что рабе Божией Евдокии шестнадцать лет, что с раннего детства страдает она тяжёлыми болезнями, жила с тёткой после смерти родителей. Зимой же этой, когда в родном селе её, Закопанье, случился голод, тётка Евдокию из дома выгнала, дабы своих родных детишек прокормить. Девочка скиталась по дорогам, пробавлялась редкой милостыней, пока не оказалась в вашем селе. Здесь её приняли неласково. В частности, установлено, что Манькин отец, Аким, совершил над нею насилие, а сама Манька, узнав про то, Евдокию избила колом, из плетня вынутым – чтоб та не болтала о сем деле кому ни попадя. Корова же у Викентия сдохла, ибо подпасок ваш Андрюшка заснул, а скот разбрёлся, и корова наелась ядовитой травы огнегривки. В доме же Матвея с Антониной Евдокию, по сути, рабыней сделали, нагружали бессовестно по хозяйству и чуть что, лупили вожжами. Касаемо сдохших кур, то хорьков никто не отменял, следить надо лучше. Град же выпал по грехам вашим, особенно грехи Акима и Матвея с Антониной гнев Господень утяжелили.
Я перевёл дыхание, оглядел притихшую толпу.
– Что же касается главного, ведьма ли Евдокия, то мы, служители Святой Защиты, в присутствии вашего духовного отца Сергия – к которому, замечу, вы проявляете недостаточное уважение – провели допрос девочки, используя особенные средства, данные нам святой Церковью. Допрос установил, что никакой ведьмой девочка не является, а просто страдает болезнями телесными и душевными, умом развита слабо, в святую веру окрещена, но даже самым первейшим истинам не обучена, в чём несомненная вина как покойных её родителей, так и тётки. Причина же доноса Антонины – то, что общество ваше слишком малую долю на содержание девочки выделило, а после побоев работница из девочки слабая стала. Вот и решила Антонина избавиться от обузы.
– Поклёп! – истошно выкрикнула баба. – Оговорила меня мерзавка!
– Что ты называешь поклёпом, раба Божия Антонина? – сухо спросил я. – Показания, полученные от человека, святой молитвой погружённого в тонкий сон? В тонком сне никто не способен лгать, там открывается душа, и способом сим только Святая Защита владеет по данной ей благодати, да ещё особо духоносные старцы. Называя сие поклёпом, ты хулу возводишь на святую веру христианскую, а также на учреждённую Церковью Защиту. И за то полагается церковное наказание в виде отлучения на три года, и мирское, в виде заключения на те же три года в земляную темницу…
Баба аж позеленела.
– Ой, простите дуру грешную! – хлопнулась она наземь. – Ляпнула я про поклёп по глупости, чёрт за язык дёрнул.
– На первый раз простим, – усмехнулся я. – Итак, оглашаю решение. Я, брат Александр, старший подьячий Святой Защиты, рассмотрел дело рабы Божией Авдотьи и не нашёл за ней никакой вины, коя Защитой карается. Посему постановляю: рабу Божию Авдотью из села вашего изъять и поместить в богадельню при Свято-Екатерининской женской обители. Раба Божьего Акима, сотворившего надругательство над беззащитным ребёнком – а Авдотья разумом как дитя малое – приговорить к удалению того, чем он согрешил. Рабе Божией Антонине, за злой её нрав и ложный донос, выдать четыре дюжины розог. А всем поселянам Перемышья накрепко запомнить, что служители Святой Защиты важнейшими делами заняты, Империю и Церковь от демонского зла защищают, а потому отвлекать их по пустякам, паче того по ложным доносам никому не позволено. Ещё раз такое в вашем селе случится – и все под императорский суд пойдёте, как вредители.
Я поднялся с кресла, расправил затёкшую спину. Ощутимо ныла правая рука – раны, полученные от когтей оборотня, заживают нескоро.
– Брат Николай, – деловито сказал я, поправляя плащ. – Распорядись насчёт розог… и всего остального.
9.
Автобус в Дроновку не заезжал – останавливался в трёх километрах, и оттуда, от шоссе, предстояло идти через еловый лес. Дорога, впрочем, довольно широкая, по ней и трактора ездят, не говоря уже о легковушках. Зимой её даже чистят – а как иначе, единственная связующая нить с цивилизацией.
Зима, кстати, здесь уже была – не лёгкий городской снежок толщиной в сантиметр, а нормальные такие сугробы, чуть ли не по пояс. Заходящее солнце окрасило снег в розово-лиловые тона, гряду облаков на юго-западе – в густо-малиновые, и будь я художником – бросил бы всё и расставил этюдник. А будь фотографом – живо расчехлил бы камеру.
Но я ни то и не другое, этюдника не взял, а камера у меня была только в коммуникаторе и не предназначалась для художественной съёмки. Лёгкая сумка на плече – вот и весь мой багаж. Не в отпуск же я сюда приехал.
А вот оделся явно легковато. Куртка, прекрасно показавшая себя в городе, с местным ветром справлялась на тройку с минусом. Пожалуй, нужно было послушаться Лену и поехать в пуховике. «Скафандре», как она его называла. Теперь мне предстояли три километра мороза. Хотя в лесу ветер послабее будет.
Но мёрзнуть на лесной дороге не пришлось. Едва автобус, чихнув бензиновыми парами, укатил дальше, в Заполянье, из лесу выехал экипаж. А как иначе назвать это транспортное средство мощностью в одну каурую лошадиную силу? По сути, это была поставленная на санные полозья телега с натянутым сверху тентом. Экипажем правил закутанный во что-то типа флотского бушлата худющий дядька лет пятидесяти. Рябой, остроносый, явно пожёванный жизнью. Остановив лошадь в пяти шагах, он поинтересовался:
– Это ты, значит, Сашка будешь?
– Значит, я. – Трудно было отрицать очевидное.
– Взбирайся тогда, карета, как говорится, подана. Батюшка распорядился. Сказал мне утречком ещё: давай-ка, Фёдор, езжай к шестичасовому автобусу, внука встретишь…
Я закинул сумку в экипаж и с некоторым трудом взгромоздился туда сам. Дядя Фёдор, более смахивающий на почтальона Печкина, легонько дёрнул поводья, и умная лошадь сама развернулась к лесу.
Значит, Дед распорядился… к шестичасовому. Всё это было тем более интересно, что должен-то я был ехать двухчасовым, но двухчасовой почему-то отменили, и мне пришлось четыре часа куковать на автостанции. А Деду я позвонить не мог, комм упал в ноль – здешний радиофон столь слабый, что от эфира не подзарядиться, а ближайшая розетка будет только в Дроновке.
– Ты как, по делу, или просто погостить? – не оборачиваясь, поинтересовался Фёдор.
– Да просто повидать деда захотел…
Ну не распинаться же перед первым встречным о своих проблемах…
– Это правильно, – одобрил Фёдор. – Батюшка-то старенький уже, восемьдесят седьмой годок. Так-то он не болеет, крепкая натура… А всё-таки возраст такой, что сам понимаешь… поспешать надо.
Экипаж, впрочем, не поспешал. Мы приближались к Дроновке со скоростью то ли быстрого пешехода, то ли медленного велосипедиста. Да и лишние минуты роли не играли. Когда ещё доведётся вот так проехаться в санях, ясным морозным вечерком, и греть в душе надежду: всё теперь уладится, ведь я у Деда, а Дед… в общем, это Дед.
– Картошку-то наворачивай! Своя картошка, нижегородская, не эти ваши магазинные бразильские и малазийские. Без генной инженерии, без консервантов, без духа времени… – Дед постучал краем ложки о большую кастрюлю. – По случаю пятницы, само собой, скоромного не предлагаю. Как в анекдоте: курочку на потом. А вот рыжики зацени: сам собирал, а солить помогла Елизавета Максимовна.
– Слушай, дед, – прожевав, как бы невзначай спросил я, – а откуда ты узнал, что я вечерним автобусом приеду?
– Ой, вот только не надо намекать! – Дед слегка нахмурился. – И так отбою нет от всяких тётечек и дядечек, которые хотят говорящую собачку посмотреть… то бишь прозорливого старца. И чудо им непременно подавай, в пластиковой упаковке… Так и ты в ту же степь? Всё просто до ужаса. Раз ты на двухчасовом не приехал и не звонишь, значит, одно из двух. Или с тобой беда настоящая стряслась, или ты на дневной автобус опоздал и вечерним приедешь. В первом случае я кроме молитвы, ничем помочь не смогу, а во втором – попрошу дядю Фёдора о небольшой услуге. Если он зря прокатится – так это беда небольшая на фоне той, большой беды, гипотетической, – он вкусно выделил голосом это слово. Так что никакой мистики, а просто здравый смысл.
Всё верно, мысленно признал я. Всё складно. Кабы не одна маленькая деталь: Фёдор-то говорил, что Дед его с утречка попросил. С утречка, значит…
– Что-то ты, Саня, плохо кушаешь, – продолжал гостеприимничать Дед. – Прямо как в три года. И снова тебя уговаривать, ложечку за дедушку, ложечку за бабушку, ложечку за кошку, ложечку за мышку?
И ведь что характерно – ни за маму, ни за папу. Тяжело ему тогда пришлось, со мной мелким. Как сказать о маме, которая умерла после родов? Как сказать о папе, который даже на руки младенца не взял, которого кидало из депрессии в запой, из запоя в ярость, из ярости – в холодную, змеиную ненависть к отцу… к Деду то есть? Который виноват во всём…
Нет, папа Миша проявил благородство, от меня не отказывался, аккуратно посылал деньги и даже подарки ко дню рождения… но и только. Я и увидел-то его впервые в десять лет… и ничего не почувствовал. Ну да, всё я тогда уже знал, понимал, что этот высокий черноволосый мужчина – мой родной папа и его полагается любить, согласно заповеди. «А можно я по заповеди вас с бабушкой буду вместо него?» – только и сказал я тогда Деду. Ещё нестарому – в свои шестьдесят он мог и за сорокалетнего сойти. В тёмных волосах почти не видно седины, крутые плечи, окладистая борода. «Не получится из тебя Деда Мороза, – убеждал я его классе, кажется, втором или третьем. – Над тобой, Дед, ребята смеяться будут. Дед Мороз – он же старенький, и борода у него седая. Может, тебе её мукой натереть?».
– Дед, я лопну. Ты, кажется, собираешься сейчас в меня впихнуть всё, что я не доел тогда, во младенчестве… Я сейчас осоловею и задрыхну, а ведь нам поговорить надо… серьёзно…
– Поговорим, Саня, обязательно поговорим, – кивнул Дед. – Но сначала ты в баньку сходи, её истопили уже. Я так понимаю, серьёзные разговоры следует вести на свежую голову, а что может её освежить лучше русской бани? Попаришься, помоешься, чаю попьём – и поговорим.
Я не стал спорить. В самом деле, спешить некуда. Я доел, встал из-за стола, Дед прочитал благодарственную молитву. Прямо как в детстве – когда всё было понятно, всё было интересно, и жизнь впереди казалась огромным лугом, где кузнечики и стрекозы, где васильки и розовые брызги иван-чая, сигнализирующие, что рядом – заросли спелой малины. Не без крапивы, конечно, но куда деваться? «Мы пока что не в Царствии Божием, – внушал мне Дед. – Вот там крапивы не будет!». «А малина будет?» – уточнял главное пятилетний я. «Обязательно! – отвечал Дед. – Куда ж там без малины-то?»
До бани, кстати, ещё добраться надо было. Здесь не городская теснота – у Деда хозяйство внушительное. Здоровенный двухэтажный дом… второй этаж он, кстати, надстроил для меня, когда ещё питал надежду, что я останусь тут жить, приведу сюда жену… Гостевой флигель – тоже весьма внушительное строение, там человек двадцать спокойно могут разместиться… пришлось строить сравнительно недавно, лет десять назад, когда к Деду, наивно решившему остаток дней своих пожить на покое, повадились ездить богомольцы. За пастырским советом, за утешением, за молитвой… за чудом… а иногда и впрямь – собачку говорящую посмотреть. «Саня, имей в виду, – ещё подростку, объяснял он мне, – существует такая болезнь, вожделение к мистическому. Для духовной жизни это опасно, так что мотай на ус. Господь творит чудеса, но Господь не факир, Он ничего не делает на потребу нашему любопытству».
Поток посетителей с годами только рос, и я не знаю, что бы делал Дед, будь он один. Бабушки-то уже пятнадцать лет как не было… после чего Дед и принял постриг… Но, к счастью, тут хватает помощников.
Прежде всего, отец Амвросий, бывший Дедов келейник. Когда Дед попросился из монастыря за штат и на покой, Амвросий настоял, чтобы остаться при нём. Амвросию сейчас перевалило за полтинник, но если, к примеру, выставить его на ринге против медведя – я бы выразил медведю глубокие и искренние соболезнования. Отец Амвросий – простой монах, к священству никогда не стремился. «По недостоинству», отвечал он кратко, если начинали допытываться.
Далее – Елизавета Максимовна, которую можно было бы назвать на старинный манер «экономкой», хотя формально она была никто. Бомжихой она была, и Дед в сорок пятом подобрал её на вокзале в Заволжье, когда ездил туда по каким-то бюрократическим делам. Дед – он может. Умеет как-то враз увидеть душу в разрезе. А судьба у тётки вовсе не эксклюзивная. Жила в Нижнем Тагиле, работала поварихой в столовке при каком-то заводе. Когда вспыхнула Уральская Резня – за день лишилась и мужа-инвалида, и двух дочек-старшеклассниц. Впала в депрессию, себя не помнила. С потоком беженцев сумела как-то пробраться сквозь кордоны к нам, в Московскую Федерацию. Документы посеяла, денег изначально не было. Ну и понятно, на какое дно свалилась.
Ну и вообще разный народ прибивается. Взять того же дядю Фёдора – этот года три как в Дроновке, а раньше во Владимире жил, но дочь его уговорила квартиру продать и к ней переехать… а дальше завертелось всякое-разное, с общим алкогольным знаменателем, в итоге чего – развалюха в Дроновке, гниющие полы и текущая крыша, отсутствие работы и присутствие водки. Дед сказал, что буквально из петли мужика пришлось вытягивать.
– Да уж, Дед, – заметил я, вернувшись из бани, – за те семь лет, что не был здесь, тут целая усадьба выросла. Дворянское гнездо…
– Я бы сказал, мирянское, – уточнил Дед, ставя самовар. Древний, раритетный, который шишками топят. Сейчас такие разве что у олигархов есть.
– Такими темпами тут целый город скоро вырастет, – пошутил я. – Православль.
– Не хотелось бы, – серьёзно ответил Дед. – Попадём под закон о религиозных анклавах, от 52-го года – и раздавят нас как муху тапком. Я сейчас уже стараюсь никого не поселять. В критических случаях отправляю людей в другие места… не одна ж такая Дроновка на свете.
– Дед, – вздохнув, начал я. – Тут вот какие дела завертелись.
И я, прерываясь только на то, чтобы отхлебнуть чай, рассказал ему всё. Весь период между двумя чёрными днями – с 6 сентября по 14 ноября. Говорил – и как будто мешки перетаскивал. Причём из мешков попахивало тухлятиной.
Дед слушал молча, не уточняя детали. Если бы не внимательные кивки время от времени, я бы вообще решил, что он пребывает в каких-то иных сферах.
– Значит, этот твой Ваня Лукич требует от меня благословить Пафнутия. В обмен на возвращение Кирюши, – подвёл он итог. – И в каком же формате?
– Видеозапись, – пояснил я. – Твоё видео-обращение к церковным людям. Аргументацию, сказал, пусть подберёт сам, главное результат.
– А камера-то у тебя с собой? – ухмыльнулся дед.
– Камера в комме, ну, в коммуникаторе. Качество вполне приличное, для их целей более чем потянет.
Дед снова замолчал. Потом разлепил губы:
– А ты сам что думаешь? Тебя устраивает такая сделка?
– Слушай, ну не мучай ты меня… – я, как в детстве, разглядывал разводы дерева на половицах, пытаясь увидеть там картинку. Тогда получалось. – Ну всё я понимаю, Пафнутий – лизоблюд и обновленец, таких не берут в патриархи. Но ты вот представляешь Кирюшку в этой, так сказать, семье? Ты понимаешь, что с ним там сделают? Это ведь хуже, чем смерть…
– Да, – твёрдо сказал Дед, – существуют вещи похуже смерти. Это факт. Но позволь и мне задать вопрос ниже пояса. Ты представляешь, что случится с Русской Православной Церковью под водительством Пафнутия? Ты понимаешь, что это хуже, чем раскол? Когда Церковь раскалывается, то, по крайней мере, одни оказываются чуть более здорова, чем другие. Но тут будет иначе. Никакого раскола – во всяком случае, легального, они не допустят. Мы не в древние века живём, когда ереси были внятные, богословские, их можно было конкретно обличать. Сейчас иначе. Видимость останется, сердцевина – сгниёт. Останутся догматы, останутся обряды… а Дух уйдёт. В Церкви, где венчают содомитов и рукополагают тёток, Духу делать нечего. В Церкви, которая разрешает своим чадам брать от жизни всё, Духу делать нечего. В Церкви, которая проповедь Христа распятого и воскресшего подменяет розовым морализаторством – Духу делать нечего. Это уже не Тело Христово, понимаешь, Саня? Это одежда тела, но не само тело. А что это значит? Значит, что литургия, совершаемая в такой Церкви, неистинная, и хлеб и вино так и останутся хлебом и вином, Христа в них уже не будет. Крещение в такой Церкви будет просто погружением в подогретую воду. Водой, но не Духом. То есть миллионы людей, братьев наших по вере, потеряют возможность спасения.
– Но миллионы же в этом не будут виноваты, – вставил я. – Разве их Господь не пожалеет?
– Господь-то пожалеет, – горько усмехнулся Дед, – а толку? Тебе снова азы разъяснять? Чтобы человек мог спастись, чтобы мог в вечности со Христом пребывать, у него сердце должно быть к тому подготовлено. А как подготовить-то? Просто заповеди соблюдать, добрые дела творить? Это необходимо, но недостаточно. Таинства ещё нужны, Тело и Кровь Христовы нужно вкушать, чтобы этой прививкой нашу испоганенную природу вылечить. Это ж не мы, попы, выдумали, это сам Господь в Евангелие сказал. Я не знаю, что будет с теми, кто под видом Священных Таин получил пустышку. Может, в ад они и не попадут, но и лицо Христа увидеть не смогут. И виноват в этом кто будет? Правильно, мы с тобой. Не только мы, конечно, но и мы тоже.
– То есть ты предлагаешь пожертвовать Кирюшкой? Скажи уж прямо, Дед! Предлагаешь мне шкуру Авраама напялить, Исаака в жертву принести? – я начал закипать. Точнее, одна половина меня закипала в бешенстве, другая – смёрзлась в тёмном ужасе.
– Саня, остынь! – в голосе Деда добавилось властности. – Начнём с того, что ситуация не идентичная. Господь от Авраама Сам, лично потребовал, чтобы тот своею рукой Исаака заколол. В нашем случае – иначе. Пойми – мы не знаем, что реально случится с Кирюшей, если я откажусь наболтать это самое обращение. Может, его и впрямь отдадут в содомитский притон, может, нет. Может, его туда отдадут, но в тот же день Господь этих развратников к Себе призовёт. Может, Кирилл сбежит оттуда. Может, у него хватит сил устоять перед соблазном. Может, там пожар вспыхнет и все погибнут… Пойми же ты, всё в руке Господней, а ты про это забываешь. Ты рисуешь себе такие картинки, в которых Бога нет. Воображаешь, как оно будет, если исходить из чисто человеческих представлений. А всё потому, что веры у тебя мало.
Я взглянул на него в упор.
– В маловерии обвиняешь? Так ты, Дед, в открытую дверь ломишься. Я в том на каждой исповеди каюсь. Но только, знаешь, не надо путать веру и фатализм. Не зря же говорят: на Бога надейся, а сам не плошай… Чтобы Господь Кирюшку спас, мало тут вот нам сидеть и умные беседы вести. И молиться мало. Надо сделать всё, от нас зависящее. Всё, что в наших, человеческих силах. Тогда и Бог возместит недостающее. Ты ж сам меня так учил.
– Я не учил тебя, – жёстко сказал Дед, – добиваться своих целей любой ценой. Да, нужно сделать всё, что можно сделать. Адвоката, к примеру, нанять – это можно. Если денег на это не хватает, найду тебе деньги. Ко мне, как понимаешь, не только бомжи и пьяницы за советом ездят. Только ведь ты и сам понимаешь, что адвокат тут без толку?
– Понимаю, – признал я. – Ну а что ещё? Похитить Кирюшку из приюта, где его держат? А где тот приют? Думаешь, нам сообщили? Я не частный детектив, чтобы выследить. Да и ни один частный детектив за такое не возьмётся, это ж уголовная статья…
– Ну вот видишь, – поднял палец Дед, – ты сам сейчас признал, что больше ничего сделать не можешь. То есть не можешь ничего такого, что было бы и действенно, и не вразрез с нашей верой. Значит, здесь именно такой случай, когда надо смириться со своей немощью и ждать воли Божией. И молиться, конечно, потому что воля Божия… она учитывает наши молитвы. Не всегда напрямую исполняет, но всегда берёт в расчёт.
Он, конечно, был прав. Но тошнило меня от этой правоты. Я думал сейчас не о Божием Промысле, а только о Кирюшке. Когда пузатые уроды начнут его «приучать к толерантности» – сильно ли его утешит, что тем самым он спасает Церковь? Да он и не узнает этого. Для него всё будет просто: одни сволочи отняли его у родителей и отдали другим сволочам, а мама с папой даже и не почесались. Откуда ему знать, что мы бились о систему как мухи о стекло? Откуда ему знать, что от нас с Леной скрывают, где он сейчас находится?
– Саня, – снова заговорил Дед. – Я всё понимаю. Не читаю мысли, конечно, это вздор, но то, о чём ты думаешь – это же очевидно. Ты оттого сейчас себя накручиваешь, что смотришь на ситуацию только с одной стороны. Со стороны неверия.
И тут меня прорвало.
– Неверия? Это, значит, из-за неверия я не каюсь в ЦКЛ и не подписываюсь на толерантность? Это из-за неверия я остаюсь в Церкви? Ты ж знаешь – если публично объявить о выходе, то сразу и индекс поднимут, и запрет на профессию снимут, и всё такое. Это из-за неверия я отказываюсь поставить электронную подпись за Пафнутия? Может, скажешь, из-за неверия у меня отобрали сына?
Хорошо, что я уже допил чай. Не то плеснул бы сейчас Деду в лицо – как тогда Лене.
– А знаешь, – задумчиво протянул Дед, – пожалуй, ты и прав. В том смысле, что из-за неверия. Потому что твоя вера, ты уж извини, это не совсем вера. То есть не отношения с Богом, а, как сказали бы психологи, с референтной группой. Ты сохраняешь верность. Но кому? Той социальной общности, к которой себя причисляешь. То есть православным людям. Ты не хочешь упасть в их глазах. Ты готов к бытовым неприятностям – но ради чего? Ради психологического комфорта. Дескать, вот как меня давят, но я не ломаюсь, смотрите на меня, я герой. Гордыня это всё, внучок, а не настоящая вера и настоящее смирение. Ты православный, потому что люди рядом, есть перед кем выделываться. А вот попади ты на необитаемый остров – много ли от твоего православия останется?
Он был сейчас неправ, он был несправедлив. То есть в чём-то прав, но эту частичную правоту натягивал на всего меня. А я не такой, как он припечатал. Вернее, не только такой.
– Дед, – тоскливо сказал я, – давай сейчас не будем про меня. Что я помесь крокодила с тараканом, я и так знаю. Давай про то, что же мы конкретно будем делать.
– Саня, – Дед указал мне на старинные ходики, которые так любила баба Маша, – третий час ночи. Сейчас мы конкретно прочитаем вечернее правило и конкретно пойдём спать. Что же до второго вечного вопроса, «что делать» – сделаем вот что. Во-первых, будем молиться. Постарайся тоже, насколько сможешь. Во-вторых, завтра ты снимешь на камеру моё видео-обращение к церковному народу. В нём я выскажу всё, что думаю о Пафнутии и призову людей не голосовать за него, а кто уже проголосовал – отозвать свои подписи. Далее мы сделаем несколько копий файла и зальём на несколько разных серверов. Ты вернёшься к своему Ване Лукичу, дашь эту запись и скажешь: не только он умеет шантажировать. Я до сего времени публично не высказывался об этих выборах, но если Кирюшку вам с Леной не вернут – запись уйдёт на все наши сетевые ресурсы. Оно им надо, спроси.
– Думаешь, сработает? – покачал я головой.
– Ну, попытка не пытка, – в его густых усах прорезалась улыбка. – Да, вот что ещё – с Леной помирись, попроси прощения. Это у тебя сразу получится, уверяю. Ты попробуй её понять. Ей ведь хуже, чем тебе. И не грызи её за ту подпись. В конце концов, есть ещё время отозвать… Кстати, большой вопрос, что хуже перед лицом Господа – её подпись или твои R-подключения.
– Слушай, дед, – вздохнул я, – не способен я сейчас правило вычитывать. А давай, – тут во мне взыграло детство, – ты колыбельную споёшь? Ну ту, мою любимую, про совиный силуэт. Ну как тридцать лет назад. Ты ж гитару, наверное, не выкинул?
Дед взлохматил бороду… не такую, как тридцать лет назад – сейчас уже снежно-седую, сейчас у него не возникло бы никаких трудностей в изображении Деда Мороза перед компанией дошколят.
– Ну а что? Не вижу в этом предложении ничего криминального… – Дед вышел из комнаты и минуту спустя вернулся со своей рыжей гитарой… той самой. Ей ведь уже полвека будет… – Видели бы меня сейчас наши богомольцы! Уж точно сказали бы: старец в детство впал. Хотя, ты ж помнишь, Господь говорил: будьте как дети… Ладно, погнали.
Пальцы его, потемневшие от возраста и работы с землёй, осторожно пробежали по струнам. Дед с сомнением покачал головой, подкрутил колок пятой, а потом негромко запел:
– Забудешь первый праздник И позднюю утрату, Когда луны колёса Затренькают по тракту…Время на гитару не повлияло никак. А вот на дедов голос – ощутимо. Густоты в нём убавилось, возраст чувствовался. Хотя, – подумал я, – он ведь до сих пор служит, здесь, в Дроновке. Причём без диакона. Церковь Георгия Победоносца давно закрыли, епархия сочла, что накладно содержать этот памятник архитектуры… паствы несколько бабок, а реставрацию вынь да положь… так что владыка Меркурий, недолго думая, отдал её на баланс государства – вам надо, вы и реставрируйте. До сих пор стоит, заколоченная досками. Зато пять лет назад местные мужики по благословению Деда поставили на краю деревни просторный сруб, водрузили на крышу небольшой, кустарного изготовления деревянный купол, где-то и крестом разжились. Дед освятил, а епархия, посомневавшись полгода, выдала всё же антиминс.
…А что, – подумал я, пытаясь заснуть в жарко натопленной комнате, – встречный ультиматум – это Дед неплохо придумал. Может сработать.
10.
Не сработало. Иван Лукич посмотрел на меня, как на дошкольника, сожравшего неположенную конфету и завернувшего пластилин в её фантик.
– Вы это серьёзно, Саша, это не прикол такой? – устало спросил он, погасив голографическую рамку. – Вы что, всерьёз надеялись таким вот смешным макаром взять нас за яйца? Вы, бывший программер, и ведь не худший программер! Надо же… положить на несколько серверов… отослать на православные ресурсы… Как говорила моя бабушка, детский сад, штаны на лямках. Да все ваши с отцом Димитрием сетевые телодвижения мы отслеживаем… причём давно, задолго до всей этой истории. Вы на что надеетесь? На копию, которую скинули в кристалл-диск? А про то, что все такие диски могут удалённо админиться, забыли? Короче, нет уже этой записи, этого, так сказать, старческого маразма. Даже если и заныкали где-то ещё дубликат, в сеть она не попадёт никак! Понимаете?
Я сидел как ошпаренный, механически болтал чайной ложечкой в стакане. На бутерброды сегодня куратор не расщедрился.
А ведь следовало ожидать… Он прав: стройка съела мой мозг. Видео-обращение Деда – это, конечно, сравнимо с атомной бомбой… только вот и о средствах доставки следовало подумать. Можно было передать флешку кому-нибудь из наших, на приходе… да хотя бы и отцу Алексию. Небось, всю цепочку не отследили бы.
– По-моему, Саша, – продолжил куратор, – я повёл себя с вами предельно корректно. Чётко обрисовал перспективы, предложил очень неплохие условия. А вы меня решили кинуть. Знаете, я такого очень не люблю. Поэтому условия игры меняются в худшую для вас сторону. Саша, проснитесь! Вы как, готовы воспринимать?
– Интересно, что мне ещё остаётся? – проворчал я.
– Вот, уже лучше. Итак, сегодня же решение Ювенального суда будет приведено в исполнение, Кирилла отправят в ту самую приёмную семью, о которой мы уже говорили. Напоминаю, что жизни и здоровью мальчика там ничего не угрожает, а всё остальное – дискуссионно. Сколько он там пробудет – зависит от вас. Смотрите, какой расклад получается. Сегодня восемнадцатое ноября. Голосование кончается 31 декабря. Отзывать подписи и переголосовывать можно до 21 декабря. Ну, делаем небольшой запасец, обращение же надо ещё осмыслить. Короче, 15 декабря у меня должна быть запись нового обращения отца Димитрия. Уже правильного обращения. После этого мы изымаем мальчика из той семейки и возвращаем в центр временного пребывания. Куда он отправится далее – в другую ли семью, в интернат или обратно к вам, решим в рабочем порядке, в зависимости от результатов выборов. Вы меня понимаете? И очень советую не глупить. Ещё одна выходка типа этой провокационной записи – и вы с женой никогда не увидите сына. Понимаете, никогда. Не только до совершеннолетия, а вообще.
– Вы что же… – слова царапались острыми льдинками у меня во рту, – вот так прямо, открытым текстом, про то, что убьёте? Убьёте ребёнка?
– Я? – удивился Иван Лукич. – Я ничего такого не говорил. Мы, – выделил он голосом местоимение, – и пальцем к нему не прикоснёмся. Но вы же знаете, что у этих пидоров творится – наркотики, спид, суицид… Что ж делать, если люди совершенно добровольно выбирают такой образ жизни? Разве можем мы лишать их выбора? У нас, между прочим, демократическая толерантность, а не столь милая вашему сердцу теократия, где всех в колонну по четыре строят… Вы же знаете – по закону, с двенадцати лет подросток вправе выбирать сексуальных партнёров, с четырнадцати – употреблять лёгкие наркотики в умеренных дозах. Так что всё будет по закону, всё будет чики-поки, не волнуйтесь…
Он правильно срисовал выражение моего лица, потому что чуть отодвинулся.
– Вот только, умоляю, без рук! Между прочим, я бронзовый призёр города по тайскому боксу. Зачем доводить до крайностей?
Пришлось ограничиться словами.
– Ну что, выговорились? – усмехнулся он. – Легче стало? То-то. Не забудьте потом, как на исповедь пойдёте, ещё и в грехе сквернословия покаяться. А то ведь совесть замучит.
А вот с Леной всё получилось просто. Дед как в воду глядел.
– Ну что? – услышал я, едва открыв своим ключом дверь. Неужели так и стояла на пороге, прислушиваясь к звукам лифта и мусоропровода? В затрапезном зелёном халатике, с тонкими нервными пальцами, с невыспавшимися глазами.
Я обнял её за плечи.
– Ты прости меня, Ленка. За всё прости. Дурак я был, что орал на тебя и злился. Я ж мог на самом деле сдержаться, не хотел просто. Озверел.
Она долго смотрела на меня, потом прижалась и, по старой нашей традиции, дунула в лицо.
– И ты прости, Саша. Я ж, бывает, в такую рыбу-пилу превращаюсь, а ты совсем беззащитный.
– Дубина потому что, – поддержал я. – Полено неотёсанное, буратино недоделанное.
– Угу, – прикусила она мне ухо. И тут же отстранилась: – Ну, а по сути что? Есть новости?
– По сути всё хреново, – не стал я врать. – Наша с Дедом придумка лопнула. Они же, оказывается, отслеживают всю нашу сетевую активность. В общем, постирали записи повсюду, куда мы их положили.
– И что теперь?
Мы так и стояли на пороге. Она – в халатике, я – в куртке, на которой сейчас стремительно оттаивал налипший снег.
– Теперь хотят, чтобы я снова к Деду ехал, вытряс из него поддержку Пафнутия. Срок поставили до 15-го декабря. Меньше месяца осталось. А Кирюшка… – тут я решил, что ей не обязательно знать все детали, – Кирюшка пока в приюте. Неизвестно, отдадут ли его нам. Но, по крайней мере, этим тварям пока не отдали.
Мне очень хотелось верить, что Ленка не уловит моей лжи.
– Ой, ну что ж мы тут-то стоим! – вдруг подхватилась она. – Пошли, пошли! Ты ж голодный! И уставший! И промокший! Ну-ка, живо раздевайся и в ванную! А я пока разогревать поставлю!
К вечеру столбик термометра упал до минус восьми, облака растащило ветром, и сквозь лёгкую занавеску в комнату вошла луна. Серебристые блики дрожали на паркете, воздух пронизали бледно-жёлтые лучи. Наверное, приглядевшись, можно было увидеть, как в них пляшут пылинки.
– Саш, не засыпай, – шепнула мне в ухо Лена. – Я тебе не всё ещё сказала. Замоталась как-то, ну и…
– Что? – я откинул край одеяла, приподнялся на локте. – Что-то ещё случилось?
– Понимаешь, я вчера решила всё-таки к батюшке сходить, к отцу Алексию. Посоветоваться насчёт Кирюшки.
– Так советовались уже, – зевнул я. – Что нового он может сказать?
– Представь себе, может! Я ему объяснила всё насчёт этого твоего нового куратора, и что ты поехал к отцу Димитрию. Ну и он сказал, что раз так все оборачивается тяжело, то пусть он, ну то есть ты, к нему зайдёшь, у него какой-то разговор есть, насчёт того, что делать. Я пыталась, конечно, порасспросить, но он говорит – это дела мужские, это я только с Сашей могу обсуждать. Ты когда к нему пойдёшь-то?
Я задумался. Работу никто не отменял, увольняют меня с первого, и если сейчас уйти в загулы – разом лишишься и премии, и отпускных. Легко могут вспомнить про поправку к Трудовому кодексу от 2027-го.
– Я ему позвоню, договоримся. Ленка, давай уж спать, а? Я сейчас только на это и способный. Ни на разговоры, ни на остальное…
С отцом Алексием мы встретились в субботу, днём. Время удобное – между трапезой и всенощной.
– Знаете что, Саша, – предложил отец Алексий, – а давайте не будем здесь в духоте сидеть, а прогуляемся немного по окрестностям, в дороге и поговорим. Чтобы нас ничего не отвлекало. – Он вытащил свой комм и демонстративно отключил питание.
Намёк был более чем прозрачный, и я даже перещеголял батюшку – вынул батарею. Вот теперь нас точно никто не будет слышать. Разве что в одежду мою как-то умудрились насовать жучков… но это уже совсем паранойя.
Спустя десять минут отец Алексий вышел ко мне, одетый уже в светское.
– Не стоит лишний раз привлекать внимание, – пояснил он. – К тому же и соображения безопасности. Вы в курсе, что отца Григория из Тихвинского храма на той неделе избили на улице? Какая-то компания молодёжная. Обступили, крикнули: это тебе за Самару, поп! И сразу ногой в челюсть. Потом разбежались. Полиция, конечно, никаких концов не нашла. Подозреваю, что и не искала. Да… Вот так сейчас бывает.
Пару минут мы шли молча, а на подходе к скверу я сказал:
– По словам Лены, вы хотели мне что-то предложить… в нашей ситуации.
Батюшка кивнул.
– Да, Саша. Разумеется, вы понимаете, что разговор строго конфиденциальный. В общем, так: ваша жена мне всё обрисовала… в общих чертах.
– Могу сказать и то, о чём ей знать не стоит, – мрачно добавил я. – Мой куратор сказал, что Кирюшку уже отдали этим… в любящую однополую семью.
– Господи помилуй! – вздохнул отец Алексий. – Тогда тем более понятно, что легальными методами ничего поделать невозможно. Никакие адвокаты, никакие журналисты… это ещё лет пятнадцать назад сработало бы, а после самарского дела бесполезно. Никому не хочется получить ярлык «пособник террористов». Значит, надо задействовать другие пути.
– Что вы имеете в виду?
– Скажите, Саша, – осторожно начал отец Алексий, – вы что-нибудь слышали про сибирское Убежище?
Я облизнул пересохшие губы. Вот оно, значит, как!
– Только смутные слухи. Честно говоря, до сего момента считал это околоцерковным фольклором.
– Да, фольклором это обросло, – согласился отец Алексий. – Конечно, никакое это не «таёжное православное царство». Но слухи не на пустом месте возникли. Действительно, есть где-то в сибирской тайге скрытое поселение, туда стекаются православные люди, которым уже невозможно оставаться здесь.
– Что же, китайцы их до сих пор не выследили? – усомнился я. – С их-то педантизмом и тягой всё упорядочить…
– Не так всё просто, – возразил батюшка. – Вы не забывайте, что республика Сибирь формально всё-таки суверенное государство. Де-факто – да, китайская провинция. Но это де-юре всё же накладывает определённые ограничения. Более того, там ведь и геополитика замешана. Как я понимаю, сложная игра между Китаем, Европейскими штатами, Уральским Союзом и Московской Федерацией. Технически, конечно, Китай может вычислить и уничтожить Убежище, но тогда он теряет некие козыри в этой большой игре. Москве тоже это невыгодно. Одно дело слать в Сибирь дипломатические ноты и требовать покончить с гнездом терроризма – а другое дело, если это требование выполнят. Тогда ведь придётся что-то отдать взамен. Европейцы вмешиваться вряд ли будут, у них посерьёзнее проблемы есть, с Мавританией… бывшей Испанией то есть. Уралу так просто невыгодны любые промосковские акции в Сибири, он видит в том угрозу для себя… В общем, пока с Убежищем мирятся. Официально никто не признаёт, что оно есть, но кому нужно, все знают.
– Где вода, а где имение, – вырвалась из меня одна из Дедовых присказок. – Ну ладно, убедили, что Убежище есть. И?
Батюшка ответил не сразу. Обвёл взглядом заснеженные аллеи сквера, стайку наглых голубей, добывающих что-то из-под снега, бабушек с детскими колясками поодаль.
– Есть не только само Убежище, – наконец сказал он. – Есть и, так сказать, интерфейс. Или, если угодно, средство доставки. То есть люди, которые помогают туда перебраться.
– Предлагаете нам с Леной сбежать в тайгу? – уточнил я. – А самое главное-то как? Как быть с Кирюшкой?
– Это само собой, – кивнул отец Алексий. – Люди, которые переправляют туда… видимо, они каким-то образом могут и мальчика изъять из этого… блудилища.
– И вы знаете таких людей? – скептически протянул я.
– Непосредственно – не знаю, конечно. Ни к чему мне это. Помните у Экклезиаста: где много знания, там много печали… Но я знаю человека, которому можно доверять и у которого есть выход на…
– На подполье, давайте уж говорить прямо, – хотелось мне расставить точки над i.
– Наверное, можно и так сказать, – согласился батюшка. – В общем, поговорите с Валерой, – в мою ладонь скользнула свёрнутая бумажка. – Я Валеру знаю ещё по Никольскому храму, он у отца Геннадия окормлялся, у моего духовника. Можно сказать, мой духовный брат. Я ему уже дал знать, что к нему могут обратиться, он будет ждать. Вот так, Саша. Сами понимаете, ничего не могу гарантировать, но попробовать стоит.
…Я шёл к метро, и свёрнутая бумажка во внутреннем кармане куртки давала тепла не меньше, чем модная одежда с электроподогревом. Вот и появилась надежда. Не зря же Дед говорил – что-то да случится, Господь как-то вмешается. А я, дурак, усомнился в силе Дедовой молитвы!
11.
Спускаясь, я зачем-то считал ступеньки. Рыжее пламя факела выхватывало из тьмы щербатый камень внизу, змеистые трещинки на белёных стенах… а доверху свет не доставал. На триста двенадцатой ступеньке изогнутая винтом лестница кончилась и начался длинный коридор – точно такой же. Гранитные плиты пола, пригнанные друг к другу так, что лезвие ножа не просунуть, белёные стены – хотя какой смысл их белить, если здесь почти всегда тьма?
Нужная мне дверь была в самом дальнем конце, у тупика. Просмоленные дубовые доски обтянуты стальными полосами – не пожалели металла, хотя из каждой такой полосы вполне мог получиться если не двуручный меч, то по крайней мере лёгкая (и куда более удобная в бою) агарянская сабля. Но мало того, что железо – ещё и серебряные бляшки набиты для верности, ну и над косяком – небольшая, почти неразличимая в свете факела икона Георгия Победоносца. Чтобы, значит, остановить нечисть, если даже сталь и серебро ей не помеха.
Я воткнул факел в кольцо, вынул связку ключей, не сразу нашёл нужный. К моему удивлению, замок не задурил, а при первом же повороте без всякого усилия щёлкнул. Тяжёлую дверь надо было толкать внутрь – ведь если её и собрались бы выбить, то уж явно не снаружи.
Внутри я обнаружил сухую тьму, плотную, густую тишину. А нечисти не было. Всего лишь Философ.
Я закрепил факел в таком же кольце, что и с той стороны. Здесь, в тесном пространстве, он казался куда более ярким – во всяком случае, свет достигал до самых дальних углов. Факела хватит часа на два, но мне этого времени более чем достаточно.
– Доброго дня, Философ!
Он пошевелился, встряхнул головой, отгоняя остатки сна, и сел на деревянном топчане, застеленном войлочной подстилкой.
– Наверху день? – осведомился он таким голосом, будто я был школьником, а он – строгим учителем. – Ну в таком случае и тебе доброго дня. Здесь, как понимаешь, времена суток незаметны. Как говорится, счастливые часов не наблюдают.
Сесть тут было некуда – либо на гранитный пол, либо на топчан. Вообще обстановка вполне соответствовала своей задаче: смирить гордыню и повести путём аскезы. Кроме топчана, тут обнаружились ещё широкая жестяная лохань понятного назначения, кувшин с водой и недоеденная миска с похлёбкой. Серебряная, между прочим, миска. Обычному узнику такую давать не следует – и не потому что жирно с него будет, а просто серебро металл мягкий, как нечего делать заточить края о камень пола или стен. А потом, когда откроется дверь – умело метнуть, закрутив на лету, снести стражнику голову… Но тут, во внутренней темнице Защиты, обычных узников не водилось. А колдуну, упырю или одержимому бесом серебряная миска не в радость. Он её и в руки-то взять побоится – обожжётся. Впрочем, Философу, по словам темничных стражей, серебро ничуть не мешало.
Его вообще погубило не серебро – золото.
Я присел на край топчана.
– Меня звать брат Александр, – тратить время на любезности было незачем. – Я старший подьячий Святой Защиты, центральная управа. Мне поручено вести ваше дело, уважаемый Философ. Я давно хотел с вами встретиться, но, – тут пришлось добавить в голос иронии, – обстоятельства как-то не располагали. Полгода уже я за вами гоняюсь, а вы каким-то образом ускользаете. Каким именно образом – это нам с вами ещё предстоит обсудить. И вот наконец Господь посодействовал, и вы у нас в гостях. Прежде, чем начнём разговор по существу, хочу поинтересоваться: нет ли у вас жалоб? Может, стражи ведут себя неподобающе? Или питание слишком скудное? Это можно исправить…
– Крысы, – коротко ответил он.
– Какие крысы? – поразился я. – В наших темницах никаких крыс нет и быть не может, за этим пристально следят. Стены и пол гранитные, ни дыр, ни трещин.
– Эх, брат Александр, – скривил он губы. – Ты пока этого понять не в силах. Тебе ведь кажется, что всё так оно и есть, как видят твои глаза, слышат твои уши и ощущают твои пальцы. Но ты не один в мире… На самом же деле всё куда сложнее.
– И вот об этом, – подхватил я, – нам и надлежит побеседовать. Сразу скажу, разговор наш сейчас предварительный, это не допрос, я пока не привожу вас к присяге и вы вправе не отвечать. Но понимаете, мне хочется понять, что вы за птица…
– Если уж сравнивать с птицами, то, видимо, сова, – предположил он. – Старая, мудрая и совершенно бесполезная, потому что криков её никто не понимает.
– Давайте попробую понять, – предложил я. – Чтобы было удобнее, кратко перескажу, что уже знаю. Итак, вы появились в Империи меньше года назад, первые известия о вас датируются прошлым ноябрём. Вы странствуете по градам и весям, у вас уже немало последователей, ваши речи собирают большое количество слушателей. Тем более, что официального запрета пока не наложено, ведь сперва разобраться надо… чем мы и занимаемся, кстати. Так вот, о ваших проповедях. Тут всё туманно как-то. Суть их мы знаем только в пересказах, причём как правило, пересказах необразованных людей, незнакомых с абстрактными понятиями. Но главное всё же уловить можно. Вы призывайте людей «проснуться» и вернуться в некое «подлинное место». Всё так?
Философ взглянул на меня искоса, и в прыгающем свете факела мне показалось, что глаза его – как две большие плошки.
– Да как тебе сказать, брат Александр… – он на минуту задумался. – Всё одновременно и так, и не так. Я действительно учу людей, что надлежит вернуться. Вернуться туда, куда поместил нас Господь Бог, на то поприще, которые мы должны проходить, чтобы подготовить душу к вечности. Это я и называю «подлинным местом». А не так – потому что ты пока не понимаешь моих слов, воспринимаешь их иначе, чем следует. Вот что такое, по-вашему, место? А?
Ну точно учитель в школе! Отвечу правильно, похвалит, ошибусь – потянется за розгой.
– Место – это положение в пространстве. Разве не так?
– Очень примитивно, брат Александр, – мотнул он головой. – Место может быть не только в пространстве и не только во времени. Поэтому, когда я зову людей вернуться в подлинное место, я не имею в виду, что они должны пойти пешком на три мили к северу, или верхом отправиться к отрогам Халайских гор, или ещё куда-нибудь. Им надлежит сделать нечто не ногами своими и не руками, а умом. Не рассудком одним лишь, а всем тем, что отличает человека от животного. Можно и так сказать: духовное усилие. Но ты ведь тут же начнёшь допытываться, какое именно? Потому что духовное усилие для тебя означает только молитву. Тебя так учили. И ты, разумеется, заподозришь, что молиться я предлагаю не Господу, а кому-то иному. Правда ведь? Раскусил я тебя?
Философ держался так, будто это он вёл допрос, а не я. Будто это у него ключи от кельи и он, а не я, может выйти отсюда в любой момент. «При взятии сопротивления не оказал, – вспомнил я отчёт листопадских защитных. – Вёл себя благопристойно, однако назвать подлинное своё имя отказался, объяснив сие тем, что знание таковое для нас пока бесполезно».
– Пока что я только слушаю вас, Философ, – тонко улыбнулся я. – Выводы следует делать не раньше, чем узнаешь достаточно. Вы говорите, говорите. Итак, «подлинным местом» вы называете не положение в пространстве. Хорошо. Но у меня вопрос: а почему вы не считаете подлинным местом эту вот темницу? Или то село Бобровье, где вас наши люди захватили спящего?
Захватили… Уж как мы гонялись за неуловимым еретиком, скольких людей расспрашивали, скольких защитных внедрили в местные сёла под видом захворавших странников и гусляров… а брат Арсений, глава листопадских защитных, нашёл самое простое решение.
Золото.
Три десятка полновесных имперских динаров за точные сведения о местонахождении Философа. Причём не через глашатаев, а умнее – пустив на ярмарке слух. Слухам у нас верят куда больше, нежели императорским эдиктам и церковным объявлениям. Слаба, слаба повреждённая грехом человеческая природа! И падка на деньги. Сребролюбие – корень множества грехов, говорил авва Прокопий. А златолюбие – уж тем более. И корень, и стебель, и плод.
Крестьянин Игнатий из Бобровья остро нуждался в деньгах. Не хватало на приданное старшей дочери, Ксении. Год выдался неудачным – весной околела лошадь, урожай получился так себе, на ярмарку осеннюю опоздал, поскольку телега завязла, ось сломалась, два дня пришлось проваландаться… так что приехал уже под закрытие. Зимой заболела младшая, Настёна, пришлось платить травнице… Нынешний урожай оказался ещё скуднее прошлого… а Ксюшка уже просватана, а приданного почти нет… перед людьми жутко неудобно. И вот именно к ним, в Бобровье, забрёл тот самый плешивый еретик, о котором в трактире болтал дядька Архип. Ну чем чёрт не шутит, а?
Да какие уж тут шутки? Всё по-честному. Игнатий получил своё – точно и быстро. А боевые братья Защиты разбудили заночевавшего было в Бобровье странника и деликатно усадили его в крытый возок.
– Скажи, брат Александр, – спросил Философ, – ты сны свои иногда запоминаешь?
– Ну, бывает, – признал я.
– А ведь во сне порой так же всё ярко, как и наяву, – Философ наклонился ко мне и в свете факела действительно стал похож на огромную, нахохлившуюся сову. – Так же светит солнышко, такой же лес, такие же грибы, и боль прямо как настоящая… Так, может, когда ты входишь в сон – ты тоже попадаешь в какое-то место? Хотя место это если где и есть, то только в душе твоей. Понимаешь, к чему клоню?
– Вы хотите сказать, Философ, что вот всё это, – повёл я ладонью, – сон? Я сплю? И вы мне снитесь?
– Ты спишь. Но я тебе не снюсь, – помолчав, ответил он.
И стало жутко.
12.
Телефона, конечно, на бумажке никакого не было. Не было и мейла. Значилось там: «перекрёсток Собчак и Навального, возле “Золотого колосса”, 20.00–20.15 с понедельника по четверг». И больше ничего не сообщали выведенные рукой батюшки печатные буквы. Ну прямо как в старом шпионском романе, – против воли улыбнулся я. Впрочем, довольно разумно – наверняка не только почта моя под колпаком, но и телефон.
Впрочем, если ко мне приставили наружку… Но это уже совсем безумная версия. Да кто я такой? Китайский резидент? Кавказский боевик – последний из перебитых могикан? Центр контроля социальной лояльности – это всё же не чекисты, не военная контрразведка. Труба пониже и дым пожиже. Они и так меня держат ясно за что, и если какую пакость от меня и ждут, то лишь связанную с Дедом, с его записью.
Лене я ничего говорить не стал. Мол, просто побеседовали с батюшкой, он наставлял, как в этой ситуации молиться, предостерегал от глупостей и безумств… пастырство в чистом виде.
Воскресенье прошло как обычно – поздняя литургия в полупустом храме (а ведь помню ещё времена, когда было не протолкнуться), сытный Ленкин обед, потом меня сморило, и снилась какая-то чепуха: дождевые черви двухметровой длины свивались кольцами вокруг фонарного столба, а вверху сидел куратор Иван Лукич в костюме Адама и сосредоточенно перегрызал сетевой кабель. Кажется, он млел от удовольствия.
Проснулся я уже на закате, и настроение было таким, словно я наелся этих супер-червей. Молитва ничуть не помогла, пришлось спасаться R-подключением. Оттуда я вынырнул уже после одиннадцати, Ленка, осуждающе глядя, разогрела мне картошку с рыбой, потом, как всегда после выныривания, заболела голова, я глотнул таблетку и завалился спать – уже по-настоящему, до утреннего будильника. Ничего на сей раз не снилось, просто постепенно гасли мысли, из которых я запомнил лишь одну: а что, если это последний спокойный день в моей жизни? К счастью, додумать уже не успел.
Небо с утра оккупировали плотные серые тучи, по-разбойничьи свистел ветер, и дело шло к метели. Она и разразилась часов в семь, а когда я без десяти восемь поднялся на ступеньки «Золотого колосса», дело приняло уже нешуточный оборот. Оранжевый пуховик спасал от холода, но щёки и нос драло сухим, удивительно колючим снегом. В лиловом свете фонарей кружащиеся хлопья обретали странные очертания. Вихри закручивались, сталкивались, распадались – и вновь соединялись в какие-то безумные фигуры. Поневоле вспомнишь – «домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают».
Интересно, как мы с Валерой в такой замяти найдём друг друга? Да и будь сейчас тихий вечер – как узнаем? Примет никаких в батюшкиной бумажке не описывалось. Надо бы как в классическом фильме – журнал «Огонёк» в кармане. «Огонька», правда, уже тридцать лет как нет, но его можно было бы заменить «Сетевиком» или «Сверхновым миром». Особенно хорошо смотрелся бы «Сверхновый мир» – этот еженедельник с самого своего рождения с каким-то распалённым сладострастием обличал гримасы православия. Звёздный час его настал девять лет назад, когда грянуло самарское дело.
Я вспомнил тот жаркий во всех смыслах день, седьмое августа. Сеть просто взбесилась, новости множились тысячами, отличаясь друг от друга даже не мелкими деталями, а градусом патетики. Шутка ли сказать: двое православных террористов, Примухин и Костюкевич, взорвали молодёжный гейский лагерь под Самарой! Пластид-гамма. Сорок девять трупов – в возрасте от четырнадцати до тридцати восьми лет, восемьдесят один раненый. Выразили, так сказать, церковное отношение к содомитам. Пойманные полутора часами позже, раскаяние не выказали, назвали себя мучениками за святую веру, заявили, что действовали по благословению духовника и что всякому истинному христианину надлежит подхватить их знамя… Заявление патриарха Афанасия, что дело тут нечисто и нужно тщательно разобраться, тут же подали как церковную поддержку негодяев. «Понеслось дерьмо по трубам», как ёмко выразился у нас в приходе пожилой алтарник дядя Лёша.
«Сверхновый мир» взошёл на этом дерьме, как крапива на куче навоза. И теперь заслуженно считается рупором борьбы за толерантность, за расширенное мышление, за жизнь без тупых предрассудков. И обложка характерная – взорвавшаяся звезда пронизывает острыми лучами тёмный и косный космос.
– Добрый вечер, Саша, – раздалось сзади. – Это я, Валерий.
В снежной свистопляске я не сразу его разглядел. Да и дядька был ничем не примечательный. Ниже меня на полголовы, худенький, в очках. Меховая шапка с опущенными ушами, синяя лёгкая куртка – похоже, из дорогих, с электроподогревом. Возраст определить я бы не взялся, но что за сорок – это очевидно.
– Добрый, – отозвался я. Поёжился, глядя на снежное буйство, и добавил: – В некотором смысле. Кстати, а как вы меня узнали?
– По фотографии, Саша, по фотографии, – наверное, он усмехнулся, но за метелью это было не разглядеть. – Всё очень просто. Наш общий знакомый назвал мне ваше фио, а дальше секундный поиск по базе. Ну а умение узнавать людей по фоткам у меня профессиональное. Я ж в полиции работал, оперативником… пока не вычистили. По той же причины, что и вас из программеров.
– Отец Алексий сказал, что вы можете помочь, – решил я взять быка за рога.
– Саша, на будущее старайтесь не называть имён, если и так ясно, о ком речь, – перебил меня Валерий. – Просто так спокойнее. Сейчас-то нас не ведут, я принял меры… да и погода просто замечательная, очень подходящая для конфиденциальных разговоров. Но просто имейте в виду.
– Хорошо, – согласился я. – Так вот, у меня сложилась тяжёлая ситуация, и наш общий знакомый сказал, что вы можете выручить мою семью, переправить её в безопасное место. Ну, вы понимаете.
– Я понимаю, – кивнул Валерий, и ушанка при этом сползла ему на глаза. – Но и вы поймите вот что. Я просто посредник. Я лично не занимаюсь никакими делами, я свожу таких, как вы, с теми, кто непосредственно решает их проблемы. Поэтому сценарий у нас будет следующий: вы подробно описываете свою ситуацию, я внимательно слушаю, запоминаю, сообщаю вам способ дальнейшей связи. Информацию передаю тем, другим, и они уже начинают действовать, они уже выходят на вас. Чем длиннее цепочка, тем меньше риск. Это понятно?
– Вполне, – согласился я. – Это разумно. Но только учтите, времени осталось мало. И каждый день дорог. Потому что каждый день… мой сын…
Я справился с комком в горле и сухо, без лишних эмоций рассказал ему всё.
– Что ж, понятно, – выслушав меня, ответил Валерий. – Проблема сложная, она распадается на две. Вторая – это переправить вас троих в Китеж… не удивляйтесь, это мы так между собой называем сибирское Убежище. Кто-то когда-то пошутил, ну и прижилось… А первая – вытащить вашего Кирилла из гейского притона. Тут непростое дело, может, потребуются силовые мероприятия. Соответственно… – он многозначительно помолчал.
– Соответственно – что? – уточнил я.
– Соответственно, это будет стоить соответственно, – спокойно объяснил Валера. – Вы же не наивный ребёнок, Саша, вы понимаете, что подобного рода деятельность требует серьёзных расходов, и наши, так сказать, клиенты участвуют финансово.
Что ж, этого следовало ожидать. Робин Гуд берёт по таксе.
– Сколько? Вы учтите только, что у нас с женой с деньгами весьма негусто Я работаю на стройке, она – в мелкой рекламной фирме…
– У нас у всех, Саша, сейчас негусто, – назидательно заметил Валерий. – Но у вас есть квартира. Зачем она вам, когда вы попадёте в Китеж? Там у вас будет своё жильё. Места там много, леса тоже, всем новоприбывшим сообща ставят избы.
– Но… – к такому повороту я был как-то не готов. – Но мало ли, как повернётся дальше… спустя несколько лет… мало ли что изменится в стране…
Валера посмотрел на меня укоризненно.
– Александр Михайлович, – тон его сделался официален, – ну поймите же вы, насколько серьёзный шаг собираетесь сделать. Это ж не в отпуск с семьёй съездить на курорт. Убежище – это дорога в один конец. На что вы надеетесь? Что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и скинет поганый режим? Да ещё объединит Россию в могучую православную сверхдержаву, которая покажет европейской цивилизации кузькину мать? Не смешно. Неужели сами не видите, что с каждым годом тут всё хуже и хуже? И это не московские локальные особенности, это мировой тренд. Христиан давят всюду. Они лишние для современной цивилизации. Дело-то сами понимаете, куда идёт. Вы ж грамотный человек, Апокалипсис читали. Да, конечно, конечно, не нам знать времена и сроки, но движемся-то мы именно туда.
– Но если ещё при нашей жизни начнётся, – заметил я, – то ни в каком Убежище конец света не пересидеть.
– Так его и в городской квартире не пересидеть, – парировал Валерий. – В общем, думаю, вы меня поняли. Технически это делается так: уже там, в Китеже, вы подписываете документы на продажу квартиры, доверенности там, все дела… Эта накатанная схема, не волнуйтесь. Никто у вас квартиру не отберёт… пока вы здесь.
Звучало убедительно. В самом деле, снявши голову, по волосам не плачут.
– Ну и как же со мной свяжутся? И когда?
– Кафе «Зимушка» на Никитинской. В среду, в три часа дня. Сядете за столик, закажете чего-нибудь… ну, как бы в перерыв пообедать зашли. К вам за столик подсядут. А за эти дни ребята выяснят, где держат Кирилла. Всё, Саша, разбегаемся. Жене, кстати, ничего не говорите до самого последнего момента. Бабий язык, уж простите за грубость, что помело.
И он растворился в метели. Только что был – и вот нет человека, а есть только снежные вихри, на миг обретающие почти человеческое обличье. Бывший опер сноровки не потерял.
13.
Григорьич был кисл. Да, всё он понимал, но сдача приближается как гильотина к шее, недоделок море, каждый человек на счету, а я… а у меня то одно, то другое. Он даже сомневался, смогу ли я работать в фирмочке его шурина, при такой-то загадочной занятости. Но скрипеть – скрипел, а отпустить – отпустил.
Кафе «Зимушка» оказалось приличнее, чем я думал. Не пафосно, без дубовых панелей и танцпола, но чистенько. В дальнем углу метровая голографическая рамка показывает боевик про народного мстителя Япончика, на столиках присутствуют салфетки. И, главное, народу здесь не то чтобы пусто, но и явно не густо. Делить с посторонним столик не придётся.
Я сел подальше, почти под Япончика, вежливо грабившего безбашенных олигархов. Взял распечатку меню, глубоко задумался. Цены тут всё же оказались пафосными. Пожалуй, без супа можно и обойтись, равно как и без салата. Всё равно ничего хорошего от здешних супов ждать не приходилось. Разве может серийное производство сравниться хотя бы с Ленкиной работой? Не говоря уже о бабы Машиных супах.
В детстве, когда я решительно заявлял, что суп не буду, она растеряно моргала и спрашивала: «Как же так? Зачем же я тогда варила? Зачем ты так, Санечка?». И лицо у неё делалось такое, что вот сейчас она заплачет. И ведь порой плакала – не из-за отказа есть первое, а по более серьёзным поводам. Драка с соседской девочкой Лизой, порванные о забор тёти Тамары новые штаны, возмущённые записи в дневнике. Я привык уже к этому, и когда тихонько напевал любимую свою «колыбельную», в словах про дальнюю дорогу, которая «как матушкины слёзы, всегда она с тобой» заменял «матушкины» на «бабушкины». Особой разницы не видел.
Так оно, по сути, и было. Когда я родился, Деду стукнуло пятьдесят, а бабе Маше – сорок семь. Как бабушку из детских книжек – коей положено быть седой, сгорбленной и морщинистой, я её не воспринимал. Такая, классическая, из сказок, бабушка тоже была – соседка баба Люба, и всё в итоге сходилось: баба Маша занимала место мамы, старенькая баба Люба – бабушки. Дед, который и по возрасту вполне ещё мог бы стать отцом, был для меня таковым в принципе.
Фотографии родной моей мамы, Светы, от меня, конечно, не прятали. Уже лет с пяти я знал, как оно повернулось. Как я родился из мамы Светы, а она сильно-сильно заболела и Господь забрал её на небо, там ей не больно и она оттуда на меня смотрит и всё видит (в том числе и как я измазал кашей обеденный стол). Как папа Миша очень-очень расстроился, что мамы Светы здесь больше нет, и уехал работать далеко-далеко, на Север, где Полярное сияние, олени и Снежная королева.
Став постарше, я иногда долго рассматривал мамины фотографии, а потом гляделся в зеркало. Какое-то сходство, конечно, было – скулы у меня, к примеру, похожие, и губы. Зато нос и уши – как у Деда, а цвет глаз – как у бабы Маши.
Тогда, лет в двенадцать, я уже знал, как всё было на самом деле, без полярных сияний. Как мой папа Миша сильно поругался с Дедом в восемнадцать лет, как ему надоело всё это – сельская жизнь, церковь, молитвы по утрам и вечерам. Как он уехал в Нижний, поступил в педагогический университет, влюбился в однокурсницу Свету и на четвёртом курсе «зарегистрировал отношения». А мама Света оказалась из верующей семьи и потребовала венчаться, и папа Миша, не желая делать это в Нижнем, на виду у сокурсников и преподов, повёз её в Дроновку, к Деду. Они обвенчались, и маме Свете очень здесь понравилось, и Дед ей очень понравился, и она решила у него окормляться. И окормлялась – от Деда духовными наставлениями, от бабы Маши – капустными пирожками. Папе Мише всё это не очень нравилось, особенно идея мамы Светы после университета распределиться в сельскую школу, в Лобастово, в десяти километрах от Дроновки.
А потом появился я – сначала в качестве эмбриона, и врачи не рекомендовали ей рожать, потому что слабое сердце и пиелонефрит. Но мама Света поехала советоваться к Деду, и тот сказал ей: никаких абортов. Рожай, и Господь управит всё как надо.
Господь управил всё, как надо Ему – а не папе Мише. Сперва родился я, на следующий день умерла она. Папа Миша был в бешенстве, во всём обвинил Деда и (тут баба Маша высказывалась несколько туманно) даже вроде полез на него с кулаками. В общем, разорвал всяческие отношения. Но обрадовался, что родители берут меня к себе – только возни с младенцем ему и не хватало. Комната в общаге, госы, диплом, поиск работы… С работой ему, впрочем, повезло – причём даже не потребовалось ехать во владения Снежной королевы. Сперва устроился в нижегородский департамент образования, потом оброс полезными связями, защитил диссертацию, перебрался в Москву… «Вписался Миша в систему» – коротко резюмировал Дед.
– Что будем брать? – рыженькая лисичка-официанточка вклинилась в поток моих воспоминаний. Я заказал курицу с рисом и томатный сок. Однако… Уже две минуты третьего. Не ради же варёной курицы я время здесь трачу!
Кстати, весьма неплоха оказалось курица. Именно курица, а не умерший своей смертью петух-долгожитель, как можно было ожидать от этой, назовём уж вещи своими именами, столовки.
– Не занято? – послышался густой баритон.
Мужчина был широк в плечах, слегка небрит, а волосы стягивал пучком. Пуховик свой он уверенно повесил на спинку противоположного стула и сейчас глядел на меня иронически.
– Занято, – хмуро сообщил я и подвёл итог остаткам курицы.
– Так для меня ж и занято, Сань, – сообщил он и уселся на стул. – Девушка, – кликнул он официантку, – на минутку подойди, а? Значит, так: – распорядился он. – Салат «Победа», борщ украинский, тефтели с варёной картошкой, компот там какой-нибудь, на твой выбор.
Я вопросительно уставился.
– Дима, – отрекомендовался незнакомец. – От Валеры. Заждался, небось? Ну извини, в пробке я торчал, флаер-то с воскресенья ещё поломался, пришлось по старинке, на колёсах. Ну, как тебе эта забегаловка? На мой взгляд, бедненько, но чистенько. И кормят сносно, хотя и цены вздули. Зато не надо пухнуть в очередях, тут быстро всё…
Так он балагурил, пока официантка не выгрузила на столик его заказ. После этого сосредоточенно ел. И лишь допив компот, пристально взглянул на меня.
– Значит, так, Сань. Валера мне передал всё, что ты ему рассказал. Мы навели справки. В общем, дело трудное, но реальное. Ты не напрягайся, – заметил он мой взгляд. – Никто нас сейчас не слушает, я скремблер включил. Короче, с одной стороны, нам повезло. Держат твоего сынулю недалеко, в тридцати кэмэ от пятой кольцевой. Прикинь, если б куда-нибудь в Краснодар пришлось ломиться. Там у них дача. Ну, дача это мягко сказано – элитный посёлок, трехэтажный коттедж, земли гектар… полная, значит, круть. Пидоров этих двое, звать Иван Геннадьевич Полозков и Владимир Глебович Кривулин. Кто уж из них муж, а кто жена, нам с тобой без разницы. Детишек, считая с твоим, семеро, младшему десять, старшему почти шестнадцать. Охраны какой-то специальной там нет, в доме. Есть пара кавказских овчарок, ну и сигнализация, конечно. Если сработает, полицаи за три минуты прибудут, там пост на въезде в посёлок. Значит, надо так, чтобы не сработало. Теперь плохая новость. Народу сейчас у нас негусто, кто в разъезде, кто в гриппу. И так будет ещё пару недель, а ты, как я понимаю, спешишь. Поэтому не удивляйся моему предложению: с нами пойдёшь. Я, ты и водила, который ещё и связь, и контроль операции. Годится?
Я замешкался. Почему-то после разговора с Валерой мне казалось, что тут целое подполье разветвлённое, мощная организация, и сами они мне всё поднесут на блюдечке с неприличной каёмочкой. За мою же городскую, бесполезную в Китеже недвижимость. Но сейчас я понял, что слишком уж раскатал губу. «Урежьте осётра», как сказал бы Дед.
– Да, Дима, пойду, конечно.
– В армии ты в каких войсках служил? – деловито поинтересовался он.
– Авиационная обслуга, – признался я. – Понимаю, конечно, лучше бы десантура, но уж чем богаты.
– Да ладно, – махнул он рукой. – С пивком потянет, как говорится. Главное, армия мужикам мозги на место ставит. Решительность прививает, находчивость, все дела…
– А что нужно будет делать-то?
– Ну вот, смотри, брать штурмом этот коттедж глупо. Но вся семейка у них спортивная, они каждый день на лыжах ходят, после завтрака. Трасса такая: от посёлка полем до леса, лесом до озера, потом вдоль озера к деревне Толгино, а оттуда уже полем вдоль шоссе обратно к посёлку. Получается почти круг, примерно десять кэмэ. Так вот, к озеру можно с другой его стороны заехать на машине. Само озеро небольшое, метров пятьсот в ширину и восемьсот в длину. Так что если сынулю твоего мы прихватим, когда они к озеру подъедут – нам его до машины метров семьсот тащить, причём по густому лесу. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что лыжнику там не пройти, а плохо, что и нам придётся колготиться по пояс в снегу. Но если заранее дорожку наметить… Короче, думаю, вдвоём справимся. Ты, кстати, ещё затем нужен, чтобы пацан твой орать не начал. Типа ко всем прочим радостям, ещё и бандюки какие-то похищают. А так увидит папку, всё догонит, что к чему, и тихо пойдём. Ну а после в машину и по газам. Рвём в Ярославскую область, там у нас база перевалочная. Оттуда уже в Китеж, и всё уже на мази будет, технология, опробованная временем. Нам главное, чтобы пидоры полицаев хотя бы через полчаса дёрнули. Ну, тут тоже есть методы.
– А жена моя, Лена? – резонно спросил я.
– А к этому пункту нашей программы я как раз хотел перейти, – широко улыбнулся Дима. – Операцию назначаем на пятницу. Жене сегодня скажешь, чтобы завтра она утром, экспрессом в шесть тридцать восемь ехала в Ярославль и там ждала на вокзале. К ней подойдут, проводят на базу. С собой брать только документы, деньги, ну и всё такое, что никак нельзя дома оставить. Но чемоданов тащить не надо, одеждой в Китеже вас на первое время обеспечат.
– А что я ей объясню?
– Скажешь, что это надо для Кирилла и что все подробности потом. Что у стен уши растут, и что меньше знаешь – лучше спишь. Ну и всё такое. Да, и пусть не вздумает на работе предупреждать, что не придёт. Вообще, пусть с утра комм свой выключит. Кстати, и тебя касается. Для полного счастья лучше и батарею вынуть. Завтра в восемь утра встречаемся там же, где ты с Валерой тогда. Оденься соответствующе. Если есть штаны непромокающие, очень кстати будут. И ботинки высокие. Нам же по сугробам скакать. Ну, вроде, всё сказал. Давай, допивай свой сок, расплачивайся и ступай. А я чуть погодя, незачем всем видеть, что мы вместе ушли.
14.
Едва я, сжевав сосиски с макаронами, вышел из дома в предрассветную темень – истошно заверещал комм.
– Ну, привет, Саша, – раздался бархатистый голос. – Иван Лукич беспокоит, Валуйков. Не забыл такого? Ты вот что, Саша, ноги в руки – и срочно дуй ко мне в кабинет. Дело на сто миллионов.
– Вообще-то мне на работу нужно, – хмуро заметил я. – Как вы знаете, увольняют меня с первого, и если нарисуют сегодня прогул, то премии не видать.
– Саша, ну на хрена ты придуриваешься? – заклокотало в трубке. – Тут всё серьёзно. Короче, двигай к нам, а с начальством твоим, если что, я сам утрясу. Всё, отбой!
И я двинул. Не стоило дразнить этих гусей. Мне бы лишь день простоять, да ночь продержаться. Пусть мне Лукич снова полощет мозги, уж вытерплю как-нибудь. А вот завтра с утра выну батарею из комма… и хоть обзвонитесь вы все.
Давя ботинками раскисший снег, я дочапал до метро, стоически перенёс толкотню, и спустя сорок минут уже стучался в кабинет номер двести пять.
Иван Лукич на сей раз сидел не за столом, а сбоку, в гостевом кресле.
– Молодец, Саша, быстро бегаешь, – заметил он, сканируя меня своими бледно-голубыми, слегка навыкате глазами. – Ну что, не уломал ещё дедушку?
Я пожал плечами. На идиотский вопрос отвечать не следовало.
– Короче, Саша, сейчас с тобой поговорят, – строго сообщил куратор. – Очень советую отнестись к разговору серьёзно.
– И с кем же говорить? С костоломами? – дёрнулся мой язык, и совершенно некстати. Не та у меня была позиция, чтобы тонко троллить.
– А… – махнул рукой Лукич. – С тобой как со взрослым.
Другой рукой он потянулся к столешнице и нажал какую-то невидимую с моей стороны кнопку. Я зачем-то начал мысленный отсчёт: десять, девять, восемь… Когда дошёл до двух, на пороге возникла грузная фигура. Белая ряса, панагия на груди, но голова непокрыта. Чёрные с проседью длинные волосы волнистыми прядями сбегают назад, на указательном пальце правой руки – знаменитый перстень, глаза – умные, внимательные, цепкие.
Лукич соскочил с гостевого стульчика и семенящей походкой направился к вошедшему.
– Благословите, владыко! – сложил он руки лодочкой.
Всё чудесатее и чудесатее, вспомнилось присловье Деда.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – скороговоркой пробормотало новое действующее лицо.
– Да вы никак крещеный, Иван Лукич? – непритворно удивился я.
– Было такое в раннем детстве, – не смутился тот.
– А как же агностицизм? – нет, сегодня мой язык окончательно меня сгубит. Ведь с прежней кураторшей, Антониной Львовной, я себе вольностей не позволял – за то и неприятностей не имел.
– Агностицизм ничуть не мешает взять благословение, – пояснил хозяин кабинета. – Это просто вежливость. А ты, Саша, не желаешь подойти под благословение к архиерею Русской Православной Церкви? Или брезгуешь?
Уел он меня мастерски. Действительно, патовая ситуация. Благословиться у митрополита Пафнутия – значит, признать его сан. После чего мне, мирянину, остаётся только слушать и кивать. А не благословиться – поступить по-раскольничьи. Ведь владыка Пафнутий, при всех своих художествах, действительно законный архипастырь моей Церкви.
– Иван Лукич, – подал голос владыка, – ну зачем вы так? Благословляться или не благословляться – это личное дело христианина. Ну неприятен я рабу Божиему Александру, так что с того? Вы-то, агностик, зачем вмешиваетесь?
– Ухожу-ухожу, ваше высокопреосвященство, – краем глаз улыбнулся куратор. – Не стану мешать разговору. Не торопитесь, мне есть чем заняться.
И он быстренько слинял за дверь.
Владыка Пафнутий снова меня удивил. Он уселся в гостевое кресло и кивнул мне в сторону кураторского стола. И что оставалось делать? Стоять? Просить его поменяться местами? Пришлось пройти и сесть на Лукичевое место. Наверняка, стороннему наблюдателю это показалось бы забавным: мирянин восседает как начальник, а архиерей Божий скромно ютится рядышком, точно робкий посетитель. Впрочем, сообразил я, сторонний наблюдатель это обязательно и увидит: камеры-то наверняка всё пишут.
– Ну здравствуйте, Александр, – нарушил неловкую тишину митрополит. – Давайте сразу поставим точки над i. Вы не из моего, так сказать, лагеря. Я вам неприятен, вы считаете меня волком в овечьей шкуре, лисой, крысой, иудой, обновленцем, перерожденцем… короче, предателем матери-Церкви. Не делайте удивлённое лицо, я же всё понимаю. Так вот, я решил встретиться с вами и поговорить. Объяснить некоторые вещи. Прошу извинить, что воспользовался для этого милейшим Иваном Лукичем, но ведь если бы я через свой секретариат пригласил вас к себе в загородную резиденцию – вы ведь не пошли бы, так? Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…
– Владыко… – преодолел я спазм в горле, – я вот чего не пойму: а со мной-то зачем? Кто вы и кто я? Ну понятно, сейчас выборы… но нас, избирателей, миллионы. Чем я выделяюсь из общей массы?
Владыка понимающе кивнул.
– Резонный вопрос. Отвечаю: лично вы – ничем. И, уж простите, но загадкой для меня вы не являетесь. Уровень вашей веры и вашу церковную позицию я прекрасно вижу. Нет, не буду говорить, что вы плохой христианин. Скорее даже наоборот. Обычно так и бывает: свои своя не познаша. Не стану лукавить: вы мне интересны не сами по себе. Но у меня к вам просьба. Мне хотелось бы встретиться и поговорить с вашим дедом, архимандритом Димитрием. В неформальной обстановке, а значит, не у меня. Прошу вас посодействовать этому. Убедите дедушку, что нам действительно нужно встретиться. – Он вздохнул. – Я, конечно, получал сигналы, как он обо мне отзывается. Что ж, это его право, а в Церкви надлежит быть, по слову апостола, разномыслиям. Но разномыслия только тогда полезны, когда проблемы обсуждаются, когда происходит диалог. Ваш дед, как мне известно, общаться со мной не хочет, и это прискорбно. Да, я видел ту запись, которую вы недавно сделали. Позиция чёткая и даже по-своему верная. Но это ведь только половинка правды…
В животе у меня заныло. Разговор сделался похож на омут: вроде бы чистая вода, кувшинки плавают, водомерки бегают, солнечные лучи глубоко водную толщу протыкают – но тебя затягивает вниз, и чем дальше, тем больше мути, а на дне… ясно кто там водится.
– В чём же ваша половинка, владыко? – мрачно осведомился я. – Вот вы рукополагаете женщин, вы венчаете содомитов, вы пренебрежительно отзываетесь о целомудрии, вы… Всё это противоречит и Священному Писанию, и каноническому праву, и опыту Церкви. Да что я говорю, вы в сто раз меня лучше знаете и Писание, и каноны. Но зачем же тогда?
Митрополит посмотрел на меня, как смотрят на больного ребёнка – сочувственно и уверенно. Ничего, малыш, сейчас мы сделаем тебе укольчик – и будет лучше.
– Спрашиваете, зачем? Да затем, Александр, чтобы спасти Церковь. Да, пафосно звучит, понимаю. Но это правда. Печальная, горькая, некрасивая… но правда. Вы сами прекрасно видите, что происходит в стране и мире. Видите, что православие у нас, да и повсюду, в общем, переживает очередное гонение. Может быть, самое страшное гонение за всю историю Церкви. Потому что когда нас резали, жгли, гноили в лагерях – это происходило всё-таки в других условиях. Общество было другим, понимаете? У людей были чёткие моральные ценности, даже у атеистов. Даже когда нас высмеивали – те, кто смеялись, всё равно душой, подсознанием были нашими. Сейчас всё изменилось. Нынешние гонения происходят на совсем другом фоне. По причине умножения беззакония во многих охладела любовь. Даже не просто во многих – практически во всех. Люди берут от жизни всё. У людей нет уже никаких духовных запросов. Вы, может, удивитесь, но даже у сектантов и оккультистов дефицит аудитории. Нас не убивают – мы сами вымираем, потому что дышать этим отравленным воздухом не можем, наши лёгкие привыкли к кислороду…
– Что-то я не пойму, владыко, – от слов его, правильных как кирпичи, у меня уже сплющивались мозги. – Вы к чему ведёте?
– Да к тому я веду, Александр, что надо выживать. Нам, православным христианам. Не в мире фантазий о золотом веке, а здесь и сейчас, в этих условиях, в этой бескислородной атмосфере. А что значит, выживать? Значит, сохранить Церковь для будущих поколений. Да, когда отец Димитрий в этой видеозаписи говорил, что в Церкви, где венчают гомиков, нет места Духу Святому, он был, в общем, прав. Но поймите: сейчас Церковь, где не венчают гомиков, за считанные годы превратится сначала в резервацию, а потом в кладбище. Моя задача – сохранить не Дух, а форму. Дух, сами знаете, дышит где хочет. Ничто не мешает Духу вновь оживотворить мёртвую форму – когда это станет возможным. Было бы что оживотворять…
– Как-то вы, ваше высокопреосвященство, обтекаемо слишком, – заметил я. – Трудно понять, чего вы реально хотите?
– А по-моему, всё просто, – прищурился митрополит. – Я хочу, чтобы Русская Православная Церковь была многолюдной, чтобы действовали тысячи храмов, чтобы эти храмы не пустовали. Чтобы в Церковь входили всё новые и новые члены, чтобы она пользовалась авторитетом у всех, даже у неверующих. Только такая Церковь имеет шанс пережить гонения, передать эстафету потомкам… Да, понимаю, какова цена вопроса. Ослабление Духа, обмирщение. Но уверяю вас, это временно. Потому что цивилизация не может развиваться линейно. Этот дивный новый мир, который сейчас строят Штаты и Европа, не вечен. Он рухнет под собственным весом. Через двадцать лет, пятьдесят, сто пятьдесят… но рухнет. Волна экологических катастроф, технологических… новые войны, новые пассионарные народы. Они, дурачки, думают, что раз открыли холодный термояд, то весь космос у них в кармане. Но мы-то с вами знаем, что когда будут восклицать: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. И вот тогда растерянные люди обратятся к Церкви. Значит, должно быть, куда обращаться. Должны быть храмы, должны быть священники, должны быть образованные миряне, должна быть духовная литература…
– Дед мне часто говорил, – заметил я, – что церковность без подлинной веры – это трясина. Что лучше уж честный атеизм, чем православное язычество. И ещё говорил, что многие люди всю жизнь лижут бутылку, думая, что тем самым познали вкус вина. Это он о тех самых формах говорил, которые вы любой ценой хотите сохранить.
– Да, хочу, – твёрдо сказал владыка Пафнутий. – Потому что без бутылки вино существовать не может. Оно выльется на землю и его не станет. Да, моя цель – сохранить бутылку. Мне приходится добавлять туда уксус, потому что иначе на нынешнем морозе бутылка треснет. Но мороз не вечен, будет и на нашей улице весна. И вот тогда мы выльем весь уксус, а Господь нам в этом поможет. Претворит, так сказать, в прежнее вино. Да, я венчаю содомитов – чтобы не подвести храмы моей епархии под статью о нетолерантности. Ну так придёт час, выгоним мы этих гомиков пинком под зад. Я рукополагаю диаконисс – ну так трудно ли запретить их в служении? Я призываю паству радоваться жизни, отказываться от устаревших мрачных стереотипов, от неоправданной аскетики, от непосильных постов, от нудных молитвословий… Зачем, спросите? А затем, чтобы внешние от нас не шарахались, чтобы приходили… и оставались. Ну сами ж понимаете, нельзя на современного человека возлагать бремена неудобоносимые… Понимаю, многих это злит Ну так я умру, и пройдут годы, десятки лет, может быть… и новые архиереи объявят меня отступником, обновленцем. Но сделают они это в тех церквях, на тех кафедрах, которые я сберёг. Да, когда-нибудь новые православные будут гневно осуждать пафнутианство. Как поколение наших отцов осуждало сергианство. История действительно повторяется, Александр. Тогда владыка Сергий прогнулся под советскую власть, чтобы спасти тело Церкви от сожжения. Сейчас, через сто тридцать лет, я хочу прогнуться под толерастов, чтобы спасти тело Церкви от гниения. Понимаете мысль?
– Понимаю, – вздохнул я. – Но ведь Церковь – это Тело Христово, так? Вы что, Христа хотите спасать? Это же Он нас спасает, а на мы Его.
– Классический пример демагогии, – невозмутимо ответил Пафнутий. – Вы смешиваете разные аспекты существования Церкви. Смешиваете её мистическое измерение с земным, посюсторонним. В мистическом плане Церковь – это Тело Христово, и руководима она Святым Духом. Всё правильно. Но Церковь в другом своём измерении – это организация, это конкретные формы – храмы, приходы, миряне, духовенство, иерархия. Я не дерзаю спасать Тело Христово. Я спасаю одежду, которая на этом теле. Потому что хоть Тело как таковое и не умрёт без одежды, но многие его члены – умрут. Слишком холодно сейчас в мире, понимаете? Я стараюсь для тех слабых людей, которые потом меня же и проклинать будут.
Я сидел и слушал его – мудрого, снисходительного, уверенного в себе. Да, вблизи Пафнутий оказался вовсе не «отвязным либерастом» и «покровителем растлителей». Он, по-моему, даже не притворялся. Он и впрямь верил в свою великую миссию. И ему очень нужно было благословение Деда.
«Запомни, Саня, – голос Деда был печален, но твёрд, – никакое благое дело не стоит на неправде. Даже если кажется, что это полезно, выгодно, что никто никогда об этой неправде не узнает. Всё равно, не устоит такое дело. Помнишь, Спаситель про дом на песке говорил? Наверное, дом тот тоже был красивый, уютный… лучшие дизайнерские решения той эпохи… А волна подмыла. Не дом был плох, а фундамент». Это он говорил давным-давно – кажется, ещё в тридцать седьмом, когда я уезжал из Дроновки поступать в Нижегородский университет. А вспомнилось, точно оно вчера было.
Если дело владыки Пафнутия благое, если и впрямь нужно любой ценой сохранить бутылку – пускай и в ущерб вину – то зачем же тогда ему лживое благословение Деда? Вряд ли он всерьёз надеется его переубедить. Зачем же ему песок под дом? А если он хочет строить на неправде – что же он выстроит? Бутылка, конечно, дело хорошее, но как бы то, что Пафнутий сохранит, не превратилось в сплошную стеклянную болванку, где вину уже не будет места. Красивую, по форме точно похожую на бутылку – но без всякой внутренности.
– Я понял вас, владыко, – медленно заговорил я. – Не скажу, что во всём согласен, но мне надо всё это обмозговать… Вы простите меня, что плохо о вас думал.
– Бог простит, и я прощаю, – энергично кивнул митрополит. – А подумать – обязательно подумайте. И вот ещё что скажу. Я в курсе ваших семейных проблем. Так вот, совершенно независимо от того, удастся ли вам уговорить отца Димитрия встретиться, обещаю приложить все силы, задействовать все свои возможности, чтобы как-то разрешить ситуацию.
– Вот-вот, Саша, подумай! – Иван Лукич появился в комнате совершенно неожиданно. Неужели они уже и телепортацию изобрели? – У тебя весь сегодняшний день есть на то, чтобы подумать. На стройку не возвращайся, Семёна Григорьевича я уже уболтал. А вот завтра с утречка – отправляйся к Деду. Одна нога здесь, другая там. Транспортные расходы оплатим, не боись. В понедельник владыка Пафнутий уже планирует навестить Дроновку с неофициальным пастырским визитом. Всё понял?
– Да, Иван Лукич! – освобождая его кресло, сообщил я. – Конечно, Иван Лукич!
– Не подведёшь? Сделаешь? – придирчиво уточнил куратор.
– Не подведу! Сделаю! – китайским болванчиком закивал я. И во рту стало противно. Будто не я только что рассуждал о неправде, которая как песок – ничего приличного на ней не построишь.
Но возражать и спорить было совсем уж глупо.
15.
– Ну что, готов к подвигам? – поинтересовался Дима, когда старенькая, обшарпанная «Иволга» тронулась с места.
– Надеюсь, – протянул я. – Надеюсь, что Господь поможет.
– На Бога надейся, а сам не плошай, – изрёк невысокий худенький Миша, наш водитель и прочая-прочая-прочая.
– Тогда погнали. Ты не смотри, Санек, что машинка у нас невзрачная. Это с виду только, а на деле – зверь. Супругу-то в Ярославль отправил?
– Угу, – кивнул я. Незачем было описывать, чего мне это стоило.
Лена сначала громко недоумевала, затем тихо истерила, после истерики – подкатывалась ко мне, желая выведать ну хоть какие-то детали. Ну хоть намёком, хоть что-то. Следующая стадия – ледяная обида: неужели я настолько низко её ставлю, что совершенно не доверяю. И лишь под конец – деловитое согласие, сбор нужных вещей. И утром – встали в пять, в полной тьме – осторожный поцелуй. Потом мы друг друга перекрестили, и она выскользнула за дверь. До вокзала почти час.
Я, конечно, досыпать уже не стал. Пил чай, вдумчиво читал утреннее правило, и секундная стрелка казалась мне сонной мухой. Которая почти рифмуется с мукой.
В половине седьмого запиликал сигнал комма. Я нервно глянул на экран – звонил Дед.
– Утро доброе, Саня, – слышимость была отвратная, будто в прошлом веке. – Не спишь уже? Я просто что хочу сказать – ты не вибрируй, всё хорошо будет.
– Дед, – сдавленно произнёс я, – что-то случилось?
– Да всё нормально, Саня! Решил вот позвонить, настроение тебе поднять. Мы, наверное, встретимся скоро, тогда уж и поговорим не спеша. А сейчас некогда, извини.
И красный значок отбоя.
Тут я вспомнил настоятельную рекомендацию Димы и вынул из комма батарею. Странный, конечно, звонок – Дед вообще сам звонил крайне редко, в основном я ему. Но мало ли… Дед, кстати, прав: потом пообщаемся подробнее. Интересно, в этом Китеже 7G-связь действует?
– За Лену не боись, её в лучшем виде встретят, – заявил Дима. – А вот нам удача не помешает. Тем более и погода… Видишь, чего творится…
Творилось и в самом деле неладное. Казалось, рассвета сегодня вообще не будет, хотя по календарю солнцу полагалось уже встать. Но всё небо затянули тёмные тучи, готовые в любой момент разразиться снегопадом. А судя по настроению ветра, это будет не просто снегопад, а настоящий буран.
– Но пока что действуем по прежнему плану, – помолчав, сообщил Дима. – А если что, будем решать по обстановке.
После этого никто уже ничего не говорил. Миша врубил музыку – хор Донского монастыря. И это вроде было именно что нужно – настройка души происходит, объяснил бы Дед. «Благодать, Саня, – говорил он, – всегда рядом. Её не бывает больше или меньше. Но вот мы её по-разному впитываем, в разные моменты. Вот смотри, ведро с водой. Кинь туда губку, и сразу вся намокнет. Кинь деревяшку – сверху намокнет, а внутри нет. А пластмассу кинь – и нисколько не впитает. Вода одна и та же, материалы разные. Ну вот и мы, люди, так же. И даже один и тот же человек в разные моменты по-разному. Чтобы душа благодать приняла, её настроить надо. Для того мы и молимся. Это ж не Богу нужны наши правила утренние и вечерние, а нам самим. Поэтому и надо, хоть и не хочется».
Кажется, мне было тогда лет восемь, или девять.
Но всё-таки душа сейчас просила другого. Не супа, а конфет. Колыбельной хотелось, про дальнюю дорогу, романс сверчка и увядающую красотку. Колыбельной, которая стала для меня, по выражению Деда, стержневой.
Он сам не ожидал такого эффекта, когда впервые спел её мне, четырехлетнему. Ещё, ещё! – требовал я. Деду раз пять подряд пришлось в тот вечер её петь. И с тех пор уже – постоянно. Самым строгим наказанием было для меня укладываться спать без Деда и его гитары. Баба Маша, конечно, тоже принимала участие – и песенки пела, и сказки рассказывала, но это совсем другое.
Дед вообще любил петь – когда я стал постарше, он рассказывал, как в юности ездил по лесам на слеты авторской песни, как встречался со знаменитыми в давние времена бардами. Меня тогда ещё поразило, что никто из ребят в классе не знал этих имён – Никитины, Туриянский, Лорес… Надо мной даже смеяться пробовали, и пришлось пускать в ход кулаки – за что получил от Деда по полной.
А почему тогда, в дошкольном детстве, я так запал на эту песню Окуджавы – мне и до сих пор было непонятно. Вроде и в словах ничего особенного, и музыка средненькая, а вот проникала в душу до самой глубины. И оттуда, с глубины, поднимались и радость, и тревога, и надежда, и страх. Пугал меня, лет чуть ли не до семи, этот загадочный «силуэт совиный», который клонится с облучка. Будь это просто сказкой, всё было бы правильно и понятно. Эка невидаль – сова управляет бричкой. Может, это сова из «Винни-пуха», или какая-нибудь в том же роде. Но сова из песни была непонятной и доводила меня чуть ли не до слёз. То ли ужаса, то ли восторга. «Ничего, попозже эту сову мы разъясним», улыбался Дед, но так ничего и не разъяснил. «Не нервируй ребёнка, у него комплексы будут, другое что-нибудь пой!» – требовала от него баба Маша, но тут уже восставал я. «Не надо другое! Надо про это! Про сову!»
– Подъезжаем помаленьку, – нарушил молчание Миша. – Значит, вот как делаем: сперва я вас возле озера высажу, потом отъеду поближе к посёлку. Послушаю, что там… не напортила бы, в самом деле, погода. Может, они на лыжах и не выйдут, метели побоятся. Если решатся всё же, тогда я быстренько к вам, они до озера как минимум минут сорок чапать буду. По-любасу отзвонюсь.
Машина свернула с шоссе на почти незаметную боковую дорогу и не спеша покатила по лесу. Тут уже была настоящая зима – кусты чуть ли не по верхушки в снегу, на чёрных еловых лапах – самые настоящие сугробы. Страшно подумать, что по такому лесу придётся пробираться на своих двоих.
Слегка развиднелось, но лишь оттого, что невидимое за тучами солнце поднялось повыше. А сами тучи, беременные снегом, казалось, стали ещё плотнее.
– Вот тут, мужики, десантируйтесь, – остановил «Иволгу» Миша. – Сюда же и подъеду потом, а пока я разведкой займусь, вы вокруг озера походите, наметьте пути отступления.
Мы с Димой вышли. Сразу же пахнуло еловой смолой, далёким дымом, и почему-то даже грибами – хотя и не сезон.
Против моих опасений, идти по заснеженному лесу оказалось не так уж трудно. Главное – экипировка соответствующая. Ботинки с высокой шнуровкой (специально вчера купил в «Юниоре» возле метро) совершенно не пропускали снега, непромокаемые тонкие штаны поверх обычных лыжных брюк не сковывали движений. Хотя, наверное, тут и адреналин влиял. Пусть не море, а снег – всё равно казался по колено. Хотя реально доходил едва ли не до пояса.
Мы с Димой шли почти молча, обмениваясь лишь короткими репликами: «правее возьми чуток», «не, между этими ёлками не пролезешь, лучше вон там, по дуге», «осторожнее, тут брёвна какие-то под снегом». В принципе, пути отступления вполне проходимые, не такой уж тут бурелом. Но лыжникам, конечно, придётся несладко.
Наконец выбрели к противоположному берегу озера – где проходила лыжня. Само озеро ещё не схватилось льдом – только с краёв, и то чуть-чуть, а в середине едва заметно дымилась чёрная вода.
– Не хотелось бы сейчас окунуться, – подумал я вслух.
– Ну, на вкус и цвет… – хмыкнул Дима. – Я вот моржевал раньше, очень полезно организму. Сейчас уже редко, некогда всё… Ладно, хорош болтать, вот смотри – здесь кусты подходящие, в них и засядем. Сверху, с лыжни, нас хрен увидишь. Так, сейчас у нас десять ноль семь. Завтракают эти в половину десятого обычно… Значит, скоро уже выйдут. Ну, не проспим, Мишаня отзвонится.
– Слушай, я чего не пойму, – заинтересовался я, – ты ж сам велел комм отключить и батарею вынуть. Почему мне нельзя, а вам можно?
– Элементарно, Ватсон! Во-первых, потому что тебя слушают, а нас нет. Во-вторых, у нас с Мишаней вообще не коммы, а рации. Радиус действия пять кэмэ. Реально даже чуток меньше, если учитывать неровности рельефа. А где ты видишь ровности? Так что не боись, чекисты здесь не ходят. А вот лыжники ходят, и не только наши объекты. Так что без дела не болтай, лады? Притворись кустиком.
Я притворился. Я-кустик сидел на корточках, читал Иисусову молитву и мечтал, чтобы всё скорее уж кончилось. Адреналин бурлил в крови и требовал что-то делать, куда-то бежать, кого-то рвать – а приходилось тихо сидеть.
Спустя бесконечность у Димы что-то негромко засвиристело. Он вынул из-за пазухи узкую чёрную трубку, тихо произнёс: «Приём. Сокол двадцать» – и замолчал минуты на три.
– Значит так, – глухо заговорил он, убирая рацию. – Планы меняются. Миша там послушал и дачу, и прочий местный эфир. В общем, авария у них, без света сидят. Ночью подстанция где-то сгорела, и отремонтируют нескоро. Не раньше понедельника. Поэтому сегодня никаких лыж у наших клиентов не намечается, и более того – поедут в городскую квартиру. А квартирка у них, между прочим, в таком элитном и охраняемом домике, что туда соваться не с нашим свиным рылом.
– И что ж теперь делать? – поёжился я.
А ведь как всё ладно складывалось!
– Что делать, что делать, – передразнил Дима. – Действовать надо, Саня. И быстро. Пока они ещё тут, пока только собираются. А собираются они хоть и не очень спешно, но обедать собираются уже в городе. У них, видишь ли, беда какая, ещё и генератор сломался, много лет в нём надобности не было, вот и не проверяли. А как припёрло – так вместо света включился закон подлости. Короче, ты понимаешь, что это значит?
– Что? – я не понимал.
– А ещё высшее образование, – укоризненно покачал головой Дима. – Это значит, сигнализация у них на фиг вырубилась, о чём они давно уже на пульт позвонили, чтоб там не дёргались. Поэтому одной головной болью меньше. В общем, так. Сейчас мы быстро выдвигаемся к тому берегу, Мишаня уже катит. Подбирает нас, мы подъезжаем в наглую прямо к их дому. Там в посёлке вообще-то шлагбаум, люди карточку суют, но электроника эта питается от общей сети, так что сейчас вырублена. Ну и подняли его, шлагбаум то есть. Наши клиенты ж не одни такие умные. Многие сейчас в город валят. В общем, применяем силовой вариант. Входим аккуратно, собачек парализатором успокаиваем. Потом в подземный гараж, порезать им колёса на всякий пожарный. Ну а потом в дом. Хватаем твоего пацана и ходу. Если пидоры рыпнутся, значит, огребут. Что, Сань, небось, кулаки чешутся, пощупать им физии хотца?
Я не смог отрицать очевидное.
– Только вот кулаками не надо, – продолжал Дима. – Один из этих гомиков, между прочим, чёрный пояс имеет, по каратэ школы шито-кан. А у тебя ж не то что чёрного, у тебя, небось, и белого пояса нету? Так что придётся применять спецсредства. Вот, держи.
Мы вылезли из кустов, и Дима, сунув руку в подсумок на боку, вынул оттуда что-то чёрное, тускло блеснувшее.
– Держи-держи! Да не бойся, он только похож на боевой, а на самом деле это переделка под игольчатый парализатор. Гуманное оружие, полтора часа неподвижки и никаких побочных последствий. Если, конечно, не в глаз палить. Ты вообще такое в руках держал когда-нибудь? Смотри, всё просто до идиотизма. Вот этот рычаг слева – предохранитель. Опустишь его вниз, как войдём в дом. Это – спусковой крючок. Нажимать надо плавно, чтоб ствол не дёрнулся. Заряда игл тут более чем достаточно. Выстрелов на полсотни. А нам если и потребуется, то пара-тройка, не больше. Поэтому запаску не даю, только лишний вес будет.
Я с некоторым сомнением взял пистолет. Армия, конечно, армией, но там мы имели дело только с бессмертным автоматом Калашникова, да и то стреляли нечасто. Пистолеты же – оружие офицерское, солдату-срочнику ни к чему. С другой стороны, машинка и впрямь не особо хитрая. Уж, пожалуй, ничуть не сложнее дрели-перфоратора с тридцатью программными режимами.
– Да просто в карман сунь, – посоветовал Дима. – У меня-то по-взрослому, – похлопал он себя по левой подмышке, – но тебе такую сбрую сооружать некогда. Да я и не думал, что вообще пестики пригодятся. Подвела нас небесная канцелярия. Ну, погнали. Время – деньги, согласно теории Эйнштейна-Рокфеллера.
И мы погнали. Тем более, надо было успеть до бурана.
Почти успели. Мишаня не стал уж наглеть сверх меры, припарковался у соседнего дома, на вид – совершенно необитаемого. И как только мы с Димой вылезли из «Иволги» – на щёку мне упала снежинка. Потом другая… Ощутимо потемнело, ветер ударил в глаза.
– Ну, сейчас начнётся, – шепнул мне Дима. – Не забудь с предохранителя снять. И аккуратнее, а то себя же и стрельнешь. Всё, на месте.
Владение господ Полозкова и Кривулина впечатляло. До газовых олигархов им, может, было и далеко, но трехэтажный кирпичный дом – розовые кирпичи в шахматном порядке чередовались с голубыми – тянулся куда-то далеко вглубь участка. Небось, там у них и крытый бассейн, и бильярдный зал, и зимний сад… и что ещё полагается лучшим представителям объединённого человечества… Вверху дом венчали остроконечные башенки, оттого он казался средневековым замком. Ну и забор, конечно, мощный. Высотой чуть ли в два моих роста, из гофрированного железа, поверху – частым гребнем заострённые штыри длиной в ладонь.
Ворота – широченные, и танк въехал бы – конечно, были закрыты.
– А как мы, собственно, внутрь попадём? – шепнул я Диме.
– Не вибрируй, технология отработана, – сухо сообщил он. – Дальше давай, до угла.
Когда мы, крадучись, добежали до угла – метров сто, не меньше, – снег, наконец, повалил по-настоящему. Лицо прямо как тёркой драло, глаза слезились.
– Как внутрь войдём, рукавицы сними, только мешать будут, – чуть слышно посоветовал Дима. – Вот, смотри, какие против таких заборов разработаны технологии.
Он что-то достал их своего подсумка – мне сперва показалось, клубок шерсти. Встряхнул, быстро размотал – и резким, почти неуловимым движением швырнул вверх и вперёд. Нечто, похожее на клубок, зацепилось за штыри, развернулось – и стало ясно, что это узенькая, сантиметров в двадцать шириной, верёвочная лестница. Только толщина верёвок – миллиметра три от силы. Несерьёзные какие-то ниточки.
– Слона выдержат, – успокоил меня Дима. – Это ж гипероксилон. Спецназовское снаряжение. В сложенном виде не больше кулака, а до пяти метров подняться можно. Короче, смотри, как я делаю, и повторяй.
Дима ухватился за поперечные нити и шустро полез на стену. Взялся за штыри, подтянулся, подогнул ноги и закинул их на стену. Потом, отпустив левую руку, дёрнул на себя лестницу и резким движением перекинул её на ту сторону. Снова обеими руками сжал штыри, ловко перебросил тело за стену – и быстро исчез внутри.
Всё это было замечательно и смотрелось как эпизод из боевика, только вот я-то как попаду внутрь? Лестница же одна.
Впрочем, ответ последовал секунд через десять. Край лестницы появился над стеной, побалансировал мгновение – и скользнул вниз, на мою сторону. Я подошел, мельком глянул – к концам продольных нитей были привязаны небольшие гайки. Дёшево и сердито.
Я ухватился за поперечные нити-перекладины, шустро полез вверх. Помогал, конечно, бушующий в крови адреналин, но вот ладони резало даже в плотных рукавицах. Или дело в отсутствии привычки? Да, брат Сашка, это тебе не в R-подключениях геройствовать, это реал, и ты не супермен…
Впрочем, до края стены я добрался вполне пристойно. Дальше было сложнее. Подтянуться-то я подтянулся, а вот встать на стену, не нанизав себя на штыри, оказалось нетривиальной задачей. С третьей попытки, впрочем, мне это удалось, я перекинул тело на ту сторону и повис на левой руке, судорожно пытаясь правой нащупать лестницу и потянуть её на себя. В конце концов получилось, и вниз я уже спустился без приключений.
– Долговато, – прокомментировал Дима. – Но для первого раза с пивком потянет.
Он ухватил лестницу, каким-то хитрым движением дёрнул её вверх и вбок, а потом вниз. Миг – и вот он уже сматывает её в клубок, убирает в подсумок.
– Уходить через ворота будем, как культурные люди, – пояснил он. – Ворота замечательные… изнутри засов, и всё. Они их запирают только когда уезжают. Ладно, действуем по плану. Сперва в гараж.
Он уверенно направился влево, будто в точности знал, где тут что. Впрочем, и знал – наверняка же у подпольщиков имеются данные космической съёмки, а то и даже копии проектной документации на дом.
Запертая дверь гаража Диму ничуть не напрягла. Он достал из своего подсумка какую-то изогнутую хреновину, поковырялся в замочной скважине – и дверь подалась вперёд.
– Теперь быстро и тихо, – шепнул он мне в ухо. – Рукавицы сними, парализатор достань. Страховать меня будешь. Кто появится – стреляй без раздумий. Целься в корпус, иголки одежду пробивают только так… даже если чел три шубы напялит.
– А если кто-то из детей? – сообразил вдруг я. – Тогда что?
– То же самое. Полежит в отключке полтора часа и придёт в норму. Говорю ж, вреда никакого. Не вибрируй.
Мы скользнули внутрь, во тьму. Но Дима победил её фонариком – и та съёжилась, спряталась по углам.
Гараж был огромен. Наверное, площадью в сотку. Имелись тут микроавтобус мицубиси, трехместный флаер-пандав и здоровенный трехосный внедорожник «ракшас».
– Страхуешь? – оглянувшись через плечо, спросил Дима. Потом достал из подсумка нечто вроде портативной дрели на батарейках, только размером не больше парализатора, который я судорожно сжимал в руке. Приладился к колесу «ракшаса», нажал невидимую кнопку, чпокнуло – и колесо со змеиным шипением просело. Умно, понял я. В первую очередь выводит из строя самую опасную для нас машинку. На флаере в такую метель летать нельзя, а по земле он даёт скорость не более шестидесяти. Микроавтобус пошустрее, но уступает ракшасу в маневренности.
Размышления мои оказались недолгими.
– Кто здесь? – послышался недовольный мужской голос со стороны двери. Там, у незакрытых ворот гаража, нарисовался чёрный силуэт.
На миг ощутив себя суперменом, я вытянул руку с парализатором и плавно, как наставлял Дима, выжал спусковой крючок.
Звук выстрела и вспышка слились воедино. Руку мою резко дёрнуло. Силуэт исчез.
И тут же ударил свет. Отовсюду. Белый, мёртвый, прожекторный. Ярче солнца. На миг я ослеп – и потому не заметил, как мне врезали по затылку – словно медвежьей лапой. А потом, с не меньшей силой – в живот.
Краем сознания я успел ещё зацепить множество чёрных фигур, какие-то бледно-розовые сполохи, а потом пространство повернулось и куда-то полетело сквозь меня, но я уже был не здесь, я тонул в океане боли, и боль была такая жаркая, жёлтая и жадная, что я вовсе не ощутил, как защёлкнулись на моих запястьях наручники.
И тогда пришла спасительная тьма.
16.
Кабинет сильно отличался от прежнего. В том ещё было что-то человеческое – полки с книгами, на подоконнике горшки с фиалками, ультрамариновые лёгкие занавески, репродукция на стене – классическое «утро в сосновом бору». Здесь же всё говорило о том, что вокруг – тюрьма. Что окна зарешёчены – это само собой, но привинченный к полу табурет, но бьющая в глаза настольная лампа, но железные шкафы, непонятно что хранящие – то ли, как в старину, бумажные папки с личными делами, то ли, как в ещё более древнюю старину, пыточный инструмент… Да, здесь вам не тут. Не безобидный, в общем-то, Центр контроля лояльности, а куда более серьёзное ведомство.
Одно только совпадало с тем, старым кабинетом: его хозяин. Впрочем, Иван Лукич тоже преобразился. Уже не расстёгнутый пиджак, а тёмно-синий форменный китель, и взгляд не чиновника, но офицера. Я даже догадывался, офицера чего.
– Как чувствуешь себя, Саша? Оклемался малость? – Лукичу не сиделось за массивным, явно прошлого века столом: он встал с кресла и теперь возвышался надо мной, как вавилонский зиккурат.
Сказать, что я оклемался, было бы преувеличением. Живот уже поутих, но зверски болела голова. Там, внутри, крошечные человечки в синей форме бурили перфораторами мой череп. И не только в пострадавшем затылке, а повсюду. Интересно, долго ли я провалялся без сознания? Во всяком случае, укол мне сделали уже в камере. Медицину представляла толстая тётка предпенсионного возраста, а охраняли её от опасного меня двое затянутых в камуфляж лбов. Наверное, этот укол и привёл меня в сознание.
Врачиха не сказала ни слова, и уж тем более охранники. Будто я предмет мебели. Кстати, мебели как таковой в камере почти и не было. Откидная койка, на которой я лежал, у противоположной стены – узенькая, в ладонь шириной, закреплённая уголками скамеечка. Ещё имели место щербатый унитаз и, в ржавых потёках, раковина умывальника. Окна нет, свет сверху, с матового плафона на потолке. Впрочем, если сравнивать с темницей Философа – выходит более чем гуманно.
Но когда я остался в камере один – стало не до иронии. Мысли мои, отдохнувшие за время отключки, с удвоенной силой вгрызлись в мозг. Что случилось? Получается, в доме «любящей однополой семьи» была засада? Вспыхнувшие прожектора, хлынувшие чёрными тенями спецназовцы… А Дима? С ним-то что? «Переделка под игольчатый парализатор», сказал он. Ага, с грохотом выстрела, вспышкой пламени, нехилой отдачей. Врал, выходит, подпольщик Дима. Или не подпольщик. Или не Дима…
Следующая мысль была куда хуже. Если он дал мне настоящий пистолет, боевое оружие, и я пальнул в того, сунувшегося в гараж… Что с ним? Силуэт вроде исчез. Но мало ли отчего мог исчезнуть? А если я убил? И какая разница, что не знал, не хотел? Мёртвому от этого не легче. «Равно как и его доверенным лицам», всплыла казённая формулировка. Значит, я – убийца? Я, который доселе никого, кроме комаров, не лишавший жизни? И как теперь? Замаливать грех? Придётся, конечно, только вот никакими молитвами убитого не вернёшь к жизни. А у него, наверное, мама есть. Или жена. Или ребёнок. И много ли им проку с моего покаяния? Что я реально могу для них сделать? Квартиру продать и деньги на счёт перечислить?
Какая чушь! Квартира, деньги… Не будет никакой квартиры, я же арестован, я в тюрьме. На меня ж наручники надевали, вот, следы до сих пор на запястьях. Меня ж судить будут, и запросто пожизненное влепят. С моим-то куцым социальным индексом ни на что другое рассчитывать нельзя. Даже если и не убил… всё равно стрелял, и на пистолете мои отпечатки пальцев. Всё равно покушение на убийство.
А что же будет с Леной? В лучшем случае она целый день просидит на вокзале в Ярославле, где её никто не встретит. А если встретят? Кто? Если увезут? То есть уже увезли. Куда?
А Кирюшка? Теперь уж точно у него не будет нас с Леной. А что будет? Об этом и думать не хотелось, но мозги рисовали картинки одна другой гаже.
А Дед? Увидимся ли мы когда-нибудь? Утром он сказал, что увидимся… но ведь и на Деда бывает проруха. Как я надеялся на Валеру с Димой! Уверился уже, что действует дедова молитва, что вот они – неожиданно возникшие обстоятельства. А всё оказалось обманкой. «Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладёшь?». Дальше там как? «Чего не потеряешь, того, брат, не найдёшь». Но то, что потерял я, найти уже нельзя. Прин-ци-пи-ально.
Я пробовал молиться, но совершенно без толку. Даже «Отче наш» не удавалось прочитать от и до – вклинивались скользкие, змееподобные мысли, и чем дальше, тем больше крепло сознание: Его тут нет. В храме – да, на иконе – да, у Деда в Дроновке – несомненно, в квартире нашей – ну, отчасти. А тут, возле унитаза, под негромко стрекочущем светом с потолка… И значит, никто мне не поможет. Сам, идиот, вырыл себе яму. Сам повёлся на сладкие речи отца Алексия.
И вот это было особенно тоскливо. Значит, и батюшка тоже? Тоже с ними? Или его использовали втёмную? А ведь я этого никогда, наверное, не узнаю. А значит, останется подлый червячок, будет время от времени пробуждаться от спячки и грызть мою и без того изгрызенную душу.
Когда-то я читал старые, прошлого века стихи… не помню уже автора. «Я душу иногда изображаю // старинным замком с башнями и рвом». Если так, то моя душа сейчас – старинный замок после бомбардировки чем-нибудь современным – вакуумными фугасами, например.
– Ну что, Саша? – вырвал меня из задумчивости Лукич. – Говорить-то можете?
– Могу, – глухо ответил я, уставясь в пол. Ничего там, внизу, не было интересного. Тёмно-зелёный ламинат. Сколько таких полов я положил с тех пор, как пошёл на стройку… – Только сперва скажите, где моя жена, Лена? И сын…
– Да не дёргайся, с Леной всё в порядке, отдыхает в нашей, так сказать, служебной гостинице. Про сына чуть позже поговорим. А пока, для начала, посмотри. Вон сюда, – указал он пальцем.
Участок стены, до сих пор ничем не отличавшийся от общего фона, вдруг поплыл сиреневой дымкой, а потом в нём нарисовался белый прямоугольник. Ничего необычного, голографический проектор, понял я.
На экране меж тем появилась заставка информационного канала «Сверхносвости». Затем миловидная девушка, нахмурив брови, сообщила:
– Срочное сообщение из Нижегородской области. Сегодня в десять часов утра произошёл чудовищный взрыв в деревне Дроновка Боровского района. Полностью уничтожено несколько домов, ещё больше строений пострадали в той или иной степени от взрывной волны и начавшихся пожаров, которые удалось потушить лишь к двум часам дня. С подробностями наш специальный корреспондент Виктор Мешалкин.
Интерьер студии сменился картинкой дымящихся развалин. Виктор Мешалкин – долговязый, совсем молодой парень – скороговоркой бормотал на камеру, сопровождая быстрые слова ещё более быстрыми жестами.
– Взрыв прогремел в десять утра, когда из-за непогоды большинство местных жителей находилось в своих домах. Эпицентр взрыва, как полагают специалисты из Департамента чрезвычайных ситуаций – дом, принадлежавший старейшему местному жителю, служителю культа архимандриту Димитрию, в миру Павлу Александровичу Белкину. Как сообщают наши источники в Московской патриархии, Белкин на днях ожидал визита наиболее реального кандидата на пост Патриарха Русской Православной Церкви, митрополита Пафнутия. По словам тех же источников, архимандрит Димитрий, имевший огромное влияние на ортодоксальную часть православных христиан, собирался официально благословить митрополита Пафнутия на участие в избирательной кампании и призвать верующих поддержать его кандидатуру. Поэтому основная версия следствия – террористический акт, совершённый православными экстремистами, целью которых было сорвать победу митрополита Пафнутия на выборах. В итоге, по предварительным оценкам работников ДПЧ, в Дроновке погибло восемнадцать человек и сорок три получили ранения и ожоги разной тяжести. О дальнейшем развитии событий мы будем информировать вас в каждом выпуске новостей.
На экране промелькнули кадры: Дед служит литургию в церкви Георгия Победоносца, Дед в своей келье Макарьевского монастыря, Дед колет дрова на заднем дворе. Потом экран побелел, забегали сиреневые сполохи – и вот уже стена как стена.
– Искренне соболезную, – прокомментировал Иван Лукич. – Я понимаю, какую роль он играл в вашей жизни. Но что поделаешь, все мы смертны, и как говорил классик, иногда внезапно смертны. Вам, конечно, тяжело дался этот шаг, Саша. Были всякие там внутренние борения, но ложно понимаемый долг перед Церковью перевесил человеческие соображения. Убить родного дедушку, ну и рядом случившихся – это ужасно, конечно, но ради высшей цели-то всё дозволено! Вы ж святое Православие спасали, не больше не меньше…
– Что вы такое несёте? – захлебнулся я криком.
– Это не я, – улыбнулся Лукич, – это вы, Саша, будете нести. Так сказать, свой крест. Вы подробно изложите всё следствию и прессе. Ну, конкретные детали мы потом уточним. Но суть такая: вы православный террорист, член подполья, боевого крыла замаскировавшихся ортодоксов – Дружины Православного Действия. Вы – то есть не только вы лично, но ваша группировка, очень боитесь победы митрополита Пафнутия на патриарших выборах. Боитесь, потому что он борется со средневековым мракобесием, жестокостью и косностью в Церкви, потому что он хочет явить миру православие с человеческим лицом, православие, которое не мешало бы современному человеку быть членом общества, радоваться жизни… ну и так далее.
– Что за бред? Вы с ума сошли? – я подался вперёд, и мой куратор… видимо, бывший уже куратор отступил на шаг. Но ничуть не изменился в лице.
– Продолжим. Вы ездили 17 ноября к своему деду, архимандриту Димитрию, с целью убедить его выступить перед верующими в поддержку другого кандидата, митрополита Даниила. Однако уже тогда вас… ну, или ваше руководство, грызли сомнения, что отец Димитрий благословит именно Даниила, а не Пафнутия. Поэтому вы, Саша, по приказу своих полевых командиров, заложили в дедушкином доме бомбу с сетевым управлением. Вакуумный фугас RJ-439, если точнее. На случай, если дедушка поведёт себя неправильно. Так и случилось: он велел вам записать на камеру своё видео-обращение, в котором горячо поддержал Пафнутия. Вот, кстати, полюбуйтесь.
Он щёлкнул кнопками пульта – и на стене вновь появился экран. Только теперь на нём был Дед. Иконостас в восточном углу его комнаты – Дед называл её «светёлка». Утреннее, только что взошедшее солнце лезет в окна, и потому лики на иконах почти не видны. Дед сидит под углом к свету и неторопливо, раздумчиво говорит. Всё, как на моей записи, один в один. То есть картинка один в один, а звук – совсем другой. Голос Деда произносит немыслимое:
– Настоящий христианин… должен быть трезвым и рассудительным… Нужно сберечь Церковь… Митрополит Даниил добрый пастырь, но… для Церкви он явился бы бедствием… А вот митрополит Пафнутий… он способен вести Церковный корабль в тихую гавань… Христиане… Каждый, кому дорога наша Церковь… Должен поддержать… владыку Пафнутия, если он с Божией помощью…
Лукич снова нажал что-то на пульте, и звук вырубился.
– Что это? – бесцветным голосом спросил я.
– Это – запись, которую вы, Саша, пытались уничтожить. А правда, качественно сделано? Над монтажом работали настоящие мастера… Слова-то вырезать и скомпоновать не проблема. Истинная проблема – интонация. Речь должна казаться совершенно естественной. Ни у кого ни малейшего сомнения не должно возникнуть.
– Зачем? – горько спросил я. Хотя уже понимал, зачем.
– Ну, это зависит от системы отсчёта, – улыбнулся Иван Лукич. – Наш общий знакомый в архиерейском сане сказал бы, что это простительная ложь, ибо на благо Церкви. А что касается нас… Впрочем, вот ещё и это посмотрите, для полной уж ясности.
На миг экран погас, но засветился вновь. Опять та же миловидная девушка.
– И снова с вами информационный канал «Сверхновости» и я, Тамара Черникина. Срочное сообщение – на сей раз из Московской области. Предотвращено покушение на митрополита Псковского и Новгородского Пафнутия, одного из самых вероятных кандидатов на пост Патриарха Московского и всея Руси. Сегодня, в половину одиннадцатого утра, на его подмосковную дачу проникло трое православных фанатиков-террористов. Как сообщают источники в правоохранительных органах, преступники располагали сведениями, что митрополит Пафнутий находится там. Они были вооружены огнестрельным оружием и взрывчаткой. К счастью, злодейский план остался неосуществлён – митрополит в это время был в столице, на заседании Межрелигиозного совета по внедрению идей толерантности. Чётко и качественно сработала охрана резиденции. Но всё же один сотрудник пострадал, получил лёгкое ранение в ногу. Террористы задержаны. К сожалению, двое из них успели покончить с собой, приняли мгновенно действующий яд. Третий же участник банды сейчас даёт признательные показания. Им оказался тридцатишестилетний москвич, строительный рабочий Александр Белкин. Следствие, по словам источника, также проверит версию о его причастности к сегодняшним трагическим событиям в Нижегородской области.
Показали и картинку – увенчанный острыми башенками трехэтажный дом из розово-голубого кирпича, высокий железный забор, потом – тёмное пространство гаража и какая-то едва различимая фигура с вытянутой рукой. В руке, должно быть, пистолет. Всё это на фоне тихой, печальной музыки. Потом экран погас.
– Значит, так, Саша, – пояснил Лукич. – Ваше руководство узнало об утечке, узнало, что запись выступления отца Димитрия попала к журналистам. И тогда фанатики решились на крайние меры – физическое устранение митрополита Пафнутия. Минус в этом решении очевиден: рейтинг убитого архиерея резко поднимется, пойдут разговоры о его мученической кончине. Но зато за мёртвого и не проголосуют, а из оставшихся живых, кроме Даниила, никто особой поддержкой не пользуется. Опять же, победа Даниила окажется слегка подмоченной мокрым делом, – простите за каламбур. – Но главное – он всё-таки станет Патриархом и начнёт проводить нужную экстремистам церковную политику. Поэтому вас, вместе с двумя другими оболваненными фанатиками, послали в подмосковный посёлок. Вы шли на смерть и знали это. После убийства митрополита Пафнутия всем вам предписывалось принять яд, чтобы следствие не получило никаких ниточек к верхушке подполья. Да, знаю-знаю, самоубийство у вас, христиан, считается самым ужасным грехом. Но вам объяснили, что если на благо Церкви, то это уже не грех, а подвиг, что вы нынче же будете в раю. Как видим, православные экстремисты полностью заимствовали способы обработки сознания у исламских экстремистов. Что лишний раз наводит на мысль об общем тоталитарном знаменателе всех авраамических религий.
Он перевёл дыхание. Уселся на край стола. Пристально посмотрел на меня.
– Запоминайте, Саша, запоминайте. Всё это будете рассказывать и официальным следователям, и, главное, журналистам.
Я смерил его презрительным взглядом.
– С чего вдруг? Почему вы думаете, что я соглашусь на эту игру?
– Согласитесь, – увесисто сказал Иван Лукич. – Вы забыли об одном мелком обстоятельстве: о жене и о сыне.
Перед глазами у меня заплясали цветные точки, в ушах зашумело – и я бросился на Лукича. Придушу гада, и будь что будет…
А потом вдруг пол стремительно приблизился к моим глазам – и в носу стало больно и мокро. Не врал, значит, мой мучитель про тайский бокс.
17.
За окном было темно, в мозгах было темно, и только в глазах – светло: вместо табурета сюда принесли кресло с фиксаторами, и сейчас я сидел с пристёгнутыми руками и ногами. Настольная лампа Лукича светила мне в лицо. Не прожектор, как в гараже Пафнутия, но всё равно неприятно.
– А как иначе, если ты на людей кидаешься? – спокойно пояснил Лукич, в очередной раз перейдя на «ты». – Только-только начали нормально разговаривать, а ты психа включил. Ну я, конечно, понимаю, супружеские чувства, родительские… у самого двое охламонов растут. Но ты ж не я, ты христианин, ты должен, во-первых, постоянно пребывать в трезвении и контролировать свои эмоции, во-вторых, должен смиряться перед обстоятельствами, типа Божия воля… ну и в-третьих должен прощать врагов своих. Ты ж меня врагом считаешь, верно? – он наклонился и уставился мне в глаза.
Я промолчал.
– А зря, между прочим. Я тебе, Саша, зла не желаю. Видишь, даже наручники не надел, хотя по уставу и полагается, если арестованный ведёт себя агрессивно. Но лично мне ты симпатичен, и мне действительно неприятно, что так вот склалось. Ну не повезло тебе, что у тебя такой дедушка значимый… плюс наложилось на эти выборы дурацкие и ещё кое-чего. Попал ты, как говорится, на острие.
Он отошёл к столу, что-то принялся там искать, сходу не обнаружил и снова заглянул мне в лицо – уже с другой стороны.
– А вот, кстати, если б уломал деда на правильное обращение, за Пафнутия – все были бы живы-здоровы. Думаешь, нам такие методы в кайф? Но тут политика, Саша. Большая политика. Она, понимаешь, как асфальтовый каток: если уж попался, расплющит в блин.
– Кто? – выдавил я из разбитых губ. – Кто взорвал Деда?
– Откуда я знаю? – пожал плечами Лукич. – Это не моя зона ответственности. Я взрывами не командую, я, так сказать, болтолог. Не в смысле положить болт, а в смысле болтать. Проводить, в смысле, работу с людьми. А кто взорвал… К дедушке ведь разные богомольцы ездили, так? Исповедаться у последнего старца – это ж круто! Я даже не в курсах, когда там заложили этот заряд. Может, год назад, может, больше. Главное, когда сигнал с пульта пошёл. А пошёл он, Саша, когда выяснилось, что ты и не думаешь снова к Деду в ноги кидаться и молить о спасении правнука. А совсем даже наоборот – связываешься с тёмными личностями, играешься в войнушку. Значит, на тебя надежды уже нет, значит, по-другому уже надо вопросы решать.
– Да уж, и правда с тёмными, – мрачно признал я. – Ваши сотрудники, конечно?
– Смежники, – равнодушно прокомментировал Лукич. – Из девятого управления. Они вообще другой темой занимаются, подполье выявляют, реальное. Думаешь, выдумки? Думаешь, все террористы такие же нарисованные, как и ты? Нет, брат Сашка, в вашей церковной тусе всякой твари есть, и даже не по паре, а в ассортименте. Ну а начальство наше общее просто скоординировало две разные операции. И без того нужно было на Пафнутия смальца покуситься. Для пиара полезно… Ну и для самого владыченьки тоже: чтобы понимал, как всё серьёзно, чтобы без фортелей… а то ведь в другой раз у ребят и получиться может, верно? Мутный он тип, этот ваш Пафнутий, между прочим. Хрен поймёшь, чего ему по реалу надо. Со всеми крутит – и с вашими, и с нашими. Но, по крайней мере, дядька понятливый, с ним дела делать можно. Пока, во всяком случае.
Я собрался с силами и задал самый очевидный вопрос:
– Зачем вы мне всё это рассказываете? Раз не боитесь, что болтать начну, значит, я труп?
– Ну зачем же так? – укоризненно скорчился Иван Лукич. – Зачем сразу о людях плохо думать? Мы без нужды никого не киляем, ты нам, наоборот, живой нужен. Живой, здоровый и разговорчивый. Но говорить, конечно, будешь только то, что надо. А рассказываю я тебе всё это, чтобы иллюзий не строил, чтобы у нас взаимное доверие было. Нам с тобой, Саша, ещё работать и работать. На общее, так сказать, благо.
– Ну, в чём ваше благо, это понятно, – заметил я. – Небось, дырку для ордена уже просверлили. А моё?
– Тебе нарисовать положительный сценарий? – широко улыбнулся Лукич. – Легко. Итак, если будет у нас мир-дружба-жвачка, то продаём мы твою столичную квартиру, на часть средств покупаем неплохой домик в каком-нибудь городке-спутнике, Талдом, например, или Пущино, остаток бабок переводим на счёт твоей Леночки. Потом оформляем как бы решение ювеналки, отдаём Леночке сыночка Кирюшеньку, и едут они в свой Талдом, ведут жизнь тихую и безмятежную. Под нашим присмотром, конечно. Не сомневайся, проживут, не останется супруга твоя без работы. Что-нибудь скромненькое, достойненькое подыщем. Вот прикинь, свой домик, огородик, и кур ещё можно завести, уток. Козы ещё неплохо, можно и молоко ихнее продавать, и шерсть ихнюю стричь, тоже спросом пользуется. Голодать не будут. Ну и о душе подумать можно, с таким расчётом домик подберём, чтобы рядом церковь, и батюшка ревностный, даниловского, так сказать, гнезда птенец…
– А мне в этом положительном сценарии место есть? – голова у меня всё ещё болела, в носу отдавало кровью, и опухали разбитые губы.
– А с тобой, Александр Михайлович, расклад особый, – посуровел Лукич. – Ты же у нас не абы кто, а террорист номер один. Ты и дедушку сгубил, и Пафнутия прибил… ну, то есть чуть-чуть не прибил, но чуть-чуть, как мы в детстве говорили, не считается. Ну сам прикинь, отпустить мы тебя никак не можем, это всю малину испортит. Так что будут два громких процесса, по Дроновке и по митрополичьей дачке. Ты будешь главным, но не единственным фигурантом.
– Что, Диму с Мишаней рядом со мной посадите? – осклабился я. – Одного по правую руку, другого по левую?
– Ну, у тебя и аппетиты, – заржал бывший куратор. – От скромности явно не помрёшь. Только не было сегодня с тобой никаких Дим и Мишань, мы тебе другую компанию подберём. Непосредственные подельники – это даже неинтересно, ты ж в курсе, они как бы отравились, и личности их как бы установить не удастся. Ты ведь их тоже только по кличкам и знал, один был… ну, допустим, Пересвет, а второй… Ослябля, если не ошибаюсь. А у тебя оперативный псевдоним был… ну вот что тебе больше нравится, Философ или Защитный?
Я похолодел… Значит, они и туда добрались? Но ведь R-подключения невозможно записать, как невозможно записать сны! Собственно, это и есть сны, только программно направляемые. Но программа-то задаёт общую канву, а детализация идёт за счёт подсознания клиента. Может, они и мысли уже читают?
– Ой, извини, Саша, – Иван Лукич неуклюже притворился смущённым. – Кажется, я задел интимное… Понимаю-понимаю, просто, знаешь, интересно было на твои подвиги посмотреть, да и подмогнуть смальца.
– В каком смысле? – я удивился совершенно искренне.
– В прямом. Мы же там, в R-подключении, общались. Илюшка я, короче, твой как бы денщик и всё такое.
Если бы меня до того не били по голове – сейчас я сидел бы как дубиной стукнутый. Но резиновую дубинку спецназовца я уже затылком словил, поэтому сравнение не годилось. А вот пыльным мешком пришибленный – это да, это в тему. Мне вообще казалось сейчас, что сижу я в пыльном мешке, завязанном на верёвочку. И что с этим мешком дальше будет? В болото кинут? В яму выгребную?
– Короче, мне кажется, ты не догоняешь, – заметил моё состояние Лукич. – Успокойся, ты не один такой. В общем, объясняю на пальцах. Вот появилась три года назад эта штучка, R-подключение. Что там в рекламке? Сперва подробнейшее компьютерное тестирование, в ходе которого определяются твои вкусы, пристрастия, интересы. Потом навороченный софт разрабатывает специально под тебя мир, в котором тебе по кайфу, с которым у тебя полная психологическая совместимость. Потом тебе продают аппаратуру – шлем со встроенным хардом и софтом. Ты надеваешь этот шлем, начинает работать софт, погружает тебя в гипнотический сон, даёт тебе вводную, на основе данных тестирования. И ты начинаешь себе это снить. Живёшь там полноценной жизнью, за минуты здесь могут проходить дни там, а при каждом следующем подключении твоё подсознание заполняет лакуны… с учётом новой вводной. Правильно излагаю, да?
Я молча кивнул.
– Ну так вот, это, скажем так, одна сторона медальки. – Лукич продолжал свою лекцию. – А фишка вся в том, что вводная составляется не только с учётом твоего тестирования. Данные тестирования поступают на особый сервер, обрабатываются особым софтом. Вот прикинь: таких, как ты, с примерно похожими вкусами и интересами, допустим, десять тысяч. Вам всем сочиняют один и тот же мир, Новую Византию эту самую. Потом каждый из вас надевает шлем, получает общую вводную и начинает снить себе что-то. А дальше включается обратная связь. Софт начинает тестировать тебя, пока ты в гипнотическом сне. И ты отвечаешь на вопросы… не голосом, а как-то иначе, я ж не спец, я деталей не знаю. Короче, софт выясняет, что ты там в своём сне делаешь… не детали, а стержневые моменты. Эта инфа посылается на сервер, и с учётом твоих действий корректируется общая легенда, у всех остальных десяти тысяч слегка меняется вводная. По-простому скажу: мы в R-подключении не каждый только свой сон видим, а и друг с другом общаемся. Поэтому через наши взаимодействующие сны творится единая реальность. Просекаешь? Ты спишь и видишь себя крутым важняком Святой Защиты, братом Александром, я сплю и вижу себя твоим слугой Илюшкой… Ну ладно, я-то особый случай, у меня это не для кайфа, а по работе, за тобой присматривать, изучать. Но остальные, выходит, сообща творят некую реальность. Физически несуществующую, но что с того? Душа – она тоже ведь, по вашей вере, физически не существует… а ведь есть.
Вот оно, значит, как… Значит, я и здесь у них под колпаком, и там у них под колпаком. Где же я свободен? В настоящих снах? А вдруг они и туда пролезли?
– А зачем вообще всё это? – я спросил механически, не надеясь на честный ответ. Но Иван Лукич с готовностью ответил:
– Ну не ради же грошовой абонентской платы. R-подключение, Саша – это полезнейшая для общества вещь. Вот смотри: жизнь у людей одновременно и нервная, и скучная. Стрессы там всякие. Дома, допустим, его жена тиранит, или у неё муж эгоист стопроцентный. На работе грызня, подсиживают все друг друга. Дети, опять же, достают… Ехать куда – часами в пробках стоять, флаер-то мало кто пока себе позволить может, а как все смогут – пробки и в воздухе будут. Новости посмотришь – и жить не хочется. То кризис, то землетрясение, то новая зараза какая, то экологической катастрофой пугают, то технологической. Сетевизор врубаешь – а там тебя снова грузят. Короче, копится напряжение, звереет человечек. Ну и общий градус повышается. Надо, значит, как-то пары спустить, причём индивидуально каждому. И вот появляется R-подключение. Приходишь ты с работы, усталый и злой, надеваешь свой шлем, ныряешь в мир своей мечты… И там ты живёшь по-настоящему, ярко, красиво… сенсорный голод свой удовлетворяешь, духовную жажду опять же. Потом выныриваешь по таймеру – и готово дело: ты уже не тварь дрожащая, а человек, ты реализовался как личность. Это тебе не примитивные компьютерные игрушки сорокалетней давности, не мыльные сериалы… И уж всяко не наркотики – ни вреда здоровью, ни физиологической зависимости.
Иван Лукич выдержал театральную паузу. Затем добавил:
– Ну а к тому же, это переводит в безопасную сферу дурную энергию. Пусть христиане резвятся в своей реальности, исламисты – в своей, и коммунистам свой рай найдётся, и прочим извращенцам. Лишь бы тут, в исходном мире, не гадили. А там – пожалуйста, расслабляйтесь на всю катушку. Усёк?
– Господа, если к правде святой Мир дорогу найти не сумеет — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой, – с чувством продекламировал я.– О! Самое то! – поднял палец Лукич. – Ты понял, значит!
– Думаю, лучше всё-таки дорога к святой правде, – не хотелось мне с ним соглашаться, хотя и огрызаться было глупо. Умнее всего, наверное, было бы сейчас молчать и слушать.
– Святой правды у тебя в Новой Византии выше крыши, – парировал Иван Лукич. – А здесь, в слякотной нашей земной жизни, другая задача. Друг друга не сожрать и планету не угробить окончательно. А единственное средство к тому – глобальная экономика. А чтобы глобальная экономика крутилась как следует, люди должны быть правильными. Соответствовать ей должны. Это значит – во-первых, высокие потребности. Если ты десять лет в одних штанах будешь ходить, пока не порвутся – значит, ты нагадишь всей отрасли. Значит, те, кто шьёт штаны и кто их продаёт, теряют работу. Ну а силой тебя заставить штаны покупать нельзя – это ж только при тоталитаризме можно было бы. Но при тоталитаризме рынок дышит плохо. Значит, заставлять нельзя. А что тогда? А тогда воспитывать тебя надо по-тихому, формировать у тебя потребность в новых штанах. Ну и во всём остальном. Это первое. Усвоил?
Я молча кивнул. Старые, истёртые банальности. Неужели он сам в них верит?
– Дальше, высокая мобильность – продолжил свою лекцию Лукич. – Если все будут сиднем сидеть и не захотят шевелиться – значит, в макроэкономике кровь начнёт застаиваться. Вот сидишь ты в своём Мухосранске без работы и без штанов, чистишь зубы пальцем, а в Сраномухинске завод построили, по производству цифровых зубных щёток. Что нужно? Чтобы ты, как есть без штанов, сорвался с места и поехал в Сраномухинск, устроился на завод. Там тебе дадут штаны. И в итоге все будут и при штанах, и при щётках. Но опять же, силой тебя туда никто не погонит. Надо, чтобы сам захотел. А значит, тебе по барабану должен быть всякий там дым отечества, корни, берёзки с балалайками. Нужно, чтобы ты думал как в пословице: рыба где глубже, а человек где лучше. Это второе. И, наконец, третье. Это сознание расширить, от предрассудков избавиться. Потому что именно предрассудки заставляют тебя сперва десять лет ходить в одних штанах, а потом сидеть на голой попе ровно, любоваться родными берёзками и ни фига не делать. А потом ещё удивляться, если кердык наступит. Так он оттого и наступит, что ты в новый мир не вписался и другим мешаешь вписываться. Понял, к чему клоню?
– Понял, – вздохнул я. – Христианство мешает, да?
– Мешает, – согласился бывший куратор. – Не одно оно только, любая религия, в общем. Но религии различаются ведь и по степени упёртости. Да и внутри религии тоже очень по-разному может быть. Вот посмотри на иудеев. Да, есть у них жалкая кучка ортодоксов в шляпах и пейсах, дикие люди, как из пятнадцатого века. Но большинство-то – нормальные, продвинутые. В глобальный мир вписались, а что они там по субботам зажигают – это экономике не вредно. Теперь вот муслимы… Помнишь, какими злобненькими были всего полвека назад: А как присмирели… Ну, не считая Мавритании, конечно, но в мировом масштабе это семечки. А причина-то чисто экономическая – после того, как холодный термояд изобрели, нефть в цене упала, значит, саудитов уже можно было к ногтю взять, а остальных – сытно подкормить в обмен на лояльность и интеграцию. И сам видишь – сработало. Как их из Саудовской Аравии подкармливать перестали, так они ваххабитов своих передушили и делом, наконец, занялись. Теперь, значит, христианство. С католиками та же ботва, что и с иудеями. Кучка непримиримых и масса вменяемых. Протестанты – в общем, тоже. Особых проблем не доставляют. Остаётесь только вы, православные. В мировых масштабах, может, от вас особого вреда и нет, но здесь, в Московской Федерации… тут вы опасны.
– И чем же мы опасны? – вздохнул я. – Террором, который вы же сами и придумали?
– Да потому и придумали, – пояснил Лукич, – чтобы влияние ваше ослабить. Потому что влияете. Ориентиры, понимаешь, даёте. Высокие смыслы… которые на практике оборачиваются нежеланием покупать штаны и работать. Ну и что с вами делать обществу? При тоталитаризме-то живо бы к ногтю взяли, но у нас свобода. Каждый имеет право исповедовать и проповедовать. Значит, тут деликатно нужно. Поэтому мы вас аккуратно вытесняем. Нежно. Никто ж церкви ваши не рушит, в тюрьму за веру не сажает. Просто живите тихо, не суйте нос куда не надо, не смущайте людей. Потому и запреты на профессию, контроль в ЦКЛ – это просто, как бы сказать, профилактика. Чтобы, глядя на вас, никому не хотелось так же вот маяться… А террористы – это нужно, чтобы народу как-то объяснить необходимость таких мер. Да, жалко людей, кто ж спорит? Но в том и суть любой политики: гнобить единицы на благо миллионов. А миллионы – на благо миллиардов.
– Слушай, Иван Лукич, – перебил его я. – Дай попить чего-нибудь. Жажда замучила.
– Погодь, – ответил он, – нам немного и осталось. Сейчас договорим, внесём все нужные ясности, условимся о дальнейшем – и будешь ты и пить, и есть, и спать. Причём сладко. Короче, мы уклонились от темы. А тема – это твоя дальнейшая судьба. Судьба у тебя, Саша, такая: выучить как следует всё, что надо, и соответствующим образом себя вести на процессах. Изобразить деятельное раскаяние, сдать подельников… Да ты не морщись, никого не подведёшь. Мы ж тебе и списочек дадим, кого ты как бы вспомнишь. Они все и так у нас проходят по разработкам, их участи ты уж всяко не навредишь. Ну, понятно, пресса вокруг тебя будет виться, отвечай правильно. Да, заблуждался, да, каюсь, да, буду всю жизнь грехи замаливать. Дадут тебе, конечно, пожизненное, тут уж никуда не деться, но сидеть будешь в нашей внутренней тюрьме, в хороших условиях. Не такая камера, как та времянка, где ты очухался. Там скорее как номер в гостинице. Только окно непробиваемое и дверь на замке. Зато и комп, даже с выходом в сеть. Разумеется, в режиме read-only. И телевизор, и холодильник, и даже бар. Ну и, само собой, R-подключение. Сражайся там, в Новой Византии, с еретиками и оборотнями, геройствуй, набирай положительные эмоции. Раз в год – видеофонный разговор с женой и сыном. Ну скажи, разве плохо?
– Хорошо, даже замечательно, – признал я. – Прямо вечный санаторий. Только вот загвоздочка есть: не могу я предателем стать, не могу против веры пойти.
– Как геройски звучит! – хохотнул Лукич. – Саша, ты не перепутал? Ты не в Новой Византии, ты не брат Александр в плену у сатанистов. Ты здесь, у своих. И никто от тебя не требует предавать веру, отрекаться от Христа, топтать крест и прочие глупости. Да, забыл сказать: твои религиозные потребности тоже удовлетворим, раз в месяц будет батюшка приходить, исповедовать, причащать. Ни от чего отрекаться не надо, что ты! Сейчас не сто лет назад!
– А если я всё-таки откажусь? – тихо спросил я.
– Тогда…. – задумчиво протянул Иван Лукич… – Тогда от демонстрации пряника переходим к демонстрации кнута.
18.
«Господи, пусть это будет сон! – повторял и повторял я мысленно. – Пусть это будет сон! Ну или хотя бы R-подключение!»
Но всё было слишком реально – решётка на окне (дань традиции, очевидно – могли бы и непробиваемое стекло поставить), бьющая в глаза лампа, широкое, усатое лицо Лукича – он походил сейчас на обожравшегося сметаной кота.
– Ты пойми, Саша, – начал он, – лично я такого не перевариваю. Но работать же надо… Короче, так. Шантажировать женой не буду, потому что нормальные люди всё-таки за детей дрожат больше, эта зацепка надёжнее. Так вот, Саша, сын твой пока, – мне показалось, что он облизал это слово, точно миску из-под сожранной сметаны, – находится в приюте, то есть в центре временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения. Мы его пока притормозили там. Но всё, что я тебе говорил про крепкую моногендерную семью – это не туфта, это святая правда. Так что если мы с тобой не договоримся душевно, ну и если ты потом начнёшь козлить – тут же отправляем пацана этим самым Полозкову с Кривулиным. Да, Дима тебе насчёт их имён не соврал. Всё равно ведь никому рассказать не успел бы… А я тебе сейчас устрою презентацию про эту сладкую парочку…
Он вновь сделал на стене экран. Вот за высоким забором – почти таким же, как у Пафнутия – появился двухэтажный дом под двускатной крышей. Тоже кирпичный, но без особых затей, серый. Зато над крышей развевался полосатый флаг – все цвета радуги. Перед домом был газон, дальше – парники, грядки, яблоневый сад, почти скрывающий какие-то длинные сараи. Всё в зелени – летняя съёмка.
– Как видишь, внешне всё выглядит прилично, – пояснил Иван Лукич. – Однако внутри есть свои фишки. Как я уже тебе говорил, Полозков с Кривулиным специализируются на мальчиках, оставшихся без родительского попечения. Называется всё это «приёмная семья “солнечный круг”». Помнишь, песенка такая была, сто лет назад? Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки… Занимаются они этим уже пятнадцать лет, через их нежные руки прошли десятки подростков. Я уж деталей не помню, но могу посмотреть по базе. Поступающим к ним мальчикам они быстро и энергично объясняют, что жить теперь придётся по новым правилам. В отчётах своих, которые они посылают раз в полгода в областной ювенальный центр, это называется «привитие толерантного отношение к эротическому многообразию». А говоря по-простому, имеют их по-всякому. Причём, что интересно, с официального согласия детишек. Ты ж знаешь, возраст согласия ещё с 2039-го почти по всей планете снижен до двенадцати лет, после мюнхенского палева. Так что, поступая в «Солнечный круг», детишки подписывают соответствующие бумажки. Ну уж не знаю, насколько добровольно… Может, поначалу кто-то рыпается. И вот с теми, кто рыпается, проводят строгую воспитательную работу. Примерно так…
На экране возникли кадры, от которых меня натурально замутило.
– Не боись, особого вреда здоровью от этого нет, – поспешил успокоить меня Лукич. – Но внушает, правда? Вот тебе, взрослому мужику, от этого взбледнулось, а представь, каково пацану мелкому? Но это ещё так, мелочи. Вот тут уже кое-что посерьёзнее. Смотри, это ихний подвал. Специально оборудован для таких дел.
Смотреть было жутко и омерзительно, не смотреть – невозможно.
– Но ведь это уже чёткая статья, – губы у меня ощутимо дрожали. – Даже при всех этих ваших толерантностях…
– Ну да, статья, – весело согласился Иван Лукич. – 189-я статья Уголовного кодекса Московской Федерации. Изощрённые систематические истязания. И 191-я ещё, часть вторая: членовредительство, ведущее к ограничению жизненной активности. Но ты ж знаешь, абсурдная жестокость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть будь это другие человечки, полиция их прихлопнула бы на первом же звоночке. Но эти человечки особые, особенно Кривулин. Очень серьёзные человечки, на серьёзных темах сидящие. Поэтому ради общего блага мы их пока не трогаем. И они знают, как себя надо вести по разным вопросам, чтоб не трогали. Это реальная политика, Саша. Это ж не только у нас, это всюду. И в Штатах, и в Китае, и у евриков…
– Цель оправдывает средства? – пробормотал я, гладя на невозмутимое лицо Лукича. Интересно, получится ли доплюнуть? Вряд ли. Во рту – пустыня Кара-кум.
– А занятные средства, правда? – Иван Лукич вжился в роль экскурсовода. – Просекаешь, зачем вот эта конструкция? Сюда продеваются руки, сюда – шея. А вот этот девайс питается от аккумуляторных батареек. А вот это приспособленьице используется уже после того, как непослушного мальчика…
И тут меня вырвало. Уж, казалось бы, нечем – как утром чаю выпил, так больше внутрь ничего не попадало, а вот вывернуло наизнанку. Желчью, судя по гадостным ощущениям. Несколько брызг попало на китель Лукича, и тот брезгливо стёр их вынутой непонятно откуда салфеткой.
– Слабоват ты, Саша, слабоват, – сухо заметил он, погасив экран. – Интересно, как ты при такой мягкотелости в Новой Византии еретиков допрашивал? Только вот не надо ля-ля, что словами одними лишь, без пыток. Мы ж взрослые люди, мы ж понимаем, что техника допроса всюду одинакова. Что в испанской инквизиции, что в ЧК, что в ФБР, что у вас на сервере, в смысле, в Новой Византии. Но вернёмся к нашим баранам. То есть к нашим любящим папе и папе. Ты хочешь, чтобы твой Кирюшенька попал туда? Хочешь, чтобы его засунули в тот станок, от которого ты проблевался? Хочешь, чтобы его имели во все дырки? Причём не только сладкая парочка, но и их старшие ребятишки? Хочешь, чтобы он сам со временем стал таким старшим ребятёнком и отыгрывался на малолетках? Если не суициднется, конечно. У них там уже три случая таких было, но мы помогли отмазаться. Типа право на смерть – это законное право человека, а никакого доведения и в помине… О душе его подумай, о спасении. Что тебе дороже – его участь или дурацкие принципы? Ты учти, если откажешься – мы тебе в камере тоже экран поставим и каждый день будем кино крутить… Про твоего сыночка, в режиме реального времен. Ну давай, посиди, помолчи, подумай.
Он повернул лампу, дав, наконец, отдых моим глазам. Сейчас даже свет от потолочных плафонов казался приятной полутьмой.
И что тут было выбирать? Мне представились огромные весы, с медными, позеленевшими от времени чашами и острой, похожей на копье, стрелкой. На левой чаше стоял Кирюшка. В майке, измазанной клубничным соком, с исцарапанными коленками, с разлохмаченными пшеничными волосами. Он смотрел на меня по-взрослому, испытующе. И словно что-то хотел показать глазами, на что-то намекнуть, но я не понимал его. На правой чаше стояли мои дурацкие принципы. Вернее, лежали – груды книг. Догматика, литургика, каноническое право… Чаши были в равновесии, но на одной – мёртвые буквы, а на другой – живой человек. Мой сын. Иван Лукич, конечно, враг. Настоящий, матёрый. Враг всего, что мне дорого, ради чего я живу. Но мой враг – прав. Пафнутии приходят и уходят, а Кирюшка… а Лена… Что, в конце концов, случится с Церковью, если я сыграю эту идиотскую роль покаявшегося террориста? Пафнутий так и так станет Патриархом и развернётся по полной. Но ведь не запретит же он Литургию служить, не полезет же толстыми пальцами догматику править? И так ли уж много от него зависит? Что, батюшки на местах разом изменятся, разом ломанутся толерантность проповедовать? Как крестили, исповедовали и причащали, так и будут. Церковь – это же как океан. Мало ли какие волны на поверхности, а в глубине – всё будет по-старому, всё тихо. Пусть владыка тужится, обнимается с безбожным миром, спасая свою «бутылку», гордясь собою, своим неоценённым подвигом. А я спасу близких. Дальних же и без меня спасёт Господь… Я подошёл к левой чаше – и шагнул на неё, обнял Кирюшку.
– Ладно, – буркнул я, опустив подбородок на грудь. – Сыграю в вашем спектакле. Радуйся, дырку сверли! Только ведь и тебе, Ваня, умирать придётся. И что тогда?
Он пару секунд помолчал, потом широко улыбнулся, демонстрируя мечту стоматолога, и небрежно отмахнулся ладонью.
– Ой, Саша, ну какой же ты душный! Только-только по-умному начал, и опять. Я ж агностик, меня этим лечить не надо. Фиг его знает, что тогда… в смысле, когда помру. Тогда и будем разбираться. А сейчас дело делать надо. Не ради ордена, а чтобы не развалилось тут всё на фиг! Дошло?
– Дошло, – кивнул я. – Попить дайте. И помыться.
– Угу, – откликнулся Лукич. – И потанцуем… Короче, сейчас всё будет, все удобства. Только один маленький штрих. Бумажечку одну подпиши, и всё. Погоди, тебе ж неудобно…
Он проворно подскочил к моему креслу и отстегнул фиксаторы, стягивавшие мои запястья. Ноги на всякий случай оставил.
– Что за бумажка? – прищурился я. Не чтобы съязвить – глаза всё ещё болели, хотя свою инквизиторскую лампу Лукич выключил – чтобы разглядеть.
– Да вот, ознакомься, – он вынул из папки отпечатанный листок и сунул мне.
Взять сразу не получилось – пальцы затекли. Потом всё-таки мне удалось ухватить бумагу и поднести к глазам.
– Я, Белкин Александр Михайлович, официально заявляю, что добровольно, без какого-либо принуждения согласился сотрудничать с Восьмым управлением Комитета социальной безопасности МФ (контроль за религиозными сообществами), выполнять все указания своего куратора и информировать его по всем необходимым вопросам, для чего мне назначается оперативный псевдоним Летяга и выплачивается регулярное вознаграждение, – глухо прочитал я. – А почему дата прошлогодняя?
– Так надо! – весомо объяснил Лукич. – Стандартный бланк просто. Вот представь, задурил человечек, забыковал, решил нас на фиг послать… а у нас бумажка, и эту бумажку можно же и в общий доступ выложить. Очень некузяво тогда человечку выйдет. Считай, что это такой поводок. Ну, твой случай особый, ты всё равно у нас сидеть будешь, но порядок есть порядок. Можно сказать, ритуал. Давай, Летяга, подписывай. Да не боись, не кровью, на вот тебе ручку, супергель. Да, подложи, чтоб удобнее, чтоб на твёрдом, – и он, вынув листок из моих пальцев, накрыл им взятую со стола толстую книгу. – Держи.
«Прости меня, Господи!» – мысленно сказал я, сдавил ручку не отошедшими ещё пальцами и, сосредоточившись, поставил в нужном месте невнятную закорючку.
– Вот и всё, а ты боялся! – подмигнул мне Лукич. – Видишь, ничуть не больно!
Он выхватил у меня листок, а книга-подставка шлёпнулась на пол – переплётом вверх. И хотя перед глазами у меня плыло и струилось, я всё-таки сумел прочитать заглавие.
Это была Библия.
Я машинально потянулся поднять – и что-то больно щёлкнуло у меня в голове. Будто древний радиоприёмник у бабы Маши, программ было всего три и они переключались с такими же щелчками. Баба Маша категорически отказывалась сменить старьё на современную технику, до последних дней слушала этот раритет, память о её бабушке… Кабинет Лукича, его тараканьи усы, тёмно-зелёный пол – всё это не исчезло, но перетекло на какую-то другую грань и сжалось в пульсирующую белую точку. А я стоял в поле – диком, никогда не знавшем плуга. Колыхалось под ветром всякое разнотравье, свечками казались в изобилии пестревшие цветы, названия которых я не знал. Потому что таких ярких, словно изнутри горящих цветов – жёлтых, красных, голубых – просто не могло быть в природе. Но они были, и было огромное, в полнеба, заходящее солнце. От утоптанной, тянувшейся к синеватому горизонту дороги веяло жаром. Я опустил взгляд – и увидел свои босые ноги в холщовых штанах, увидел муравья, пытавшегося форсировать мою ступню, увидел золотые монеты, кем-то брошенные в пыль. Может быть, даже и мною. Попытался их сосчитать – и тут же сбился.
Тогда я поднял голову – и увидел Его.
Он был почти такой же, как на иконах – и всё-таки другой. Не было в нём торжественной властности, не было холодного спокойствия взгляда. Была Жизнь. Он отличался от всего, что я себе представлял, как лицевая сторона ковра от изнанки. От него исходил свет – но такой, какой видишь не глазами, а чем-то другим, для чего у меня не было названия. Он был… пронзительным, но не дырявил меня, а напротив, сшивал, собирал во что-то целое.
Я понимал: нужно что-то сказать, но разом забыл все слова. Да и какие могли тут быть слова рядом с Ним – со Словом?
Он тоже ничего не сказал. Окинул меня долгим, прощальным взглядом – и отвернулся. Вздохнул и зашагал прочь, по пыльной дороге – туда, навстречу малиновому солнцу. А я стоял где стоял – рядом с выброшенным золотом, и чёрный муравей сумел таки перебраться через мою ступню.
Тогда я заплакал, потому что мгновенно понял: всё. Он больше не вернётся, и я никогда не увижу Его лица. Неважно, что со мной будет – важно, что это будет без Него. И я сам в этом виноват, я сам выгнал Его, а перед тем – поцеловал в лоб, как тот, другой… Другой – но такой же.
Я мечтал о боли – может, она вытеснила бы из груди серую пустоту. Но ничего у меня не болело – ни ушибленная голова, ни разбитые губы, ни затекшие пальцы. Только зачем теперь это здоровое тело, если души в нём больше нет, сгорела душа, Его свет оказался для неё слишком жарким.
Откуда-то, с белого карлика, с другой стороны мира, отчаянно взывал ко мне точечный Лукич, делал знаки: не глупи, мол, подбери золотишко, пригодится! А я знал, что всё – зря.
Тут во мне снова что-то щёлкнуло, и я обнаружил себя в кресле, свесившимся набок в безнадёжной попытке поднять книгу. Сверху башней нависал надо мной Иван Лукич. Сжимал двумя пальцами вожделенную бумажку и сочувственно улыбался.
Тогда я прыгнул. Прыгнул вместе с креслом, к которому были пристёгнуты мои ноги. И отчаянным, звериным движением ухватил-таки, вырвал расписку из Лукичёвых пальцев. Треск рвущейся бумаги, стук сердца, звон в ушах.
Резкий хлопок, смешная, чепуховая боль в левой щеке.
– Пришёл в чувство? – презрительно поинтересовался Лукич, снова пристёгивая мне руки. – Опять фокусы? Ох, чую, намучаюсь я с тобой. Ну что ещё стряслось-то?
– Нет, – неожиданно для самого себя спокойно ответил я. – Так не будет.
– Что не будет? – осведомился Лукич, отойдя от меня на шаг.
– Ничего не будет, – пояснил я. – Ни сотрудничества, ни расписки… ничего.
– Что вдруг? – его губы чуть изогнулись, готовые улыбнуться.
– Неважно, – сейчас я говорил шёпотом, сил кричать уже не осталось. – Всё равно не поймёшь.
– Ну вот что, Саша, – твёрдо заявил он. – Мне это надоело. Что ты виляешь как глиста в кишке? Придётся наказывать. Сейчас я позвоню в приют и дам команду. Кирилла прямо через пять минут, на ночь глядя, отвезут в «Солнечный круг». Там уже на низком старте, ждут. Потом мы с тобой посмотрим прямую трансляцию оттуда… и вернёмся к нашему разговору.
Он вынул из поясного чехла комм. Занёс палец над клавиатурной панелью, и… И тут комм зазвонил сам. Острый сигнал, похожий на усиленный в сто раз комариный писк, разорвал в кабинете воздух.
– Да, Андрей Викторович! – голос Лукича мгновенно изменился, сделался бодро-предупредительным. – Что? Как?! Но там же контроль стопроцентный! Это невозможно в принципе! Так точно, бегу… только у меня сейчас на допросе Белкин. Да, понял! Есть! Немедленно!
Опустив руку с коммом, Иван Лукич сделался похож на раздавленный помидор. Не глядя на меня, шмыгнул к входной двери, распахнул её, заорал:
– Булкин, Назаров, где вы там, уроды!
Потом снова бросился в кабинет, принялся одновременно и давить кнопки на комме, и рыться в ящиках стола. Ни то, ни другое не увенчалось успехом, понял я по его озверевшему виду. Потом он подбежал ко мне, чуть ли не в ухо крикнул:
– Сидеть смирно тут! И без фокусов, всё пишется на камеру.
Потом выскочил из кабинета, и тяжёлая, обитая чёрной кожей дверь захлопнулась с мягким щелчком.
19.
И всё-таки я сумел порвать поганую бумажку! Только этим и оставалось утешаться, сидя в пыточном кресле. Больше нечем. Голову ломило всё сильнее, зверски хотелось пить, но всё это было неглавным. А вот заросшее невиданными цветами поле, и Он, уходящий от меня, и рассыпанное в пыли золото… это жгло, и с каждой минутой всё сильнее и сильнее.
Глюки? Бред? Внезапный сон? Да, вполне возможно. Такой бурный денёк выдался, что от придавленных мозгов можно ждать всякого. А если не бред и не сон? Если это по-настоящему? Если это знак оттуда?
Знак, что я проклят? Что я предал Его? Неслучайно же эти монеты… так и не удалось их сосчитать. Неужели тридцать? Но золотых! Получается, я продал Его дороже? Или это инфляция набежала, за две с лишним тысячи лет? И что теперь? Вешаться? Но вряд ли мне представится такая возможность.
А что же будет с Леной и Кирюшкой? Вернётся сейчас выдернутый начальством Лукич и сделает тот звонок. А потом прокрутит видео. И что я могу, кроме как снова подписать сотрудничество? А что мог бы сделать Он? Глупый вопрос. Он уже ничего не сделает, Он ушёл.
– Доброй ночи, защитный!
Я повернулся всем телом, и фиксаторы сдавили меня.
Ночной гость стоял у Лукичёвского стола. В грязном и рваном шерстяном плаще, босой. Лысина его блестела под плафоном, тонкие пальцы рассеянно барабанили по столешнице, а умные карие глаза пристально смотрели на меня.
А вот это уже точно глюк, – подумал я устало. Наверное, психика не выдержала, треснула. Может, это и неплохо, в данных-то обстоятельствах? О, дай мне Бог сойти с ума! Ведь хуже посох и тюрьма, не в обиду великому тёзке.
– Не бойся, защитный, ты не сошёл с ума, и я не снюсь тебе, – Философ успокаивающе поднял ладонь. – Сейчас, погоди минутку.
Он сунул руку за пазуху, вынул оттуда короткий кривой нож и, подойдя ко мне вплотную, принялся резать фиксаторы. Это у него получалось не быстро – эластичный пластик плохо поддавался кустарному изделию сельского кузнеца. И зачем, кстати, вся эта художественная резьба – не проще ли отстегнуть? Пахнет безумием… Я втянул ноздри – ощутимо пахло потом, овечьим навозом, дымом костра… и ещё чем-то. Может, сосновым лесом?
– Ну вот, наконец-то, – он отбросил в стороны ошмётки фиксаторов. – Вставай, разомни ноги.
Если это галлюцинация, то очень полезная. Я осторожно поднялся, сделал несколько шагов. Ноги, вроде, меня держали, хотя бежать с копьём наперевес в атаку я бы сейчас уж точно не смог. Потом принялся тщательно разминать руки.
– Попей вот, – протянул он мне глиняную баклагу. – Родниковая, из источника святого Иринея. Знаешь, есть такой в предгорьях Восточного кряжа? Ещё и часовню рядом поставили. Попей, полегчает.
Я глотнул холодной, будто только что набранной из родника воды. Потом ещё, ещё. Обезвоженный организм требовал.
– И вот хлеб, – добавил Философ, протянув мне увесистый ноздреватый ломоть. – Это я в Свято-Макариевском монастыре разжился. Не торопись, времени у нас довольно.
– Вы полагаете? – горько усмехнулся я. – Сейчас Иван Лукич вернётся с совещания…
– Не сейчас, – возразил мой собеседник. – С точки зрения стороннего наблюдателя – я знаю, ты любишь эту фразу – прошёл только один миг. А можешь, если хочешь, вспомнить теорию относительности, хотя всё это не про то и не о том. В общем, времени у нас достаточно.
– Кто вы? – в упор спросил я.
– Там, где мы раньше встречались, меня называли Философом, – невозмутимо ответил он. – Можешь и сейчас так же называть. Но, по-моему, это не самый главный вопрос. Самый главный – что тебе делать здесь и сейчас.
– А что, есть варианты? – я говорил грубее, чем следовало – может, потому что боялся разбудить в себе надежду. Если и эта окажется тщетной, то я не вынесу столько боли.
– Варианты есть всегда, – отозвался Философ. – Господь наделил нас свободой воли, а если свобода – значит, можно выбирать. Смотри, что получается. Ты, брат Александр, попал в самое средоточие чужой игры. Власти этой страны собираются усилить гонения на христиан, за это им обещаны приемлемые цены на холодный термояд. Кто эти гонения заказывает, сторонним наблюдателям, – чуть улыбнулся он, – тоже понятно.
– Что, уже пробил час? – понял я. – Апокалипсис начинается сегодня?
– Не торопись так, – строго ответил он, – не наше дело знать времена и сроки. Тут на самом деле всё куда проще, тут на кону всего лишь деньги, амбиции и власть. Но это ещё не антихрист. Гонения на христиан вашей страны – это лишь ход в сложной игре. Но это не наша игра, понимаешь? Совсем остановить гонения у нас вряд ли получится. Только ведь гонения им нужны не сами по себе, а чтобы вашу Церковь сломать изнутри. А вот тут можно и помешать.
– Как? – рассмеялся я. – Они по-любому изберут Пафнутия на патриаршество.
– Не по-любому, – возразил Философ. – Есть человек, который может этому помешать. Ты.
– Я? – голос у меня замёрз в гортани.
– Иногда маленького камешка достаточно, чтобы с горы сошла лавина. Вот смотри, что получается. Если ты сломаешься, изобразишь из тебя православного террориста, а вдобавок они прокрутят фальшивку про твоего Деда – многие испугаются и проголосуют за Пафнутия. Эти, – повёл он ладонью над столом Лукича, – не пойдут на явную подтасовку результатов, им как раз нужны честнейшие выборы, чтобы потом никто и никогда не усомнился. Поэтому весь их расчёт – напугать людей, ошеломить. Знаешь, на что они дальше тебя станут раскручивать? На то, что именно владыка Даниил благословил тебя на злодейства.
– А если я откажусь? Тогда все их планы коту под хвост?
– Увы, нет, – погрустнел Философ. – Если ты просто откажешься, то они заставят тебя сказать всё, что им нужно – даже без пыток, просто ваша наука давно уже придумала вещества, лишающие воли. Или того проще – поступят как с твоим дедом. Сделают фальшивую запись из надёрганных слов… Конечно, это пожиже получится, если ты сам, по своей воле, но многие ли заметят разницу?
– Ну и значит, выбора нет, – подвёл я неутешительный итог. – Больше вариантов не осталось.
– Остался, – помолчав, тихо сказал Философ. – Это твой уход. Не просто исчезновение, а смерть. И такая смерть, брат Александр, в которой никто бы не усомнился. Смерть, которую увидят все. Увидят – и узнают, зачем ты пошёл на это. А ещё увидят запись твоего деда. Не ту фальшивку, что сделали эти, а настоящую.
– Её же не осталось! – воскликнул я.
– Бог сохраняет всё, – усмехнулся Философ. – Запись уже есть в этом вашем интернете, и когда она поступит на все новостные агентства, на все христианские сайты – её уже не удастся спрятать.
– А что я должен сказать?
– Почти правду, – улыбнулся краем губ Философ. – Ты скажешь, что тебя обманули, а потом вынуждали обмануть всех. Скажешь, что ты не террорист, не разбойник, и в жизни не видел ни одного православного террориста. Ты скажешь, что тебя сломали, угрожали растлить и замучить сына. Ты скажешь, что они заставили подписать договор о сотрудничестве. Скажешь, что не можешь вынести мук совести и потому уходишь. Ты не скажешь только обо мне и нашем разговоре.
– Почему? – спросил я. – Если уж говорить, то всю правду. Дед меня учил, что даже маленькая ложь – это как ржавчина, как жучки, грызущие нижние венцы дома.
– Не всегда умолчание – это ложь, – спокойно, точно и ждал моего выпада, парировал Философ. – А говорить про меня не надо потому, что в этом случае большинство сочтёт тебя сумасшедшим, а значит, усомнится и во всём остальном. Так что скажешь обо всём, кроме меня.
– И кому я это скажу? – поразился я его наивности. – Стенам? Решётке?
– Да, скажешь стенам и решётке, – кивнул Философ. – А камера, которая висит вон там над дверью, всё прекрасно запишет и передаст. Только не на сервер внутренней тюрьмы КСБ, а в открытый доступ. На тысячи сайтов и порталов. Не ломай голову, как это будет. Господь управит. А одновременно с тобою туда пойдёт запись твоего деда. И как ты после всего этого оцениваешь шансы владыки Пафнутия?
Надо было что-то отвечать.
– А как мне людям объяснить, почему камера передаёт в общий доступ? Как объяснить, почему я вообще об этом знаю?
– Ничего не надо объяснять, – отмахнулся Философ. – У большинства такого вопроса не возникнет. Впрочем, можешь сказать так: я знаю, что ведётся запись, и когда-нибудь, пускай через сто лет, её могут найти в комитетском архиве. И если не современники, то пусть хотя бы потомки узнают о тебе правду. А про то, как служебная запись попала в общий доступ, пусть ломает голову Иван Лукич. Впрочем, у него и без того будет, над чем поломать голову…
– А что будет с моей женой и сыном? – перешёл я к самому главному.
Философ положил мне на плечо узкую ладонь – оказавшуюся неожиданно сильной.
– Брат Александр! – сказал он твёрдо. – Ты должен сам принять решение. Не ради награды. Пойми, никто тебя здесь не сочтёт героем и мучеником. Тебя даже не отпоют, не положено по канонам. Тебя в лучшем случае будут называть слабым, запутавшимся человеком, впавшим в отчаяние. Ну или идиотом, лишившим себя жизни из-за дурацких принципов. И это правильно, это необходимо. То, что ты сделаешь, – если, конечно, сделаешь, – нужно Церкви, но твой пример не должен никому послужить соблазном.
– Подождите, Философ, – я вдруг вспомнил о трезвении и различении духов. – Почему вы говорите от имени Церкви? Откуда вы знаете, что ей нужно? Там, в Новой Византии, вы вообще были еретиком.
– Туда меня послали, чтобы возвращать людей в свою жизнь, – сухо ответил он. – Что же до ереси, то о ней вправе судить только Церковь Божия, но не люди, фантазирующие о Церкви в придуманном ими же мире. Новая Византия – это игра, мираж, обманка. Нельзя строить воздушные замки по законам архитектуры. И уж тем более нельзя жить в таких замках. А вы спрятались там от настоящей жизни. От жизни, где заправляют Иваны Лукичи, где вас презирают, где всё не так, как вам хотелось бы. И вот вместо того, чтобы проходить данное вам испытание, вы сбежали в сон золотой. Вот где ересь! Что же до меня и моего права говорить от лица Церкви, то право такое у меня есть. Потому что меня послал к тебе Тот, Кто отвернулся от тебя и ушёл в поле, на закат солнца. Ты меня понял?
– И что мне конкретно делать? – деловито спросил я. Пока ещё не радость и даже не надежда, а только её краешек… но уже не серая пустота.
– Тебе нужно ответить только «да» или «нет», – мягко сказал Философ. – Он велел мне слегка тебе помочь… Если «да» – то как бы уснёшь, и тело твоё всё сделает само. А дух будет спать. А там уже ты всё узнаешь и всё поймёшь. Если скажешь «нет» – Он не проклянёт тебя. Но как бы ты сам себя не проклял… Решай, брат Александр. Решай сейчас. Я всё сказал тебе, и скоро уйду, и тогда время тронется своим чередом, и камера начнёт передавать запись в сеть.
Я вспомнил, как в двенадцать лет прыгал в Вихляйку со старой, высоченной ивы. Было ли мне сейчас страшнее, чем тогда?
– Да, – ответил я сам себе. – Да.
И Философа не стало.
20.
Луна уже поднялась над еле различимым краем леса и глядела слева – круглая, бледно-жёлтая, и была похожа на колесо – не тележное, со спицами, а как у жестяного игрушечного паровозика – был когда-то у меня такой.
С обочин пахло земляникой и сосновой хвоей, а ещё почему-то пирогами и дымом. И нависали с обеих сторон дороги тёмными силуэтами исполинские сосны – лунного света всё же не хватало, чтобы различать краски. Там, под соснами – я знал это совершенно точно – растут здоровенные, выше моего роста, кусты малины, и урожай как раз поспел. А ещё там вымахали крепкие, не меньше чем в кулак боровики, а уж о россыпях лисичек с маслятами и говорить нечего.
Но теперь на лес опустилась ночь, и ягоды с грибами спали, и сосны спали, и только ночные птицы время от времени пронзительно перекрикивались, а где-то в глубине, в чаще протяжно ухала сова.
Дед, кряхтя, уселся поудобнее и негромко прикрикнул на лошадей. Те чуть ускорили шаг. Лунного света хватало, чтобы дорога впереди была видна на полсотни метров, и жёлто-зелёный масляный фонарь, который недавно зажёг Дед, покачивался на невысоком шесте не столько пользы ради, сколько для красоты – словно ёлочная игрушка.
– Дед, – нарушил я молчание, – а всё-таки кто он, Философ?
– Я удивляюсь, Саня, что ты его не узнал, – в голосе Деда сквозила ирония. – Уж казалось бы, столько раз на него смотрел, и вот те на: своя свои не познаша. Ну да ничего, скоро мы с ним увидимся. И не только с ним. Мама ждёт, и баба Маша – они, кстати, капустных пирогов напекли, всё заставляли меня попробовать, но я торопился тебя встретить. Всё-таки одному не стоит… Эта дорога для тебя могла и опасной оказаться. Сам понимаешь, гнили в тебе немало, ну и могло бы притянуть в трясину… подобное же тянется к подобному. Ничего, тут это лечится. Мне, кстати, тоже непросто пришлось бы, кабы не встретили.
– Дед, – мне трудно было задавать этот вопрос, но я должен был знать. – А как… Как это всё случилось со мной? Я помню, сперва мы с Философом говорили, там, в тюрьме, а потом вдруг – сразу этот лес, темно, зябко, ни луны, ни звёзд, и тут ты подъезжаешь на бричке, колокольчик звенит… А что было между этим?
Дед испытующе взглянул на меня – в лунном свете он казался большим филином, и, сунув руку под рясу, вынул оттуда мой комм.
– Что ж, посмотри. Используй привычный тебе интерфейс.
Я взял коммуникатор, нажал питание. Зажёгся зелёный огонёк, а синего, индикатора подключения к сети, не было. Оно и понятно – откуда здесь сеть?
Ну а дальше что? Что ещё наживать-то?
Но ничего нажимать не потребовалось. Экран засветился сам – и с необычайной чёткостью появилось изображение. Вот кабинет Лукича, вот его массивный стол, вот окно с решёткой. А вот я – пристёгнут за руки и за ноги к креслу. Вот и сам Лукич, стремительно выбегающий за дверь. Вот щелчок замка.
А Философа не было. Был только я, в плену у кресла. Вот лицо моё – избитое, грязное – напрягается, краснеет от натуги, а потом я с хрустом освобождаю правую руку, державшая её пластиковая стропа лопается, и то же происходит с левой рукой. Видно, чего мне это стоит, как блестит от пота лоб, как покрываются тончайшими красными сеточками белки глаз. Потом я наклоняюсь и отстёгиваю свои ноги. С трудом поднимаюсь с кресла, делаю пару шагов и падаю. Затем встаю, опираюсь обеими руками о край стола. Поднимаю голову и говорю:
– Если кто-нибудь, когда-нибудь это увидит… я знаю, что меня записывают. Если эту запись найдут… люди, я хочу, чтобы вы знали. Я, Александр Михайлович Белкин, не террорист, не убийца. Я просто идиот, которого обманули и запугали, втянули в провокацию. Да, это Комитет социальной безопасности… это их затея – и взрыв в Дроновке, и как бы покушение на владыку Пафнутия. Им нужно, чтобы вы все испугались православного экстремизма и проголосовали за Пафнутия. Они хотят обвинить владыку Даниила, будто он связан с православными боевиками. А меня заставляют такого боевика изобразить, для меня уже сочинили сценарий, мне осталось только выучить роль… А если я откажусь, тогда они отдадут моего двенадцатилетнего сына Кирилла содомитам-извращенцам. Его ещё в сентябре ювеналы отобрали, и сейчас я понимаю, по чьему указанию. А даже если я откажусь – толку не будет… они всё равно смонтируют что им нужно, или посадят меня на препараты, ломающие волю… и я произнесу что велено. Я не герой, не святой… меня можно сломать, и я это знаю… Недавно я ездил к своему деду, архимандриту Димитрию, и записал его обращение к церковному народу. Он призвал не голосовать за митрополита Пафнутия, потому что Пафнутий угробит нашу Церковь. Не по злобе, а по заблуждению. Но эту запись КСБ всюду постирал и сделал фальшивку, которую вам скоро, наверное, покажут. Они думают, что постирали всё… а на самом деле одну копию я сохранил и вчера успел залить на один сервер, про который они не знают. Этой ночью запись уйдёт по множеству адресов… Но они же заставят меня публично признать, что фальшивка – это подлинная запись, а подлинная – это фальшивка. И я не выдержу… Видите, как получается? Пока я жив, они могут скрывать правду, могут вить из меня верёвки. Значит, мне надо перестать жить. Я понимаю, что это грех… но не могу иначе. Простите меня.
Я – тот я, на экране комма – замолчал. Несколько секунд постоял неподвижно. Потом решительно взял настольную лампу, поднатужился, вырвал из неё провод. Зачистил с обеих сторон изоляцию зубами. Резко отодвинул в сторону стол, за которым обнаружилась электрическая розетка. Сунул туда вилку. И взялся обеими руками за оголённые провода. Вскрикнул, но не выпустил – так и свалился с ними на пол. Тело моё несколько раз дёрнулось, лицо потемнело – и только тогда пальцы разжались.
Картинка медленно погасла. И тут я всё это вспомнил. Будто сняли с памяти защитную плёнку. Да, всё так и было. Это не кто-то вселился в моё тело и управлял моим языком – это действительно я сам…
– Проявилось? – искоса, с облучка, взглянул на меня Дед. – Да, не самые приятные моменты. Но деваться тебе и впрямь было некуда…
– Дед, – осторожно спросил я. – Но ведь это ж и в самом деле грех! Ты ж священник, ты в сто раз лучше меня знаешь. Я ж не в беспамятстве был…
– Грех был бы, если бы ты сделал это от отчаяния, от отвращения к жизни, от ненависти к Богу, – строго возразил Дед. – Я тебе сто раз твердил: всегда смотри на мотив. Важно не столько то, что человек сделал, сколько зачем он это сделал. Да, по форме это было самоубийство, а по сути – нет большей любви, как если кто жизнь свою положит за други своя. Так что не грызи себя. Этого греха на тебе нет. Другие – есть, и ты их увидишь. Но не ужасайся, всё это здесь лечится. Это небо такое… целебное.
– Дед, – снова позвал его я. – А что теперь будет с Леной и Кирюшкой? Иван Лукич на них не отыграется?
– А вот сам и узнай, – не оборачиваясь, ответил Дед. – Пользуйся привычным интерфейсом.
Я поднёс к глазам комм. Экран вновь засветился, и появились там бревенчатые стены, заиндевевшее окно, тусклый огонёк лампады в углу, иконы. Дышала смолистым теплом печка – я и это чувствовал. На кровати – старинной, с пружинистой сеткой, сидел, закутавшись по пояс в зелёное одеяло, Кирюшка.
– Папа! – позвал он. – Ты мне снишься, да? А я знал, что ты приснишься, мне этот старичок сказал… ну который увёл меня оттуда. А, ты ж ещё не знаешь. Прикинь, папа, я в приюте этом занюханном ночью в туалет пошёл, в конце коридора там. А как вышел оттуда, вдруг рядом старичок какой-то стоит. Ну, не совсем уж древний, но лысенький, в морщинах. Я испугался сперва, а потом чувствую – его бояться не надо. Ну и он говорит мне: пошли, Кирилл, мама тебя ждёт уже. А я даже не спросил, куда пойдём-то, и кто он такой вообще. Знаешь, как-то сразу поверил ему. Он меня за плечо обнял и, прикинь, мы с ним прямо в стенку вошли! Может, там дверца была незаметная, но я этого как-то не отразил. А там дальше, за стенкой, ты не поверишь, самое настоящее лето! Поле такое от края до края, кузнечики звенят, солнце жарит. Я запарился даже, хотя почти раздетый был. И вот мы с ним так шли-шли, долго, и он говорил мне что-то, только я почти всё забыл… но про тебя запомнил, что ты приснишься… А потом как-то получилось, что опять зима, и мы в этой избе, тут натоплено, и мама ужин приготовила. Она сейчас спит, так что я тихонько, чтобы не разбудить её. То есть это она сейчас спит, а вечером не спала, ждала. И старичок ей говорит: «Ну вот видишь, раба Божия Елена, я тебя не обманул. Поживёте пока здесь, в убежище, а дальше видно будет. Люди здесь душевные, тоже настрадавшиеся. Помогут во всём». Мама тогда про тебя спросила, когда ты к нам, а старичок ничего ей не ответил. Улыбнулся только, но грустно как-то улыбнулся, и сказал нам, чтоб мы за тебя молились. И ушёл, дверь открыл и на мороз прямо. Мама за ним кинулась, но здесь же не как в городе, фонарей нет, темно как у негра… ну ты понял. Короче, она его звала-звала, но не дозвалась. Ну мы поужинали и спать легли, и я всё стал ждать, когда ты приснишься. Ну и вот ты приснился. Знаешь, папа, я почему-то думаю, что ты сюда не придёшь… мне кажется, ты умер. Не случайно же этот старичок так улыбнулся. Помнишь, когда я был маленький и умерла тётя Люся, я тебя спрашивал, когда она придёт, а ты вот точно так же улыбнулся и ничего не сказал. А ты меня сейчас видишь? Ты можешь сказать, где ты?
Горло мне сдавило, и я тихо-тихо прошептал в мембрану:
– Кирюшка, родной… это правда… Но со мной всё хорошо будет, и с вами тоже… Может, получится ещё связаться… Ты запомни свой сон и маме расскажи. Я знаю, она будет плакать, но всё равно ведь узнает. И мы встретимся потом. Наверное, очень нескоро, но зато уже насовсем. И прадедушка тебе привет передаёт, он тут, рядом.
И тут экран погас.
– Нельзя слишком долго, – пояснил Дед. – Всё-таки мы ж от них слишком далеко, связь рвётся. Но ты главное услышал и главное сказал. Сибирское убежище – это реально, Саня. Дотуда никакие Лукичи не достанут.
Вот уж точно по тексту, – отчётливо понял я. Чего не потеряешь, того, брат, не найдёшь.
Некоторое время мы ехали молча – ну, если не считать цоканья копыт. Наши кони – да, те самые Журавль и Синица, шли ходкой рысью. Лёгкая бричка с двумя седоками ничуть их не обременяла.
Недавно тут прошёл дождь – луна отражалась в мелких лужицах, и когда в них попадали копыта – казалось, что фонтаны крошечных лун вздымаются в земляничную ночь.
– Дед, кстати, – сообразил я, – а ты случайно не в курсе, что это Иван Лукич так резко из кабинета намылился? Как-то очень уж кстати получилось…
– Случайно в курсе, – ухмыльнулся Дед. – К начальству его вызвали, на срочное совещание. Представляешь, одновременно два ЧП – и Кирюшка из приюта пропал, и Лена из камеры. А чья вина? Правильно, майора Валуйкова. Его ж идея, и он же руководил операцией. На самом деле и его пожалеть можно, Саня. Страшно ему, очень помереть боится, здоровье пестует. Это ж он перед тобой выделывался, циника играл. А он не всегда циник. Кошмары ему часто снятся, и просыпается посреди ночи в слезах. Грех на нём висит, тяжёлый грех, и душит. Но как знать, может, и не всё для него потеряно… Мы о нём тоже молиться будем.
– Дед, – спросил я, – а откуда ты всё это знаешь? Ты же вообще сюда попал ненамного раньше меня. И суток не прошло.
– Здесь другой счёт времени, – терпеливо объяснил он. – И один день может быть как тысяча лет, и тысяча лет – как один день. Вот смотри, – он чуть натянул вожжи, – сейчас ведь ночь, да?
– Ну само собой, – согласился я. – И вообще прямо как в песне – покуда ночка длится, покуда бричка катит…
– Дороги этой дальней на нас с тобою хватит, – подхватил Дед. – Но вот глянь… это уже не как в песне получается…
И тёмное небо стремительно посветлело, заплясали по нему розовые сполохи, растаяла луна, погас наш фонарь. А впереди вставало солнце.
А потом я понял, что это не солнце, а Его лицо.
6–18 августа 2012



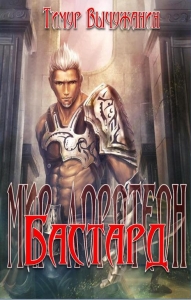

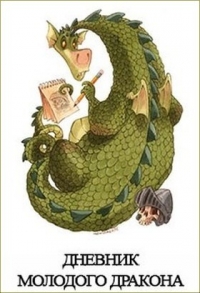
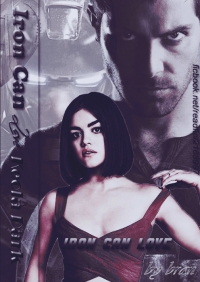







Комментарии к книге «И силуэт совиный», Виталий Маркович Каплан
Всего 0 комментариев