Андрей Кречетов Воля твоя
История первая. Три пути
Она заявилась ранним утром. Уверенно взбежала на крыльцо, коротким стуком в дверь дала знать о своем присутствии завтракающим хозяевам. И тут же метнулась прочь, за ворота, за границу землепашеских владений.
Стар, приметивший незваного гостя еще загодя, выглянул не сразу. Зыркнул на мышками притихших дочерей, хлопнувшей горшками жинку, да промолчал. Неторопливо доел кашу, умело вылавливая пальцами в миске самые мясные куски и только после того, довольно отрыгнув и отерев заляпанные ладони о бока, ступил на крыльцо. Закутанная не по погоде в плотные одежды и плащ фигура ждала его с другой стороны хлипкого палисада.
— Чего надобно? — Буркнул он, демонстративно суя за пояс топор.
— Работу ищу.
— Что за работу? — Прищурился он, подметив топорщащуюся одежду ровно там, где обычно висит оружие.
— Любую.
— Не, — покачал головой стар. — Нету тебе тут работы. Возвращайся по осени, ежели любую. Тогда и будет работа. И оплата соответствующая.
Закутанная гостья кивнула и, молча развернувшись, потопала прочь. А стар остался стоять, провожая ее взглядом, задумчиво жуя губами и причмокивая. Поглядел по сторонам, чего-то решая, да вдруг окликнул уходящую.
— Значит, стало быть, надо повыкорчевать. Вот эти вот корешки из-под молодки древесной. Отсюдова, — кивнул он в одну сторону, — и досюдова, — кивнул в другую. — Ну как, берешься?
— Берусь. — Не раздумывая ответила странная работница.
Недалекая от старова дома рощица была полна звуков. Даже столь небольшая, уже в десяти шагах сквозь плотные кусты и низко нависающие ветви она напоминала собою чащобу. С единственной лишь разницей — здесь солнце всенепременно весело подглядывало в частые прорези колыхающихся крон, даже и не думая плодить сумраки средь бела дня.
Она держала путь прямо, мимо тропинок, глубже в недра. К неширокой полянке, которую заприметила не так давно.
Поляна оказалась не пустая — там ее уже поджидал сидящий в засаде волк, хмурым взглядом буравя ее приближение. Она сразу заметила его присутствие, но своего намерения не изменила, разве что остановилась на самом краю, развязав тесемку и расстелив перед собою котомку со снедью, которой с ней расплатились землепашцы. Зверь же выглядывал из кустов по другую сторону поляны.
— Чего смотришь? — Поинтересовалась дева, бросая рядом не слишком богатые пожитки. — Жрать хочешь — не иначе. Пожрать-то ты запросто, а на что ты готов ради еды?
Она, приподняв скрывающую лицо маску, вгрызлась в жесткую и явно пересоленную солонину. Однако кусок постного козьего творога, так и сочившегося сывороткой, спас ситуацию. Дева довольно облизнулась, стараясь не пролить той жидкости ни капли мимо плошки.
Волк с той стороны поляны презрительно фыркнул.
— Ну ладно, чего ты там сидишь? Идем сюда.
Он встал и медленно, разрываясь вниманием между девой и едой на земле, приблизился. Но увидев, с какой скоростью пропадают с обрывка мешковины продукты, заметно ускорился.
Она разделила снедь на две части, равную долю отодвинув мохнатому гостю.
— Это тебе, — произнесла она. — Больше не проси.
Некоторое время царило идиллическое молчание, прерываемое чавканьем и иными звуками употребления пищи. Некрупные запасы еды быстро подошли к концу. Волк, прилегший на солнышке, блаженно зажмурил глаза и даже раскрыл от удовольствия пасть.
— Вкусно, но мало. — Посетовал он.
Дева укоризненно покачала головой, убирая последствия их крохотного пира.
— Ты, волкан, уже совсем разбрюзжался в последнее время. Скажи спасибо, что хоть это есть. И заработано, между прочим, моими руками.
— Знаю-знаю, — покивал он. — Честь тебе и хвала, добытчица.
И громко вздохнул, явно обращая на себя внимание.
— Что такое? Ты хотел — я интересуюсь.
— Да нет, ничего. Все в порядке.
— Волкан, ты испытываешь мое терпение.
— Да просто вспомнилось… Эх, ностальгия накатила. Было ведь время, когда и работать не приходилось, и пропитание постоянное было, а какое — ух, до сих пор вспоминаю с обожанием.
— Нарвались на тайничок — всякое бывает.
— Как же, всякое, — саркастически хмыкнул волк. — А то я не знаю, что это был твой тайник.
Скоморошья доля
— И чего ты привязался ко мне, волкан? Ни на шаг не отходишь.
— А чего бы и нет? — Удивился он. — С тобой спокойно и безопасно, можно не волноваться так о собственной драной шкуре. А главное — с тобою сытно. Да, пожалуй, самое главное. Лучшего и представить нельзя.
— А оно мне надо — кормить тебя и защищать?
— Эх, — вздохнул волкан, — твоя правда. Совсем ни к чему тебе это. Обуза, лишний рот и малополезный спутник — я знаю, знаю. Но ты пойми, что кроме твоей-то компании мне и податься-то некуда.
— Как же так?
— А вот так! Выперли меня из стаи. Взашей. Не понравился им мой запах — бракованный я, видишь ли. Или, как его, дефектный! Но это они так решили, сам-то я так совсем не думаю! Да я такой, что ого-го! Эх, ладно, ненужная бравада. А волк без стаи… У-у, этого не передать словами. Зачах и подох бы в одиночку — в этом не сомневайся. Да разве ж волк без стаи — волк? Не-а, скажу я тебе. Моська дворовая — и та больше волк. Потому что — что? Потому как хоть и бегает в одиночку, да не одна. Волка делает стая, а стаю делает волк…
— Прекрати философствовать.
— Твоя правда. Вновь. Но говорю тебе: как бы я ни старался, подох бы. Все равно подох как последняя собака. М-да, отвратительное сравнение. Извини, — махнул он лапой недовольно заурчавшему в одном из подворий волкодаву. — Я ведь не со зла.
Волкодав, смерив его долгим хмурым взглядом, улегся обратно, демонстративно отвернувшись.
— Язык твой — враг твой, волкан.
— Твоя правда, дева. Твоя правда.
Хутор выглядел заброшенным. Хоть и стояло в нем в одну улицу по обеим сторонам с дюжину вытянутых домов, но по пути им так никто кроме живности и не встретился. Более того, никто не притаился за окнами, провожая их любопытным взглядом, и никто — за поворотами, держа наготове рогатины. Собаки же, сызначально с превеликим интересом поглядывающие на пришельцев и особливо на пришельца четырехлапого, вскоре во всем откровенно разочаровались, банально наплевав на свои прямые обязанности. А куры с гусями, непуганные под столь неусыпной охраной, так и норовили заползти под сапог.
Требуемая им доска объявлений и наград стояла в самом дальнем конце прямой как ствол березы улочки. Прямо перед домом местного выборника. Естественно, что никто к ним не вышел из дверей, и уж тем более не окликнул.
— Ничего. — Пробормотала дева, глядя на девственно чистую, заляпанную остатками несодранных бумажек и берестянок, не смытых дождем и не снесенных ветром, доску.
Она сковырнула кусочек слабо сохранившейся, сулящей некую награду за некую повинность, бумажки.
— Нет здесь работы, волкан — спокойное место. А со всем остальным жители сами справляются.
— К вопросу о жителях. — Пробормотал затрусивший за нею волк. — Где они все? Почему здесь так тихо — заходи да бери, что хошь.
— Это только на первый взгляд так. Приди ты сюда с дурными намерениями, зачуханый и оголодавший, тебе тут был бы иной прием.
— И верно.
— А что до жителей, так те на ярмарке. Третий день лета — со всех окрестностей собираются крестьяне в ближайшем центре уезда.
— Держу пари, там сейчас не продохнуть от толкотни.
— Не то слово, волкан, не то слово.
* * *
Она уже битый час месила ногами раскисший от полившего этим утром с неба дождя навоз. Лило так, словно это было в последний раз, и небеса решили восполнить тем все свои будущие пробелы и недоработки. Долой халтуру, да здравствует качество!
Дева была склонна согласиться этим, сиди она где-нибудь в тепле или хотя бы под крышей над головою и наблюдая буйство стихии со стороны. Обыкновенная конюшня, если забыть о таверне, была бы сейчас как нельзя кстати.
Окружающий гомон нервировал. Тот самый гомон, что сопровождал ее на пути от поста к ярмарочному уделу, несомый десятками возбужденных таким значимым событием года глоток. Крестьяне надрывались, таща свои волокуши либо подгоняя запряженных в простецкие телеги ослов. Реже — мулов. Бездумные или наполненные минимальным смыслом реплики сыпались со всех сторон. Кто на ком поженился, кто кого обрюхатил и какую свинью изнасиловали, чтобы потом изжарить — были ближайшими апофеозу бесполезности. Куда как важнее были тревожащие крестьян проблемы, однако таких, с которыми она могла бы помочь, предложив свои услуги, не было.
Несколько раз деве даже показалось, что она услышала кое-что несомненно важное, но, навострив уши и дослушав продолжение, приходила к выводу, что если у страха глаза не велики, то воображение у крестьян чересчур уж богатое. Все их балабольство было обыкновенным трепом. И спустя время она уже пожалела о том, что дождь, так обильно шипящий каплями, все же не заглушает чужих голосов.
А еще была грязь. Много-много раскисшей грязи под ногами вперемешку с животным навозом на узкой дороге к ярмарочной площадке. Само же место под такое значимое событие было отведено чуть в стороне от дороги, ведущей у урядскому посаду — обыкновенное и привычное уже крестьянам место торговли.
Ни обогнать крестьян на этой узкой двуколейке, чтобы избавиться от их навязчивого общества, ни отстать было невозможно — куда ни глянь, везде с поистине ослоподобным упорством люди тащили свои вьюки.
Так она и плелась, сильнее обычного кутавшись в промокший до нитки плащ. Она даже задремала на ходу под монотонное обсуждение гоняемых по кругу новостей и сплетен, когда внезапная суматоха вернула ее на землю. Громкие окрики наезжающих спереди всадников были тому причиной. Конный отряд, грубо расталкивая народ, торопился в обратном направлении. Дева, ловко нырнув за съехавшую на обочину повозку и воспользовавшись всеобщей суматохой и тем необходимым крестьянам временем, понадобившимся, чтобы вытащить обратно увязшие по самые борта телеги из грязи, устремилась вперед всех. Благо она сама была налегке.
Кто были те люди, так смело и нагло растолкавшие народ, она примерно представляла. Уже доводилось встречаться с подобными сборщиками подушных податей, как они себя называли, сопровождавших каждый более-менее сносный торжок. С дозволения и по указу уездного главы, разумеется. Если было чем поживиться, и была выгода — ожидай сборщиков. И можно было не сомневаться, что за те несколько недель, что будет длиться ярмарка, они здесь появятся еще не раз.
Внушительное торжище раскинулось вдоль длинного пологого холма, поросшего по вершине многолетним сосняком, опускающимся с той стороны в густо заросшую хвойной дубравой долину некрупной речки. Действительно, не сдерживаемая более еле волокущейся процессией, дева добралась до места на удивление быстро. Не помешали даже временами доходящая до самых колен грязь и совершенно неожиданные лужи.
Народу, несмотря на только стартовавшее событие, собралось уже предостаточно, и постоянно прибывали все новые. Перегораживали проезды, бросая самодельные повозки где придется, толпились меж собою, занимались каким-то суматошными делами и ни на секунду не прекращали трепаться. Болтали, вопили, ругались, неизменно активно жестикулируя. Зачастую чрезмерно активно, отчего дело, бывало, доходило до драки. Впрочем, охочих до такого вида развлечения было весьма и весьма немало, как принимающих участие самим, так и просто поддерживающих фаворита.
Найти здесь простенькую работенку не составило никакого труда, и уже через неполных пру часов довольная дева заработала себе на еду. Насчет ужина можно было не беспокоиться. Попробовала было и дальше продолжить заниматься чем-то похожим, но там, без тени сомнения, обходились лишь краткой благодарностью. А некоторые и вовсе поглядывали в ее сторону враждебно, как бы намекая на то, что и обыкновенных слов по выполнении работы она не получит. Нет — так нет, можно и прогуляться.
Спрятавшись в закуточке между несколькими сваленными без определенного порядка телегами, она не спеша перекусила. Пока ела, наблюдала за остальными участниками, мокрыми, как и она, зачастую довольными, что наконец добрались на ярмарку. Однако вскоре довольство сменялась унылостью, чему активно способствовала погода.
Она прошлась вдоль кривых, еще не отравнявшихся рядов, завернула в одну сторону, в другую, везде наблюдая одно и то же, как вдруг оказалась на огромной пустой площадке. Не было ничего: ни скопища людей, ни повозок, ни громко мычавших и блеющих животных. Или, вернее, почти ничего, так как по самому центру было установлено наспех сколоченное дощатое возвышение. С первого взгляда показалось, будто эшафот, пока прямо перед носом, словно из ниоткуда, на деву не выпрыгнул пестро одетый, хоть и извозившийся в грязи, скоморох. Она резко отпрянула, сунув руки под одежды, ладони мгновенно нащупали холодные кожаные рукояти.
— О-хо-хо! — Засмеялся шут, запрыгав и захлопав в ладоши. — Что это тут у нас? Э-э? Что же у нас тут?
Его глаза, безумные глаза, постоянно скачущие и дергающиеся, необычайно нервировали.
— Дева хочет заработать! Хо-хо! Ха-ха! Дева явилась сюда в поисках работы! Хе-хе! Хи-хи! Именно поэтому дева отвлекает от дела прославленного смехаря! Да-да, ха-хо, поэтому!
Он метнулся в одну сторону, пристально вглядевшись ей в лицо.
— Деве нужны монетки? Блестяшки? Звонкие кругляшки? Э? Нужны-нужны! Да-да-да! Ха-ха-хо-о!
Метнулся в другую, прищурившись в глаза.
— Дева обратилась по адресу! Дева пришла верно! Но дело ли это — отвлекать благородного смехаря? Да как она смеет? Как смеет, хватающаяся за оружие дева угрожать благородному смехарю? Как смеет смеяться в лицо его слабости и немощности! В лицо его дурачеству… — Он обхватил ладонями собственную голову, упав на колени и тихонько завыв.
— Но смехарь не в обиде! — Воскликнул он, вскакивая на ноги. Резко бросился к деве. — Нет-нет, не обиде! Не-не-не! Смехарь может предложить работу, смехарь хорошо заплатит! Смехарю нужна по-омощь!
Он схватил ее за грудки, встав на цыпочки и притянувшись вплотную к ее скрытому плотной полотняной маской лицу. Шут, затаив дыхание, жадно впился взглядом в ее глаза. Смотрел невыносимо долгую минуту, и пока длились те мгновения, он казался самым разумным из всех встреченных ею ранее живых существ. Ровно до тех пор, пока, не завизжав подобно свинье, не кинулся прочь, вопя, смеясь, ругаясь и размахивая руками.
Народ, сгоняемый на скоморошью площадку безумно веселящимся непонятно чему шутом, набирался быстро. Крестьяне, в дурном настроении покидав свои вещи либо свалив все на подрастающее поколение, торопились на обещающее быть занимательным представление. Где как не на ярмарке простому люду смотреть увеселения, коими себя тешут господа в своих владениях и замках.
Стоя на деревянном помосте, скользком и поскрипывающем от каждого неосторожного движения, дева, столь же закутанная, однако в иные, пестрящие самыми неадекватными красками, одежды, чувствовала себя неуютно. Учитывая все те взгляды, коими ее награждали и буравили люди.
Прямо перед помостом зябко кутался невесть откуда вытащенный гусляр. Может, прибыл в одной труппе вместе со скоморохом, может, как и дева — случайный наемный работник. Пока он не прикасался к инструменту, хотя, по всей видимости, собирался, нетерпеливым взглядом поглядывая на толпящийся народ.
Шут, как обычно, появился внезапно — просто выпрыгнул из-за спин людей, выхватив из рук гусляра гусли и сунув тому их в зубы.
— Игра-ай! — Завопил он, ловко запрыгнув на пошатнувшийся от вдвое увеличившегося веса помост. — Весели-ись! Пры-ыгай! Пры-ыгай!
И, словно в пример своим словам, сам запрыгал что есть мочи, нелепо размахивая руками и хохоча.
— Пры-ыгай! — Повторил он неуверенно замершей деве, схватил ее за одежды. — Дева должна прыгать, если хочет получить кругляши! Тяжелые, блестящие, звонкие кругляши! Пры-ыгай!
И она запрыгала вслед ему, стараясь повторять каждое его движение в точности, когда шут вдруг спрыгнул на землю, пустившись в пляс перед гусляром, разбрасывая своими нелепыми башмаками кругом комья грязи. Земля летела в лица крестьян, заляпала с ног до головы гусляра, однако скоморох откровенно чихал на гневные выкрики в свой адрес, продолжая что есть мочи своей безумный танец.
А дева прыгала. Чувствовала себя на редкость глупо, безобразно, смешно, и продолжала прыгать. Крестьян это забавляло — они кричали, улюлюкали, начинали откровенно веселиться. Они словно позабыли о погоде, о своем дурном настроении: музыка пищала, дева прыгала, скоморох плясал.
— Прыгай! Прыгай! — Вопил скоморох.
— Прыгай! Прыгай! — Раздавались редкие, еще пока несмелые голоса.
Странное настроение, упоение ненормальным весельем передавалось заразительной волной, и вот уже самые первые, стоящие в прямой близости люди, начинали похлопывать, притаптывать ногами, а очень скоро и плясать.
— Прыгай! Прыгай! — Запрокинув голову к деве, кричал шут.
— Прыгай! Прыгай! — Вторила ему одуревшая от веселья толпа.
Гусли звучали все громче, все набирали обороты. Ритм повышался. Дева прыгали и прыгала, размахивала руками, как того требовала радость, как того требовало всеобщее веселье. Под визг шута, под гудение охмелевших безо всякого хмеля крестьян. Доски ходили ходуном, помост дрожал и разваливался, заметно накренившись. Сзади опасно подмигнул овраг, который она прежде не замечала — помост стоял не в центре огромной площадки, а на самом ее краю.
Люди кричали, люди были счастливы представлению. Скоморох, вопя, рыдал.
Это случилось незаметно — отряд вооруженных всадников, что-то выкрикивая и кому-то жестикулируя, влетел в передние ряды ярмарочной площади, увязнув там, среди животных, повозок и прочего скарба. Они расталкивали ногами крестьян, хлестали плетьми тупую скотину и гнали вперед своих лошадей.
— Пры-ы-ыгай! — Воздев руки к небесам, словно выплеснув из себя последние силы, воскликнул шут, дрожа и постанывая, завалившись на колени.
Толпа взревела яростным зверем. Неистовство их голосов пролетело сумасшедшей волной над головами, стремясь, кажется, в указанном скоморохом направлении.
Всадники выбрались из стихийно образованной западни, помчавшись к всеобщему сбору самым кратчайшим путем.
— Прыгай! Прыгай!
Они ворвались на площадь. Прошли сквозь наспех сколотые на жердях прилавки и самих крестьян, словно нож через масло.
— Прыгай! Прыгай!
Первые, еще не до конца осознанные, но уже истошные вопли потонули в скандировании бесящейся толпы. Никто не оглянулся, никто не среагировал. Всадники настигли их столь внезапно.
— Прыгай! Прыгай…
Хор надорвался. Люди наконец увидели творящееся, заметили угрозу, широкой грудью наскакивающую на ряды безоружного люда, поднимающиеся и опускающиеся полоски стали, разбрасывающие кругом брызги кармина.
— Прыгай! Прыгай! — Вопил что есть мочи одуревший от страха и крови скоморох, вырвав гусли у посиневшего от ужаса гусляра и сам принявшись на них наигрывать.
Люди кричали, люди падали в грязь, изливаясь кровью. Кони топтали их тела, ломали кости и черепа. Подобно их хозяевам, лягали все еще стоящих на ногах, кусали тех за шеи, за плечи, за лица. Всеобщее веселье внезапно сменилось кошмарной по своей ярости бойне.
Всадников было мало — около дюжины, но все они были вооружены, злы и смертельно опасны. Крестьяне бросились в стороны, куда-нибудь, лишь бы прочь из этого мрака. За считанные мгновения людская паника сделала больше, чем творящие смертоубийство всадники — люди насмерть топтали самих же себя.
Дева бросилась к своей одежде, запустив руки в поисках перевязей с оружием, как в следующий миг могучий удар по голове повалил ее на землю. На короткое мгновение лишил сознания. Над нею стоял, безумно улыбаясь, скоморох, сжимая в ладонях дорогие кинжалы, украшенные редкими каменьями. Шут больше не смеялся, даже не улыбался — на его лице застыла маска невыразимой злобы, а губы искривились от величайшего презрения тому, что он увидел. Дева схватилась за лицо, с ужасом понимая, что ее полотняная маска с нее слетела.
Очередной удар ногою вновь опрокинул ее на землю. Она еще успела заметить блеснувшие кинжалы, и рукоять одного из них больно ударила ее в висок. А следом шут — ногою в плечо, сталкивая в начинающийся прямо за ее спиною обрыв.
Она неуклюже завалилась, словно жук-панцирник, пытаясь перевернуться в грязи. Мир то тускнел, то вспыхивал яркими красками, неправдоподобными вспышками ослепляя ее. Голова кружилась, руки не слушались, а дева все сильнее скатывалась по сползающей на нее сверху грязи, склизкой мерзостью тянущей ее за собой, глубже в овраг.
В какой-то момент она с пугающей отчетливостью поняла, что ее стащило на самое дно, запутав в ветвях и листве могучего, вымахавшего по грудь обычному человеку, крапивника. И в следующий миг ей по голове, брошенное сверху чьей-то меткой рукою, угодило нечто до безобразия тяжелое, мгновенно ее отрубившее. Дева неуклюже уткнулась лбом в пропахшую дерном и помоями жижу.
Когда она очнулась, уже светило горячее послеполуденное солнце. От характерного звука и гомона ярмарки, обычно выраженными радостными криками и священной руганью при торговле, не осталось и следа. Птицы, обычно избегающие больших скоплений народа и суматохи, вовсю весело щебетали.
Она приподнялась на ватных от произошедшего конечностях, отлепляя лицо и тело от подстывшей грязи. Толстая вонючая корка въелась в лицо и одежду, требовала того, чтобы ее содрали, отмылись от нее как можно скорее, но дева не двигалась. Хватило лишь одного-единственного короткого взгляда на то, чем ее огрели по макушке, как мысли, — вообще какие-либо мысли, — пропали у нее из головы. Перед нею, блестя приоткрытым бочком, частью рассыпавшись, частью утопая в грязи своим содержимым, лежал полный мешок свежеотчеканенного золота.
А вокруг пахло смертью и трупами.
* * *
— Слушай, дева, — блеснул глазами волк, — а нету ли у тебя еще того… припрятанных за ненадобностью денежек? Вот немножко, а, совсем чуть-чуть? Главное, чтобы на корову какую хватило. Или козу посочнее.
— И не надейся, волкан — то был единственный случай.
— Единственный, — пробурчал он, отводя взгляд. — Нет-нет! — Добавил, заметив немой вопрос кормилицы. — Ты не подумай, меня все устраивает! Только кушать все еще хочется…
— Знаю! — Откликнулся волк, помолчав минуту. — Очередная история обязательно заставит меня забыть о голоде!
Аномалия
Контракт как обычно отягощал карман. Даже если этого самого контракта с собою не было, а аванс за него, как это принято, обыкновенно удержали. И хотя в этом был заинтересован сам столичный прокурор, напутствовал деву уездный губной староста, объезжающий окрестные села именем закона и порядка. А по совести, просто искал дешевых исполнителей, прикрываясь наградной бумажкой, явно фальсифицированной.
К деве, дождавшейся пока обыкновенная шумиха перед домом выборника после объявления стихнет, и сельчане разойдутся кто куда, преимущественно в таверну, губной староста отнесся скептически. Оглядев ее исподлобья, сидя за установленным перед тем же самым домом столом, с ног до головы, особенно обратив внимание на глубокий капюшон и тканевую маску, он неудовлетворенно поцокал, помялся до неприличия долгое время, но все же соизволил выписать на клочке бумажки разрешение. Клочок он назвал контрактом, приложив к нему все ту же фальсифицированную копию объявления с наградой.
— Учти, — сказал он, — что разбойник оный скрывается. Запропастился невесть куда и носа своего не кажет. Коль желаешь наградку за него получить, изволь его для началу найти, а опосля прикончить. И учти еще то, что без доказательств надобных тебе никто на слово не поверит.
Уточнить про доказательства дева забыла, а вернее не сочла нужным. Наверняка, как обычно, будет достаточно предоставленных вещей убитого.
Лес, по которому она бродила, выглядел странно. Она не могла обнаружить скрывающегося разбойника уже довольно долгое время, но не сомневалась, что с остальными охочими до его поимки, если таковые найдутся, случалось то же самое. Все следы, уже довольно старые и местами затерявшиеся, указывали именно на это место — дремучий лес. Да и свидетели ничего не видевшие даром, но также смутно припоминающие за монеты, сами того не подозревая давали наводку сюда. Все обойденные вокруг опушки леса деревеньки неизменно указывали одна на другую, но стоило отдалиться от их черты чуть дальше, вглубь полей, как даже самый скромный слух пропадал, и не помогали даже пара позеленевших от старости и сырости монет. Алчность в глазах играла, но язык откровенно врал.
Значит, лес. Значит, на его окраине его видели или подмечали в последний раз. Но до чего же этот лес странный. Вроде бы обыкновенная чащоба, сухая ветка на сухой ветке, но буреломы выглядели словно побоище. Словно огромная куча костей, в которых и не разберешь их истинную природу, пока не подойдешь достаточно близко.
Птицы здесь не пели, даже не щебетали в скромно притулившихся гнездах, коих остатков на здешних деревьях было полным полно. Как правило, все старые, полурассыпавшиеся и неиспользуемые. Пахло прелыми листьями и древесной корой. Дева знала, что где-то там, впереди, ее ждет нечто, укажущее правильный путь.
Невидимая пелена твердой пленкой коснулась сначала вытянутых рук, а затем ткнулась в лицо, как бы намекая на то, что дальше пути нет. Дева обернулась, сравнивая картину — обыкновенный бурелом, мало чем отличающийся от того, что располагался перед нею. Совершенно ничего необычного, если смотреть с точки зрения этого органа чувств — глаз. Однако толкающее ее назад неведомое препятствие говорило совершенно об обратном — не зрительные образы тут были искомой истиной и вовсе не тактильные ощущение, которые, к слову сказать, тоже были словно притуплены. Все походило на то, что эти ощущения — лишь вымысел, представляющийся ей в столь необычной форме.
Странного вида кисель поддавался под ее напором, хотя поддавался неохотно. Неизвестно было: то ли он пытается себя уберечь от назойливого посетителя, то ли оградить гостью от чего-то необдуманного. В любом случае, помехой он казался лишь с первого взгляда, и дева, чуть поднажав в своем рвении, полностью туда окунулась.
Чувство было сродни погружению под воду: звуки достигали ушей столь же глухо, а движения становились более плавными, словно подражая неведомому танцору. Это продолжалось недолго, всего несколько тягучих шагов, после которых деву словно выбросило на берег. Наверное, теперь она знала, как чувствовала себя в такие моменты рыба. Она затрепыхалась, захлопала ресницами и губами, пытаясь отойти от накативших ощущений.
Дева была с другой стороны пелены, в этом она не сомневалась, хотя вокруг ничего не поменялось. Та же тишина да буреломы — и никаких звуков, отдаленно напоминающих птичьи голоса. Только ветер, кажется, развлекался по верхушкам деревьев. Осознание было странным, но невероятно явным: она у цели своих поисков. Кто знает, возможно, где-то здесь таится искомый ею головорез.
Под ногой что-то хрустнуло — кладка яиц, оставленная здесь неизвестной птицей. Три крупных, размером с мужской кулак яйца, один из которых дева раздавила. Самой пернатой нигде не было, зато невдалеке задорно звучал не слишком крупный ручеек, к которому она и направилась, измазав ладонь и плечо, пока опиралась об истекающий смолой ствол возвышающейся над нею сосны. В целом, не успела она проникнуть в тайник беглеца, а уже замаралась по самые уши.
Ручеек и правда был очень мелким, едва ли по щиколотку, и шириною — метр. В нем, задорно плескаясь и метаясь из стороны в сторону, гонялись мальки, медленно уплывая вниз по течению. Сама вода холодила пальцы и зубы, приятно освежала.
Дева ловко переступила через ручеек, углубляясь в непролазный древостой. Она чувствовала — ей туда, она близка к цели.
Человек был один. Измученный, бледный, исхудавший. Сидел на стволе поваленного дерева, что-то бездумно выводя пальцами в воздухе — все остальные окружающие его коряги были просто-напросто исписаны какими-то знаками и рисунками. Это уже не был тот безумный убийца — но это был старик, раньше срока распрощавшийся с собственной значимостью. На его глазах застыли слезы, невыраженная мольба о помощи и крик поглотившего его ужаса.
Дева уже знала, что время в этом месте течет совершенно иначе, и даже представить себе не могла, сколько этот человек, за голову, мертвую голову, которого назначена хорошая награда, здесь уже находится. Ей стало его откровенно жаль, несмотря на то, каким чудовищем он был, скольких людей загубил своими руками. Да, она жалела его, несмотря на его прошлые прегрешения, так как теперь это был совершенно другой человек, убивший себя сам. Теперь дева знала, как выглядят все еще живые трупы.
Больше наблюдать за этим тихим ужасом она была не в состоянии. Развернулась и ушла, старательно не оборачиваясь. Ей здесь нечего было делать.
Очень скоро дева поняла, что зона, в которую она попала по следам исчезнувшего убийцы, являет собою круг, или может, овал, верстой в диаметре в самой своей широкой части. Все, что дальше, хоть на крохотный шажок, незаметно возвращало обратно, заставляя шагать к центру. Это мгновение, длящееся всего долю секунды, когда вокруг даже не менялся пейзаж, деве удалось уловить далеко не сразу. Это выглядело, словно она в очередной раз моргнула — ничего особенного, даже если она совершенно не моргала. Просто запретила себе моргать.
На следующее утро, — хотя здесь день и ночь сменяли друг друга, она понятия не имела, как на самом деле все обстоит в отношении со внешним миром, — она позавтракала теми же яйцами какой-то птицы, найденными ровно в том же самом месте. Умылась в ближайшем ручье, со странным чувством наблюдая за стайкой мальков, выделывающих ровно те же пируэты и проделывающих ровно тот же маршрут вниз по течению. Взглянула на небо, запомнила расположение солнца и серого полудиска луны, столь явно просвечивающего сквозь необычно голубое небо. Бросив свою сумку прямо здесь, двинулась на поиски выхода.
Прошли сутки, а сумка нетронуто продолжала лежать на одном месте. Появились яйца, неведомой птицы все также не было. Мальки приветствовали ее своими обыкновенными виражами. Все казалось спокойным и идиллическим.
Выхода там, где она прошла в его поисках, не было.
Сегодня она решила встать пораньше — просто чтобы потратить больше времени на поиск возможной лазейки. И каково же было ее удивление, когда мальки, стоило ей лишь наклониться к воде, чтобы ее зачерпнуть, уже играли свой обыкновенный танец. Не веря собственным глазам, дева хмуро сверилась с небесами, понимая, что время для подобного сейчас явно неподходящее.
Но нет, мальки бегали и плясали, медленно спускаясь по течению вниз, а она сама, ничего не понимая, просто уселась прямо там, где стояла, плюнув на все дневные планы. Она принялась наблюдать.
Прождав весь день в одном месте и одном положении, дева воистину уверилась, что мальки, раз спустившись по ручейку, вверх уже не поднимались. И никакие новые на их месте не появлялись тоже.
На этот раз она не стала в обычном порядке идти в сторону ручья, проигнорировала также завтрак, на всякий случай забрав одно яйцо с собой — отправилась на поиски выхода. Ей едва ли удалось обойти хотя бы четверть окружности странной зоны, с этой стороны изрезанной оврагами и практически непроходимыми балками, когда поняла, что пора возвращаться. Шла напрямик, поэтому вышла к ручью с другой стороны. Мальки только-только начали свое путешествие.
Яйца снова было три, причем то единственное, которое она брала с собой и не отведала, пропало из ее сумки. Странно, но голода, не поев вчера, наутро она не чувствовала.
Забросив сумку на ближайшую сосну, она с завидным упорством отправилась разведывать территорию.
В какой-то момент она поняла, что уже третий раз проходит мимо одного и того же места, и мистичность этой западни, в которой она была заперта, оказалась ни при чем. Просто дева, чувствуя некую странность, постоянно вглядывалась в крошечную, очищенную от древесного мусора и палок полянку. Прошла раз, задумалась, и поняла, что вернулась. Два — и снова. На третий, решив разобраться во что бы то ни стало, остановилась, принюхалась. Пахло дымом, очень-очень слабым дымом — это было именно то, что не давало ей покоя.
Посередине крохотной полянки небольшим домиком была сложена кучка прутов. Пахло из-под них. Дева наклонилась, понимая, что видит разгорающийся огонек, однако ему не хватало самую малость — легкого дуновения ветерка, которого здесь, в аномалии, не было совершенно. Лишь верхушки деревьев кое-как трепыхались, намекая на его присутствие, но где-то там, в вышине.
Она осторожно подула, и костерок мгновенно занялся теплым пламенем. Несколько минут — и от него остался лишь мелко истлевший пепел, почему-то еще долго сохраняющий жар.
Нет, подумала дева, в этом месте не просто со временем странные дела творятся. Это время на разные его части распространяется слишком отдельно, слишком по-своему. Негармонично.
Это был алтарь. Самый настоящий алтарь в чаще леса, более того, где-то в глубине этой чащобы. Что за божок изображался на полунаскальной-полувырезанной каменной плите, местами обколотой и обвалившейся, дева не знала. Она мало интересовалась вообще всеми пантеонами богов, хотя особенности некоторых религий ей уяснить пришлось. Чтобы не попасть впросак по глупости. И этот божок был явно не из числа ей хотя бы косвенно знакомых.
На алтаре была чаша, всего одна и с одного края. Возможно, когда-то их было две — символизируя весы и цикл равновесия, однако вторая куда-то явно запропастилась, оставив после себя лишь огрызок цепи. Предположительно даже, что запропастилась не своей волею. Чаша была дырява, словно решето, и подвешена тремя проржавевшими цепями за выступающий из алтаря каменный штырь.
Рассмотреть изображение как следует не удалось — изобразитель был хоть старательный, но крайне неумелый. Единственное, что становилось понятно, так это то, что у божка крайне широкая пасть, напоминающая жабью, и великое множество крохотных треугольничков в ней, что должно было означать зубы. Значит, масла и благовония отпадают, так же как всеразличные травы, монеты, богатства — божок выглядел типично хищно.
Очень скоро стало понятно, что в этом месте нет никаких посторонних тварей, могущих угрожать здоровью. С тех пор дева, скинув с себя практически все вещи и оружие за ненадобностью, ходила налегке.
Бывший серийный убийца с наградой за свою голову не покидал центра всей этой площадки. Просто ходил между поваленными стволами, разгребал ветки и листву, чтобы на следующий день делать то же самое, а потом сидел и что-то чертил в воздухе. Видимо, за проведенное внутри аномалии время уже совсем отчаялся на какие-либо действия в принципе.
Дева хотела присмотреться к знакам, но очень скоро поняла, что это скорее бред сумасшедшего, нежели обдуманная и выплеснутая в такую форму мысль. Рисунки на стволах ей тоже мало чем помогли, зачастую повторяя плохо нарисованную рожицу с алтаря.
И все равно это не оказался столь уж бесполезный день — для себя дева определила, что к злому в прошлом человеку, которого намеревалась убить за награду, сейчас не испытывает ничего. Или почти ничего.
Сегодня она жарила яйца. На том самом неуклюже сооруженном костерке, делящимся теплотой несоразмерно щедро. Трапеза, если учитывать предшествующую ей многодневную голодовку, получилась на славу.
У девы даже промелькнула робкая мысль, а не поделиться ли едой с другим узником ловушки? Но она быстро ее отвергла.
Спать, как оказалось, тоже было не обязательно. Достаточно было просто не ложиться и не закрывать глаз в ожидании сна. А обычная усталость, сопровождающая к концу дня, ей просто казалась. Вот так: достаточно было уверовать, что ты бодр и полон сил, как на тебя накатывали именно эти чувства. Теперь можно было не тратить время на бесполезный сон и вплотную заняться делом, благо дева ночью видела не хуже дневного.
Кто бы мог подумать, но все мытарства оказались впустую: обойдя всю территорию по вытянутому кругу, выхода дева так и не обнаружила. Каждый раз, в определенный момент, она понимала, что направление резко менялось на обратное, и то, что должно было вывести ее прочь, вновь вело к центру. И дева пробовала дальше, делая новый шаг в сторону, неизменно возвращающий ее на путь к середине. И так, шаг за шагом обойдя все — надежда откровенно угасала. Создавалось впечатление, что эта ненормальная территория не имела выхода.
Дева, как с ней бывает крайне редко, впала в прострацию.
Стремление что-то делать, куда-то идти, чем-либо заниматься улетучилось. Просто пропало, растворившись без следа. Движимая целью, дева не ведала покоя и не знала отдыха, но теперь, когда стало ясно, что ловушка односторонняя и не имеет по своим границам физического выхода, все потуги вырваться казались тщетными. Признать честно, когда она входила сюда, явственно натолкнувшись на барьер, то такое не могла вообразить даже в кошмарах — что откуда-то не будет обратного пути. Это было непривычно, необычно и ненормально в ее понимании. Казалось, что всегда есть выход и все можно обернуть вспять, каким бы грандиозным по своей значимости или чудовищности не выглядел поступок. И убийца, как она считала, был тому исключительным подтверждением.
Сегодня она наблюдала за рыбками. Наблюдение за рыбками успокаивало. Их глупые, несмелые движения, касания подводных камней и мгновенное ретирование, вызывали у нее робкую улыбку. Улыбку против ее же собственной воли. Она уже и забыла каково это — испытывать чувства.
Мальки носились, кружа друг напротив друга, слепо тыркались в голое дно, и продолжали плясать. Дева шла по пути их следования, провожая их по берегу ручья, настолько заросшего и изрезанного буреломами, что ей частенько приходилось терять рыбех из виду, пытаясь перебраться дальше. Ручеек, подпитываемый подземными источниками, разросся вглубь и вширь и уже не напоминал тот едва тлеющий родничок, с которым ей довелось встретиться. Да и сами рыбки, бывшие мальки, довольно споро росли, увеличиваясь в размерах.
К концу дня, все также продолжая идти по течению, она вышла к небольшой запруде, образованной корягами, тиной и прелой листвой, которую помнила по дням своих исследований пути выхода. За запрудой начинался поросший ряской водоем. Но туда уже возможности попасть не существовало — запруда оказывалась крайней точкой этого мистического места. Как бы дева не старалась и сколько бы не ныряла, до содранной кожи разбирая нерукотворную плотину, выхода она так и не обнаружила.
Бывшие мальки, сейчас вымахавшие до размеров нескольких ладоней, ловко юркнули в прорехи запруды, вновь пустившись вскачь, однако на этот раз по ее иную сторону.
Лес горел ярко, горел быстро, без труда занимая сухостои. Невыносимый треск веток и гудение пожара, кажется, слышались даже в других мирах. Ночное зарево огня поднималось над лесом очередным солнцем.
Да, она устроила пожар — ей просто захотелось. Просто подсыпала еще веток в едва дотлевающий костерок, раздув его до размеров сначала кострища, а потом и пожарища. Огонь занялся легко, быстро проглотил первую порцию, и дальше уже сам кинулся искать себе пропитание. Двинулся полукругом, вдоль границы аномалии, и своим прожорством очень скоро уперся в окончание ручья, почти вплотную подобравшись к запруде. Здесь, с чувством неутоленного голода, накинулся на свою самую последнюю цель — действительно могучее многолетнее дерево. Но как бы ни был он старателен и жаден, одолеть его ему, потерявшего всякую подпитку, не удалось. Дерево, прогорев лишь до середины, словно выеденная скорлупа, заметно накренилось в сторону ручья, да так, быстро потухшее и прекратившее коптить, и застыло.
Вернувшись к полянке, туда, где все началось, возбужденная зрелищем дева застала крохотный костерок, сейчас превратившийся в пепел, вопреки всему испускающий чувствующийся даже на расстоянии жар.
На следующий день все, естественно же, восстановилось в своем прежнем виде.
Рыбки не успели проделать свой дневной путь, и перед наступлением темноты, в которой дева видела прекрасно, не растворились где-то на полдороге. Зрение, как бы она ни вглядывалась, ей ничем не помогало.
Путем многодневных испытаний в различное время, она выяснила, что путь занимает ровно половину светлого времени суток, и если подойти к ручью, активировав рыб на движение, задолго после полудня, то у мальков не получалось переметнуться в водоем.
Она еще несколько раз устраивала пожары, тоже в качестве опытов в различное время, поначалу провожая их разрушительное стремление столь же горящими глазами, как и в первый раз, потом немного отстраненными и разочарованными, а вскоре и вовсе раздраженными. Огонь горел всегда по одному и тому же сценарию — по границе аномалии, заканчивая свое шествие у небольшой запруды. И за все то время, что дева устраивала разрушения, пламени так и не удалось ни разу одолеть могучее дерево.
Дева, тихо ругаясь сквозь зубы, взбежала по наклоненному стволу, завершив за пожарищем его неоконченное дело. И, не удержавшись на стволе, нелепо плюхнулась в воду.
Сосна. Сосна прямым как шпиль стволом возвышалась над нею, валяющейся на земле и раскинувшей в полном бессилии в стороны руки. Сосна, выглядывающая из-за остальных, неровных и кряжистых, деревьев словно армейский штандарт. Если подумать, то сосна здесь выглядела ни к селу ни к городу. Словно геройское знамя над порогом всеми забытой и задрипаной лесничьей избы. Тем необычней она казалась среди наполненной исключительно лиственными деревьями чащобы.
Да, если подумать… наблюдение казалось занимательным. Хотя думать совершенно не хотелось.
А если все же себя заставить, вглядеться иными глазами, пораскинуть мозгами, то получалось… Нет, совершенно не думалось. Гораздо проще убедиться в шальной промелькнувшей мысли, увидев воочию, и тогда, может, захрясший от безделья разум все же сумеет отделить зерна от плевел.
Высокие как столбы хвойные деревья не были повсюду, как насмешливо подбрасывала ей память, но действительно проглядывали среди остальных крон неким маячком, привлекая внимание. Самая ближайшая сосна стояла прямо у истока родничка, сбегающего между камнями к выщербленному быстробегущим потоком дну. В какой-то момент дева поняла, что уже некоторое время идет за мешкающимися меж подводных камней рыбками.
Она чуть было не подпрыгнула от неожиданности, часто-часто задышав. Ее бросило в дрожь, разум лихорадочно заработал.
Это было странно и выглядело как блеф — ложная искомая надежда, способная как спасти, так и окончательно добить ее морально. Но она все равно надеялась, приняла эту надежду и всем сердцем верила, что все не может быть настолько спроста.
Сосен оказалось шесть — ровно шесть в самых значимых местах закрытой аномалии. Это точно были знаки, иначе быть просто и не могло.
Она собрала свое некогда заброшенное на одну из сосен добро, заправила свои плотные одежды и закинула на плечо рюкзак. Дождалась раннего утра, всю ночь занимаясь лишь тем, что из раза в раз прогоняла в мозгу свою мысль. О том, что если ее задумка ошибочна, а путь ложен, она старалась не думать.
Жестокий убийца как обычно сидел в самом центре, среди исписанных знаками и картинками поваленных стволов. Он еще не приступил к поверхностной очистке своеобразного бивака, но, несмотря на рань, был уже бодр. Дева встала так, чтобы он ее видел.
— Возможно, я знаю, как выйти отсюда. Ты можешь остаться здесь, а можешь последовать за мной — воля твоя.
И ушла, не оборачиваясь, ибо время торопило. Туманный нечитаемый взгляд в спину она заметить не успела.
Три яйца тяжелили карман, когда пламя, подкормленное целой охапкой сухого валежника, заняло сначала ближайшие кусты, а затем весело перепрыгнуло на подсыхающие кроны. Пожарище, словно чувствуя ее внутреннее противоречие, насмешливо плюнуло в стороны снопами красноватых искр, едва не задев лицо девы, и полыхнуло поистине грандиозным пламенем. И треща и фыркая, насмехаясь, двинулось своим окрестным путем в известном направлении. Очень скоро мелкий костерок, положивший всему начало, оставался жарко тлеть, когда остальные останки выгоревшего дотла топлива уже испустили последний дух.
Три яйца, ненадолго покинув деву, вновь тяжелили карман, когда она, поглядывая на небо, двигалась к следующему контрольному пункту. Мальки были не просто рады ее видеть, а безумно счастливы, всем скопом накинувшись на крошащиеся в воду белки. Она шла по течению до тех пор, пока не скормила им все до последней крошки. Довольные осоловевшие рыбешки мирно уплывали вдаль, лениво мотая плавниками.
Три яйца больше не тяжелили карман.
Дева легла под деревом, подложив под голову свою сумку, и приказав себе несколько часов подремать. Где-то невдалеке она чувствовала присутствие второго пленника этого места, немо наблюдающего за ее действиями.
Проснулась она глубоко после зенитного солнцестояния и едва открыла глаза, как поняла, что время пришло.
Тот же самый алтарь, тот же самый плохо намалеванный божок встретили ее с другой стороны ручья. Дева ненадолго задержалась, еще раз пристально вглядевшись в каракули, но никакой подсказки или совета здесь не обнаружила. Просто сняла с одного каменного шипа оборванную цепь, а со второго — дырявую чашу.
— Что поделать. — Пожала она плечами немому укору изображения.
Спешить было некуда, однако дева все равно нервно ускорялась и без особой надобности драла одежду и кожу лезущими со всех сторон ветками — продиралась напрямик. И конечно же, успела. Пожарище уже догорало, глодая ненасытными языками ствол неприступного древа, за ним — доостывало пепелище. Осталось недолго.
Огроменные и неповоротливые рыбины, несомые течением, проплыли мимо. Тыркнулись в запруду. Раз, другой, третий, да и застряли в ней своими объемными боками, не в состоянии проплыть дальше. Лишь беззвучно хлопали ртами, непонимающе глядя по сторонам.
Дева накинула на вновь не поддавшийся безумству стихии ствол дерева цепь, потянув на себя. Пришлось повиснуть чуть ли не всем весом, чтобы дерево поддалось, с треском и плеском, завалившись на другой берег и образовав собою мост.
Пришла очередь чаши. Действуя ею как садком, хоть и невероятно тяжелым и неудобным, дева вылавливала застрявших и обленившихся от собственных размеров рыб, бросая их, даже не трепыхающихся, прямо у своих ног. Когда в запруде не осталось никого, пришло время возвращаться.
На обратном пути к алтарю она наконец дождалась хоть каких-либо активных действий от пассивно и нервирующе наблюдающего за нею преступника. Сказать по правде, она уже было пожалела, что позвала его за собой. Видя, что она делает, и что из ее затеи получается, он выхватил из ее рук наполненную рыбой чашу, крякнув под ее тяжестью.
Едва лишь чаша заняла свое место, повиснув на каменном штыре алтаря, человек угрюмо посмотрел на деву, опытным взглядом отметив у нее под одеждой оружие. Он тоже был вооружен, хотя клинки его кинжалов затупились до неузнаваемости от не несущей им никакой пользы резьбы по дереву. И хотя он не произнес ни слова, в его взгляде и напряженной фигуре был вполне читаемый вопрос. И тон вопроса, если его переводить в вербальную форму, деве совершенно не нравился. Не хотелось поворачиваться спиной к этому человеку, однако сама понимала, что она — его единственное возможное спасение, и он не станет рисковать до последнего. Пришлось повернуться. И пойти дальше. Ощущая на себе при этом ужасно скользкий оценивающий взгляд, так и прожигающий спину.
Контрольных точек, отмечающих какие-то особенные локации этого места, было пять со стоящими в роли меток над ними соснами. Но была еще одна сосна — лишняя, как тогда казалось деве. Теперь она понимала, что нет. И хотя ни под сосной ни рядом не было ничего примечательного, она находилось прямо рядом с границей аномалии — она указывала путь. Врата, если так можно выразиться, прямо сейчас должные отвориться.
Дева прошла мимо первой, ступила дальше, чувствуя, как волосы на загривке вдруг зашевелились от неописуемого ужаса. Дыхание перехватило, но она даже не замедлила шага, уверенно бредя в столь желанном направлении.
Страшный убийца тоже это почувствовал, дернулся всем телом. Замер, чересчур громко дыша носом. О своем оружии он, кажется, позабыл.
— Не оборачивайся. — Процедила дева сквозь зубы. — Во что бы то ни стало.
Сзади, тихо скрипнув стержнями поваленных деревьев, нечто взгромоздившиеся на них довольно и вполне удовлетворенно заухало.
* * *
— Да уж, — хмыкнул волк. — Тот еще любитель рыбы. Раз терпел так долго.
— Думаю, он просто позабыл ответ на свою когда-то давным-давно загаданную загадку.
Зверь не стал спорить, улыбнулся, вытянул лапы. Но вдруг мгновенно посерьезнел.
— А что этот, — задумчиво поковырявшись в зубах, спросил волкан, — даже не поблагодарил? Вот совсем-совсем?
— Не-а, не поблагодарил. Может, хотел, да, видимо, запамятовал-то на радостях, что выбрался оттуда.
Волкан укоризненно покачал косматой головой.
— Совсем благодарность человеческая захирела. Аж меня, волка, обида за душу берет. Выть хочется, — заключил он, грустно взглянув на небо. — Ан нельзя. Непорядок это, а порядок, как говорится, должен быть всегда. Что в голове, что в поступках.
Фляга Льтуса
— Поедешь к югу, к самому морю, где на причале стоят высокие торговые галеоны и пестреющие всеми цветами радуги шхуны. В приморском городке отыщешь моего человека, связного, он проинструктирует тебя по дальнейшим действиям и даст более точные указания в соответствии с ситуацией. Воришки еще не знают, что на самом деле украли и какую ценность, — не финансовую! — держат в руках. Но, благо, ни на один из кораблей, отплывающих за море, они еще сесть не успели, иначе бы я знал. У тебя будет время и шанс, чтобы их схватить и проучить. Привези мне то, что они украли, и я тебя щедро вознагражу. Верни мне назад мое сокровище! Сделай это, заклинаю тебя!
Морской порт был наполнен звуками людского гомона и криков чаек. И не понять было, чего в большей степени. Пахло рыбой. Рыбий запах, ее требухи, как свежей, так и гниющей в придорожных канавах улочек, уходящих вглубь морского района, едко бил нос, заставляя морщиться и по возможности дышать ртом. Портовые трудяги нетвердой походкой без устали носились меж кораблями и наваленными в кучу товарами, легко определяя необходимое между теми, которые следовало погрузить на борт, и теми, которые только что сгрузили. Как им это удавалось — тот еще вопрос, так как одно не отличались от второго.
Дева стояла поодаль от общего шума, на самом берегу, редко прохаживаясь от одного причала к другому. Все также закутанная, она отчего-то не вызывала обыкновенной бурной реакции и всеобщего любопытства. Никто не поглядывал на нее полным недоверия и непонятной злобы глазами, никто не буравил в спину. Видимо здесь, в приморском городе, а тем более в порту, навидались всякого и уже ничему не удивлялись.
Похитители были здесь, дева уже успела их обнаружить и, всмотревшись в лица и фигуры, запомнить. Как было условлено, встретившись здесь с охотником антиквара, она получила от него ценную информацию и наводку, благодаря которой все же выследила скрывающихся беглецов. И сейчас она была в порту, прохаживалась, смотрела на тревожимую легким ветром водную гладь и слушала пронзительные крики чаек. А похитители сидели в кабаке неподалеку, пропивая свои последние средства. Они ее больше не интересовали — у них похищенного уже не было.
— Где она? — Кричал охотник, выворачивая вмиг протрезвевшему от страха и боли похитителю пальцы. Один за одним. — Где фляга?
Терзаемый выл, заливался слезами и мольбами, еще не до конца осознавая происходящее. Однако видел, под каким неестественным углом поворачиваются его пальцы, слышал те чавкающие звуки, с которыми фаланги выходили из суставов, но боли не чувствовал. Лишь пока.
Запрокинув его голову, охотник внимательно вгляделся в глаза пленника.
— Мне нужна фляга, — проговорил он куда как более спокойно, но в спокойствии том слышалось едва сдерживаемое буйство. — Фляга, которую вы похитили. И ты мне скажешь, куда вы ее подевали. Рано или поздно.
Он схватил запястье незадачливого воришки, сжав его исковерканную ладонь обоими руками. Давший поймать себя похититель невразумительно закричал, всем телом забившись в путах.
Дева стояла в стороне, хмурым взглядом провожая экзекуцию. Когда привязанный к стулу наконец заговорил, заплетающимся языком пытаясь выдать больше того, что знал сам лишь бы прекратить истязания, она вышла прочь.
Речная барка ловцов придонных рыб вошла в залив с последними лучами солнца, ослепляющими всполохами солнцеворотов, отражающихся от водной глади. Небо было безупречно чистое, не замутненное даже крошечными полосками перистых облаков. Уже сейчас, на закате дня, на нем были видны первые звезды и самые яркие созвездия. Крысилась уже почти убывшая луна.
Пронзительно кричали чайки. Почуяв добычу, мгновенно облепили собою борта и втянутые для сушки весла вставшей якорем барки. Пара лодок, спустившись на воду, отделились от нее, стремительно двинувшись к берегу. К вечеру суета в порту и на пристанях замедлилась, местами приостановилась, шумной гурьбой поперевшись в верхнюю часть города, к наспех открывающимся в портовом районе заведениям. Пестреющим, в своем обыкновении, намалеванным свиным окороком и пенной кружкой на покосившейся от времени вывеске.
Однако лодки, минуя все причалы и удобный случай пришвартоваться, проплыли дальше. На их борту ловцы хранили угрюмое молчание. Они правили к каменистой осыпи, подальше от причалов, о которую, медленно наплывая, бился едва пенящийся прибой.
— Близко не бери. — Шепнул рулевому один из ловцов.
Они остановились, медленно покачиваясь на волнах, уже в кромешной темноте, упавшей на их головы ночным покрывалом. Лишь огни масляных ламп в чьих-то руках на берегу выдавали его близость. Раздался шум, с каким весла погружаются в воду, и через томительную дюжину минут, к их лодкам подплыла третья, заметно поменьше.
— Кто главный — с нами. Остальные ждите. — Донеслось с нее.
Один перебрался, остальные недовольно заворчали.
— Скоро уже, скоро. Ждите. Вас направят.
И отбыла лодчонка, отяжелев на одного человека. Крошечная ложбинка, достаточно глубокая и свободная от острых камней, которую знал лишь правящей лодкой, их приютила. На землю выбрались лишь двое, уверенной походкой засеменив вдоль густо поросшего ольховника. Следующую за ними тень не заметил бы даже о ней предупрежденный.
Двое, ловец и человек в полувоенной форме, нырнули в город, смело пройдя портовым районом в район повыше. Остановились перед не такими обшарпанными, по сравнению с остальными, дверьми корчмы с недавно обновленной краской на вывеске. Прошли внутрь.
За опрятным, даже местами оттертым от засаленности, столом их уже ждали. Человек в прогулочной, либо простой охотничьей одежде, серебряными пуговицами и богатым покроем выдающей в нем зажиточного чиновника. Он был бледен, хмур и попеременно прижимал к лицу платочек, покашливая и обводя вокруг пренебрежительным взглядом. Двое вошедших, следуя его воле, сели.
— Расскажите мне. — Велел человек в богатой одежде.
— Похитители сделали все как надо, господин. — Ответил полувоенный. — И ловцы уже добились результатов.
— Трудности? — Перевел он взгляд на ловца.
— Не сказать, что стоящие упоминания, — замялся полувоенный. — Так, небольшие. Когда пришло время, главарь похитителей вдруг решил отказаться от нашего уговора, но, благо, угрозы собственных людей его вовремя образумили. Из-за этого, господин, интересующую вас вещь пришлось искать несколько дольше.
— Нашли мы значиться на полверсты ту штуковину пониже по чечению, господин. — Откликнулся на вопросительный взгляд ловец. — Усе начали с условленнаго, да дивинулися к усытью. Тама-то рыба худо ловица, да токмо увелири нас, мол, не зазря мы все этово выделываем. Дык и правда — нашли кой-чесь!
— Покажи! — Наклонился вперед богато одетый.
— Господин, а с этими как быть, с похитителями… — Вновь замялся полувоенный.
— Оставь. — Бросил тот. — Обычное дело. Примерно на то я и рассчитывал.
Винокур был пьян. Несмотря на то, что он зарекался никогда не выпивать на работе, но он просто не мог не оттестировать новый продукт — шестидесятиградусный нектар на можжевеловых ягодах! И хотя это был обыкновеннейший самогон, суррогат, которому до вина было как своим ходом до луны, получилось просто изумительно! Пока лишь не как товар, но уже как хорошее начинание! И за это стоило выпить! Не можжевелового нектара, конечно, но кое-чего попроще.
И по хорошему настроению сделал то, чего обычно никогда не делал — отопнул прочь ссущего под каждым углом пса, как обычно разлегшегося на дороге, прокричав ему вслед нечто нечленораздельное и пригрозив кулаком. Животное, взвизгнув, грызануло его за ногу, бросившись наутек и поджав хвост. Так уж получилось, что в приступе паники оно зацепило уже едва дотлевающую жаровенку, перевернув ее прямо на стеллаж спиртов, подготовленных для дистилляции.
Ловец вытащил кожаную тубу, для уверенности сверху перемотанную лоскутами грязной, пропахшей рыбой ткани. Думал было очистить ее от неподобающего вида, но господин в богатых одеждах, довольно резво перегнулся через стол, схватил ее с колен не успевшего отреагировать ловца, дернув на себя. Лишь в последний момент тот ухватился за ремень тубы, с каким-то странным взглядом замерев между нею и грозным человеком.
— Отпусти, — прошипел господин. — Живо!
И только теперь ловец очнулся, с полным сожаления видом разжав пальцы. Сглотнув тягучую слюну, он с неодолимым желанием приложился к только что поставленной на стол кружке.
Богато одетый человек поглаживал плотно запечатанную тубу, зажав ее между коленей и нащупывая крышку. Крышка со звонким хлопком отошла прочь, отпечатывая содержимое. В следующий миг, когда золотистую флягу извлекли дрожащие от напряжения ладони господина, ее влияние почувствовали все. Ловец еще сильнее приложился к кружке, словно пытаясь залить содержимым возникшее у него чувство, полувоенный восхищенно выдохнул, жадным блеском в глазах провожая каждый всполох заветной бутылочки. А грозный богато одетый человек упоенно улыбался.
— И что это… Зачем оно нужно? — Просипел полувоенный не своим голосом.
— Это-то? Хо-хо, — облизнулся грозный господин, встряхнув флягу. И до неприятности сморщился. — Почти пустая, здесь всего на один глоток. А это, мой невежественный друг, чудодейственное средство. Единственное в своем роде. Способное исцелить любую, абсолютно любую болезнь! В должном количестве, разумеется. А здесь… всего один глоток. Эй, ловец, ты вскрывал тубу? Знаешь о содержимом? Признавайся!
— Нет, господин! — Встрял за него полувоенный. — Вы сами видели ее невскрытой. Похитители ее украли уже в таком виде.
Богато одетый человек поморщился, как вдруг зашелся очередным приступом кашля, на этот раз не таким аристократичным и тихим. Он тяжело согнулся, вздрагивая при каждом выдохе.
Двери корчмы со стуком отворились, на пороге стоял, одуревше взирая на корчмаря и гостей, какой-то уличный пройдоха. Тяжелое дыхание выдавало в нем решившего развить свои беговые способности человека.
— Там горит! — Воскликнул он, театрально вскидывая руки. — Винокурня горит!
И умчался дальше, передавать свою новость по все новым и новым заведениям, оставив бледный и шокированный от новости народ сидеть с раскрытыми ртами. Но больше всех сбледнул с лица сам корчмарь, имеющий хорошую скидку на продукты весело полыхающего, словно машущего на прощание ручонкой, производства.
— Винокурня горит! — Воскликнул он. — Горит же, горит! Я в окно вижу!
— Айда тушить! — Посрывались со своих мест горожане, всей бездумной гурьбой ринувшись на подмогу. — Ведра, ведра! Воды, корчмарь! Спасай винокурню!
Заведение вмиг опустело. Остались лишь приникшие к окнам подавальщицы да таинственная троица, кинувшаяся вслед за остальными к дверям. Видно было, как сильнее всех из них рвался на подмогу ловец, переступая с ноги на ногу и неуверенно поглядывая на господина. Тот, заметив это, с презрительной миной достал из внутреннего кармана туго набитый кошель, сунув ловцу в руки. Через миг того и след простыл.
— Винокурня горит, — как-то задумчиво произнес человек в полувоенной форме, нервно покусывая губы.
Грозный человек ничего не ответил, покашлял, развернулся и двинулся обратно к их столу. Когда он устало сел, уже видя опускающуюся на глаза от резких действий кровавую пелену, то понял, что остался в одиночестве.
Господин в богатых одеждах беспомощно огляделся, заглянул под стол, лавку, и вдруг кинулся к дверям, на ходу зайдясь в диком приступе кашля. Сгорбленная фигура человека в полувоенной форме, втянувшего голову в плечи, словно каждый момент ожидающего какой-нибудь напасти позади, стремительно удалялась. Причем делала это в совершенно ином направлении интересов горожан, с громкими окриками мчащихся посмотреть, как горит и бабахает винокурня.
— Мерзавец! — Воскликнул хорошо одетый, тяжело опираясь о дверной косяк и не отрывая батистового платочка ото рта. — Негодяй! Изменник! Сгною! Убью! Уничтожу! — Он медленно, очень медленно осел на ступени заведения. — Моя прелесть, — прошептал он, еще цепляясь взглядом за вот-вот скрывающуюся среди домов фигуру, но сам уже бессильно распластался на полу. — Моя прелесть…
Человек в полувоенной форме бежал как ошпаренный. Он знал, чем ему грозило то, что он сделал, и еще сильнее прибавлял ходу, и так мчась на пределе своих возможностей. Он ткнулся в одни двери постоялого двора, во вторые — везде было заперто. Абсолютно все население ближайших районов сбежалось на творящееся действо: кто подмочь чем, а кто просто поглазеть. Беглецу, слепо тыркающемуся по домам, никто не открывал.
Наконец бросился в темный переулок, который уже оказался занятым беседующими о своих личных делах людьми, поигрывающих кастетами, бритвами и кинжалами. В другой, пропахший невыносимой вонью рыбы и нечистот, в третий, где ему чуть было не перерезали глотку. Просто так, за то, что мимо проходил. Человек в полувоенной форме был в отчаянии.
Канавы были полны мусора и помоев, испускали ни с чем не сравнимый и неописуемый аромат. Он прошел как можно дальше, в самую глубь улиц и домов, в самый темный уголок, какой только смог обнаружить, оставаясь невидимым и скрытым от остальных глаз. С омерзением шагнул в затянутую зеленовато-желтой ряской жижу, притулившись к самому фасаду дома.
Ничего, думал он, это ничего. Совершенно неважно. Только бы перелить поскорее. Все остальное — неважно. Ты, господин, говорил только о теле, о жалком бренном теле. Но это не так, совершенно не так. Глоток способен исцелить саму душу.
Постоянно оглядываясь, он дрожащими руками попытался сковырнуть крышку с тубы. Севшая наспех, криво, крышка отказывалась поддаваться. Человек в полувоенной форме выругался сквозь зубы, ладонь с тубы сорвалась, и та, с громким хлюпом, упала в гнилостные помои. Теперь он выругался уже в полный голос.
Вылетевшая их подворотни обезумевшая обгоревшая собака, с еще дымящейся шерстью, коротко взвизгнув, бросилась на неуклюже наклонившегося человека, яростно вцепившись тому в шею. Повалив его, истекающего кровью и безуспешно пытающегося зажать жестокие рваные раны, она, поскуливая, рванула дальше, в подворотни. Оттуда, спустя несколько минут, раздались злые выкрики и проклятия, сменившиеся предсмертным псиным скулежом. И потом все стихло.
Отстраненно наблюдающая за всем этим тень тихо скользнула к корчившемуся в грязи охотнику, движением милосердия оборвав его муки. Растворилась в ночи. Туба, облепленная нечистотами, растворилась вместе с нею.
Она просто шла куда глаза глядят: бесцельно, бездумно, неосознанно. Слишком много жестокости, думала она, а все из-за чего? Из-за того содержимого, что волей судьбы все же попало ей в руки. Она нашла то, за чем охотилась, но получила ли она то, что заслужила?
Ноги вели ее проулками, темными переходами и извивающимися улочками. На распутьях она куда-то поворачивала, выбирала направления, сама не помня, в какую сторону. Просто шла, не испытывая того очарования от достигнутой цели, которое обычно сопровождало ее в подобные моменты. Он бы наверное сказал, что она повзрослела. Перестала метаться, словно девочка, и удивляться всему необычному, радуясь каждому шагу. А каждому удачному шагу вдвойне. Его бы это наверняка обрадовало. Он ведь не слишком жалует детей.
В какой-то момент дева поняла, что больше никуда не движется. Она просто стояла посредине широкой улицы, прямой стрелой уходящей в порт, и смотрела туда, где горящее миллионами звезд небо, отражаясь от водной глади, незаметно с ней объединялось. Казалось, небеса доходили до самого города, до самой каменистой и песчаной суши — ступи, и ты больше никогда не вернешься на землю.
В стороне что-то шевельнулось. Едва-едва, но деве, погруженной в окружающее, этого было достаточно. Мусор, — подумала она, оглядываясь, — и нечистоты. Хочу покинуть этот город, потому как в этом городе меня привечают лишь мусор и нечистоты.
— Выпей это. — Пробормотал ей мальчик, выглядывая из-под обрывков грязи. — Выпей, и ты обретешь спокойствие.
Туба, обиженно дзынькнув, повалилась на землю. Фляга была теплой, грела ладони, разливаясь своим теплом дальше, по всему телу. Достаточно было просто держать ее, прижимать к груди и знать, что она с тобою, и все безумства этого мира словно отступали куда-то, мелко трясясь, прятались на вторых планах. О каком спокойствии он говорит, ведь ей и так хорошо?
Еще до того, как фляга попала ей в руки, дева уже знала, что ни за что не отдаст ее антиквару. Знала, что тот брюзга испытывает те же эмоции, что и она, прикасаясь к столь удивительному артефакту. И не ей было судить, достоин ли он такого. Не ей. Но возвращать ее она не собиралась, подписавшись на ее поиски… лишь ради себя самой.
Ночные крики чаек, доносимые спокойным теплым ветром от пристаней, больше не звучали столь пронзительно. Они изменились, приняв иное обличье. Было в них что-то музыкальное. Словно вкупе с разгоревшимся заревом тысячи пожаров сияющих созвездий небесной полусферы, их крики играли струнами души. Дотягивались туда, в места, как считала дева, давно омертвевшие, давно забытые и ненужные.
В груди, под прижимаемой к одежде флягой, разгоралось, бурля и неистовствуя, какое-то новое, доселе невиданное чувство. Подобно электрическому разряду разлилось по телу, сковало его на единый миг, и, вторя морской волне, откатилось, полностью растворившись. Дева восторженно и счастливо выдохнула. Крышка фляги сама собою прыгнула в ладонь. Разум затрепыхался в предвкушении.
Лежащий в канаве мальчик улыбнулся. Несмело, вымученно, но все же искренне. Мир перед его глазами замирал. Очередная вспышка выдернула его из короткого небытия.
— Что… Зачем ты это делаешь? Почему? Нет, остановись! Тебе это нужнее, нужнее! Я же вижу это…
Она присела перед ним на колени, всем своим существом ощущая нечто, не поддающееся описанию. Чувство, которое она тогда так и не смогла запомнить, как ни пыталась.
Дева, приподняв слишком большую головенку для столь тщедушного тела, приставила к его губам горлышко фляги. Вгляделась в его темные, бездонные глаза с черными кругами под ними, столь огромными, что доходили до самих щек.
— Выпей это, — очень тихо произнесла она. — Прошу, не пророни ни капли…
Слезы текли из ее глаз, по щекам, губам, собираясь на подбородке. Она тепло улыбалась, словно мать своему ребенку.
Упыриная ночь
— Вот слушаю я тебя и диву даюсь. Вот как, объясни мне, как, потому как сам я этого, видимо, понять никогда не сумею, пережив все это, можно не слететь с катушек? Суметь сохраниться в здравом уме и полнейшей адекватности! Как тебе удается оставаться все такой же спокойной и полной веры в благородство и добрые намерения людей? После всего того, что ты сделала для них, и после всего того, чем они тебе за это отплатили? Нет, дева, не могу, не понимаю! Да, зверь я глупый! Мозгов, — он постучал себя по лбу, — едва хватает на то, чтоб выживать, а чтобы еще и понимать что-то… Тут надо родиться человеком — не иначе. — Он запнулся. — Или хотя бы разумным существом, мыслящим логически, а не просто живущим на диких, зачастую архаичных, инстинктах.
— Я монстр, волкан. — Безэмоционально отреагировала она. — Чудище ненормальное этому миру противное. Я ведь не человек, совсем.
— Не человек, — пробурчал волкан. — Как же. Видывал я этих человеков. Да уж, приходилось встречаться со всякими. И скажу я откровенно, что человечности в тебе, дева, поболе ихних будет. С лихвой. Мне, знаешь ли, болтать попусту и привирать ни к чему.
— Тебе-то ни к чему? А ну как лишу тебя пайка недельного?
Волкан протяжно вздохнул.
— Твоя правда.
— И все же… пресновато, — пожевал языком волкан. — Не может быть у тебя так мало историй, вот просто — не может!
— Может, и не может. — Пожала плечами дева. — Да только это те, на которые я хотела обратить внимание. Знаешь, если отобрать зерна от плевел, то это будут самые крупные семена. И именно их всходами все и зиждется.
— Эва как ты обозвала свои «особые случаи». И то, думается мне, далеко не все. А мне, знаешь ли, хотелось бы услышать побольше.
— Твои намеки ужасны, а просьбы еще бездарнее. Тебе стоило бы потренироваться в риторике и жестикулировании, хотя погоди-ка…
— Не смешно, — буркнул волкан.
Они замолчали, думая каждый о своем. В руках у девы появился старенький набор для шитья — как минимум нескольким прорехам на ее плаще вскоре должен настать конец. Она приложила кусочек мешковины, в котором недавно принесла снедь, примеряясь к размеру.
— Дева, — подал голос волк, видя, что сама она проявлять инициативу не собирается. — Прошу, расскажи что-нибудь еще. Какую-нибудь историю, любую. И если уже идет речь о воспоминаниях третьего, самого необычного выбора, то пусть будет оттуда.
— Правда? Разрешаешь? — Пробормотала она, кусая нитку.
— Разре… Прошу.
Она ничего не ответила, и долгое время над поляной висело молчание. Волк не торопил, дева не торопилась. Подбирала рассказ, как надеялся он.
— Я расскажу тебе, — наконец произнесла она. — Однако не обещаю, что то, о чем я тебе поведаю, тебе обязательно понравится.
— Я весь внимание.
— Повторяешься.
— Мои уши — локаторы неизведанного, мой разум — приемник невероятного, мое сознание — творец событий названных.
— Сойдет, — кивнула дева после минуты раздумий.
Волк довольно потянулся, по-кошачьи улегшись на бок.
— Итак, о чем же ты мне поведаешь?
— О временах не столь далеких. Думаю, даже ты, если пожелаешь, способен их припомнить.
— Вот как, интересно. Я, право слово, весьма заинтригован. Все мое существо так и трепещет в предвкушении, а учитывая то, что для тебя это несомненно значимое событие, так и вовсе трепыхается подобно выброшенной на берег собственной глупостью плотвичке. Однако если учесть, что водоем заболочен, и воздуха в этой воде самый минимум, недостаточный для полноценного и здорового развития, то… — Он вдруг запнулся.
— Мне уже можно начинать? — Ехидно поинтересовалась дева, оторвавшись от своего занятия и лукаво поглядывая на сверх меры говорливого собеседника.
— Безусловно.
— Тогда слушай и, по возможности, не перебивай. Случилось это, как я упоминала, не так давно. И не столь далеко, как события некоторых моих рассказов — буквально в соседней губернии. Стояла весна, снега только-только сошли, хотя под деревьями да вдоль ложбин оврагов грязный от земли снег все еще лежал. И хоть пар все же шел изо рта по утрам и вечерам, стояла необычайная для того времени года теплая погода.
Я была без работы, как обычно, и без денег, как обычно. Еда была — и это радовало. В поисках оплачиваемой помощи я обращалась в каждое сопутствующее мне селение, в каждый старов дом, но буйствующие тогда на дорогах разбойники заставляли с предубеждением относиться ко мне каждого отказывающего в работе человека.
Чем ближе к крупным городам, насколько я знаю, тем спокойнее было на дорогах, тем свободнее хозяева общались со случайными гостями и незнакомцами. Где-нибудь там-то я и намеревалась обзавестись работой. И обязательно бы обзавелась, если бы на подходах к одной деревушке не услышала жуткий грохот и пронзительные визги какой-то необычной твари. Да настолько громкие и высокие, что даже местные собаки стояли, разинув пасти, и не смели даже заикнуться о брехе. Надо ли упоминать, что на эти звуки сбежались абсолютно все жители, несмело выставив перед собой вилы и рогатины?
Моя помощь подоспела как нельзя кстати. Я согласилась очистить курятник, а именно туда забралась та мифическая зверюга, даже не зная на что соглашаюсь — настолько мне была потребна хоть какая-то работа.
Признаться, мне было страшно туда идти, слыша те потусторонние крики, кажется, пробирающие до самых костей, но выбора у меня все равно никакого не было. И встретятся сейчас две неведомые зверушки, думала я тогда, и неизвестно кто из нас выйдет победителем. Но каково же было мое удивление, если не сказать шок, когда я наконец вошла вовнутрь. Я чуть не разрыдалась тогда. Невероятно пронзительные крики раздавались из дальнего, самого темного угла. Там, зажатый со всех сторон квочками и одним петухом, наседающими на него что есть мочи, трясся от страха дикий зверь, забравшийся в курятник с зимней голодухи. Мне стоило дикого труда, чтобы сдержать себя от каких-либо необдуманных действий.
Передо мной тогда, уже все для себя решившей еще до входа в курятник, вдруг встал нелегкий выбор. Я могла убить дикое животное, как того требовали приличия и правила, а главное, договоренность с сельчанами. Я могла просто разогнать кругом кур, дав тем самым возможность этому зверю сбежать по доброте душевной. Но вместо этого, вместо двух простых истин и путей, я позволила столь непутевому волку последовать за мной. С тех пор в том селении я больше не смею появляться.
Она замолчала, продолжая заниматься своими делами. Даже не подняла взгляда, чтобы увидеть на морде волка каменную мину и презрительно изогнутые губы.
— Действительно, — проговорил он, медленно выговаривая слова, — я знаю эту историю. Благодарю за предупреждение, к которому я, признать честно, отнесся скептически. Как видно, зря.
Теперь настала его очередь молчать, но по натуре своей он не смог продержаться и минуты. Громко и протяжно фыркнул.
— Так вот к какой категории ты меня причисляешь — третьему пути! Я возмущен. Я оскорблен! Квочки? Петух? Начнем с того, что это были…
— Духи охотников на волков, вселившиеся в куриц, — закончила за него дева. — Которым обычному волку невозможно противостоять, так как они его гипнотизировали. Да, я уже не раз слышала от тебя эту версию событий.
— И тем не менее продолжаешь считать иначе!
— Продолжаю. Взгляни правде в глаза, волкан, — волк недовольно засопел, — это были обыкновенные курицы. Курицы, почувствовавшие твой страх перед ними.
— Это был не страх, а нерешительность! Если смотреть объективно, яйца — это будущие цыплята. Это все равно, что есть детей!
— Да уж, волкан. Немудрено, что с твоим мировоззрением ты сумел вляпаться в одну из позорнейших ситуаций. Если подумать, хуже могло произойти, только если бы курицы добились своего. Только представь…
— Закончим на этом. — Очень тихо проговорил волк, нервно облизываясь. — Закончим, дева.
Дева, сматывая в небольшую тряпочку швейные принадлежности, не произнесла ни слова.
* * *
Возвращаясь к ужину, стар вдруг остановился на крылечке, не поняв изначально, что так дернуло его глаз. Медленно огляделся, хмурясь из-под кустистых бровей. И ничего, разве только кладка корневищ, уложенная стопкой прямо перед редким палисадом. Странно она лежала, хотя ничего необычного там не было. Но что-то было явно не так.
— Тревожит меня что-то, жинка. — Заключил стар, вернувшись с подворья. — Наложи-ка снеди, да поболе. Снесу-ка я идолу. Мож успокоится душа.
Он беспокойно потер грудь, недовольно поморщившись. Взглянул на небо — чистое, и сердце еще сильнее оттого кольнуло. Никаких предвестников беды, чтоб ее. Да отчего ж так неспокойно!
А пока жинка хлопотала у печи да с горшками, сам стар обошел дом, просунув руку меж двумя наполненными водою бочками.
— Пойду, — сказал он, когда все было готово. Жинка осенила его вслед священным знаком.
Однако отойдя подальше, минуя стопку корневищ, стар понял, что идет неверно.
— А что же… Что же стало с твоим наставником? Или может, опекуном? Не знаю, как его называть.
— Называй как хочешь, волкан. Я его убила.
Волк, сидя с раскрытой от жары пастью, вдруг поперхнулся. Откашлялся.
— Понимаю.
— Не-а, ничего ты не понимаешь. В моей слюне яд. Пока была ребенком, яд был еще слабый, хоть и действенный. Наставник-опекун это понимал, поэтому так торопился. Я росла — яд концентрировался. И однажды его это доконало. Вернее… однажды я не сдержалась, укусила его снова, как в детстве. Со злости, сильно. Хотела сделать ему побольнее, чтобы он почувствовал, как больно мне самой.
Она вздохнула, пошерудив палкой прошлогоднюю листву.
— Теперь точно понимаю. — Кивнул он.
— Не понимаешь, волкан. Яд действовал медленно, Он корчился, а я в отчаянии бесилась рядом, не зная, что мне делать. Я была в ужасе. Да, я сделала ему больно, я это видела, но радости никакой не было. Я тогда подумала о том, что все его козни и пытки — не такие уж козни и пытки, его злоба — забота, жестокость — торопливость. Ради меня. А грубость его… Такой, видимо, уж он человек, никогда не знавший ласки, и оттого не сумевший ее передать. Я не знала, сколько будет действовать яд, но больше не могла позволить Ему страдать. И я добила его, ножом. Руки тряслись, и мне потребовалось колоть, налегать на рукоять несколько раз, чтобы попасть. Он выносил это. Молча. В его глазах была благодарность… и ласка.
На этот раз волкан с разумством разумного промолчал. Лишь отвел взгляд, не вынеся затянувшегося молчания.
— Я уже видела ласку, после этого. Много раз. Я могу судить, волкан. Целыми вечерами напролет я подглядывала в окна, наблюдала за детьми, родителями, у имущих — няньками. Видела это прямо посреди дороги, в трактирах и корчмах, в разговорах, в поучениях. Научилась различать. Ласка — она разная, всегда и у всех разная, но настолько похожая. Проистекающая из заботы, самых добрых и лучших побуждений чаду или своему ближнему, ласка остается лаской. И теперь, вспоминая тот его взгляд, я понимаю, что это была она. Не такая, как у всех — другая, исковерканная, извращенная… неумелая. Но была.
Птичий щебет, прячущийся где-то в охапках крон и незаметно перемещающийся, стал громче, звонче. Птицы выпорхнули из своего укрытия, ненадолго показавшись на затянутом словно дымной пеленой низкими перистыми облаками небе
— Что-то больно ты разговорилась, дева. — Хмыкнул волк.
— Твоя правда, волкан. — Кивнула она, на долю мгновения раньше учуяв то же, что и ее спутник.
С подобием бесчинствующего великана на поляну, раздвигая огромными лапищами ветки, сучья и кустарники, вышагнул медведь-шатун. Замер.
— Прошу прощения. — Прокашлявшись, произнес он и покосился на с интересом изогнувшего брови волкана. — Наконец-то я тебя догнал.
Заросший бородищей до самых глаз, в кожаной безрукавке, открывающей почти столь же заросшие руки, стар неуверенно шагнул к ним. Дева встала ему навстречу, однако осталась стоять на месте.
— Подумал я тут… Неправильно это. — Стар-медведь не решался подойти поближе, перебирая в пальцах-сардельках невзрачного вида котомку. — За хорошую работу положена хорошая награда. А ты, стало бы, — кивнул он деве, — отработала на диво хорошо. Как если б я нанял двух-трех молодчиков. Да и те, думается, не управились бы так споро. Чистёнько, аккурат рядок к рядочку. Работа — заглядение.
Дева не произнесла ни слова, продолжая стоять недвижимой статуей. Казалось, даже не дышала. Волкан протяжно зевнул.
— В общем, решил я, чего это… обижать хорошего работника, как ведь работа выполнена. Тут вот, — он поднял на ладони котомку, сам подивившись ее скромным размерам в его огромной лапище и мгновенно застыдившись. Даже сквозь столь густую бороду было заметна краска, залившая его лицо. — Тут вот наградка. Все чин по чину. Возьми, — он положил крохотную котомку у собственных ног. — А тут вот, — отстегнул он от пояса мешок, — тоже благодарность: снеди всякой жинка набросала. Уж не побрезгуй, от чистого сердца.
Мешок отправился к котомке. Приоткрывшись, пахнул чем-то аппетитным, отчего слюнки потекли мгновенно. Волкан даже весь подобрался, уже позабыв о госте и горящим взглядом буравя непроницаемую холстину, пытаясь отгадать хранимые ею секреты.
Стар переминался с ноги на ногу, не зная как поступить. В итоге определился.
— Ладно уж, пойду я. А за работу — еще раз благодарствую.
Он попятился, не отрывая взгляда от девы. Шагнул в заросли.
— Этой ночью, — вдруг произнесла она, — не выходите из дома. До самого рассвета. Подоприте все двери и окна.
Медведь-шатун, уже почти скрывшийся в листве, раззявил пасть, его глаза в ужасе округлились. Он поспешно закивал и, рассыпаясь в благодарностях, чуть ли не бегом сквозь буреломы заторопился прочь.
— Ты чего хмуришься, волкан? Или ты смеешься?
— И то и другое разом, — хмыкнул он. — Что-то я не припомню, чтобы ты мне рассказывала нечто похожее. Или, может, заведомо умолчала, а, дева?
— Да нет, волкан. — Присела она прямо там, где стояла, не отрывая взгляда от мешка с котомкой. Ноги просто подогнулись. — Просто такое случилось впервые.
Волк вдруг захрипел, захаркал, раскрыл пасть, да как завыл протяжно, с надрывом.
— Ты чего?
— Я чего? А ничего, дева. Ха-ха! Смешно мне, вот что! А самое веселое здесь даже не то, что тебе в итоге заплатили за грязную земляную работу. И не то, что вообще заплатили. Меня до коликов в животе веселит то, что, несмотря на проявленное с их стороны свинство, ты все равно собиралась им помогать. А знаешь что, ведь проще всего поднять ладошки, сказать, что умываешь руки и чтобы разбирались сами. Спасались своими вилами и топорами, если у них хватит силенок, а главное духу. Проще всего абстрагироваться и скинуть все на остальных. От обиды, от несправедливого отношения. Да проще просто промолчать! Развернуться и уйти, не сказав ни слова, не предложив помощи или пускай хотя бы предостережения. С тобой обошлись по-гадски — их ошибка и их проблемы. Да, — задумчиво добавил он, и больше не смеялся. — Так гораздо проще. Ты ведь всегда поступаешь так, дева. Но не на этот раз. Почему? Ответь мне. Чем эти крестьяне отличаются от других? Чем они такие особенные и тебе так приглянулись, что даже погнанная ими прочь, ты все равно задумала им помогать. Я ведь глупый волк, я не играю и не прикидываюсь. Мне действительно очень интересно знать.
— Всегда есть три пути, волкан. Всегда. Но никогда не знаешь, куда приведет третий.
— Это — третий?
— Да.
Волк помолчал.
— Ты можешь сегодня погибнуть там. Бесславно. И даже хранимые тобою земледельцы не узнают о твоей жертве. Для них просто-напросто начнется очередной день — не больше, не меньше. О том, что они были или есть на волосок от смерти, и кто рисковал для них, они ведь даже и не возведали бы.
— Знаю, волкан. Третий путь, понимаешь?
— Кажется, теперь начинаю понимать. И первое, что понимаю — это то, что третий путь связан с непомерным риском. И понимаю, что иначе нельзя.
— И верно, иначе нельзя.
— Я вижу, и доказательство лежит от меня на расстоянии вытянутой лапы. А потому как звенела вон та маленькая и бесполезная для меня тесемка, могу сделать вывод, что там явно больше, чем за обычное выкорчевывание пней. Куда как больше.
Пахло невыносимо аппетитно, а молчание все затягивалось. Волкан, не выдержав, перевел взгляд на деву. По ее освободившемуся от тканевой маски лицу пролегли две мокрые дорожки.
Ночь была полна звуков, причем преимущественно звуков прескверных. Упыриная ночь, как прозвала ее дева. Далекий волкану старый погост был пресыщен нечистого ужаса. Луна, хоть на небе не проглядывало ни единой тучки, куда-то постоянно пропадала, опуская на землю непроглядную темень. Такую, что даже затаившемуся под кустом волку становилось видно лишь кончики собственных лап.
Он спрятался вдали, в самой гуще ельника, поджав уши, хвост, и часто-часто вздрагивая, представляя восставших из могил мертвяков. Волей-неволей у него из пасти вырывался жалобный полувсхлип-полувопль, когда очередной чрезвычайно чудовищный упыриный вой долетал до его позиции. Но все чаще творимую кругом неправильную тишину разрывали вопли уничтожаемых и разрываемых на части мертвецов. Дева, сама не своя, разошлась не на шутку, и волкан с каждым мгновением все сильнее за нее беспокоился. Слишком сильно на нее повлияло неожиданное прозрение стара.
Хотел волк помочь ей, да только помнил, что бракованный. Помнил, и его сердце в ужасе сжималось, а лапы, дрожащие, не держали его стоймя более. Страшно и обидно было от своей немощности и трусости, однако поделать с собою он все равно ничего не мог. Хотел было пойти за девой, да только та его прогнала, зная, что он со скулежом помчится прочь, едва услышит хоть один подозрительный шорох. Казаться, а главное, быть смелым оказалось столь неправдоподобно сложно. А для девы он был открытой книгой, так, что даже самая скромная бравада легко ею угадывалась, а ему не приносила облегчения.
Я тот, кто я есть, повторял он себе, дрожа, лежа под кустом. Что поделать, я — трус от рождения. И неудивительно, что меня не приняла стая, вышвырнув за ненадобностью. С такими нахлебниками да бесхребетниками как я, только так и стоит поступать. И теперь я обуза, пытающаяся казаться такой похожей на меня, изгнанной, непризнанной деве кем-то полезным, кем-то нужным. С единственным между нами лишь отличием — она сильна, и в первую очередь собственным духом.
Звезды мигнули на небосклоне и мгновенно пропали. Волк, прислушивающийся к такой громкой тишине, их даже не заметил. Из его носа вырывался пар. В такую жаркую и странно душную весеннюю ночь вдруг повеяло прохладой. И не какой-нибудь там, а мертвецки пьяной, пробирающей до самых костей.
И словно в довершение, с погоста донесся долгий и протяжный вой нечисти, через дюжину секунд захлебнувшийся предсмертным, еще более громким, хрипом.
Волк услышал шаги — быстрый и нетвердый топот ног, часто перебиваемый падением, волокитой и очередной погоней. Это была не дева, понял он, либо дева, но очень и очень раненая, бегущая от схватки, от смертельной опасности. Тем страннее было, что никакого преследования волкан не слышал.
Мертвяк, понял он с ужасом, поганая нечисть! Мертвец бежал один, хрипя и подвывая по-звериному, падал, перекатываясь, но поднимаясь из раза в раз. Он стремился в сторону старового имения, чуял землепашцев, в бессонную ночь запершихся в доме и вслушивающихся в каждый шорох за порогом. Сам мертвый, он чувствовал живое и стремился к живому. Бежал мимо, волкана он, кажется, не замечал.
А еще волкан понял, что раз прорвалась нечисть на свободу, то единственного сдерживающего их фактора — девы — больше нет. И рванул он прочь, сквозь кусты, сквозь буреломы, вопя от страха, поскуливая, рвя когти что есть мочи. Его защитница мертва, без нее он — никто. Но никто, тем не менее, желающий жить.
Дуреха! — отчаянно вопил он, — не стоит оно того! Никакая награда не стоит, чтобы за нее умирать! Никакое хорошее отношение абсолютно незнакомых людей! Подумаешь, выказали добро! Подумаешь, впервые в жизни! Да сделали это они из-за какого-нибудь дурацкого предубеждения — не боле! Ради себя, ради собственного душевного спокойствия!
И последнее, что понял волк, когда совершенно случайно выскочил поперек пути отчего-то не разложившегося до конца мертвеца, это то, что он задолжал деве. Очень крепко задолжал. За все ее добро, за отношение, за то, что приняла его как есть.
Он не думал, как так вышло, что он опередил нечистого. Он просто знал, что у страха глаза велики, и этим самым, пытаясь скрыться подальше, он ненароком, по широкой дуге, панически петляя меж деревьев, обогнал того, от кого пытался убежать. Нет, это была не ирония судьбы, не злой рок, — это было напоминание.
Не раздумывая над тем, что делает, он прыгнул навстречу противнику, вцепившись тому в ногу и резко потянув. Только теперь мертвяк увидел его, обратил внимание, и завыл. Нехорошо так, холодно завыл, пытаясь подняться. Волк в ответ зарычал. Зло и яростно, прижав уши. Только на этот раз не от страха. Он словно обезумел, упиваясь своей кратковременной храбростью. Боль от утери кормилицы и защитницы застила ему глаза.
Волкан прыгнул вновь, целя в запястье, и не успевший еще подняться мертвец, дернутый, вновь повалился оземь, оцарапав другой рукой землю прямо перед носом зверя. Волк, обежав противника, прыгнул в третий раз, в последний, ухватив того за шею, сдирая с нее остатки кожи и тканей. Кость хрустнула, надломилась, и голова безвольно свесилась набок. Нежить еще некоторое время перебирала конечностями, но вскоре, сопровождаемая яростным взрыкиванием неуспокоившегося волка, затихла. И в тот момент волкан, скуля, повалился на землю. Он выполнил свою обязанность перед девой, хотя и представить сложно, каких потуг это для него стоило. Выполнил, однако спокойствия так и не пришло — он все также оставался один-одинешенек.
— Волкан! — Вдруг раздался знакомый голос, а волк вскочил, ощерился, зарычал. — Ты что сделал?
Невдалеке, меж деревьев, тяжело опираясь на одно из них плечом, стояла дева. Волкан резко, как будто его треснули чем тяжелым по голове, прекратил рычать, вопросительно заскулил и сделал несколько неуверенных шагов навстречу.
Одежда на ней была порвана, распоротая кожаная куртка едва держалась, обоих ее рукавов не было, как и капюшона, прикрывающего голову, отчего болотного цвета волосы растрепались, клочьями висели у нее на плечах.
— Я тебя не узнаю, животное. Ты что натворил?
— У тебя раны, много. Кровь течет. Это ведь мертвяки, из могил. А я много наслышан о трупном яде.
— Наслышан он. А ну-ка, сглотни. Чувствуешь трупный яд?
— Не, — махнул он мордой, делая еще несколько шагов навстречу. — Не буду я это глотать.
— И правильно. Принеси мне мою сумку, ополоснем тебе пасть.
Она тяжело присела у дерева. Вернее, осела, скатившись по стволу.
— А как же ты, дева?
— А что я? Мне яд не страшен, никакой. И раны вскоре затянутся. Давай поспеши, болтун.
— И как же так вышло, — присел он рядом с девой, когда все было закончено, — что ты, подумать только, волкан, сам напал на мертвеца. Ты знал, что ты рискуешь жизнью? Ну конечно же, знал. Знал, паршивец.
Она запустила руку ему в мех, за ухо. Если бы волк мог, то после ее слов он бы обязательно покраснел.
Ночь кошмара, нечеловеческих воплей и ужаса подошла к концу, но обитатели дома, землепашцы, до самого полудня сидели запертыми, не решаясь выйти прочь. Наконец, стар вышел все разведать, наказав запереть за ним двери. Дрожащие женщины сделали как он велел, и не успели испугаться о возможной потере единственного в семье мужчины, как было уже поздно. Стар, сунув за пояс свой топор, а в руки взяв рогатину, отправился к старому погосту — туда, откуда слышались морозящие в венах кровь крики.
Вернулся он спустя несколько часов, припустив к дому и наблюдающим в щелочку ставень за ним женщинам бегом. Еще не успел он добраться, как двери перед ним распахнулись. Все женское население в ужасе прянуло прочь, заохав и едва сдерживая ладонями вырывающиеся из груди вопли.
Стар вошел, хлопнул дверью, но запирать не стал. Вместо этого отворил все ставни, пустив внутрь солнечный свет. Тяжело плюхнулся на лавку, принимая из рук своей умной бабы крынку самогона.
— Дешево мы с тобой купили наши жизни, жинка. Ой, как дешево.
Он был бледен и дрожал.
По нитям разорванных вен
Волкан, опять задумавшись на ходу, в очередной раз угодил под ботинок идущей чуть позади спутницы. Визгливо заскулив, он отскочил прочь, поджав хвост. И тут же ощерился. Однако, поняв, что делает, попытался как-нибудь замять это все, подластившись к ней.
— А ну, отойди от меня. — Зло бросила дева.
— Эй-эй, ты чего?
— Отойди от меня, бешеная псина!
— Да я же случайно. Чего ты взъерилась-то…
— Не подходи! — Она махнула перед собою тростинкой, едва не хлестнувшей волка по носу. Он мгновенно отскочил. — Знаешь, где ты сидишь уже у меня? Вот здесь, — обхватила она шею, — веришь, нет? Достал уже своими выходками, своим нытьем, своей бесполезностью! Своим существованием! Единственная польза от тебя за все время в том, что ты загрыз убежавшего от меня мертвяка. Загрыз мертвяка — велика заслуга! А теперь? Что теперь? Ты посмел скалиться на меня? Решил огрызнуться на меня, на ту, которая обеспечивает тебе защиту и дарует еду? Отвечай, ты, кусок блохастой твари!
Волкан был в явном смятении. Это читалось по его растерянным глазам, нелепо расставленным лапам и приоткрытой пасти.
— Ты чего? Эй. Я ведь случайно. Не знаю, что на тебя нашло. Если ты хочешь извинений, то я принесу их тебе. Прости меня, дева.
— Псам под хвост твои извинения!
Волк, еще более ошарашенный, тихонько завыл. Такой свою спутницу он видел впервые и то, что он видел, ему не нравилось. Категорически. Понимая, что никто его по морде хлестать не собирается, он по-собачьи сел.
— Досталось мне, а злишься почему-то ты. Случилось что?
— Случилось. Меня уже откровенно достало твое присутствие. Достали твои вопросы, постоянные расспросы. Надоело видеть твой нос там, где его, пес подзаборный, быть не должно. Ты либо глуп, либо до неприличия назойлив, раз лезешь так глубоко в жизнь, лезешь в самую душу! Но я добра, слишком добра — и это мое наказание. Я дам тебе уйти. Я не прибью тебя прямо здесь как шавку, а дам возможность свалить куда подальше. Я все сказала. Пусть так коротко, зато честно и точно. А теперь — прочь!
Однако волк даже и не думал никуда уходить. Может, отказывался ей повиноваться, а может, был в неконтролируемом смятении, едва понимая обрушившиеся на него недовольства и требования.
— Думаешь, — съехидничал он, — если тебе хоть раз заплатили сполна, то ты сразу с ними сбраталась? Кто мне говорил, постоянно твердил, что не такой, что иной — монстр и чудовище. Одним словом — не человек. Кто? Да те же землепашцы тебя ни за что не примут, вытурят, если не вздернут не дыбе, едва увидят твое лицо. Плевать им на истину, плевать на твою суть и внутренний мир вкупе с добрыми намерениями — они тебя прикончат!
В ответ дева нечленораздельно зашипела. Очень, очень нехорошо, так, что волку поплохело.
— Ты очень изменилась. Поверила в человеческое добро? В человеческое разумение? Разве не из твоих уст я слышал все те истории и рассказы жизни твоей? Да разве ж я сам не был свидетелем человеческой… «человечности»? Да добропорядочность и отзывчивость этого народа уже давным-давно стала притчей во языцех! У них самих же, подтрунивающих друг на другом! Насмешкой, смешной шуткой, подколкой — не боле! Не думай дева, нет, не смей думать, что они стали тебе каким-то образом близки…
— Значит, ты мне стал близок, ты, зверь?
— Этого я не говорил…
— И этим ты купил себе жизнь. Проваливай, ну же! Не хочу тебя больше видеть!
— Ты стала слишком вспыльчивой и импульсивной. — Пробормотал волкан. — Раньше ты была спокойной, взвешенной. Рассудительной. Сколько тебя знаю, ты себе подобного не позволяла. А ведь я всего лишь попал под ноги… Что же с тобою стало?
— Теперь позволяю. — Проигнорировала она вопрос. — Ты все сказал? Еще раз повторяю — проваливай! Кормить тебя и защищать я больше не намерена. Подохнешь сам. Как и должен был.
— Это неправильно. Такую я тебя не оставлю и никуда не уйду.
— Уйдешь. Уйдешь как миленький.
Она резко подшагнула к нему, взмахом прута больно ужалив по уху. И снова, прошипев прутом в воздухе, хлопнула по носу прежде, чем он успел отреагировать. Волкан отскочил, прижал морду к земле и зарычал.
— Уходи, — повторила дева. — Я не желаю быть тебе нянькой.
И, в сердцах отхлестав пятящегося волка по морде, пока тот, заскулив, не убежал, она пошла прочь.
Несмотря на обиду, волкан понимал чувства девы. Понимал и принимал, такой уж он был натуры. А также понимал то, чем чревато для волка одиночество. Голодом, измором, отощением, голодной смертью. Иной закономерности для одинокого волка просто не существовало. И он поплелся следом. Поплелся, рассчитывая на то, что рано или поздно его спасение, пребывающее сейчас в ужасном расположении духа, одумается. Рано или поздно.
Она не одумывалась. Волк страдал душевно, переживая за нее, и физически, слабея от голода. А движимый голодом подходил ближе, чтобы тут же получить по морде палкой или по боку не мажущей булыжниками рукою. Скуля от боли, убегал и прятался, не желая и дальше страдать ни за что.
Не жрамши, он брел за ней неделю, а она сама, как будто назло, ела лишь мясо да мясо. Ласковые запахи приятно щекотали нос, но добыча, такая близкая, оказывалась столь недостижимой.
Ночами он выл. От горя и несправедливости. А еще оттого, что болезненно сжимающийся желудок не давал уснуть. Наступало утро — он снова брел за нею. Иногда выпадал из реальности, механически переставляя лапы, и возвращался в нее от резкой боли из того места, куда попал очередной камень. Вынужден был срочно бежать, чтобы в очередной раз развернуться и на безопасном расстоянии устремиться за девой.
Однако спустя эту неделю ей такой расклад событий порядком поднадоел. Теперь она не просто не желала его компании, но и не готова была терпеть следующего по пятам волка. Выждав подходящий момент, когда тот от бессилия улегся даже не в кустах и не под деревом, а просто на дороге, она закидала его камнями. До умопомрачительной боли, до кровавых боков.
Волк пытался убежать. Но когда ему казалось, что он отбегал достаточно далеко, какой-нибудь болезненный снаряд настигал его шкуру, причиняя очередную вспышку боли. А потом, стоило ему обернуться, как он с ужасом понял, что дева его преследует. Она не была голодна, зато была полна сил, и она его непременно настигала. Колотила сначала камнями, а потом палками.
Он больше не хотел идти за нею, хотел убежать, хотел спрятаться. Хотел одного — чтобы она оставила его наконец в покое. Но она не оставляла. Била и лупила, выплескивая на нем всю свою злость, непонятно откуда накопившуюся к нему лично. И волкан просто одурел от этой боли — бросился на свою обидчицу с единственным намерением — вцепиться ей в глотку. Вцепиться и не отпускать.
— Ну нет! — Прошипела дева, легко уклоняясь и пиная зверя в бок. — Ни за что! Такой простой смерти я тебе не предоставлю.
Пускай, не вцепиться в глотку, но хотя бы задеть, хоть как-нибудь ранить, грызнуть — обидеть. Хоть как-нибудь.
— Нет! — Рявнула она, изо всех сил пиная его под дых. — Пошел вон! Не смей, слышишь меня, не смей больше тащиться за мной! Вали! Ну же, гадкая ты псина!
И он убежал. На остатках своих сил, жалобно скуля и поджав хвост. Он не оглядывался — просто не смел. Как можно скорее, как можно дальше оказаться подальше от этой бестии! Все остальное неважно.
И он убегал. Сначала скуля от страха, затем воя от голода, а в конечном итоге рыча от глубоко затаившейся злобы.
* * *
— Волкан, помнишь, я тебе говорила про третий путь?
— Как же, помню. — Кивнул волк, с самым серьезным видом наблюдая за бабочкой. По его представлениям это была бабочка-монарх.
— А знаешь ли ты, что же на самом деле он сулит?
— Не знаю, но догадываюсь. Все подряд, верно? Ничего определенного, как если бы ты договаривалась о награде изначально или тебе предложили установленную таксу. Ну, или установили бы постфактум, как повсеместно это практикуется. Слышал я, выборники да старосты, — те еще пройдохи, — эдакой хитростью занижают приемлемую для выполнения цену.
Он хоть и бил вслепую, да не наугад — уже успел поразмыслить над смыслом трех путей, подкинутых ему девой, а ей переданных, на праве ученичества, неким учителем. Фантастическая философская тема, подумал волк тогда, есть где пораскинуть мыслью.
— Я прав? — Слегка удивленный ответному молчанию, он оторвал свой задремывающий взгляд от бабочки.
— Прав, да не совсем. Рассказывала ли я тебе о последствиях моего выбора — третьего пути?
— Хм, не-а. Истории — да, было дело. Рассказывала. А вот морали я что-то не припоминаю. Или итога. Ни в одной из них. Думается, что-то ты от меня явно утаила, хотя, признать, мне и так было интересно послушать. Мне не на что жаловаться.
— Хочешь ли ты услышать о последствиях?
— Хочу, как же. Обязательно и всенепременно. Однако прежде, дева, скажи мне, что это за прелестная бабочка облюбовала тот куст боярышника?
— Махаон. — Коротко взглянув, определила она.
— Так я и думал, — кивнул собственным мыслям волкан. — Что ж, теперь я весь внимание.
— Знаешь, волкан, — задумчиво и как-то грустно произнесла дева, — вот я все твержу о третьем пути, да о его невероятных последствиях. Что, мол, не знаешь, куда приведет тебя эдакий путь. А ведь неизвестность таится за каждым углом, в каждом мгновении. И иногда последствия третьего пути проявляются, даже если ему не следовать. Совсем наоборот — пойти иначе. Главное его вовремя заметить, понять, что он — третий, и сойти с него, избрав юдоль попроще. Банально опуститься до простых да и нет, горящих самыми естественными низменными страхами. К чему опасность, к чему риск, если самое выгодное решение — самое простое?
Воистину блаженен тот, кто зрит лишь однобоко.
Спокойствие дано ему и смелости уверенность,
Что истины тут нет иной, и каждый путь — дорога.
Аль влево ль, вправо — выбирай, посередине — пропасть.
Волкан уважительно взглянул на нее. Поцокал.
— Не думал, что когда-нибудь услышу цитирование этого произведения. Более того — этого автора!
— А я не думала, что волки вообще представляют, что такое поэзия. И уж тем более ею интересуются.
В ответ на это высказывание он презрительно передернул плечами. И, задрав нос, проговорил:
— Вопреки расхожему мнению, интересуются. Сверх того, готовы поспорить с этим же автором, утверждающим лишь относительную гелиоцентричность нашего мира. И готовы утверждать, что он, то есть мир, абсолютно гелиоцентричен, так как не просто закруглен, а повсеместно кругл!
Но, с жаром выпалив эту рвущуюся из груди тираду, он резко захлопнул пасть, напряженно оглядевшись. Гулко сглотнул. Дева следила за ним полным иронии взглядом, слегка улыбаясь одним уголком губ.
— Вот будет умора, — хмыкнула она, — когда я доложу властям о еретическом мировоззрении одного изгнанного из стаи волка.
— Да уж, — дергано выдохнул он. — Взгляды взглядами, а мне моя шкура дорога… Слушай, дева, та птица, кажется, слишком уж прислушивается к нашему разговору…
Ученый волк, по всей видимости, был иммунен к подобного вида иронии.
— Хм, хм, — волкан задумчиво закусил губу. Вокруг стемнело, близились сумерки — монарх-махаон, предчувствуя обязательное похолодание ночной порою, улетел прочь. Теперь волк искал другой объект прострации, вызывающий у него должные философские обмышления.
— Хм, хм, — повторил он, давя лапой гусеницу. Муравьев так и шныряло кругом, однако и они, предчувствуя холод, заметно проредили свои ряды. Так, глядишь, и не на кого будет смотреть — одно непостоянство. — Необычно, я бы сказал, — выдавил наконец он из себя. — Однако, если так подумать, ты рассказала мне о четырех случаях.
— Я рассказала тебе о четырех случаях. — Кивнула она.
— Значит, — рискнул волкан, — это все? Больше ничего нет?
— Можно и так сказать. — Пожала она плечами так, что становилось однозначно непонятно за истинный ответ.
— Или ты считаешь, что мне, пожалуй, не стоит этого доверить?
На этот раз она просто пожала плечами. Без ответа. И волку стало невероятно обидно.
Тоже ей что-нибудь не скажу, подумал он. Вот придумаю что-нибудь и обязательно не скажу. Посмотрю, каково ей будет.
Ранний ночной мотылек, описав дерганую косую дугу, вальяжно уселся ему на нос. Тьфу ты, хотел было сплюнуть волкан, да так и замер — думалось на удивление хорошо.
— Ладно, будь по-твоему. Представим, что мое спасение — некий третий путь. Ну тут и так все ясно, нечего рассусоливать: ты вызволила меня, и не просто позволила уйти, чтобы подохнуть голодной смертью, а дала возможность пристать к тебе. Хорошо, с этим решили. Но что насчет остальных случаев? Ведь если подумать, сам я могу гадать до скончания веков, но так однажды и не прийти к правильному ответу.
Дева медленно кивнула, смотря на небо, проглядываемое в просветах между крон деревьев.
— С чего ты хочешь начать первого?
— Мне невероятно интересна судьба того разбойника, за свои грехи, как я считаю, попавшего в безвыходную без посторонней помощи ловушку.
— Хорошо, волкан. Он действительно выбрался из аномалии с моей помощью, действительно в его взгляде не было и намека на кровожадность и безрассудство. Он добрался до своего города, до своего дома, однако… Как я узнала после, следуя за ним с интервалом в два дня, по пути он зарезал нескольких путников. Сначала воина, показавшись тому безоружным и оттого неопасным. Убил голыми руками. А потом, вооружившись и приодевшись, еще нескольких. Среди них были женщины, были дети. Он убивал их всех. Насиловал, убивал и грабил. Трупы просто скидывал в придорожную канаву, даже не заботясь об их сокрытии.
Я нашла его в городе. У него была жена, представь себе, волкан. Не передать словами, как она радовалась его возвращению. В честь этого она закатила самый настоящий пир. Я убила их обоих. Прямо за столом, когда они только приступили к обеду, пока не набедокурили еще сильнее. А еще… я думала, что мне доводилось питаться абсолютно чем угодно и мне больше нечему удивляться, но в тот момент меня чуть было не вывернуло прямо на стол, на тарелки, переполненные человеческими останками.
Я сожгла дом, сделала так, чтобы огонь не перекинулся на остальные. Я чувствовала себя мерзко, я чувствовала себя последней тварью, что дала ему шанс. Ведь если подумать, как ты любишь выражаться, волкан, то все те смерти на дороге — моих рук дело. — Она подняла перебинтованные неопределенного оттенка лоскутами руки. — Вот этих самых рук. Я чувствую на них кровь всех тех жертв.
— Дева, я… Не стоит, твоей вины здесь нет…
— Это тебе не стоит, волкан. — Проговорила она все тем же бесстрастным голосом, каким рассказывала о последствии третьего пути. — Прошло уже достаточно времени, и я смирилась со своей ошибкой. Смирилась со всеми жертвами и с тем, что мои ладони ежесекундно горят, напоминая мне о тех событиях. — Она немного помолчала. — Мне продолжать повествование?
— Я… Я даже и не знаю.
— Смелее.
— Да, дева. Пожалуй, да. Я хочу услышать все. Что же стало с тем больным мальчиком, с его судьбой?
— Он исцелился, тот глоток жидкости действительно оказался живительным. Но не спеши на меня так смотреть, я все равно не жалею, что не выпила его сама. Боюсь, что мое состояние — не итог какой-то прогрессировавшей когда-то болезни, и на самом деле я такая, какая я есть. В том случае глоток из фляги просто бы пропал впустую.
— Стоило рискнуть, разве нет? Ну скажи, что я не прав, развей мою уверенность!
— Не совсем, — позволила она себе улыбнуться, видя озабоченность ее судьбою на лице животного товарища. — Ты забываешь про третий путь, когда изначально у меня их было всего два: вернуть флягу ее владельцу, в его антикварный музей необычностей, или же использовать самой. Знаешь ли, я всегда берусь за работу из корыстных побуждений, но когда я услышала о целебных свойствах той жидкости, корысти в моих намерениях было вдвойне. Ну а третий путь, как оказалось — отдать глоток из фляги более нуждающемуся.
— Может быть, нет. Может быть, ты что-то упустила, и был иной третий путь.
— Вполне вероятно, — не стала спорить дева. — Но для меня что тогда, что сейчас им был именно этот поступок. Однако я не закончила. Мальчик действительно исцелился и множественными караванами с тех сторон отбыл к себе на родину. Там, в далеком королевстве, он прожил лишь неполных два года. Мальчик оказался пророком, предрекшим грядущий королевству мор. И когда мор действительно пришел, а королевство опустело, ему припомнили его вещие речи и напророченное зло, и народ собственного государства ополчился на мальчика. Его распяли его же бывшие друзья. Вот такая вот история, вот такие последствия.
— Я знаю, о чем ты думаешь, дева. — Проговорил волк. — Но нет ни малейшего повода считать, что именно тот мальчик, своими речами, призвал на его королевство мор. Это бедствие пришло бы в любом случае, и от одного человека, если конечно он сам не является его источником и разносчиком, здесь ничто не зависит. Злые языки могут трепаться сколь угодно, погруженные в свою пучину страха и иллюзий, вызванных глупостью и внутренними суевериями. Правыми они от этого не станут. Ведь если подумать, именно ты спасла всех тех людей, что еще успели укрыться, что внемлили словам мальчика. Не будь его, предупредившего их о грядущем — кто знает, были бы вообще выжившие.
— Осталась еще история про скомороха. — Ответила дева, никак не отреагировав на тираду волка. Да и сам волк, будучи учтивым, временами, постарался этого не заметить. — Без лишних слов я поведаю тебе о том, что скоморох, как могло показаться изначально, не имел с теми разбойниками ничего общего. Вернее, лишь одно, очень крепко их связавшее.
Когда-то этот на вид безумный шут был высоким и уважаемым чиновником одной из процветающих на добыче цветных руд губерний. Имел много, гораздо больше необходимого, тем и поплатился. Однажды, принимая у себя дома неких людей, наемников, по поручительству еще более важного чинуши с самой столицы, он им ненароком нахамил. А наутро обнаружил собственную дочь с детьми мертвыми в окровавленных постелях. Их разделали на части. Когда обезумевший семьянин, чуть не убившийся с горя прямо там, стоя на коленях у кроватей, устроил облаву, пообещав за головы людей, коих недавно привечал у себя, целое состояние, к нему наведался местный глава правопорядка. Тот, который сидел на кормлении у этого чиновника. И тихо так, осторожно, попросил того отозвать свое явно поспешное решение об облаве. Когда же буйствующий и размахивающий кулаками чинуша не согласился, послав своего подчиненного ко всем чертям, в дом ворвался целый отряд вооруженной стражи, арестовав урядника под предлогом государственной измены.
Что происходило дальше, я не знаю. Знаю только лишь то, что не тогда и не в тюрьме, а после, долго после он окончательно спятил. Спятил настолько, что видел свою жизнь только в мести — любыми возможностями и способами. Все остальное, как и средства достижения этой мести, его не интересовало.
Эти разбойники… Отряд отъявленных бандитов и негодяев, защищаемых чьей-то могучей рукой из столицы, кем-то, входящим в сам теремный собор при дворе. Негодяи, выполняющие самые темные и мерзкие дела прикрывающей их длани и выделяющие себя из общей массы бандитского сброда пестрыми шапочками, украшенными обмакнутыми в разные краски гусиными перьями. А за все свои мерзкие дела, как можно уже было догадаться, получавшие полную свободу действий и неприкосновенность. Они зовут себя крысами. Или мышами, или еще какими грызунами. Олицетворяют с вредителями, разносчиками всякой дряни и болезней.
Шут знал о том, что они появятся на ярмарке, знал, что именно в тот день. Одному ему известным способом он их приманил туда. Что случилось, почему они так рьяно ворвались на площадь и почему принялись в таком количестве убивать людей, я не знаю. И уже вряд ли узнаю. Но знал скоморох, сам же все и обыграв.
Знаешь, волкан, а ведь он тогда спас меня. Он увидел меня, мое лицо, и все равно спас, сбросив в овраг и смешав с грязью. Ведь бандиты видели меня на том помосте, не видел разве только слепец. И не нашли. Либо вовсе не искали.
— А, а скоморох? — Сглотнул тягучую слюну волк.
— Он бросился на разбойников. На грызунов. Он сумел лишить жизни двоих, и еще одного очень сильно покалечить, прежде чем его охомутали веревками и оглушили. Нужно признать, что в этот момент бессмысленные смертоубийства крестьян прекратились — бандиты наконец добились своего, пустившись прочь.
В этот раз молчание длилось непомерно долго. Волк, с отсутствующим взглядом уставился на собственные лапы, словно удивляясь тому, что он волк. Возможно, он уже жалел о своем бескрайнем любопытстве. Пожалуй, это было впервые, когда ему, знатному спорщику и обыкновенно имеющему свою точку зрения, почти всегда противоположную собеседнику, нечего было сказать.
— Я забрала все золото и убралась оттуда подальше. Как можно дальше, чтобы постараться не вспоминать все те события. Конечно, я могла отказаться от денег, могла закопать их прямо в той грязи. Признаться честно, именно так я и собиралась поступить изначально, но корыстность не позволила мне этого сделать. Во всяком случае, не полностью. Я обошлась одной лишь горстью, чтобы потом, по безденежью, возвратиться за остатками средств с неким волком на шее.
Ты хочешь знать про третий путь? Так слушай. Разбойники не убили скомороха сразу, они его пытали. Несколько дней. Ровно столько, сколько бы мне хватило, чтобы узнать об этом и найти их логово, благо они особо не таились никогда. Я могла бы напасть на них, попытаться спасти того шута. Хотя бы из обыкновенной человеческой благодарности за то, что со мной, тварью, он поступил по уговору. Поступил по-человечески.
Но я… Я закрыла глаза, зажала ладонями уши и убежала. Пряталась. Таилась. Боялась крыс, боялась людей. Боялась всего на свете.
Какое-то время на поляне висело молчание, и даже заливистые и смелые голоса птиц сейчас притихли, словно благоговейно внимая.
— Дева, — проникновенно пробормотал волк, пытаясь вглядеться в ее лицо, найти ее взгляд. — Я благодарен тебе, что ты мне открылась. Надеюсь, для тебя это было не зря. — Он помолчал. — На меня ты можешь рассчитывать. Всегда и непременно. Я сохраню эту тайну исповеди так крепко, как только сумею, а ежели нет — убей меня. Дева, я всегда буду при тебе, я — за тобой. Я тебя никогда не покину. Ничто не заставит меня так поступить. Я буду с тобой.
* * *
Баронское поместье возвышалось над некрупным озерцом с кристально чистой водой, выдающей в нем действующие подземные источники. Проглядывало покатой крышей с рыжей кровлей меж стволов гигантских сосен по одну сторону и буков и вязов по другую. Рукотворная роща, некогда высаженная прямыми и ровными рядами, сейчас разрослась и все больше и больше напоминала ухаживаемую дубраву.
Она вошла тихо, беззвучно скользнула в приоткрытое оконце на втором этаже, не зашелестев ни единой складкой одежды. Ее, сбросившую весь ненужный балласт, с лихвой перебивало негромкое птичье щебетание. Комната была пуста и невозможно одинока, с раскрытыми настежь дверьми, пуская гуляющий по особняку сквозняк. То была спальня. Ей же требовалось в противоположную часть дома.
Внизу, в гостиной, пировали. Кричали, пили, дрались и ругались. Двое прямо здесь же, за столом, в спешке оприходовали не смеющих пискнуть служанок. Девки из их банды лишь громко улюлюкали, свистели сквозь пальцы и подначивали остальных, приспуская штаны, стоя на столе и стульях. Пытались плясать, обнявшись друг с дружкой.
Ей нужно было дальше, сквозь гостиную, к противоположной лестнице наверх.
Первый охальник, хрипя словно загнанная лошадь, свалился на еще ничего не успевшую понять служанку, получив под левую подмышку короткий удар кинжалом. Девка, пляшущая на столе, что-то невразумительно заорала, тыча своими кривыми пальцами в том направлении. Молниеносно сверкнувший меч отрубил пальцы на ее ноге и половину стопы. Сверкнул второй раз, распарывая накренившейся разбойнице брюхо. Кинжал в другой руке чавкнул под подбородком задравшего голову и явно перебравшего хмельного бандита.
Еще один бандит, оклемавшийся быстрее всех, попытался схватить ее. Она, увернувшись в пируэте, рубанула его по шее мечом. Слишком сильно — меч застрял, а негодяй повалился в кресло. Она бросила меч, выхватив из пальцев умирающего длинную двузубую вилку. Еще одна разбойница со стола что-то невнятно проорала, прыгнув на нее сверху. Дева бросилась в сторону, в прыжке всаживая той девке вилку в глаз. Бандитка нечеловечески взвыла, хлопнувшись о пол и принявшись по нему кататься словно обезумевший зверь.
Четверо оставшихся уже были на ногах, уже ощетинились ножами и кинжалами. Один, с мечом, прикрывшись стулом, пытался обойти ее сзади. Двое других двинулись спереди: один чуть впереди, другой чуть позади, намереваясь работать в паре — удар, отскок — возможность ужалить другому. Последний остался сгорбленно стоять, тяжело опираясь на стол.
И только сейчас, сообразив, что на их лицах кровь, а пол устилают человечьи кишки вперемешку с испражнениями, две жмурившиеся служанки завопили во весь голос. Разбойники разом дернулись. Дева рванула вперед, на парных бандитов, решив во что бы то ни стало не дать им возможности совершить задуманное.
Неподготовленный удар переднего она легко парировала кинжалом. Скользнула мимо, толкнув его плечом и, на развороте увернувшись от выпада второго, прыгнула на него, сбивая с ног и всаживая кинжал по рукоять в глазницу.
Теперь у нее было целых три кинжала, два из которых она бросила в прикрывающегося стулом разбойника. Стул, должный был защитить, помешал увидеть: первый кинжал угодил тому в колено, второй, когда произвольное прикрытие опустилось, чиркнул по скальпу. Дева вскрикнула от боли, бросаясь в сторону — левая рука безвольно повисла. Стоявший до этого без дела разбойник подгадал момент, бросив ей в спину нож. И только лишь чудом второй в нее не попал.
Ее кинжал остался валяться вне досягаемости, зато застрявший меч, словно напоминая о себе, ткнул рукояткой ее в поясницу. Дева дернулась сама, уворачиваясь от очередного ножа и дергая оружие на себя, переворачивая на пол кресло и сидящий на нем труп. Меч — не кинжал, однако и он, бросаемый в неподвижную мишень, может оказаться опасным. Куда как более смертельным.
Ужас на краткий миг блеснул в глазах тяжело опирающегося на стол разбойника, а потом он, словно снесенный лавиной, завалился на спину, вцепившись помертвевшими пальцами в наполовину вошедшее в грудь лезвие.
Последний оставшийся в живых разбойник, видя ранение и безоружность противницы, очень нехорошо оскалился. Дева взглянула на него. Открыто, спокойно и смело. Взглянула, слегка склонив голову. И бандит задрожал. Все его показное бахвальство, вся его смелость, подпитываемая ощущением беззаконности и безнаказанности, куда-то улетучились. Трупы, везде валялись трупы только что пировавших с ним головорезов. Где-то вопили сбежавшие от этого кошмара служанки. Сквозь витражные окна солнце с интересом заглядывало в гостиную, пытаясь своими лучами сокрыть все только что произошедшее, освещая лишь нетронутые ужасом участки.
Бандит задрожал, бросил оружие. Он понял, что даже против такого невооруженного противника в одиночку ему ничего не светит. Он развернулся и побежал. Ему оставалось преодолеть пару метров, прежде чем он смог бы шмыгнуть в проем, скрыться на кухне, но дева, достав застрявший в спине метательный нож, бросила его вслед. Смертельный снаряд угодил прямо в основание черепушки.
Нечленораздельно вопя и заливаясь соплями по полу, обхватив лицо руками, каталась потерявшая глаз разбойница.
— Что это еще за крики? Что это, там, внизу?
— А-а, не волнуйся, мой дорогой друг. Просто ребятки развлекаются.
— Развлекаются? Развлекаются? Да они там режут моих служанок, режут в моем доме!
— Тише ты, тише. Успокойся и сядь обратно. Наймешь новых, что ты как маленький. Говорю же, твои гости на моем полном обеспечении.
— Да ты послушай! Слышишь как вопят, слышишь? Они мне дом по камушкам разнесут.
— Ничего-ничего, построишь новый, куда как богаче этого. Заселишся в замок какой, а? — Подмигнул он.
— Затихли, — спустя какое-то время, больше вслушиваясь в творимое в гостиной, нежели в речи гостя, произнес барон.
— Что? — Нахмурился тот, приоткрыв рот. — А, да-да. Ну да ничего, пусть ребятки порезвятся — им это полезно. Лучше работать буду, уж я-то могу судить, — засмеялся он. — Знаю.
— Шаги на лестнице, кто-то поднимается.
Сидящий по ту сторону стола гость таинственно улыбнулся, перекатив из ладони в ладонь небольшую, но по утверждениям весьма точную полусферу мира. Дверь бесшумно отворилась, пуская в кабинет очередное лицо. Резкий звонкий хруст привлек внимание обоих сидящих.
— Это еще кто? — Вылупился гость, от неожиданности выпустив свою безделушку из рук. Полусфера мягко хлопнулась о мягкий шерстяной ковер, полностью там утонув.
— Как кто? — Удивился хозяин, передернувшись от вида гостьи. — Крыса твоя никак?
— Это не моя. — Совершенно глупо разинув рот пробормотал его собеседник.
Им под ноги выкатилось наконец то, что они никак не могли рассмотреть в руке вошедшей. Голова, сверкая в глазнице двузубой вилкой, с укором уставилась им на лица.
— А чья же…
Договорить ему не дали. Бросившаяся вперед тень схватила барона за шиворот, дернув на себя и хлопнув его лбом за стол. Ловко промелькнувший кинжал, нырнув под мышку, нашел его сердце.
Гость, не удержавшись на покачнувшемся кресле, повалился на мягкий заморский ковер, вскрикнув и захлюпав носом. Он бросился к двери, воткнулся в нее, дрожащей рукой пытаясь нащупать то, что недавно со звоном от нее отломалось. Осознав, что с этой стороны выхода нет, а до окна позади стола ему не добраться, он рывком развернулся, уперевшись спиной в запертые двери. Заплывшими от ужаса глазками взглянул в затянутые мерзкой желтизной белки глаз той, что, стелясь над полом, сокрытым дорогим ковром из дальних стран, подбиралась к нему.
Она не спешила, она наслаждалась его страхом. Она не отрывала взгляда от его глаз, видя там кошмар, пожравший последний остаток духа. Видела там себя.
Истинно змеиным движением она бросилась вперед, легко минуя выставленные перед собой руки, прижимаясь к гостю, касаясь губами его кожи, впиваясь острыми как бритва зубами в мышцы шеи. Гость закричал, высоко и некрасиво. В этот момент внизу, в гостиной, послышались голоса и уже выше, на лестнице — шаги. Они спешно приближались. Их услышали они оба: и охотник, впившийся смертельным укусом, и жертва.
— Помогите! Помогите! — Завопил он что есть мочи. — Сюда! Скорее!
Дверь, выбитая плечами нескольких мужчин, отшвырнула их обоих прочь. Гость завалился на ковер, кряхтя и постанывая, дева отлетела на середину кабинета. В проем ворвались трое. Все — воины, сжимавшие в руках взведенные самострелы. Не раздумывая, они навели их на единственную требующую внимания цель.
— Пли! — Выкрикнул кто-то из-за дверей, лишь на миг показавшись в проеме.
У тебя есть три пути. Всегда — три пути. Запомни это, дева. Слышишь меня? Не шипи и не кидайся, ну-ну, не шипи столь дико, а внимай. Внимай, зараза!
Первые два пути тебе хорошо известны. Уже сейчас. Путь наибольшего сопротивления и путь наименьшего сопротивления, простой и сложный, согласия и отказа, принятия или отрицания. Добра и зла, в конце концов, как ты сама разумеешь для себя эти понятия. Не понимаешь? Не беда, дева, не беда — еще успеется. У тебя будет время отделить светлое от темного. Это лишь пока для тебя все едино, а я… — зло, верно? Хе-хе, может, ты и права. Но однажды вспомни меня и вспомни мое научение тебе, вспомни этот разговор. Вспомни тогда и реши тогда — не сейчас. Пока для тебя, дева, все серо, все необычно и все в новинку. Все неправдоподобно. Какой бы ты ни была тварью аль уродцем, ты все равно ребенок. Вот прямо сейчас ты — дите.
Усекла, дева? Два пути — самое простое и самое очевидное. Опусти свои ручонки, не грозись коготками, пока я их тебе не обломал, а тебя саму не выпорол. Вот, так-то лучше. Это — два пути. Но в довесок к ним есть еще и третий. Всегда есть. Даже не думай в этом сомневаться. Ты поймешь. Когда-нибудь. Если ты его не видишь, это не значит, что его нет, что мир вдруг сузился до банальных да и нет, а значит это, что ты, малявка, глупа и невнимательна.
Запоминай. Кто знает, сумею ли я тебе еще когда-нибудь это повторить, образумить твою бунтарскую головенку. А ведь я должен. Должен. Кто, если не я?
Смотри в глаза, не отводи взгляд. Смотри. И запоминай. Иногда просто необходимо ступить иной дорогой, выбрать непроторенный остальными путь. Увидеть его. Понять. Слышишь?
Хочешь знать, что из себя представляет третий путь? Ну нет, про третий путь я тебе не скажу ни слова. Он, знаешь ли, у каждого свой. Третий путь, как это обычно бывает, когда шагаешь в темный омут с головою, ведет в никуда. Однако бывают моменты, когда в никуда — единственное направление.
Ну-ну, не кусай. А коли уж кусаешь, так грызи до самого хруста. Эх… Слышишь меня, дева? Эх-эх, надеюсь, что слышишь.
Она вскрикнула, когда первый арбалетный залп пошатнул ее, опрокинув на стол. Она захрипела и сползла со стола на колени, когда заново взведенные самострелы выстрелили во второй раз. Третьего залпа для нее уже не существовало.
— Третий путь, волкан, мы творим своими собственными руками, не смотря на остальных, не смотря на навязанные ими истины. Третий путь открыт лишь нам, и для каждого он всегда свой. Но куда он нас приведет — неизвестно. Неизвестно никогда.
— Дева?
— М?
— Я понимаю. Кажется, понимаю.
* * *
Волк вдруг остановился как вкопанный, принюхался к воздуху, прислушался к окружающим его звукам. И внезапно рванул на опушку. Его не волновала испуганно вскрикнувшая молодежь, бродящая в это время суток по лесу, не испугало близкое присутствие села, от которого волку — лесному хищнику, можно было ожидать лишь злобы и неприятностей.
Он замер между деревьями, впившись безумным взглядом в посеревшие небеса. И вдруг завыл. Громко, протяжно, грустно. Никто не выскочил из хаты, хватаясь за оружие, не разбрехались собаки — столько было горя в том голосе.
Две волчицы, поспевшие наконец за ним, испуганно прижали уши. Их так и тянуло вторить следом, возвыть во весь голос, но они не смели, слушая его полный отчаяния от утраты вой.
Горизонт нашего бремени
— Что здесь произошло? Что за бойня? Вас для чего сюда посылали?
Следователь, кривясь запахам рвоты и испражнений, которыми так и смердела гостиная, приложил к носу надушенный платочек, полным скепсиса взглядом обводя кругом и подмечая каждую мелочь. Бледный лицом его помощник беспомощно топтался позади, каждую секунду намереваясь выскочить за порог, чтобы вывернуть сегодняшний плотный завтрак.
— Я спрашиваю.
— Так некого было забирать, господин! — Воскликнул один из стражей, видимо, главный. — Ехали мы сюда со столичным указом, все чин по чину, а как приехали — вот. Ей-бо, не наша это работа. Могу чем угодно поклясться, господин!
— Не надо ничем клясться. Вижу, что трупов из твоих людей здесь нет. И подохли бандиты… сами, да? Перерезали друг дружку?
— Не, — враз помрачнел страж правопорядка, отведя взгляд. — Не сами. Там, наверху.
— Этот, — особенно выделил это слово следователь, кивнув наверх, — там?
— Там, ага. Как раз подыхает. А барон уже того — как эти.
Следователь схватился за голову, отчаянно зарычав.
— Какой подыхает? — Воскликнул он. — Мне он нужен живым, живым! Чтоб вас! Что с ним?
— Корчится весь. Дохтур, что приехал из города вслед за вами, сказал мол отравлен ядом страшенным.
— Фармацевт тоже там?
— Там. Только он этого, велел не беспокоить его.
— Это он вам велел. — Буркнул следователь, тремя широкими шагами взлетев по лестнице и уже оттуда крикнув вниз. — Так что, вы никого не взяли? Ни одной живой души?
— Как же, взяли, господин! — Обрадовался блюститель. — Ровно однехонького повязали. Он тогда, пока всех резали безжалостно, в сортире уличном просидел. Да и сидел до тех пор, пока мы его не нашли. Чичас под охраной неусыпной находится!
— Мне он понадобится… Может быть. В любом случае, за его сохранность отвечать именно тебе!
— Ну что там, доктор?
— Что-что, — отер пот со лба фармацевт, недовольно кривя губы. — Не жилец он более. Думаю, уже сейчас он с трудом понимает происходящее вокруг него, а спустя еще пару часов окончательно издохнет, простите за неподобающую плебейщину.
— На вопросы, я так понимаю, он не ответит?
— И не мечтайте. Его бы добить, милосердия ради…
Следователь степенно кивнул, дав знак ожидающим сигнала стражам. Сам прошел ко второму трупу, странному, ненормальному, какому-то извращенному. Сплошь истыканному древками болтов.
— Он отравлен, несомненно. — Произнес доктор, снимая перчатки и бросая их прямо на пол. Заметил внимание следователя к странному существу. — Впервые встречаюсь с таким ядом и, боюсь, противоядия от него нет либо мне неизвестно.
— А с подобной тварью? — Поинтересовался следователь.
— Тоже впервые. Но готов поспорить, что в слюне у этой твари именно этот яд. Именно она отравила нашего…
— А с остальными что — тоже она сделала?
— Я не эксперт по ранам, оставленным холодным оружием, будь то меч или топор. Даже молот. Я аптекарь. Моя специальность — яды, мази, припарки, сиропы, декокты и многое, многое другое, однако из этой отрасли. Но насколько я могу судить, у этого существа две руки, как у человека, на каждой руке по пять пальцев, столь же аналогично человеческому. И если человек способен взять в руки кинжал, думаю, и это наше мертвое нечто тоже способно. Было, по крайней мере.
Заглянувший в кабинет помощник следователя обвел взглядом комнату, остановившись на объекте всеобщего внимания. И если снизу он еще как-то держался, то здесь его мгновенно вывернуло. Прямо на дорогой пушистый ковер.
— Иди проветрись. — Брезгливо бросил ему господин, вновь возвращаясь к изучению. — Доктор, думаю, мы оба понимаем, что о произошедшем здесь, в этом баронском имении, не стоит болтать на каждом углу?
— Конечно, понимаю! — Всплеснул руками фармацевт.
— Если бы не срочная нужда в знатоке ядов и противоядий, вы бы и вовсе сюда допущены не были, однако теперь… — Он перевел взгляд на собеседника. — Теперь вы посвящены в тайну. Более того, ею крепко повязаны.
Аптекарь, стоящий до этого с возмущенным лицом и чуть покрасневшими от негодования скулами, побледнел.
— Что мне следует сделать?
— Забыть о том, что здесь видели. Забыть о том, что вас сюда вызывали. Забыть об этом странном существе, от которого, по возможности, нужно поскорее избавиться. Вы меня понимаете?
— Безусловно, безусловно! Однако, если вы позволите, у меня к вам будет просьба. Небольшая, даже крохотная просьба. Это очень важно.
— Если так важно, то обратитесь к моему помощнику, он все обязательно устроит. Я же сейчас, к сожалению, непомерно занят.
Доктор, правильно поняв намек, поспешил раскланяться, рассыпаясь в благодарностях за то, что ему, простому городскому докторишке, позволили увидеть нечто невероятное, о чем он вскорости обязательно забудет. Ибо возраст, память… О том, что помнит наизусть большинство своих рецептов, он не заикнулся ни словом.
Оставшись в одиночестве, прикрытый неработающей с этой стороны дверью, следователь еще некоторое время задумчиво смотрел на натворившее здесь сверх всякой меры дел существо. Смотрел, внутренне борясь с омерзением. Он понимал, что в ней нет ничего такого, что должно было вызывать такую реакцию, но все равно себе удивлялся. Ответ оказался очень прост: это был не человек. Да, похожее на человека существо, но не человек.
Следователь, одетой в кожаную перчаткой ладонью коснулся лица существа, приподнял за подбородок, вглядевшись. Это была дева. Узнавалось с первого взгляда. Он скинул обе свои перчатки, ощупал ее руки, ноги, приподнял веки, заглянул в рот и уши, каждый раз все больше удивляясь.
— Поразительно. — Пробормотал он, вставая и подходя к двери, давая знак сторожившим с той стороны воинам. Последний раз взглянув на лежащее на ковре тело, он пошел прочь, на ходу раздавая распоряжения — дела неумолимо подгоняли.
На распластавшегося на столе барона он не обратил ни малейшего внимания.
* * *
— Пришла она ко мне спозаранку. Сама скромная, в дом не лезет, стоит за оградкой-то, ждет. Работу спрашивала, да токмо какую я ей работу в это время года сыщу? Нету работы, да жалко мне ее стало, отрядил в земле копаться. Согласилась, ни слова не пискнула в ответ — тут же взялась за дело. А сама вся одетая, укутанная, и это в такую жару-то…
— Ближе к делу, стар.
— А, да, господин. Целый день и круглу ночь работала — со всем управилась. А работа — на загляденье. Да такая, что тронула мне душу. Я и отсыпал ей горсть монет — сверх того, чтобы требовалось. А потом чувствую — мало, и отдал все, что тогда в руке держал.
Господин столичный следователь покивал-покивал головой, переложил ногу на ногу, да ничего не сказал.
— Ушла она опосле, наказала запереться в доме, да сидеть аки мышки. И голос у нее был — жуть какой страшенный. Тут хошь — не хошь, а исполнишь. И верно, страху было той ночью — ух! Токмо не уразумею, господин, откуда эта дева узнала об упыриной ночи.
— Как-как ты сказал? — Внезапно собравшись, словно хищник перед прыжком, следователь подался вперед.
— Упыриная ночь, господин. — Смутился стар, принявшись мять свою шапку. — Дык всем известное событие. Еще от дедов пошло, их наказами да разумениями.
— И что же это такое… за событие? И когда случается?
— Когда случается — это токмо повитухи да знахарцы знают. Могут учуять приближение той ночи. А сама та ночь… Дык лезет нечисть поганая на землю. Из под земли, значится, а мож еще откуда. Вырывается на поверхность, да изводит все живое да разумное. И нету от нее упасу до самого восходу солнца. Вот.
— Нету, значит. — Задумчиво повторил за ним следователь. Сунул руку в верхний ящик, грохнув о стол гулко звенящим мешочком. — Не знаю, сколько ты ей заплатил, но здесь, — он кивнул на мешочек, — думаю, даже сверх того.
— Да как же так, господин! — Воскликнул стар, облизнувшись и не отрывая взгляда от мешочка. — Ведь все уплочено честно, за дело, стало быть.
— Бери-бери, — раздраженно махнул рукой следователь. — Хвалю, что явился ко мне сам, а это пусть будет тебе награда за рассказ.
— Нет, господин. — Мотнул тот головой. — Пришел я к вам сам, дабы рассказать все, что знаю и разумею. Не для того я пришел ведь, не для того…
— Бери, сказал! — Рявкнул на него следователь.
— Нет, — сглотнул слюну стар. — Не могу. Не могу! — Чуть ли не завыл он, принявшись пятиться, теребя в руках шапку. — Неправильно это, за дело ведь плочено… за дело…
И, не глядя в глаза господину столичному следователю, шагнул за двери. Только торопливые шаги припустившего прочь бегом стара и звучали по коридору. Следователь, устало проведя ладонью по лицу, спрятал полный богатства мешочек обратно.
Память услужливо представила целую ораву документов, с которыми работал тогда еще молодой практикующий следователь, которому было невдомек про странные события, после которых, случалось, исчезали города, пропадали целые деревни и села. Лишь недообглоданные скелеты в лучшем случае оставались лежать на улицах напоминанием о том, что в этом пустом месте тоже когда-то была жизнь.
А еще тогда молодому практикующему в столице следователю было невдомек, почему документы столь запущены, а доклады столь хаотичны. Самые старые листы, нескольковековой давности чуть ли не рассыпались у него в ладонях, всенепременно продолжая свою историю из года в год. С одной лишь разницей — непохожими числами. Ну да ничего необычного, ведь умертвленные селения не сразу доводилось обнаруживать, а некоторые так и вовсе жили обособленно ото всех, пропадая, как говорится, пропадом.
Но что сразу привлекло его внимание тогда и по прошествии многих лет еще не раз загадкой всплывало в памяти, так это то, что подобные доклады внезапно прекратились. Просто перестали поступать сообщения о возникающих ни с того ни с сего мертвых городах. И если подумать и представить, что теперь и в этом году ничего подобного уже не случится, то это, стало быть, будет уже двенадцатый спокойный год.
И это только одна линейка событий, потерявших свою актуальность. Что-то подсказывало следователю, сейчас уже немолодому, обязательно освежить свою память в архивах.
— Господин уважаемый следователь, позволите?
В двери заглянул круглоносый и розовощекий, запыхавшийся от спешки, парнишка.
— Я от господина аптекаря, подмастерье его.
— Да-да, заходи. — Не глядя, кивнул следователь, поигрывая пальцами листами баронского донесения и шифрованного тайного сообщения некоему рыболову, шифр для которого такой профессионал подобрал за каких-нибудь несколько часов.
— Я это, — замялся парнишка, переминаясь с ноги на ногу, — за трупом я, значит. Господин учитель послал к вам. Вот.
— За каким еще трупом? — Нахмурился следователь, наконец-таки переведя взгляд на посетителя.
— Так ведь за трупом той убивки. Ну, помните, что ворвалась сюда, заколола барона и энтих… остальных? Вот за нею-то я и пришел. Вернее, послали меня. За нею-то.
— Так нету же ее больше. — Удивился следователь. — И тела тоже — тю-тю.
— Как, — побледнел подмастерье, — тю-тю?
— А вот так вот. Сожгли ее на закате. Вместе с остальными телами. Да ты ж разве не видел? А? Там до небес костер горел. Весь город собрался. А как плевался огонь от ее натуры мерзкой?
— Как сожгли… На том костре? Ой-ей! — Схватился он за голову. — Как же так, господин уважаемый следователь, как же так? Учитель ведь с меня три шкуры сдерет! Ой-ей!
— Так а чего же вы со своим мэтром ждали так долго? Надобно было предупредить, что тело ее вам потребно. Я бы приберег для таких-то дел — науки ради. А теперь поздно слезы лить да сопли пускать — нету ее уже. Но уж коли так сильно желает мэтр, то пусть поищет ее останки на том пепелище, которое, к слову сказать, собрано и упаковано по всем правилам и инструкциям. Полный доступ к общему праху я ему дам. Да ты сам обратись к моему помощнику, он сейчас в канцелярии, да и уладь все вопросы. Думаю, в этом случае, мэтр обойдется только двумя шкурами. А, как считаешь?
Подмастерье гулко сглотнул, от краски на его лице не осталось и следа. По его сморщенному носу и пролегшей вдоль лба вертикальной складке можно было легко определить, что он всеми силами ищет срочный выход из сложившейся ситуации.
Видимо, не нашел либо счел теперешнюю ситуацию наиболее актуальной. Он закивал часто-часто и, рассыпаясь в благодарностях, бочком шмыгнул за дверь, отправившись на поиски помощника господина уважаемого следователя.
Оставшись в кабинете один, следователь задумчиво пожевал нижнюю губу, непонятно для чего попытался сковырнуть сургучную печать с баронским знаком с тайного письма, и вдруг, удивляясь самому себе, громко хмыкнул. Баронские доклады вместе с письменами руки его собственной загорелись быстро. Крохотная лучинка, догорающая под утро на краешке стола, охотно поделилась своим огоньком и, как будто только этого и ждала, благородно потухла, пустив к потолку заковыристый дымный знак. Спустя три минуты от баронской подстрекающей корреспонденции не осталось и следа, если не считать ими разворошенный пером и выброшенный в окно пепел.
Столичный следователь устал. Прошло всего ничего времени, а он уже валился с ног, так и норовя на ком-нибудь сорваться. Нет, это было не баронское поместье, это была обитель и рассадник тайника, скрывая следы которого он, следователь, буквально хватался за голову.
— Господин, — принес ему в папке под мышкой очередную стопку требующих внимания документов его помощник.
— Надеюсь, это — последнее? — Поинтересовался он, и сил ему хватило, чтобы сказать это своим обыкновенным голосом, без тени усталости.
— Так точно, господин.
— В таком случае, я отправляюсь в столицу. Там все прочту и раздам указания. А ты, — он пристально взглянул в лицо помощнику, — тоже приезжай, когда будешь готов. Смотри не напортачь.
— Так точно, господин, — повторил помощник, раскрасневшись и опустив взгляд. — Я буду внимателен.
* * *
Яркий утренний свет теплого солнышка заливался сквозь полностью раздвинутые шторы окон, ставни были настежь распахнуты. Едва гуляющий воздух тоже был теплый, но не горячий, какой предвещает дневной невыносимый зной.
Будет дождь, мелькнула мысль. Не сильный, едва накрапает пару часиков, освежит своими трудами, и пропадет. И хотя небо идеально голубое и чистое, дождик точно будет.
Радостно щебетали птицы, пронзительно крича прямо под самыми окнами, лениво колыхались ветви орешников. В такт ветвям вторили тяжелые бархатные занавеси цвета разбавленной ляпис-лазури. На потолке, в просвет от тяжелого балдахина с обоих от кровати сторон, просвечивала немного выцветшая от времени фреска — какие-то мифические существа, пляшущие на зеленом словно море травяном поле. Кажется, единороги.
Было невыносимо тихо и идиллически спокойно, так, что окружающая обстановка начинала тревожить. Зато открытое окно манило. Хотелось прочь, на улицу, на свободу. Вряд ли здесь высоко, в крайнем случае, можно уцепиться за лезущие прямо в открытое окно ветки. Спуститься будет не сложно.
Кровать не заскрипела на неуверенное движение, но глубокая перина сыграла роль неодолимой преграды.
— Не торопись бежать, дева. Еще успеется. — Раздался чей-то спокойный негромкий голос. — Тебе пока рано вставать, а нам с тобою еще нужно кое-что обсудить. Кое-что очень и очень важное.
Дева отвела взгляд от столь манящего свободой и спокойствием оконного проема. Единороги задорно и лукаво ей подмигнули, гарцуя на сплошь ровном зеленом поле.
— Я выслушаю. — Пообещала она. — И не сбегу. Даю слово.
История вторая. Воля твоя
ПРОЛОГ
— Марек!
Чей-то тянущий зов разорвал витающую рядом со мною тишину, донесся откуда-то со стороны потонувших в сером мареве дворцовых покоев. Люди вокруг были чем-то заняты, кто-то что-то волок, кто-то кого-то тащил, — никто не обернулся. И тот зов с концами потонул в беспросветной мути происходящего.
Туманные тени предо мною, за мною, вокруг меня. Они молчат, они даже не смотрят друг на друга, не слышат зов, не откликаются на него. И меня, еще не ставшего частью их серо-черного безрадостного мира, они словно не видят. Их глаза пусты и темны, а лица ничего не выражают, замерев масками одного момента: приоткрытый в испуге рот, закушенная от боли губа, яростно сжатые челюсти, потонувший в невозможной тишине вопль отчаяния. И ни единого положительного, светлого и доброго, отражающего радость или счастье.
Я не знаю их. Может быть, помню, но они мне столь же чужие, как и случайные прохожие на улицах больших городов, идущих куда-то, толпящихся в очереди за представлением и ревущих от удовольствия зрелищности. Кто все они? Лишь наблюдатели — чужаки.
— Марек!
Снова тот же призыв — единственный звук, разрывающий уши. Кто кричал, и кого звали? Они молчат, они не смотрят, все они делают вид, что ничего не произошло. Все вокруг лицемеры, злобные предатели и черви! Я часто-часто дышу, какими-то толчками приходя в себя. Это все неправда, все — ложь. Просто я слишком часто забредаю сюда и слишком подолгу здесь остаюсь. И этот раз не был исключением — окружающее плохо на меня влияет, затягивает, а я словно безвольная кукла поддаюсь. Так больше нельзя, только не снова…
Они тянут ко мне руки. Будто слышат мои мысли, пытаясь остановить и задержать. Они на меня не смотрят.
Мне с ними не по пути, потому как шаг, еще шаг, и фигура, только что терзавшая мой взор, навсегда растворяется в гиблом небытии втянувшей ее в себя темноты. Я стою на крохотном пятачке света, все что спереди — мне доступно, мне подвластно, и даже столь нелепым образом, словно зазевавшийся мир, оно продолжает жить.
— Марек!
Я делаю шаг назад.
ГЛАВА 1
«Приветствую, друже! Оставим вопрос о том, как я тебя нашел, потому как я, собственно, даже не представляю, где ты можешь находиться. Но будем надеяться что эта необыкновенная птица верно разобрала порученное ей задание и все же каким-то образом, уж не представляю каким, донесет до тебя мое послание. Потому как мне есть, что тебе сказать.
Не стану высокопарно преувеличивать, что мне вновь потребовалась твоя помощь, знаю, ты этого не любишь. Поэтому скажу как есть. Я очень обеспокоен твоей судьбою, нашей слишком долгой разлукой и отсутствием вестей друг о друге уже более, представить только, целых двух лет! А посему я во что бы то ни стало решил тебя найти и наладить с тобою контакт.
Признаюсь, мне известны причины твоего ухода в тень, того, от чего ты так упорно скрываешься, но спешу тебя уверить — практически напрасно. Буря миновала. Не полностью, конечно, кое-где еще бушуют ураганчики, но самый пик уже давным-давно прошел. И выходит, твое таение оказывается излишним, а смиренное ожидание — чрезмерным, гордо превозносящим в тебе аскетову долю.
Мне бы, как твоему давешнему и искреннему знакомцу, было бы приятно думать, что я мог бы помочь тебе в твоем нелегком положении, — понять и поддержать словом это одно, но полезным и необходимым делом — совсем другое. И я, в самых лучших традициях приятельских отношений, спешу тебе навстречу, предлагая небольшое, но достаточно интересное приключение. Надеюсь, занятное и полезное нам обоим: тебе — вернуться в мир, мне… Что уж тут греха таить, у меня тут особенно корыстный интерес, выраженный преимущественно в золотом эквиваленте. Между прочим, при успешном приключении, полагаемом нам обоим.
Это пари, дорогой друг. Не скажу, с кем и на что — это коммерческая тайна, но играть с тобой, если ты все же согласишься, мы будем вдвоем. Я направлять, ты исполнять. Самое то, чтобы размяться, верно?
Что ж, думай, предполагай. Последнее слово сейчас за тобою, но я ни в коем случае не оскорблюсь, если ты все же решишь не воспользоваться моим предложением. Ведь мы слишком хорошо друг друга знаем, чтобы обижаться на такие сущие пустяки, не так ли?
Решение за тобою, в любом случае. Воля твоя. Однако если решишься, напиши мне ответным письмом, переданным этой самой птице, название ближайшего к тебе города, и в самые кратчайшие сроки жди на почтовом отделении письмо до востребования со всеми полагающимися от меня инструкциями».
Я стоял на краю обезлюдевшей деревни. Покосившиеся деревянные избы с прохудившимися соломенными крышами, плохо обструганные подпорки под обваливающиеся стены, да совсем никудышные доски, выставленные вокруг поселения на манер совсем уж жалкого палисада. Такой не защитит даже от загулявшего по ночи пьянчуги, что уж тут говорить о диких зверях или диких тварях. Так как последние, судя по всему, здесь и наделали делов.
Однако мое замечание, если не считать его безнадежного запоздания, было излишне. Собственно, это была обыкновенная деревенька на шесть домов, и требовать от бывших ее жителей чего-то большего, в такой-то глуши, просто немыслимо. Озаботились хоть таким, и ладно. Тем более, что судя по словам знающих окрестности лесовиков, — егерей-то в таких никчемных землях и подавно не водится, — места здесь тихие, а живность там же, где и егеря. То есть, не здесь. Ни волка ни лисицы, даже полевых сусликов и тех не было — повывела их поголовье местная детвора, щедро заливая их норы целыми ведрами воды.
И это известие ввело меня, считающего всему виной нападки зверей, в некоторый ступор. Одно с другим явно не сходилось, и это заставляло меня нервничать в непонимании произошедшего.
Мысли витали где-то в облаках, отказываясь заниматься порученным мне делом. А дело было серьезней некуда. Даже если не учитывать плохо скрываемое раздражение моего давнего приятеля, по своему обыкновению чрезмерно бодро описывающего то положение, в которое он меня втянул. Или, выражаясь нормальным языком, я влез сам, как обычно поверив его сладким речам. Я рисковал, вновь возвращаясь к этому миру, но происходящее мне уже настолько осточертело, что я согласился не думая. Его внезапное появление в той черноте, в которой я пребывал сутками напролет, оказалось поистине глотком из живительного родника. И неудивительно, что я столь жадно к нему приник, упиваясь его невозможной свежести.
Да, деревенька была пуста, как от людей, так и оставшихся от них вещей — постарались мародерствующие соседи, под шумок прибравшие к рукам все худо-бедно ценное. Оно и понятно, мало ли что сельским может пригодиться по хозяйству, что добру пропадать? Поэтому, видя разобранные и утащенные на доски крыши домов, навесов и крылец, я не особенно удивился. Странным было другое.
В селении, выраженном единственной улочкой, царил совсем слабый, едва различимый кисловатый запах, отдающий примесью аммиачного духа, отчего меня, думающего о постороннем, словно залихорадило. Все прочее вылетело из головы, передав бразды правления четкой ясности и собранности. Давно забытое чувство проснулось, потребовав ответа. Оно требовало решений и действий, твердя о том, что этот запах, если он мне не почудился, витал здесь неспроста.
Я ткнулся в один дом, во второй, обыскал подворья, рыская словно оголодавшая собака в поисках некогда припрятанной кости. Заглянул во все сараи и залез во все подвалы и чердаки, но, будто в насмешку, остался ни с чем. Везде сопровождал меня тот кислый и местами сладковатый запах. Иногда даже казалось, что он хватал меня за руки, оборачивал голову в нужном направлении, намеренно подбрасывая мне верное направление, но признак, казавшийся верным, оказывался обыкновенной пустышкой. И… ничего. Я шел туда, в какой-то момент вонь достигала апогея, заставляла мой разум биться в предвкушении, однако в следующий миг просто растворялась, понукаемая прочь вездесущими сквозняками. Откуда она бралась и почему упорно отказывалась до конца растворяться, я так и не смог себе ответить, сколько бы ни рыл окрестности.
Страшно признать, но я чуть ли не выл от тоски, скребя землю, камни, стены, надеясь найти хоть что-то, указывающее на принадлежность этих запахов. Странное чувство, захлестнувшее меня с головой. Номад, видимо, оказался прав, когда в одном из писем бил навскидку, порицая меня за то, что в своем времяпрепровождении и намеренном бездействии я совершенно захряс: как физически, так и морально. Ему было невдомек, что я этого возможно и добивался. Впрочем, радостных настроений и чувства полезного дела, как теперь, у меня действительно давненько не водилось.
Как итог, деревня пуста — ни единой живой души или твари. Деревня необычайно тиха, словно бы даже птицы не решаются нарушить царящее здесь безмолвие. Хотя на ветвях сидят, изредка перелетая с места на место. Не вороны — обыкновенные пичуги, что немного смущает третий, последний пункт, — в деревне отвратительно смердит мертвечиной, и чем дольше я здесь нахожусь, тем сильнее понимаю, что запах этот здесь по-настоящему устоявшийся, буквально въевшийся в саму плоть земли. И если поначалу он казался слегка ощутимым, то теперь, дыша через пропитанный благовониями платок, я не чувствовал иного запаха, кроме приставшего гнилья.
Выходит, жители не просто так пропали — не растворились бесследно, чего я опасался изначально. А значит, от этого уже можно начинать действовать.
— Как это растворились? Такого просто не бывает!
— Однако это так, — развел руками старый вояка, видимо, действительно веривший в то, что говорил.
— Абсурд какой-то…
— Отнюдь. Странностей всегда хватало. Одной больше, одной меньше — какая, в общем-то, разница?
— Вы не отсюда, — каким-то внутренним чутьем догадался я, обличив свои мысли в слова перед тем, как успел подумать о последствиях такого нездорового любопытства и чрезмерной проницательности.
Однако вопреки всем ожиданиям, офицер на мои слова не обиделся, и даже несколько смущенно улыбнулся.
— Действительно, я родом не из империи, с ее северных окраин. Но о причинах приведших меня сюда, право слово, говорить не стоит.
Я примирительно поднял ладони — у каждого могут быть свои причины, и эти причины — лишь их личное дело, интерес к которым в некоторых случаях и с некоторых пор в одностороннем порядке может признаться оскорбительным и требующим искупления. Часто извинением золотом, но иногда и кровью.
— Оставим в покое обезлюдевшую деревеньку.
— Оставим, — задумчиво кивнул я. — Но я просто обязан уточнить у вас насчет трупов.
— Каких трупов? — В искреннем недоумении в какой уже раз за сегодняшний разговор уставился на меня усатый дядька.
— Не берите в голову.
Я встал, благодарственно протянув служаке руку. Тот пожал, проводив меня до самой двери.
— Если были б трупы, тогда другое дело, — бормотал он на ходу. — А так… Словно испарились там все. Р-раз, и нету.
— А запах? — Обернулся я на самом выходе.
— Да, запах… Припоминаю. Воняло так, что всех моих ребят прямо там и повывернуло. Да я и сам, что уж тут скрывать… Но вот трупов…
— Странно, правда?
— Хватает у нас тут странностей, уж поверьте.
Я задумчиво пожевал губами, глядя на его хмурое лицо.
— Запах мертвечины есть, мертвечины нет. — Подвел я итог, и офицер, чуть подумав, как-то рассеянно кивнул.
Оказавшись на улице я, во весь рот и никого не стесняясь, зевнул, блаженно потянувшись. Заметившие меня имперские пограничники лишь понятливо хмыкнули — разговор с их начальством дело всегда нелегкое, а зачастую и долгое.
Переливание из пустого в порожнее, сказал бы я, припоминая те два с половиной часа, улетевших в оказавшимся бесполезном разговоре прочь. Вытащить из командира приграничного лагеря хоть какую-нибудь мало-мальски серьезную информацию оказалось делом невыполнимым. Усатый офицер упрямо стоял на своем — пропали и все тут, и так от загадок уже тошно как от прогоркшего масла, а тут еще я со своими нелепыми расспросами. Поэтому приходилось терпеть, снова и снова, виляя хвостом словно лисица из стороны в сторону, пытаясь запутать, задавая наводящие вопросы, потому как иного источника информации поблизости просто не было. А выспрашивать что-либо у подчиненных, здесь, посреди граничного лагеря, минуя обращение к начальству — это только искать себе на голову приключений. Бежать отсюда некуда, ближайшая цивилизация лишь в двух неделях пути на запад.
Зато у подобного лагеря были свои плюсы — увидев врученную мне приятелем грамоту, мне пообещали полное довольствие и, не спрашивая, посадили на армейскую харчу. То есть относительно свободы передвижения и бесплатного пропитания, как и проживания, я мог не беспокоиться.
Пока молчаливо насыщался на одном из притащенных к общему котлу пней, в голове крутились обрывки недавнего разговора — самое полезное, что удалось от него поиметь.
— Я пойду туда. — Не видя иного решения, кивнул я собственным мыслям.
— Там уже не наши земли. Чужая территория.
— Думаете, будут стрелять без предупреждения?
— Нет, — уверенно мотнул он головой, — не будут. На этой границе тишайшие земли, и никому не хочется обострять ситуацию. Да и нужды в этом совершенно никакой.
— Тогда в чем проблема?
— Никакой проблемы, просто предупреждение. Предостерегать вас не от чего, а вот предупредить обязан.
— Насколько я могу судить, вольные баронства?
— Именно так, там, за перелеском уже начинаются баронские земли. И случайного путника они, конечно же, не тронут. Другое дело отряд, но и тут думать нужно на кого зарываться — все-таки мы хоть и числимся дальней заставой, но одно — солдаты империи. — И добавил, видимо, прочитав по лицу мои мысли. — Кто знает, может, закроют глаза на мелкую стычку там, сверху, а может, подобная агрессия лишь развяжет загребущим ртам руки. Бароны ведь тоже не дураки, должны понимать что к чему и предполагать определенные последствия.
Собственно, общаться со столь образованным человеком в подобной глубинке, было сродни любованию королевского вальса в исполнении породистого жеребца и облезлой дворовой собаки. То есть ему было здесь совершенно не место, как и оркестру на заднем дворе какой-нибудь фермы. О его офицерском чине я не спрашивал, но что-то мне подсказывает, что высокий — много превышающий обыкновенного командира приграничного гарнизона на тридцать скучающих от безделья глоток.
Как и сказал этот усатый солдат, загадок вокруг действительно полно, и обезлюдевшая деревня лишь одна из них. Кто обратит внимание на такой пустяк, как растворившиеся без следа люди, если и расследовать, собственно, нечего?
Грамота баронам оказалась с собою, в раздутом от всяческих вверительных бумаг и писем подсумке. Брать с собой его весь я, конечно же, не собирался, ограничась одной единственной бумажкой — надолго уходить во владения баронов я не планировал. Другое дело, что судьба и случай вольны распорядиться иначе.
До границы меня проводил молчаливый солдат, на опушке лишь кивнувший, мол следующее поле — чужая территория. Шли пешком, никаких лошадей, так как идти тут оказалось буквально на пятнадцать минут по ноголомным буеракам. А дальше уже самому. Пересеча поле, увидел призывно махающего мне пограничника.
— Здрав буди, путничек. Это какими же тя ветрами сюды занесло-то, а?
— Дело у меня в ваших землях.
— К барону небось, — махнул из них самый младший, а встретивший меня недовольно на него шикнул.
И сам обернулся ко мне.
— Так шо?
— Действительно, к барону. — Я протянул им заранее вынятую грамоту.
— Те к какому барону-то? Евойному, — кивнул он на младшего, — или евойному? — Кивок на последнего, безмятежно разлегшегося на травке. — Эмель, шукаешь, что то би написано?
— Не-э-э, — протянул отдыхающий солдатик, бегло вглядевшись в документик.
— А ты шож, — обернулся первый ко мне, — ежели разумеешь писанное, да давай так, реки, то бишь.
— И ты вот так запросто поверишь? — Хмыкнул я ему, определив, что из них троих именно он главный.
— А че б нет?
Действительно, подумалось, че б нет?
Быстро сориентировавшись по направлению к обезлюдевшей деревеньке, я указал в ту сторону. Вроде и до границы недалеко, должно быть в самый раз.
— Значит, к нашенскому. — Без особого энтузиазма отметил старшой, а младший часто-часто закивал. Глаза у первого довольно блеснули. — Вот он тя и проводит, знач.
Я в очередной раз хмыкнул — солдатики откровенно маялись дурью, и лишь самое пекло не давало им преспокойно гонять самогон на троих. Спокойная территория, делать нечего, дремать жарко. Одно слово — скукотища.
— А…
— А про грамоту свойную младшому все и порасшукаешь по дорожке.
Письмо, заставившее меня двигаться к восточной границе империи, пришло от Номада немного погодя. Это было месяц назад, три недели которого мне пришлось потратить на дорогу, благо я оказался в непосредственной близости к границе. Неясным оставалось лишь одно: либо это я так удачно оказался поблизости от восточной границы либо у знакомца было припасено сразу несколько точек по всей территории империи, и мне довелось попасть именно на эту.
В письме Номад вкратце описывал мне странную ситуацию, произошедшую с населением одной из деревень, то есть его бесследное исчезновение. Стоящий рядом приграничный гарнизон, услышав новости от приносящих им еду товарок из других селений, лично подтвердил наличие странности. Уже известный мне командир собственноручно заполнил рапорт, отослав его начальству в ближайший город с первой же сменной партией бойцов. А уже оттуда, поразмыслив над ситуацией, и оформив документ от имени следующего по списку чина, его передали дальше, пока тот не дошел уже до самой столицы, где его намеревались предать забвению, навсегда поместив в безграничные архивы. И именно там сей рапорт и перехватил столь расторопный Номад, как он мне сам похвалился.
Была деревня и не стало деревни, — вот и все, что он мне поведал. Ни следов драки, ни массового переселения шести семей, ничего. Хотя нет, следы побоища изначально были, как удалось выпытать у усатого офицера, другое дело, что кровь и трупы, им сопутствующие, отсутствовали напрочь.
Узнал я о происшествии четыре недели назад, здесь рыскаю уже чуть больше семи дней. Сама странность имела место быть десять месяцев назад.
Усатый офицер молчаливо передал мне сверток, быстро скосив взгляд на сургучную печать которого, я удостоверился в его полном порядке, и офицера — порядочности. Конверт, отвязанный от лапы почтовой птицы, был полностью цел.
Большегрудая, с небольшой головой и коротким, острым и немного закругленным клювом птаха, по габаритам раза в три превосходящая голубя, словно только и дожидалась того, чтобы посылка достигла адресата — меня, после чего молчаливо взмахнула крыльями. Раз, другой, и, сделав небольшой круг над лагерем, устремилась прочь. Я задумчиво проводил ее взглядом, привев на грубо сколоченную скамейку из расщепленного надвое бревна на подпорках, принявшись неуверенно распарывать конверт голыми руками.
«Уходи оттуда! Немедленно!» — кричала на меня единственная строчка того срочного письма, которым меня выдернули из общества приветливого и гостеприимного барона. Номад пребывает сейчас в истерике и полнейшем бессилии, запоздало понял я, подсчитывая в уме примерную дату отправления. Уже одни эти слова произвели на меня неизгладимое впечатление, а когда я все же подсчитал дни… По спине липкими пальцами пробежал такой предательский холодок, что под ложечкой противно заныло. Сердце на долю секунды замерло, чтобы в следующий миг пуститься вскачь. Как бы там ни было, то, от чего меня пытался уберечь мой далекий приятель, должно вот-вот случиться.
Была бы у этой лавки спинка, я бы обязательно на нее откинулся, а так… пришлось делать вид, что разминаю затекшую невесть от чего шею, судорожно оглядываясь кругом. Все как обычно, все ведут себя естественно — лениво и беззаботно, как и положено на дальних заставах при лояльных командирах. Или мне все это только кажется? Создатели, как же это все не по настоящему! Словно в тягучем сне, из которого я не могу проснуться.
Мой смирный конь флегматично жевал травку чуть поодаль, полностью оседланный и готовый к скачке. Наверняка мне стоило повременить тогда, задуматься, прийти в себя в конце концов! Но я, на несколько лет отрекшийся от мира, мгновенно поддался самому страшному чувству, овладевающему человеком — панике.
— Марек, вы куда-то собрались? — Прямо над ухом прозвучал столь не вовремя возникший голос. Стоило мне сделать лишь пару шагов в направлении своего коня, как из ниоткуда появился командир приграничного гарнизона, цепко ухватив меня за рукав куртки. — Не торопитесь, — легко разгадал он мои намерения.
— Благодарю за гостеприимство, но мне срочно требуется отъехать. — Пробормотал я сквозь зубы, не особо успешно сдерживая охватившее меня чувство.
— Куда? — Офицер не отпускал моего рукава.
Туда! — чуть было не рявкнул я, вырывая из его пальцев собственную куртку. Все произошедшее следом слилось для меня в какой-то запутанный клубок нитей. Я действовал, действовал верно, но все это происходило словно без моего обязательного участия.
Командир схватил меня за предплечье, разворачивая к себе, а я, словно этого мне и не хватало, довершил оборот, ребром ладони ударив его под локоть. Хватка мгновенно ослабла, однако его вторая рука дернулась, полоснув по заклепкам куртки зажатым в ладони кинжалом. Я остался цел, но вот и так неновая одежда обзавелась очередной прорехой.
Второй раз полоснуть, — именно полоснуть, а не уколоть, это было видно по замаху, — он не успел. Охнув, присел на одну сторону, получив удар по колену, и следующий — кулаком в скулу. Я навалился на него всем весом, лицом прижав к земле, а коленом раздавив удерживающую оружие ладонь. Кинжал в долю секунды перекочевал к его шее, жадно впившись в кожу и глотнув несколько алых капель. Кинжал — не меч, — без труда разрежет податливую плоть, нужно лишь легонько надавить. Однако я пока поостерегся от столь скоропалительных действий.
На меня смотрели все, и во всех тех глазах плавала незамутненная злоба, презрение, даже страх. Но не удивление. Не тому, что я одолел их командира, а тому, что я в одночасье стал для них врагом. Как же долго они прикидывались невинными овечками?
— Пеньку… — Голос не слушался. — Пеньку! — Рыча, потребовал я.
Ни один не шелохнулся, продолжая упорно выцеливать меня из самострела. Пришлось налечь на клинок, приподняться словно в решительном движении, намекая на то, что я в любом случае кончу их командира, и только лишь тогда к моим ногам упала размотавшаяся бухта веревки.
Связывать одной рукой лежавшее под тобой тело, при этом поносящее тебя же на чем свет стоит, а вторую не отрывать от остро заточенного клинка, проторившего себе удобную ложбинку в считанных миллиметрах от артерии — то еще занятие. Учитывая, что солдаты даже и не думали опускать свои арбалеты, дожидаясь либо приказа от старшего либо грубой ошибки от меня. В любом случае, шанса выстрелить я им не дал.
Кое-как, пятясь со стреноженным офицером в обнимку, что-то ядовито шипящим в мою сторону, я подбирался к своему коню. Тот, словно почуяв мою в нем нужду, оторвался от травы, сделав несколько шагов навстречу. Спрятавшись за крупом животного, я перекинул через седло пленника, все также продолжая на глазах остальных угрожать ему кинжалом, а на деле просто делал вид, так как теперь я потерял все свое преимущество, и первый же шальной болт в ногу поставил бы крест как на всей затее, так и надо мной. Из такого положения гарантированно прикончить усача представлялось проблематичным.
Я пятился, понимающий конь шел боком, кося глазом то на меня, то на неуверенно замерших на месте пограничников — что поделать, их командир был слишком занят припоминанием моей родни, а на своих подчиненных не обращал ни малейшего внимания. А ведь достаточно было лишь дать отмашку на огонь…
Долгие часы слились в один нескончаемый виток погони от собственной тени. Коренастые деревья сменялись мелким, скудным на листву кустарником, в свою очередь внезапно расступающимся перед покрытыми жесткой травой полями, лугами и склонами редких повышений. Каждый раз конь норовил свалиться в очередную яму, воткнуться брюхом в редкий ручеек, но вместо этого мы каким-то образом все же продолжали бегство.
Это не могло продолжаться бесконечно — внимание притупилось, а силы уже были на исходе. Уже под вечер, в накрывающих землю сумерках, я все же решился остановиться, понимая, что и так слишком долго испытывал судьбу. Я устало сполз, буквально свалился на землю. Адреналин отступил, в необходимый момент пригасив неконтролируемую панику, оставив место холодной расчетливости. Пустая, казалось бы, голова, но на такую зачастую думается лучше всего.
Хрипящий конь, с немой укоризной взглянув на развалившегося хозяина, медленно прошел мимо. Трава, в которой я оказался, была высокой, жесткой и дикой. Неудобной, однако я не делал ни малейшей попытки подняться. Глядел в скоро темнеющее здесь небо, припоминая произошедшее и пытаясь разобраться. И чем дольше я так лежал, тем сильнее хмурился.
Погони я не боялся — каким-то шестым чувством понимал, что ее не будет. Только ни в ближайшее время, необходимое мне для побега.
Беспамятного командира я сбросил спустя пятнадцать-двадцать минут безумной скачки по перелескам и бездорожью. Сами здешние дороги я старательно объезжал, опасаясь случайных разъездов. Как мой конь не поломал себе ни одной конечности в тех буераках, не сверзился ни в один появляющийся прямо под носом овраг, — загадка или, как мне больше нравилось думать, чудо. Подверни он хоть одно копыто, споткнись хоть один раз, я рисковал бы уже больше никогда не подняться, навсегда оставшись лежать где-то в столь же густой траве со свернутой шеей.
Командира обязательно найдут в самой ближайшее время, если уже не нашли. Не верю я, что никто из застопорившихся вояк не бросился за нами следом. А вот дальше им придется попетлять, ведь избавившись от усача, я развернулся чуть ли не в противоположную сторону, гоня флегматичного мерина что есть мочи. К тому же я опасно рисковал, чего брошенное вслед преследование, если ему дорога его шея, делать не будет. И лишь одно но не давало мне успокоиться окончательно.
Конь позволил снять с него сумки, удивленно глянул, мол, мож и расседлаешь тогда, но, заметив мое невнимание, фыркнул. Неплохо бы протереть его от пота, запоздало заметил я про себя, а животное, словно услышав мысли, поощряюще кивнуло.
— Не сейчас. — Сунул я ему в рот нечто сладкое. Тот аж поперхнулся от невиданной щедрости, проглотив угощение разом. И почему-то отошел бочком от меня на пару шагов. Что же я такого ему дал?
Седельные сумки были полностью укомплектованы — все мои вещи оказались здесь, а сверху них запас еды на три-четыре дня самыми свежими продуктами. Я вдохнул их запах, бросил в желудок кусок козьего сыра, запив чем-то сводящим зубы своей кислотой, понимая, что продукты как минимум сегодняшние. На такой же срок запас фуража, воды и крохотный отрезок времени, чтобы прийти в себя и принять некое решение. Последнего не было в сумках, но я его все же мысленно добавил.
Я устало откинулся на ствол дерева, прикрытый со всех сторон густым кустарником — врасплох, если что, меня здесь не застанут. И крепко задумался. Мне не нравилось то, что произошло, а главное, что происходит прямо сейчас. Я ничего не понимаю, но от этого за целую лигу грозит такими неприятностями, что лучше бы мне дальше находиться там, откуда я малодушием выполз. Номад так настойчиво уверял меня в том, что все нормально, что все позади и весь мир не замер в ожидании, что я ему поверил. Да чтоб этого Номада, ведь все выглядело именно так с самого начала!
И теперь — где я? В своих бесцельных и безумных скитаниях я окончательно потерялся. Внезапным письмом меня выдернули из баронства и вытурили из приграничного лагеря, снабдив напоследок всем необходимым, но в ту ли сторону я побежал? А какой, собственно, у меня был выбор куда бежать?
Командир прекрасно знал о содержании письма. Или, может, не знал, но догадывался, на раз раскусив мое резко сменившееся настроение. Вопрос в том, как давно
Меня снабдили оружием — кинжалом, провизией и направлением движения. Судя по всему я сейчас все еще где-то на границе, удалившись от нее не дальше пары лиг в сторону империи. Примерно между двумя военными приграничными лагерями, если я правильно разобрал пространные объяснения усатого офицера за одной из немногих бесед. Назад возвращаться нельзя, в другие лагеря соваться тоже категорически не желается. Пока я не пойму что происходит, придется вынужденно считать всех встречных пограничников врагами.
Слишком гладко я бежал, и это совсем не воля случая. Для моего побега все подготовили, а все остальное — представление, лишь пыль в глаза… Кому? Своим же подчиненным? А сомневаться в игре командира не приходилось ни мгновения: так глупо повести себя, передать мне оружие, подставиться, лишив солдат возможности остановить беглеца, а потом изображать самые искренние гнев и безумие, потерю рассудка. В то, что он пребывал в бессознательном состоянии, когда я его спихивал с крупа коня где-то там, под деревом, я ни за что не поверю. Значит, именно он помог мне бежать. Он рисковал, причем очень сильно. Несколько раз даже был на волосок от смерти, не удержи я клинка, которым он сам меня даже и не пытался ранить, и разрежь плоть чуть сильнее положенного. Жаль, что теперь не у кого уточнить насчет того, чья все же была инициатива седлать моего коня без меня же. Но, думаю, я и без этого знания постараюсь справиться.
Мне повезло с этим не к месту оказавшемуся в самой глуши командиром в этом лагере, в другом все повернулось бы зеркально иначе.
До ближайшего имперского города семь дней проторенного пути, которым мне, к слову, пользоваться теперь заказано. Значит, снова перелески, овраги и ноголомные скачки, что увеличивает время пути почти в два раза. При том, что еды у меня всего на несколько дней — три-четыре, которые при желании можно растянуть до шести. Не больше. Вглубь империи, учитывая, что деревеньки попадаются только вблизи военных лагерей, будет добраться проблематично.
С противоположной стороны вольные баронства, прямо здесь, буквально под боком — полная противоположность сложнодостижимого города на востоке. Миновать распитые вусмерть кордоны баронов раз плюнуть, однако никому из хозяев тех земель нет до меня какого-либо дела. Скорее наоборот, узнай они интерес имперских пограничников к моей персоне. Интерес империи к чему либо — всегда звенящая пузатым мешочком радость.
Есть еще нейтральная территория, там, дальше, между участками баронств. Некрупный городище-торжок, примерно в трех днях пути отсюда. То самое место, куда меня столь навязчиво и толкала некая сила в лице усатого командира приграничного гарнизона.
Все, больше доступных путей не было, или я просто переутомился, чтобы вообще хоть как-то соображать. Пару часов сна, а там, когда окончательно стемнеет, будет видно.
— Разбудишь. — Бросил я где-то бродящему в округе коню, подкладывая под голову подсумки.
Не знаю, почему я решил, что по темноту обязательно разберусь с дальнейшими планами. Странная навязчивая мысль, почти мгновенно погрузившая меня в короткий сон без сновидений.
ГЛАВА 2
— Итак, мы все-таки встретились.
— Собственно, да. — Не стал я отрицать очевидного.
Хозяин откинулся на спинку высокого, но на редкость неудобного кресла, вперив в меня взгляд моего же коня. Странно было как тон его речи всегда различается со столь безынтересными глазами. Пожевал губами, — воздух здесь приторно-сладкий, — и вдруг сплюнул. Прямо так, на ковер.
— Ну вот и к чему все это было? К чему те бесполезные поползновения? Я разве не дал тебе понять изначально, что не желаю тебе сколько-нибудь зла?
— Вы вообще не дали ничего понять, кроме того, что пытаетесь встретиться. Знаете, больше походило на западню.
— Дурак! — Выплюнул он слово и снова сплюнул, теперь уже в другую сторону. — Нервы ни к черту, — посетовал уже совершенно другим голосом, протягиваясь к непочатой бутылке алкоголя, — а еще ты их треплешь.
— Виноват, — развел я руками, хотя виноватым себя не чувствовал ни на грош. Скорее виноват в том, что в итоге все же попался. Но тут уж мне отвечать перед судом собственной совести. Могло ведь все повернуться иначе, могло, но закрутилось, завертелось и теперь я угрюмый, хоть пытаюсь и не подавать виду, сижу здесь. Пленник без пут и кандалов.
— Можно я задам тебе всего один вопрос? — Откликнулся хозяин, пригубив какого-то терпкого напитка от приторности которого сводило скулы даже на расстоянии в несколько метров. Мне выпить он даже не предложил.
— Валяйте!
— И все-таки, где же ты прятался все это время?
Он пристально вгляделся мне в лицо, и сложно описать те усилия, что я приложил, чтобы во весь голос не расхохотаться — у меня было на редкость хорошее настроение.
— В могиле! — Хлопнул я себя ладонями по коленям, с удовольствием отметив в глазах напротив первую блеснувшую эмоцию — смятение.
* * *
Ночь опустилась на землю внезапно — стоило мне на секунду закрыть глаза, а потом раскрыть, как вокруг все изменилось. Мой конь меня не разбудил, и я явно проспал еще какое-то лишнее время.
Тишина стояла как в гробу. Она была бы абсолютной, если у меня над ухом постоянно недовольно не сопели, а в последнее время, как повеяло противной прохладой откуда-то спереди, еще и настойчиво покусывали за куртку. В общем-то терпимо, пока конь не начал возмущенно ржать, совершенно отказываясь идти дальше.
— Замолкни! — Шикнул я на него, схватив за ноздри и развернув к себе. Животное нервно уставилось на меня одним глазом, но разрывать округу бесконтрольным ржанием прекратило. Моргнуло, отдышалось и вроде как удовлетворенно фыркнуло.
Старое, поросшее могучим бурьяном кладбище практически не различалось в темноте. Никакой ограды не было, ни тропинок ни даже холмиков. Однако явственно чувствовалось здесь старое захоронение по веявшей с этого места прохладе. Дорогу сюда если кто и знал когда-то, то давным-давно забыл, а помнящие не пользуются. Так мне показалось изначально, пока я не увидел в траве, наполовину вросшую в землю, расколотую деревянную лопату. Кто-то здесь был и, по всей видимости, пытался взрыть одну из неразличимых могил. Довольно неудачливый попался гробокопатель, разбив свой инструмент о подземный булыжник — своего он явно не добился.
Конь в очередной раз инстинктивно дернулся, поведя ушами.
— А теперь представь, как будут реагировать остальные лошади, если даже ты трусишь здесь как последний заяц. — Мои слова остались без внимания, потому что где-то невдалеке хрустнула ветка, заставившая животное испуганно присесть. — Вот об этом я и говорю. Выглядит лучшим местом, чтобы переждать самую бурю, ты так не считаешь?
Естественно, он так не считал.
— Побудем здесь, — отвел я его в густо разросшиеся кусты неизвестного мне растения, к крохотным плодам которого конь, ни тени не смущаясь, приступил мгновенно. Но на меня в ожидании продолжения все же поглядывал. — Побудем несколько дней, поэтому с нашим запасом провизии придется несколько стянуть ременные петли. Теперь еда будет только один раз в день — в обед. Нам нужно протянуть на этом месте как можно больше.
Конечно же, конь моих планов не понял, намеренно укусив мимо ягоды за ладонь. Чувствительно, но сам наглец в ответ только фыркнул, поворачиваясь ко мне крупом. В общем-то, если с едой дела действительно пойдут туго, всегда можно разжиться свеженькой кониной.
В то, что меня преследуют сейчас, я не верил — если я так нужен кому-то определенному, усатый командир придумает кучу отговорок, только бы дать мне время уйти. Примерно пару дней, необходимые для того, чтобы незаметно пройти по землям баронов. Ничего не мешает ему на эти пару дней изобразить какую-нибудь лихорадку, запретив валандаться своим бойцам по лесам одним, резюмировав это тем, что я опасный преступник, возможно, поджидающий их необдуманных действий в ближайшей рощице.
Можно долго думать и предполагать, строить догадки, тыкать пальцем в небо, но как оно там на самом деле мне все равно не узнать. Может, солдаты в одной упряжке с их офицером, может, лишь в роли пешек — не знаю, а на тех обрывочных знаниях, что мне доступны, и не узнаю. Но факт в том, что ехать навстречу с неким неизвестным, подстроившим все это, я не собираюсь. Да, он правильно рассчитал, что с таким скудным запасом еды я рисковать не стану, пытаясь углубиться в империю, но и на баронском торжище мне делать было нечего.
* * *
Активность поднялась на пятые сутки, когда конь с голодным прищуром в глазах поглядывал на мои ноги. Некто, заметивший мое слишком долгое отсутствие, противоречащее его задумке, решился на активные действия. Меня начали искать.
Хоть я никого ночью и не слышал, но однажды в относительной близости заметил несколько конных следов. Свои-то следы я как мог…, и по этому поводу особенно не беспокоился — вряд ли здесь найдется хоть один знающий свое ремесло следопыт.
А в следующие ночи, каковые в этой глуши славятся своей звенящей тишиной, я слышал далекие переклички, хруст палок и веток. Если раньше поиски возможно моего переломанного тела проходили исключительно днем, то теперь поисковые группы действовали круглые сутки. И, насколько я мог судить, силами не одного и не двух гарнизонов.
Но все это как-то обходило старое захоронение стороной — животные сюда идти боялись, а люди подсознательно чувствовали нечто, особенно не стремясь к пронизывающему даже днем холоду. Это я, безвылазно обитая здесь, попривык и сейчас не особенно обращаю на это внимание, но поначалу был просто вынужден укрывать своего коня попоной, сам греясь в его тепле.
О том, что было бы, сунься на это позабытое кладбище кто-либо из ищеек, я старался не думать. И так слишком сильно рисковал.
На десятый день чуть ли не голодовки конь требовательно толкнул меня лбом, а после того, как я отказал ему в дополнительной порции, встал на дыбы, слегка толкнув грудью. На следующий день он не получил пищи, поэтому к вечеру уже был куда более дружелюбен. Иногда мне кажется, что это наспех купленное животное выглядит поумнее многих разумных.
От безделья, перемежая с вылазками к и не думающей затихать вокруг бурной деятельности, я все же раскопал ту самую могилу, на которую позарился давешний гробокопатель. Вопреки всем ожиданиям, в полуистлевшем от времени деревянном гробу не оказалось ничего заслуживающего внимания. Даже трупа не было, если не считать таковым те обрывки на провалившемся дне некогда плохо сколоченной коробки.
Я уже начинал скучать, прекрасно понимая, что сюда никто так ни за что и не сунется, но и пройти мне самому мимо столь усиленных кордонов не удастся. Только не теперь. И уже ни в одну сторону, даже если бы я желал все-таки попасть на то злополучное торжище. Однако вскоре случилось то, что навсегда вернуло в этот мир меня прежнего. То, после чего я перестал смотреть на «состязание» моего знакомца Номада, в которое он меня зачем-то втянул, столь несерьезно. Это оказалась не игра в «состязание», совсем не игра. В который раз моя жизнь, не дожидаясь очередного витка спирали, круто повернула, сиганув на следующую по порядку нить.
* * *
Холодно, стало слишком холодно, еще успел тогда подумать я. Густой пар вырывался изо рта и ноздрей, оседая прямо в воздухе морозной крошкой. Одежда и волосы почти мгновенно покрылись тонкой инеевой коркой. Под ногами захрустело.
Истошно заржал мой конь, в панике вставая на дыбы. Ему вторили десятки голосов поодаль, как лошадей, так и их всадников. Нечто творящееся почувствовали почти все.
Я упал на колени, отчаянно пытаясь сохранить хоть сколько-нибудь вертикальное положение, когда земля заходила. Я принялся судорожно хватать ртом воздух, когда дыхание сперло, а все воздушные потоки словно остановили свое движение. Я застыл на месте, прикованный к земле какой-то потусторонней силой, а эта сила… как будто бы искала себя выхода. И тогда начался твориться неописуемый ужас — древнее, позабытое всеми кладбище ожило. Кладбище, границы которого все разумные пределы — везде, докуда хватало глаз. А там, где я сейчас находился, с выпученными от поглотившего меня мрака глазами, был его самый центр. Огромное древнее захоронение… Откуда оно здесь?!
Я не буду припоминать небылиц как пересилил себя, как поднялся, готовясь дать отпор любому врагу. И задышал я вдруг полной грудью, и замогильный холод лишь подогрел и без того кипящую кровь. Как засвистел, засверкал в лунном свете, меркшей время от времени луны мой кинжал, чиня добро и справедливость, возвращая мертвяков в мертвяково пристанище.
Нет, все это неправда. Вместо этого я словно провалился в какое-то небытие — воспоминания обрывочны, часто короткими урывками, запечатленными в голове недвижимыми картинками ужаса. Хрипя от ощущаемого нефизического давления, я стоял на карачках, едва удерживая вмиг обессилевшее тело на дрожащий руках. Все, что помню, это как ползу пару метров до вкопанной в землю лопаты словно до недостижимой цели. Как наваливаюсь на нее всем телом, и как проваливаюсь в открывшееся нутро рассохшейся могилы. Крышка хлопнула надо мной, земля погребла руки, ноги, засыпала за воротник. Последний раз, не в силах вдохнуть, я раззявил рот, глотая воздух вперемешку с землею, и потом все померкло — я провалился в то самое небытие.
* * *
Сознание приходило рывками. Сначала я понял, что мне нечем дышать, но не придал этому значения, потом появилась жажда, которую я тоже проигнорировал. А следом пришли воспоминания. И вот именно их заслугами я и дернулся. Раз, другой. Заскреб руками и ногами, пытаясь освободиться от навалившей сверху земли. Попытка вдохнуть жалкие крохи воздуха привела лишь к бесполезным режущим спазмам в горле.
Перевернуться в столь замкнутом пространстве, — коробке, — было невозможно, как и подогнуть колени или, хотя бы, упереть в дно руки. Все, что мне оставалось, это ткнуться начинающей паниковать головой в крышку гроба, надавив изо всех сил. Сначала самой головой, а потом, когда крышка чуть поддалась и треснула, расходясь в стороны, и всею спиной. Земля тяжелым потоком ринулась на меня, погребая под собою, но вместе с ней такой свежий живительный воздух!
Я наконец смог подогнуть конечности, остановив падающую землю таким образом, чтобы она в очередной раз меня не засыпала. Чувствовал себя титаном, подпирающим небо, зато титаном живым, не задохнувшимся, дышащим. Однако я замер, звуки заставили меня осторожничать, не торопиться, поостеречься. А вернее, их полное отсутствие. Тишина лежала над кладбищем такая, что ее без преувеличения можно было бы назвать мертвецкой. Холодной, замогильной — все эти эпитеты были бы теперь к месту.
Когда все же выбрался из ямы, рискнул, то обнаружил что на свете сейчас самый разгар дня. Собственно один шальной луч и заставил меня двигаться дальше, придав мне уверенности. Вокруг все оставалось по прежнему: тот же вид, та же небольшая поросшая невысокими деревцами и кустарником долинка, в которой приютилось такое огромное по своим размерам кладбище. Казалось будто земля банально просела под несчетным количеством здесь погребенных.
И ничего… Ни единого следа ночного происшествия. Земля словно девственно нетронута: не взрыта, не перевернута. Трава продолжала расти там же, где и росла, камни лежать там же, где и лежали, и только лишь в том месте, откуда я выбрался, зияла раной развороченная могила.
Прохлада, едва заметный кисловатый запах и тишина. Гробовая тишина из них всех была самой страшной, потому что с первыми двумя я уже встречался. А еще было страшно тут оставаться, помня какие тайны сегодняшней ночи хранит в себе это место.
Я потянул носом воздух — совсем слабый запах гнили, и ведет он, кажется, прямиком на юг. По моему мнению — лучший ориентир и направление, потому как я уже подозреваю, что встречу у финала.
* * *
Приграничный имперский лагерь, за одну единственную ночь порастерявший весь свой гарнизон. Никакого побоища в привычном смысле этого слова не было. Была драка, кратковременный бой с превосходящим по численности противником с закономерным итогом. Против той силы у солдат не было ни единого шанса.
Я задумчиво провел ладонью по шее коня, тоже столь же задумчивого. Меня он нашел сам, вышел на половине пути навстречу и сначала даже не поверил собственному счастью. Странно, но его мертвяки не тронули, а сам он не нарывался.
— Может, дать тебе имя, как считаешь?
Конь фыркнул мне в ухо.
— С другой стороны я никогда не даю имена своим временным лошадям. Но ты ведь не лошадь, верно? Ты ведь конь.
Он с самый серьезным видом кивнул, кося на меня одним глазом.
— Хоть и мерин.
Он негодующе заржал, попытавшись укусить меня за ухо. Я, улыбаясь, потрепал его по холке, прекрасно понимая, что никакого имени ему давать не буду, потому как вскоре мне от него придется избавиться. Надеюсь, продать.
Требовалось зайти в лагерь, озаботиться едой и снаряжением в дорогу, но мы стояли на самой границе, не смея ступить дальше. Потому как знали, что дальше просто невыносимая вонь смерти, уже не раз заставляющая мой пустой желудок припадочно биться в конвульсиях, пытаясь исторгнуть из него то, чего там уже давно не было.
Сладковато-кислый запах аммиака.
— Запах мертвечины есть, — задумчиво проговорил я, — а мертвечины нет.
ГЛАВА 3
— Что ты выращиваешь?
Ее комната была похожа на цветник, и тем удивительнее было, что вырастила она все это своими собственными руками. Доступ сюда имели лишь немногие, и приятно осознавать, что я принадлежал к их числу.
— Базилик. — Пропела она, на короткий миг обернувшись ко мне. Я был уверен, что она улыбается.
Комната была полна света, но там, где стояло интересующее растение, как будто оказалось его средоточие. Я попытался увидеть то, что видела она.
— У него листья красивые, на стройной ножке. — Произнесла она таким тоном, словно это должно было мне многое прояснить.
Я критически оглядел кучу тонких стебельков, вымахавших из земли на целый палец и сейчас жадно тянущихся к свету. Некоторые из листьев оказались болезненно завернуты: то ли от недостатка влаги, то ли от ее избытка.
— Красиво ведь, правда?
— Красиво. — Согласился я.
Обыкновенное растение, ничего выдающегося. Наверняка я чего-то не понимаю.
— Я даже и не подозревал, что твоему приятелю на самом деле удалось вытащить тебя из той ямы, где ты скрывался. Подумать только, он вытащил тебя на свет! Ты бы видел, как он веселился, едва ли не прыгал от радости и удовольствия, что тебя удалось уговорить. Благо, я вовремя обнаружил, с кем он ведет свою «тайную» переписку.
— Так значит, это именно вы — та самая таинственная фигура, с которой мой знакомец затеял некое пари?
— Именно так. Только ты не понял главного — истинной цели нашего спора.
— Ну теперь-то я понимаю, — хмыкнул я.
— А понимаешь ли ты, насколько опасно тебе было там оставаться?
— Не особенно. Признать честно, я так и не разобрал, от чего меня пытались предостеречь.
Он нахмурился, вперив в меня задумчивый взгляд и покусывая губы. Вероятно, пытался определить, насколько я блефую.
— Но неужели то письмо с призывом было от вас?
— Естественно! Проигрывать вот так запросто я ни за что не собирался!
* * *
Дорога от Далии к Криметрику занимает по разному в зависимости от времени года, погодных условий, разбойничьей составляющей в пути, а также от простого направления. Как минимум, к Криметрику ведет два качественных проторенных пути — тракта, еще с десяток большаков и целая куча разветвленных во все стороны проселочных дорог. Тракты наиболее оживлены и безопасны, с раскиданными по всей длине почтовыми и торговыми постами, а также постоялыми дворами, практически никогда не пустующими. Но самые используемые не значит самые короткие. Выгибаясь кривыми дугами, они захватывали все мало-мальски значимые населенные пункты, что для торопящегося путника было не с руки. Как правило, он был вынужден съезжать с самой крупной дороги, ища путь попрямее и покороче. Не всегда разведанный, а потому небезопасный.
Трактом точка назначения достигалась двумя-тремя месяцами торопливого скача, остальными же путями это время сокращалось до месяца. А если рискнуть, как следует приплатив проводникам по незнакомым территориям, то все и вовсе ограничивается двумя неделями.
Однако не всегда все упирается во время, и иногда бывают моменты, когда, выбирая из двух, выбор падает на наиболее протяженный путь, — иначе не поступить. Кому какое дело до лишних пары-тройки дней, если в итоге ты рискуешь не доехать туда, куда так стремишься? Поэтому мне рассчитывать на чудо не приходилось. Да, я знал, что путь долог, как и то, что рисковать на нем все же не следует. И хотя две жалкие недели такого длинного пути и кажутся чем-то несерьезным, и в них хочется верить, задним умом я все же понимал, что это невозможно. Только не в нынешнем случае знакомых действующих лиц.
Тридцать дней я еще пойму, сорок пять — самый оптимальный, по моим прикидкам, срок, но вот четырнадцать дней не вписываются ни в какие рамки. Все, что ниже одного месяца ожидания, лишь подозрительная и неправдоподобная активность.
Я прошел плотными шторами, удивительно чисто выстиранными как для не столь крупного городка и всего пары значимых харчевен. Одна из них была на самой краю, приглашая к себе под крыльцо самый необычный сброд, при условии, имевший достаточно денег. А вторая, на которую и пал мой взгляд, стояла прямо позади административного дома. цены здесь кусаются, но чрезмерной ненужной мне активности все же поменьше.
Кривой стол буквой «П» мог вместить, кажется, до пятнадцати человек, однако прямо сейчас за ним сидел один-единственный человек — ранний посетитель сонного заведения.
— Надеюсь, ты обеспечен деньгами, — присел я на лавку напротив него. — Снять… здесь стоит приличных средств.
… раздраженно махнул рукой, удостоив меня взглядом невероятно невыспавшихся и уставших глаз.
— Должна быть серьезная причина, по которой ты выглядишь столь скверно.
Номад мою пробную иронию не оценил, вновь наградив взглядом тех темных глаз исподлобья. Наверняка у него на языке вертелась целая куча оправданий, выраженная преимущественно в нелитературной форме, но озвучить он их не успел. Только раскрыть рот. Спас ситуацию не церемонящийся корчмарь, без какого-либо предупреждения вломившийся к нам в… Номад тут же нашел для чего применить столь так удачно раскрытый рот.
— Ты куда прешь, скотина? Тебе за что плачено?
— Он глухой, — перебил я набирающего дыхательную мощь знакомца.
— А…
— Однако все понимает.
— Э…
— К тому же немой.
— О…
— Я сам закажу. Чего ты хочешь?
— Н-не знаю, чего-нибудь сытного. На твой выбор.
Я изобразил несколько пассов руками корчмарю, повторив себе такой же заказ, а также что-нибудь выпить, на его, корчмаревское, усмотрение. Сам я здесь еще спиртное не заказывал, поэтому руководствоваться особенно нечем — жалкие солдатские средства, найденные на том побоище, просто не позволяли жить на широкую ногу.
— Давно ел в последний раз? — Поинтересовался я, когда хозяин заведения, удовлетворенно кивнув, вышел.
— Пару дней назад. Кажется, еще в дороге.
Он едва держался, чтобы обессилено не завалиться прямо на стол. Все, на что хватило моего раздобревшего за пару лет знакомца, это добраться сюда в самые кратчайшие сроки, не свалившись с лошади. Все. Теперь он совершенно никакой — хоть приходи и бери его голыми руками, буде кому он нужен.
И все же интересно, что заставило этого никогда не изменяющего себе товарища так отчаянно мчаться в такую даль?
— Все настолько серьезно? — Прежде чем поинтересоваться, я дождался пока не особо расторопный, но и не затягивающий сверх меры корчмарь принесет нам еду, наблюдая, как Номад зверски накинулся на баранье рагу.
— Угу, — кивнул он, давясь мясом и овощами. Не слишком содержательным у нас вышел диалог, хотя с моей стороны требовать большего наверное не стоило.
А он постарел, с каким-то отстранением понял я. Глубокие морщины вокруг глаз и губ, седина на висках, тяжелый взгляд и скованные движения — и это не признаки чрезмерной усталости, это явное следствие его работы. Даже не верится, что за такой короткий срок можно так кардинально измениться внешне. Хотя… неизвестно как со стороны выгляжу я сам.
— Ты получил мое письмо до востребования? — На этот раз я был умнее, и продолжил задавать вопросы только после того, как он отставил быстро опустевшую миску в сторону, потянувшись к кувшину.
— В противном случае меня бы тут не было.
Номад с сожалением оторвался от кувшина, запах содержимого которого он сумел только вдохнуть, вытащив из сумки сверток и бросив передо мною на стол. Я быстро глянул, убедившись что на бумажке, написанной моею рукою, лишь время и место.
— И, предваряя твой следующий вопрос, — разливая, продолжил он, — конверт был не вскрыт. Что это еще за пойло? — Поморщившись, он с омерзением взглянул в свою кружку.
Я осторожно понюхал, попробовал на язык и даже глотнул. Чуть терпкая сладость разлилась во рту.
— Обычное вино, — пожал я плечами. — Слегка разбавленное водой.
— Разбавленное?! — Номад сделал вид, что ему плохо.
— А ты хотел надраться прямо с утра?
— А, ну тогда другое дело. — Он подлил себе еще, глотнув уже с явным наслаждением. — Давно меня здесь поджидаешь?
— Всего пару дней.
— Значит, я вовремя. — Расслабленно выдохнул он, отирая губы и подбородок.
— Вовремя, — кивнул я, перегибаясь через стол. Приятель, явно что-то увидев на моем лице, отшатнулся назад. — Даже слишком вовремя. Не объяснишь, что происходит?
— Сядь. Да сядь ты, говорю тебе. — Я медленно, не отводя от него взгляда, опустился обратно на лавку. — На тебя охотятся.
— Да неужели? Даже не буду спрашивать кто, потому как это и так ясно. Лучше скажи мне, кто в этом виноват? А, Номад?
Кое-что, наверное, не поменяется никогда — его губы негодующе задрожали, а сам он покраснел, словно задержал воздух и отказывается его выдыхать. Чрезмерное чувство вины за содеянное. Да уж, приятель, в таком состоянии я видел тебя всего пару раз, и даже боюсь предположить, что же такого ты там наворотил.
— Это получилось случайно…
Он произнес это настолько тихо, что мне показалось, будто послышалось. Однако переспрашивать я его все равно не стал — не настолько я еще озверел, чтобы добивать измотанного и физически и морально моего единственного знакомца.
— Тебя рыщут, и ищейки будут в Криметрике уже со дня на день — им известно, что ты сбежал из-под охраны.
— Охраны, вот как? — Моему изумлению не было предела. — Мне казалось, что ты направил меня к обезлюдевшей деревне, а на деле оказалось, что под бдительную охрану, должную не дать мне свалить из той лишенной цивилизации глуши? Это ты хочешь сказать?
— А еще то, что ты там должен был томиться до тех пор, пока бы за тобой не приехали. Притом, что твой эскорт уже был в пути. Да, Марек, все так и было. Я сам об этом узнал не так давно. И меня и тебя через меня обвели вокруг пальца — им просто нужно было выманить тебя из норки.
— Зачем? К чему? — Я искренне недоумевал. — Откуда у них столь баранье упорство? Все кончено! Давным-давно! Уже ничего не вернуть! Зачем?
— Это ты мне скажи зачем? А, Марек? — Подражая мне, закончил он, положив голову на сложенные домиком пальцы. — Тебе виднее.
Не помню, как полупустой кувшин оказался у меня в руках, громко зазвенев осколками о стену. А я стоял и тяжело дышал, провожая медленно уплывающую с глаз пелену.
— Я заплачу за это. — Произнес мой приятель, торопливо допивая остатки из своей кружки, пока меня снова не накрыло. Эта моя вспышка его словно совершенно не задела.
— Успокоился? — Прямо взглянул он мне в глаза, когда я сел. — Тогда слушай меня внимательно. Несколько часов у нас есть, времени примерно до вечера, может, до завтрашнего утра. После — мы должны как можно скорее отсюда смотаться, желательно в разные стороны. Они знают, что ты здесь, они идут по следу, а след обязательно приведет их сюда, — он постучал пальцами по столешнице, — в это самое место. Погоня должна продолжаться, запомни это, продолжаться до тех пор, пока они не потеряют интерес.
— Два года, — напомнил я. — Целых два года он у них только теплился.
— Все может быть, все может случиться, — как-то рассеянно произнес в ответ Номад.
Мы помолчали. Не знаю каким шестым чувством прочувствовал произошедшее корчмарь, но перед нами на столе появился еще один кувшин подобного напитка. Мы оба, уныло взглянув, к нему даже не притронулись.
— Ты преодолел весь этот путь за столь короткий срок только для того, чтобы сказать мне это?
Он покачал головой.
— Не совсем. Это лишь одна из причин. Что ты собираешься делать?
— Не уверен, пока еще не решил.
— А я, кажется знаю.
Я поднял на него взгляд.
— Это упрек?
Номад лишь задумчиво пожевал губами.
— Хорошо, у тебя есть что предложить? Какое-нибудь решение получше?
— Есть, — буркнул он, вновь принявшись пережевывать фантомную пищу. А я же, не собираясь играть с ним в гляделки и недосказанности, схватил кувшин, махнув ему на прощание. — Да погоди ты!
Взгляд назад показал, что он все еще не мог подступиться, однако на мой невысказанный вопрос кивнул на вход. Я медленно отодвинул одну шторину, выглянув в зал — ни у нас на пороге, ни вообще в харчевне никого не было. А хозяин просто не мог подслушать.
— Ну?
— Продолжай заниматься тем, чем занимаешься.
Я покачал головой.
— Я люблю конкретику, но то, что предложил ты, слишком расплывчато, что позволяет допускать слишком многие вольности. Не слишком много «слишком»?
— Я хочу, чтобы ты не забывал про состязание, и продолжал заниматься его разгадками. Это очень и очень важно.
— Нет никакого состязания.
— Ч-что? — Вдруг опешил он.
— Ты водишь меня за нос. Хотелось бы понять, к чему? Что тобою движет, раз ты столь наплевательски стал относиться к нашей давней дружбе?
— Ты не понимаешь, о чем говоришь…
— Может быть. Но от это «состязания» разит скверной за целую лигу. Я видел то, что не видел никто другой, я могу об этом судить. Ответь мне, с кем ты состязаешься?
Неуверенно закусывая губу, он вдруг как-то сдулся, поник под моим требовательным взором. Я ведь приехал сюда в кратчайшие сроки, я ведь рисковал, как ты так можешь думать? — словно укоризненно твердила вся его сгорбленная фигура.
— Ты же видел обезлюдевшую деревню. Я вытащил тебя из твоего небытия, предложил хоть что-то!
— Ты предложил мне какую-то игру — так я это расценил, а вместо этого втянул в пляску со смертью. В погоню от преследователей, которую я похоронил два года назад.
— Тебе напомнить, чем ты занимался эти два года? — Буквально прорычал он на меня. — И чем нынешняя ситуация отличается от, допустим, полугодовой давности? А? Сейчас ты хотя бы пребываешь в собственном уме и твердой памяти, а не лежишь в канаве, пропитый вусмерть! Сколько раз из той канавы ты встал, только чтобы залиться по самые гланды бормотухой, чтобы, как обычно, вновь прийти в себя в очередной провонявшей помоями канаве?
Он вдруг вскочил, вырвав у меня из рук кувшин разбавленного вина. Этот повторил путь первого.
— Ты отлично спрятался, ничего не скажешь! Зато найти тебя так и не смогли, ха-ха!
— Ты сам это сказал.
— К черту! Псам под хвост эти твои два года! Так нельзя, это не жизнь! Сейчас ты хотя бы живешь!
— Скорее, выживаю.
— Не суть! Теперь ты думаешь, ты анализируешь, ты представляешь творящееся вокруг тебя. Ты способен принимать решения, бороться, ты способен дать отпор! Вот это — жизнь — быть и существовать, а не просто быть! Что… почему ты смеешься?
— Удивительно слышать подобные речи от человека, много лет назад зарекшегося идти на какой бы то ни было риск. И теперь он, утративший форму, прямо сейчас учит меня философии жизни.
— Лучше прожить месяц в постоянном стремлении к своей цели, чем сотню лет бездумно глядя в небеса, — тихо проговорил он.
— Я знаю. Знаю, Номад, ведь это я сам когда-то тебе сказал.
Солнце медленно опускалось за высокий шпиль здания имперской купеческой гильдии, оказываясь проткнутым насквозь. Длинная тень легла на мостовую, коснулась далеких прилавков, указывая подошедший окончанию торговли час. Редкие в это время года в Криметрике базарщики неспешно принялись собирать поклажу. Пока еще светло, но очень скоро закат, а выезжать по сумеркам чревато неприятностями, если верить одной крестьянской поговорке. Суеверия до добра не доводят, — если верить другой.
Я сидел под навесом, бросая нервные взгляды на прохаживающих без дела стражников, лениво понукающих таких же ленивых торговцев. Сонный город, проездной — никто здесь не задерживается больше пары суток. До закрытия ворот оставалось совсем ничего — как взбредет в голову отвечающим за это караульным, по своему определив достаточность упавшей на их плечи темноты. Номад обязательно сказал бы, что торопиться некуда, и раз его до сих пор нет, то он и вправду так считает.
Пора в путь, и я жду нашего с ним разговора, пожалуй, с каким-то извращенными романтизмом. Личная встреча — не запаздывающая корреспонденция, и первую я всецело предпочитаю второй. Когда-то давно, так давно, что кажется уже неправдой, Номад говорил мне, что не нужно ни таланта ни особенного воображения, чтобы писать собеседнику письма и справляться о его настроениях. Письма не требуют мгновенного ответа, говорил он мне, отчего сочинительство без особых проблем можно отложить на потом, скажем, после продуктивного променада в обществе приятной дамы. Бумага с пером никуда не денутся, а ежели чернила засохнуть, то всегда можно откупорить новые. Всегда и все упирается во время, и при переписке в особенности. И чем этого времени на ответ больше, тем большую вычитку и редакцию пройдет письмо.
Что же до разговора с глазу на глаз, то тут уже совсем иная история, зачастую противоположная, зачастую обратная. Оба, и ты и собеседник, ограничены во времени на ответы, на формирование мысли и облечение ее в надлежащую форму. Такое не по мне, качал он головой, я люблю размеренность, и готов подождать в случае необходимости.
Но куда же этот Номад так надолго запропастился?
— Хорошо, хорошо. — Мой знакомец, сдаваясь, выставил перед собою ладони. — Чего ты хочешь? Только прошу, требуй что-нибудь такое, что я смогу тебе дать.
— Во-первых, — начал я, а он страдальчески закатил глаза, — мне нужна лошадь, если ты не хочешь, чтобы я скрывался от преследования пешком.
— А что с твоей лошадью? Ты ведь не мог добраться сюда от самой границы своим ходом? Я еще понял, если бы ты двинулся к ближайшему городу, но Криметрик…
— Продал, — коротко бросил я, не вдаваясь в подробности.
— А-а… — Протянул он, казалось бы, безынтересно, но по глазам было видно, что он доволен таким простым запросом. — Ну ладно, лошадь так лошадь — без проблем. Что там дальше.
— Ну, а во-вторых… — Я бросил мимолетный взгляд на расстеленную на столе в харчевне карту, по которой мы решали дальнейшее направление бегства. По обоюдному согласию мы решили разделиться. — Нам с тобою все равно несколько часов ехать в одном направлении…
— Мы можем двинуться разными путями! — Поспешил встрять знакомец, понимая, к чему я клоню. — Мне все равно на северо-восток, а тебе же лучше двигаться вглубь империи, ну же, как мы планировали!
— Нам с тобой все равно несколько часов ехать в одном направлении, — упрямо повторил я, уловив мимолетный вздох огорчения собеседника, — поэтому мне хотелось бы услышать все то, что я должен был услышать ранее, но по каким-то причинам не знаю до сих пор. Так называемое пари.
Номад, понимая, что этого разговора и следующих из него объяснений все равно не избежать, обреченно кивнул. Кажется, он уже жалел, что поспешил лично явиться на встречу со мною.
— Это еще что такое? — Возмутился я, возвращаясь мыслями к реальности.
— Лошадь твоя, — немного смущенно пожал плечами Номад. — Ты же любишь смирных.
— Это конь!
— Это мерин!
Мой конь, гаденько ухмыляясь, смотрел на меня.
— Ты купил мне моего же коня, — в который раз за последние полчаса попенял я знакомцу.
— Извини, но откуда мне было знать, что этот — твой? За него и просили меньше всего.
— И все равно ты переплатил почти в полтора раза.
— Если так, то шел бы сам на рынок и выбирал! — Буркнул он, выезжая на пол крупа вперед.
Мой конь сам с ним поравнялся.
— Мне на рынке появляться не стоило, и так засветился с продажей. Странно было бы: человек сначала продает, а потом задорого выкупает скакуна назад, не находишь?
— Не так уж и страшно, — пожал плечами Номад. — Продал твоего скакуна один человек, купил второй — ничего подозрительного.
Наверное, он прав, но я уже однажды поверил его словам, что по мою прикрыта лавочка под названием охота. И, как видно из происшествия на границе, поверил напрасно.
— Если не учитывать того, что эта пара, — покупатель-продавец, — сообщники. Но хватит, действительно, ничего критического не произошло — просто я не привык настолько надолго задерживаться с одними и теми же скакунами. Ведь невольно к ним начинаешь привыкать, привязываться… Совершеннейшая бессмыслица. И не надо так многозначительно хмыкать, меняя лошадей на каждом встречном посту. Скольких ты загнал по дороге сюда? И что, не чувствуешь жалости хотя бы по одному? То-то же, а ведь это были абсолютно чуждые тебе животные. Как, все равно не убедил? Тогда последнее: представь своего Арлекина, которого ты благоразумно оставил в конюшне, испускающего последний дух. Хрипящего, мокрого от скачки, с пеной изо рта.
— Да ты… Да как ты смеешь! — Негодующе взорвался он, засопев на всю округу.
— Теперь ты понимаешь, — удовлетворенно кивнул я. — А теперь давай о деле — о том, на что ты меня подписал, а я, доверяя тебе, бездумно согласился.
— Что ты знаешь о Тварях?
— Каких еще тварях?
— Нет, не так — Тварях.
— А есть какая-то разница?
— Есть, и немалая.
Перед глазами пролетели картины той страшной ночи. Обрывочные, но оттого не менее ужасные. Как земля ходит ходуном, как неведомая сила сковала мое тело, как мертвяки лезут из-под земли…
— Ничего не знаю, — пожал я плечами.
— И что, даже не слышал?
— Нет.
— А как же всевозможные сказки, басни и баллады?
— Я думал, что подобный фольклор — намеренное сочинение заведомо известных небылиц. Разве нет?
— Сказка — ложь, да в ней намек! — Наставительно поднял указательный палец мой приятель.
— Скажем так, Твари существуют.
— Где?
— Э-эм, ну везде…
Я демонстративно огляделся. Редкие деревца по правую сторону и долина с плавным понижением по левой. Ни единой живой души вокруг не было.
— Что-то не заметно… Эй, конь, — я взглянул вниз, — может быть, ты — Тварь?
Я легонько пнул его каблуком, за что чуть не поплатился укусом в колено.
— Не-а, действительно нету.
— И все же они есть. — Упрямо стоял на своем Номад.
— Да? И как же они выглядят?
— По разному…
Я вновь взглянул вниз. Конь взглянул вверх. Судя по взгляду, лучше его пока не понукать.
— Слишком размыто. Не находишь?
— Уф, я знал, что это будет сложно… Сейчас, погоди. Дай собраться с мыслями. А потом, когда начну, по возможности не перебивай. Письменно выражать свои мысли несколько легче, чем устно, но раз уж ты требуешь прямо сейчас… — Он умоляюще глянул на меня, но я лишь упрямо покачал головой. — Ладно. Тогда жди.
Следуя его долгому и путанному рассказу, часто перебивающемуся какими-то историями и ссылками на некоторых значимых людей, имена которых мне не говорили ни о чем, и самые закрытые архивы выходило следующее. Давным-давно почивший император Костиций, чье имя всегда вспоминается в упряжке с самыми неадекватными решениями и в некотором смысле даже стало нарицательным, некогда устраивал состязание. Вернее, «Состязание». Да-да, то самое, о котором упоминал мне Номад, но которое в данный момент не имеет под собою совершенно никакой силы.
В те времена, датируемые четырехсотлетней давностью, самые отъявленные негодяи всех мастей под предводительством курирующих их чиновников пустились в таинственные поиски неких Тварей. Условиями состязания стало то, что для его выполнения необходимо было предоставить часть тела этого так называемого уродца — часть тела, точно указывающая на его принадлежность к Тварям. И полились настоящие реки крови. Каждый убивал каждого. Один невинный вырезал сердце у другого невинного, который еще не так давно жаждой награды вырезал целую семейную чету, слишком счастливую как для людей, по его мнению. Каждый пытался найти изъян у другого, а не находя, придумывал. Дети не выпускали из рук ножей, матери зубами рвали жилы на чужих шеях, отцы нападали сами, только чтобы выжить. Никто не ложился спать, как следует не озаботившись защитой, никто никому не доверял. Тьму предпочитали свету, упреждающую агрессию добрым намерениям.
Историки называют те времена годами смуты, и лишь чудо удержало все от полного краха империи и свержении династии Аустиев. И этим чудом были наспех сколоченные верхушкой империи карательные отряды, не давшие вершиться полному беззаконию и впредь. Негодяи безжалостно убивали людей, карательные отряды выслеживали негодяев, империя платила карателям звонкую монету. На какой-то миг воцарилось относительное спокойствие, что при том количестве дыр у Состязания, которое объявил император, можно было считать счастливыми временами. Крестьяне поутихли, разбойники затаились, каратели особенно не наглели. Но лишь до одного, все изменившего момента.
Что сподвигло императора Костиция на открытие охоты на ведьм, вурдалаков и вампиров, что заставило его думать, будто сирены, колдуны и прочие ненормальные твари существуют, никто е знает. Возможно, ему подсказали некие доброжелательные умы, пытающиеся подобным образом сокрыть некоторые махинации с имперской казной, а возможно, что в приступе бесконтрольных идей он просто тыкал пальцем в небо, пока одно из созвездий не сложилось для его одурманенного взора в нечто сверхъестественное. В любом случае, эта мысль зародилась в его мозгу, вынужденно выплеснутая в народ широкою рукою государя.
Пред очи светлейшего ложились пятикамерные сердца, идеальной чистоты ярко фиалковые глаза, нервущиеся волосы, связанные канатом, шестипалые ладони. Костиций кивал, улыбался, щедро одаривая носителей этих ненормальностей, и ставил их в пример остальным. До тех пор, пока все эти поделки и редкости не отошли вдруг на второй план, хоть и в роли доказательства, но все еще считаемые небылицей. Все изменилось, когда к императорскому двору доставили мертвую неразделанную тушу человекоподобного нетопыря. Огромный, рост под три метра, тяжелый, как туша целого быка, он произвел неизгладимое впечатление. Особенно когда связанный, местами проткнутый насквозь обломавшимися рогатинами, вдруг заговорил.
— О чем, что он сказал? — На этом моменте я не выдержал одностороннего повествования.
— А я откуда знаю, — Номад глянул на меня как на сморозившего непростительную глупость человека.
— Тогда к чему все это было произнесено?
— Суди сам, так как после этого тщательно затираемого события всякие гонения мистических Тварей мгновенно прекратились. Состязание резко завершилось строжайшим непродолжением под угрозой, ни много ни мало, казни.
История врет, подумал я, сотню раз перечитана и переписана в угоду новой действующей власти. Старики еще помнят, но только то, что было на их веку. Все, что дальше — прах времени, доверенный ветхим страницам, а страницы имеют свойства истираться, и чернила на них истлевать.
— С тех пор, как утверждают хроники, император Костиций заметно поумнел. Стал более, так сказать, осмотрительным.
— Ну-ну. — Откликнулся я, думая о своем.
Номад странно взглянул в мою сторону, но не успел я перевести взгляд, как он уже рассматривал что-то в придорожной яме. С таким явным интересом, что сомневаться в его честности не приходилось.
— Это проверенная информация. Из таких же источников.
— Кто твои источники?
Он не ответил.
— Мне нужен доступ в архивы.
— Зачем тебе? — Его глаза напоминали два блюдца. — Извини, не могу.
Некоторое время мы ехали молча, но я, помня про то, что скоро наши пути разойдутся, просто не мо позволить ему молчать.
— Ты подписал меня охотиться на Тварей?
— Ни в коем случае! Просто наблюдать и делать выводы — вот и все.
— Кому это нужно?
— Тому, кто вновь попытался организовать нечто вроде Состязания.
— Некто влиятельный.
— А как же.
— Вдохновившийся свершениями великих безумцев прошлого.
— Ну-у, вроде того.
— Значит, есть и другие охотники?
— Охотники — не совсем точное определение. В отличие от событий при императоре Костицие, здесь упор делается не на поимку или убийство Твари, если таковая найдется, а на простое наблюдение.
Какой-то бред, прескверно хмыкнул я про себя, а для знакомца улыбнулся.
— Интересная… м-м игра, — протянул я.
— Я знал, что тебе понравится. — Удовлетворенно кивнул Номад, принявшись насвистывать какой-то незатейливый мотивчик.
Номад откровенно лгал, придумывая мне эту историю, и я не понимал, зачем ему это нужно. Теперь-то, вспоминая его давешнюю лекцию об отличие беседы устной от беседы письменной, я мог с самым уверенным видом сказать, что вот эта вот история у него была заранее припасена.
— Дерьмо собачье! — В сердцах ругался я, меряя шагами поляну.
Конь делал вид, что ничего не происходит, что все так, как и должно быть, с самым флегматичным видом жуя какую-то травку. Хотя нет-нет, да временами опасливо позыркивал в мою сторону, перебираясь чуть подальше, если я ненароком приближался.
(тут он развернулся в обратную сторону, свернув куда-то в дери и спустя какое-то время выеал на дорогу, по которой поехал Номад. Там он увидел едущих по его следу охотников. Пробрался в город (Самака), где перебил этих охотников, по пути спася жрицу ночных утех. Но выбраться из города так и не сумел — его схватили, кинув за решетку, откуда его некто выкупил. Это оказались две новые партии охотников, яростно решающих кому он, собственно, достанется)
Я вошел в город налегке, ни сумки, ничего. Лишь меч в кольце на боку да небольшой, но туго набитый кошель — дар Номада. Въехал в ворота на телеге какого-то бывшего не прочь попутчику крестьянина, бросив стражу на воротах чуть большую плату за вход, нежели была установлена городом, отчего тот мгновенно потерял ко мне всякий интерес. И уже оказавшись в самом городе, не доезжая до привратной площади, распрощался с простоватым извозчиком, двинувшись переулками.
Где мне искать моего приятеля? Этот вопрос я задавал себе целую кучу раз, так и не придя к наиболее верному ответу. Мне казалось, что я знал Номада хорошо — как-никак мы с ним были довольно близки весьма долгое время, прежде чем я…. пропал. Однако сейчас даже не предполагал его возможного местонахождения — он мог быть где угодно в городе. Впрочем, покинуть его он теоретически тоже мог. Но лишь теоретически.
За эти годы мой знакомец слишком сильно размягчал и обрюзг. Я помнил его прежним, подтянутым и поджарым, неугомонным. Это не значит, что теперь у него висят пару лишних подбородков, совсем нет, просто в понимании относительно него «сильно» применимо даже при небольших переменах. Как итог: двухнедельный марафон истощил его просто катастрофически, и, думаю, именно от этого мне и стоит начинать искать.
Расплатившись за какой-то недурманящий напиток, что мне принесла подавальщица со странным выражением на лице, я задумчиво вертел в руках подарок Номада — кинжал. Не слишком длинный, не слишком широкий, хорошо сбалансированный и без излишков. Разве что рукоять выглядела немного вычурной, что тем не менее не мешало ему лежать в руке.
Мой приятель здесь, несомненно, в самом городе. Угроза преследования вряд ли могла заставить его нестись без оглядки дальше, а значит, искать следует здесь. Притом, искать с осторожностью, помня, что где-то на улицах Самаки бродят рыскающие по его следу охотники.
Припоминая встречу с ними в пути, я могу с уверенностью сказать, что они меня просто не заметили. Проскакали мимо, мимоходом оценив мою фигуру, но ничего не предприняли, так как просто не ожидали подобной встречи. Мало ли на дороге обыкновенных путников, чтобы присматриваться к каждому, тем более, если они искали совершенно иного?
Номад здесь и где-то прячется, помня о том, что по его следу тоже идут. Я уверен, залег на дно на несколько дней, пока все не уляжется, а о его пребывании здесь не намекнет даже самая плешивая собака. Уж что-что, а это мой приятель умеет — ко времени затаиться. Так что найти его может оказаться весьма проблематично, даже мне, знающего его повадки.
Я стоял и с немым недоверием смотрел перед собою.
Прошло совсем немного времени, как я покинул пользующийся не самым живым спросом трактир, выдвинувшись на поиски. Приходилось осторожничать, помня, что я не единственный в этом городе, кому требуется мой приятель, обходясь лишь своими собственными силами. Каждый проходимец потенциальный болтун, каждый попрошайка — доносчик.
Но зря я шастал по всем самым темным переулкам и заглядывал во все самые грязные приюты — цели моих поисков там не оказалось. Зато привлек ненужное внимание, благо обросший и немытый я производил впечатление какого-то бродяги. Сейчас многодневная скачка, отсутствие постоялых дворов и мое полное игнорирование всех бань в Криметрике сыграли свою положительную роль.
Тюрьма Самаки ничем не отличалась от тюрем любого другого города. То же полуподвальное помещение с караулкой на входе, такие же камеры, преимущественно одиночные. Была чуть дальше общая, довольно неплохо заполненная, но шуму от нее было как от проходной какого-нибудь загородного клуба местной гильдии: разговоры полушепотом и в исключительно в вежливой форме. Меня туда не повели. Как оказалось, для убийц была приготовлена особая, дальняя камера.
Капли медленно стекали по стене напротив, образовывая небольшую лужицу. С той стороны веяло прохладой
Один против десяти — расклад явно не в мою пользу. Да даже если бы у меня не были связаны руки и прикованы к тяжелому письменному столу ноги, шансы все равно были невелики. Без оружия, лишь с голыми руками, хотя на поясе у одного я успел заметить такой знакомый меч, но знакомый лишь рукоятью с навершием — этот негодяй не просто присвоил себе мое оружие, он уже успел достать к нему ножны. И не сказать, чтобы плохого качества.
Трое мужчин и две женщины слева и трое мужчин и две женщины справа. Все шрамированные, матерые, лица бандитские, но в глазах вместо глупого прищура разбойничьего прощелыги многолетний опыт и жестокая хитрость. Женщины вообще отдельная тема — страшные, что ужас. Волосы короткие, торчком, иногда и вовсе бритые наголо, лица широкие, зверские и насупленные. В плечах не уступают мужчинам, а мышцы по всему телу словно натянутые канаты. Если бы не истинно женские признаки, то признать в них слабый пол было бы невозможно.
Только одна отличалась от своих трех товарок. Волосы до плеч, с виду даже мытые. Лицо не такое грозное, хотя верхнюю губу она уродливо морщила. Да и вообще выделялась нормальной женской конституцией.
— Так я ваш или наш? — Подал я наконец голос, едва удерживаясь от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу от творившегося кругом абсурда.
— Завались!
— Хлопни пасть, пес!
Ну, хоть в чем-то они оказались одного мнения. Даже несколько зависть взяла за то, как они дружно ответили.
— Че ты кривишься? Порыдай мне еще тут.
Я старательно закусил губу, пытаясь во что бы то ни стало не последовать его двоякому предупреждению.
— Э-э, да ты че…
Они одновременно сделали шаг по направлению ко мне, остановились, окинули друг друга недобрым взглядом, презрительно морщась, глянули в глаза и столь же одновременно сплюнули под ноги. Сразу видно — одна школа.
Не знаю, сколько бы они так напряженно простояли напротив, если бы я, не сдержавшись, не издал протяжный вздох, глядя на эту парочку. Две пары глаз, а за их спинами и еще восемь, мгновенно уставились на меня. Одинокая слеза медленно скатилась по моей щеке, потонув где-то в зарослях буйно и дико растущей бороды.
— Че за нафиг? — Растеряно переглянулись они.
— Нагнитесь… — Пробормотал я, глядя на них сквозь набежавшие на глаза слезы.
— Та-ак.
— Встаньте же на колени…
— Слышь…
— А?
— Походу он того, долбанулся.
— Не стойте же столбами…
— …внемлите речам моим, покуда есть же сила в правде, а правда в словах моих безгрешных и напутственных, ибо правда — преткновение всего насущного и иже с ним, лишь Создателями Едиными нам даруемое. — Высокопарно закончил один из них, а второй несколько удивленно присвистнул. — Этой мути я уже наслышался в церквях Всемогущих Создателей.
— Собачье дерьмо!
— Именно!..
— Заткнись!
— Да послушайте же вы меня!..
— Может его того, грохнуть?
— Я тебя щас грохну! Мне живьем он нужен!
— Да чет такого даже и везти как-то… стремно. Кем он себя считает?
— Пророком.
Они одновременно сплюнули. За их спинами еще восьмеро, подумав, сплюнули им вслед.
— Да сами вы пророки! — Вскричал я, не в силах держаться.
— А ну, замолчи!
— Ты чего, эй?
— Не хватало, чтобы он еще в своей вере дурной небо уронил на наши головы!
— Че за бред…
— Да чтобы небо упало на ваши головы! — Отчаянно взвыл я.
Внезапно загрохотало так, что у меня, не ожидавшего ничего подобного, заложило уши. Вековая пыль, словно все годы только и ожидавшая этого момента, встала столбом, образовав туманную завесу. Взметнулась вверх, к затрещавшему по швам потолку, к разошедшимся от дряхлости в стороны балкам и грянувшим вниз остаткам стропил.
Восемь стоявших поодаль разбойников прыснули в стороны, и спасла их лишь непосредственная близость стен. Но вот оказавшимся прямо в эпицентре главарям позавидовал бы только глупец: обвалившиеся потолок и крыша моментально погребли их под собой.
А я стоял, неверящим взглядом осматривая дело рук своих, и даже уже думать забыл о том, зачем привлекал внимание бандитов. Из-за развалин и мусора медленно поднялись ничего не понимающие лица, мутно оглядев… и меня. Не знаю почему, но меня вдруг взяла нестерпимая злость на этих разбойников.
— Да загоритесь же вы! — Вскричал я им.
И сошел огонь с небес ярчайшей точкой, и воспылал он могучим пламенем, земли коснувшись. И перекинулся он на супостатов рьяно и отважно, и принялся он их пожирать нещадно. Недруги завопили-закричали, на землю попадали, принявшись по ней кататься отчаянно. А огонь все ревел, все глодал ненасытный плоть человеческую. И только лишь несколькие избежали этого всепожирающего пламени, бросились они наутек, с дороги отталкивая друг дружку. Этих последних везучих мразей, до которых не достала горючая смесь, кончили в спину арбалетные болты, пущенные сквозь покосившиеся оконца.
Однако последнего я не увидел, стоя с открытым ртом, глотая дым и пыль, полностью ошарашенный сотворенной моею волею волшебством. Пророк, избранник Создателей! — попытался я воздеть свои связанные руки кверху, к пославшим мне особый дар карателя небесам.
— Да рассохнитесь нити!
И в тот же миг передо мною возник слуга небес, отточенным до крайности орудием распоров терзающие меня веревки.
— Это, — ангельским голоском пропел он, невероятной красоты кинжалом в прекрасной ладошке указывая на ужасное побоище, — в благодарность за мое спасение. А это за громадную шишку на моей голове!
То, что произошло следом, перевернуло мой мир. В прямом смысле. Я чуть не свалился от удара той пощечины, второй раз за короткое время почти оглохнув от его звона.
— Очухался?
Передо мною стояли люди, много людей, участливо глядящие на меня. Все мне незнакомые. За исключением одного…
— Ах ты тварюга! — В сердцах воскликнул я, на короткий миг безумным взглядом остановившись на том лице, в ужасе отпрянувшем подальше.
Я дико дернулся, игнорируя в один момент выставленное в мою сторону оружие, и хватая присосавшегося к ноге засранца за шкирку и со всей силы прикладывая его об стол. Однако понимая, что этим я себе душу ни в коем случае не отвел, схватил уже двумя руками, впечатав в стену.
— Что? — Рявкнул я на моих притихших спасителей, ошалело уставившихся сначала на меня, а потом на выкинутую мною прочь гадость. — Что это еще за мерзость такая?!
— Вообще-то это амбицианский крот, — с задумчиво-отрешенным взглядом откликнулся один, — до безобразия дорогое существо среди безумных коллекционеров. Его цена на рынке, без преувеличения, достигает заоблачных высот, сравниваясь с примерной ценой из конюшни самого императора.
Я посмотрел на ярко-красное пятно на стене, потом на разодранную до мяса ногу. И снова на пятно на стене.
— Ну значит, я только что убил скакуна из императорской конюшни, — злобно заключил я, ни капли не жалея о содеянном.
Все как-то хором вздохнули, отчего я почувствовал просто жгучий стыд. Однако ощущений от пострадавшей ноги было достаточно, чтобы чувство удовлетворенности вновь во мне возглавенствовало.
— Еще раз спасибо, Винни, — пролепетала ночная дева, встав на носочки и чмокнув в колкую щеку высокого дородного дядьку, видимо, бывшего главарем виртуозно выручившей меня ватаги.
— Не за что, милая, — зарделся щеками он, задорно хлопнув женщину по причинному месту. — Ты ведь не думаешь, что теперь ты моя должница? Нет?
— А то ты не хочешь заиметь в должниках меня! — Засмеялась она.
— Естественно, хочу! Потому и спрашиваю!
Тут уже довольно заухмылялись все, с самым понятливым видом заиграв в гляделки.
— Потом встретимся и все обсудим с тобою, Винни. Наедине. Надеюсь, ты все поймешь и простишь бедной вдовушке ее небольшой долг.
Внушительный Винни совершенно не был против. Как и все остальные, завистливо глянувшие в его сторону. Не прощаясь, они всей громко гомонящей толпой двинулись прочь.
— Надеюсь, у них не будет проблем с городскими властями?
— У градоначальника-то? — Подняла оставшаяся женщина брови. — Не думаю.
В горле вдруг запершило от неожиданности.
— Тогда что это сейчас было?
— Моя просьба, — коротко бросила она, присаживаясь передо мною на колени. — Болит?
— Болит, но надеюсь, быстро пройдет — на мне все заживает, как на собаке.
— Ты и похож на пса: весь всклокоченный, сутулый, словно в любой момент ожидаешь нападок, борода разноцветная и во все стороны. Тебе бы привести себя в порядок, — бормотала она, занимаясь моим небоевым ранением. Подумать только, мне разодрало ногу целое состояние, оформленное в мелкое агрессивное существо. — Да и взгляд у тебя такой дикий, однако не жестокий, хотя временами проскальзывает и кое-что искреннее.
Я удивленно покачал головой.
— И это ты меня характеризуешь уже спустя полчаса знакомства? Не рановато ли?
— Скажешь, сказала что-то не то?
— Я не знаю, со стороны виднее.
— Именно, виднее. Таких как ты, я уже встречала. И не раз. Поверь мне, получаса достаточно, чтобы еще лучше узнать человека, а тут просто первое впечатление. Если бы ты спросил, то я бы сказала, что ты пережил что-то тяжелое, такое, что не каждый переживет, и что сказать об этом ты никому не посмеешь. Что еще? Тебе тяжело, ты никому не доверяешь, даже себе через раз. От всего пытаешься отказывать, ни к чему особенно не цепляться и не привыкать. Боишься уз, всеми силами гоня их от себя, терпеть не можешь странствия. Да… Я многое еще могла бы сказать, если бы ты спросил. Однако ты не спрашивал.
Я тихонько улыбнулся собственным мыслям.
— Чего молчишь?
— Потому как мне нечего сказать.
Женщина остановилась на несколько мгновений, взглянула мне в глаза и, увидев там что-то, сокрушенно покачала головой.
— Готово, — произнесла она, поднимаясь. — На первое время сойдет, но потом тебе лучше обратиться к лекарю.
— Обязательно, — серьезно кивнул я ее словам.
Моя спасительница уходила, напоследок помахав мне ухоженной ладошкой. Я благодарно откликнулся в ответ, продолжая следить за нею взглядом. Странно получилось: я спас ее, а она в благодарность спасла меня. Но с другой стороны, не влезь я тогда, о моем местонахождении в Самаке никто бы так и не узнал, и всего сегодняшнего приключения бы просто не существовало. Из одного плавно вытекло второе, хотя если бы мне дали шанс все переиграть, я поступил бы ровно также.
Она уже ушла, и я забыл, как выглядел ее силуэт. И в голове настойчиво плясала одна мысль: ведь я так и не узнал ее имени.
Единственный выход из города — через ворота. Самака не тот населенный пункт, где царствуют тайные тропы и канализационные пути, чтобы можно было воспользоваться сомнительными услугами преступной братии. Говорят, преступники часто возвращаются к месту своего преступления — это глупо и сентиментально, однако может статься, что действенно.
Два раза молния в одно и то же место не бьет, подумал я, оттаскивая оглушенного доскою крестьянина к его телеге и снимая с него одежду. Он был старше меня на пару десятков лет, но такой же грязный и неопрятный. В любом случае, стоило попробовать, так как запряженный в телегу осел никакого различия между нами не обнаружил. Пробурчав что-то не особо прислушивающемуся стражу на воротах, я, понукая словно вообще не замечающее ничего вокруг животное, покинул Самаку.
Конь оказался мне явно не рад. Просто рвал и метал при моем приближении, прожигая плешь в куртке только лишь яростным взглядом. Мне кажется, или раньше его глаза не выглядели столь выпученно-алыми?
Намертво привязанный к дереву, он бесился в окружении трех издохших волков, сверкая на боках свежими ранами и царапинами. И очень, очень плотоядно скалился моему приближению. А я неуверенно топтался на месте, лихорадочно подбирая слова и выстраивая в голове манеру поведения, — с кем! — со вкорне обидевшимся конем. Что поделать, я даже не предполагал, что мне доведется увидеться с ним вновь, а о том, чтобы вообще вернуться сюда, не смел и подумать.
Подняв ладони кверху, я с самым миролюбивым видом двинулся к нему. И ведь знает, засранец, что он мне нужен. Чувствует мою в нем нужду.
ГЛАВА 4
— Поведай мне, Марек, о гостеприимстве приютившего тебя барона.
— О каком бароне идет речь?
— Неужели столь многие привечали тебя в землях вольных баронств?
— Так вы об этом…
— Как-никак, ты провел в гостях неполную неделю. Шесть дней, верно?
Он подался вперед, облокотившись о сведенные домиком пальцы.
— Я слышал множество историй об удивительно обособленных от могущественной империи клочках земель, образованных в один сплошной массив — Вольные баронства. Ни регулярных армий, ни сплоченности — ничего. Просто территория, разбитая на земельные участки с правящими себе на уме лбами. Даже удивительно: как им удается до сих пор поддерживать свою автономность, не находишь? Давненько там хотел побывать, да вот, все никак не выходит — империя, да империя. Уже сколько лет не могу покинуть ее границ. Как же я рад, что наконец нашелся тот, кто подробно расскажет мне о тех уютных краях. Я весь внимание.
— Что может быть проще, — улыбнулся я, припоминая.
Его холеное, вытянутое книзу лицо внимательно-выжидающе наблюдало за мною. Не торопило. А я без зазрения совести пользовался этим. Огляделся вокруг, придавая большее значение не замеченным ранее деталям. Фреска у дальней стены, старая, местами потертая, с преобладающими в ней красными тонами. Что на ней было изображено — не разобрать. Вряд ли из-за возраста, так как сохранилась она прилично, скорее из-за содержимого. Мне оно ни о чем не говорило и ничего не напоминало — какие-то абстрактные образы.
А еще мое кресло в сравнении с его. Несмотря на то, что со мною обошлись доброжелательно, на первый взгляд, место напротив мне предложили на редкость неудобное. Его: высокое, с вычурной резьбой на подлокотниках и изгибающихся ножках, даже с виду мягкое, однако сидящий в нем поистине там утопал. Мое же больше походило на переделанный табурет. Несколько жестковатое, с прямой, словно у трона, спинкой. Расслабиться в таком, как бы ни хотелось, не выйдет.
Собеседник намекающе кашлянул в кулак, возвращая меня мыслями обратно к разговору. Все также улыбаясь, я набрал в грудь побольше воздуха:
— Я ничего не помню, — растеряно пробормотал я.
Сидящий напротив загадочно улыбнулся.
* * *
— Святой отец, — кивнул я всаднику в длинной черной сутане, о чем-то неспешно разговаривающему с кучером богатой кареты, запряженной в двойку лошадей.
— Приветствую, сын мой, — осеял он меня левой дланью. — Да пребудут Создатели с тобою.
Конь, вопросительно взглянув на меня, все тем же нескорым шагом продолжил свой путь мимо них. Я решил не останавливаться — случайная встреча, случайные люди, несмотря на то, что подобную пару я не ожидал здесь увидеть. Не кучера, нет — этих на дорогах пруд пруди как на козлах совсем дешевых и самодельных телег, так и весьма состоятельных, зачастую путешествующих по трактам в сопровождении одного или двух телохранителей, сидящий либо рядом с извозчиком, либо плетущихся следом верхом на какой-нибудь лошадке. Впрочем, могут и пешком, так как богатые любят ездить с комфортом, и рессоры не каждой кареты способны избавить их изнеженные чресла от неудобоваримой скачки по колдобинам.
Здесь, кстати говоря, охраны не было видно, хотя экипаж стоял на месте явно не просто так. Однако если была бы нужна помощь, меня бы обязательно окликнули.
Я хмыкнул, представив свой вид со стороны. Нет, пожалуй, я сам себя не стал бы окликивать.
Но вот священнослужитель, в противовес обыкновенному слуге, на дороге и в одиночестве был редким зрелищем. Для меня так вообще впервой, отчего я, не зная как себя вести, его поприветствовал. Ничего не мешало проехать мимо молча, однако мне просто хотелось его рассмотреть. Одного со мной возраста, может, совсем немного старше. Черные прямые волосы до плеч, прямоугольное лицо с едва очерченной ямочкой на подбородке, прямой волевой нос, выглядящий несколько тяжелым из-за насупленных бровей, невысокий лоб и темно-карие глаза. На светлой коже не было видно ни единого следа щетины, словно до сих пор на его лице пробивается лишь юношеский пушок. Он оглядел меня столь же внимательным взглядом, но, когда я уже поравнялся с ним, развернулся для продолжения оказавшейся таинственной для меня беседы. Мы оба удовлетворили свой интерес.
Постоялый двор попался мне на пути лишь к самому вечеру. И хотя поздно еще не было, небо, затянутое набежавшими черными грозовыми тучами, опустило на землю раннюю темноту. Как это обычно бывает в таких случаях, силуэты деревьев и полей ярко выделялись на небесной черноте словно при каком-нибудь апокалипсисе. Казалось, что небеса вот-вот сойдут на голову, как итогом они просто разверзнуться, обрушив вниз нескончаемые потоки воды. В такие моменты хотелось как можно скорее оказаться где-нибудь в тепле и желательно под крышей над головою.
Передав коня прыткому слуге, я вошел вовнутрь. Мест не было, как пытался меня уверить хозяин заведения, указывая на битком набитый зал. А на деле — просто мой бродяжный вид вкупе с разбойничьим лицом.
Я сидел за ближним ко входу столом, вымачивая в миске хлебом стекший с жаркого жир и понимал, что переплатил за комнату на ночь как минимум в три раза, когда двери заведения открылись, пропуская вовнутрь шум дождя, прохладу и мокрого до нитки священника. А следом за ним уже виденного мною ранее извозчика, на несколько мгновений застывшего на пороге, неуверенно оглядывая зал из-под приподнятого и сочащегося влагой капюшона. Перебросившись парой слов с подошедшим хозяином заведения, он кивнул обоим в мою сторону — несложно было догадаться, о чем у них идет речь. Встретившись со всей троицей взглядом, я отрицательно покачал головой.
— Позволите присесть? — Я небрежно кивнул, подозревая его компанию — иных мест в трапезной зале просто не оставалось. — Настоятель Николас, — представился священник.
— Марек. — Отозвался я.
Священник был без своей дорожной рясы, оставив ее у горячо растопленного этим вечером очага. Простая рубашка, простые штаны без изысков. Но вот под черными перчатками оказались грубые мозолистые ладони, совершенно не приличествующие священнослужителю.
О чем-то еще недолго посовещавшись с хозяином заведения, кучер господского экипажа вышел в дождь.
— Они не стали останавливаться? — Удивился я, кивая на дверь.
— Ведь мест нет, — пожал плечами священник, упуская тот факт, что он сам все-таки остался.
— Для господ всегда места есть. Ничто не мешало вытурить прочь едва заселившегося разбойника.
— Я был бы против. Даже против выселения некоего разбойника, при условии, что он не замышляет ничего дурного.
— Удивительно, что хозяин так трепетно прислушивается к вашим словам, святой отец.
— Мы с ним не первый год знакомы.
Оказывается священнослужитель тот еще путешественник, которому не сидится на одном месте.
— А что за история такая приключилась на дороге в нескольких часах езды отсюда? — Первым подал я голос, устав наблюдать, как настоятель Николас молчаливо насыщается.
— О какой истории ты говоришь, сын мой? — Медленно проглотив содержимое ложки, обсосав ее и положив рядом с миской, откликнулся он. — Знай же, нездоровый интерес есть сие понятие нездоровое, вредное, а местами даже опасное. Так о чем же ты спрашиваешь?
— Мы ведь с вами уже сегодня встречались прежде, разве вы не припоминаете?
— Хм, — задумался он, и по его проницательным глазам я бы ни за что не поверил, что он уже успел меня забыть. Казалось, он помнит каждого своего прихожанина, когда-либо открывшего ему свою душу. — Да, припоминаю, на тракте, когда я общался с отчаявшимся слугой. Так бы я и проехал мимо, не остановившись и не спросив у него о случившемся. Надеюсь, наш долгий разговор помог ему более свободно скоротать время.
Он удовлетворенно замолчал, неспеша взяв ложку и продолжив трапезу.
— Однако вы не скажете, что же на самом деле там приключилось?
— Чрезмерная настойчивость зачастую может привести к непредсказуемым последствиям.
— Как и все остальное. Но разве любопытство грех? Даже чрезмерный.
— В некотором роде… При особом желании можно все что угодно посчитать грехом.
— Так что за оказия приключилась с извозчиком того господского экипажа? — Я пропустил мимо ушей его вторую часть фразы.
— Оказия, как ты выразился, — хмыкнул священник, — заключалась в том, что его молодой госпоже под утро внезапно стало плохо, отчего ее нянька потребовала остановить карету, а сама забрала подопечную на прогулку. К тому времени, как мы с тобой пересеклись в первый раз, сын мой, они все еще не вернулись.
— Но ведь это было далеко после обеда!
— Верно, они вернулись лишь ближе к вечеру. Одежда на юной госпоже оказалась изодрана в клочья. Как оказалось, малышка умудрилась влезть в кусты дикого терновника.
На этот раз он уже дождался благодарственного кивка от меня, лишь после чего вновь взялся за утоление голода. Ел неспешно, качественно смакуя каждую ложку наваристого бульона. Заметив мое рассеянное настроение, некоторое время глядел в ту же темную точку за окном, что и я, и, справившись наконец о забытой мною краюхе хлеба, покрошил ее в миску.
— Но позвольте, я никогда прежде не общался со священниками.
— Не ходили в церковь Создателей, не исповедовались и не причащались? — Нахмурился он.
— Отчего же, в церкви бывал, но вот все остальное как-то обошло меня стороной.
Священник посмотрел на меня с укоризной.
— Тогда, быть может, вы не веруете в Создателей?
Этот разговор можно было не начинать, а начав — не продолжать. Однако я был настолько впечатлен встречей с человеком из высшего духовенства, так как настоятель храма в моем понимании просто не мог быть кем-то из низших церковных чинов, что я банально наплевал на все осторожности — мне хотелось поговорить.
— Я верую в Создателей. Но в моем понимании, вера не нуждается в доказательстве. Особенно кому-либо постороннему, из раза в раз выслушивающему одни и те же искушения одних и тех же людей. Если кому и доказывать что-либо, то лишь только самому себе, что можно сделать и без показательного присутствия на богослужении, верно?
Священнослужитель молчал, ничего не говорил, лишь сверлил меня пронзительным взглядом.
— Просто так принято: если молитва, то в храме, если исповедь, то исключительно священнику. Самовольства церковью не поощряются, считаются чем-то недалеким и не заслуживающим уважения окружающих. Лишь под уложенными мозаиками сводами храмов Создатели видят детей своих и последователей, а все остальное для них сокрыто будто бы туманом.
Настоятель Николас продолжал заниматься своим делом — внимательно изучать меня, словно пытаясь определить сколь истинны были произнесенные мною слова, отчего его обычно насупленные брови были нахмурены еще сильнее, что казалось, будто он вот-вот вспылит. Две неравные вертикальные морщинки прямо над носом прямо указывали на его частые подобные «вспышки». Будь его брови попышнее, это могло бы стать комичным зрелищем. Если бы сидящий напротив не был святой человек.
— Я услышал твою точку зрения, — осторожно проговорил он, и лицо его разгладилось.
— Станете осуждать?
— Еще чего! Я разве похож на чванливого глупца?
— Простите, нет.
— Вот тогда и не извиняйся, сын мой! — Недовольно расширились его ноздри, но надо отдать ему должное, в руки он себя взял достаточно быстро. — Я услышал твое мнение, и даже в некотором смысле согласен с ним. Как ты верно подметил, Великие Создатели на то и Создатели, что всемогущи в деяниях и возможностях своих. И в корне неверно считать, будто лишь в храме они способны услышать уста к ним взывающие. Нет, Марек, церкви и соборы Создателей, вопреки всеобщему мнению, предназначены совершенно не для этого — не по прямому назначению, если так можно было бы выразиться. А прихожане являются на исповедь не ради отпущения грехов, а на причастия не дабы к Создателям вознестись. Вовсе нет. Они являются в храмы ради себя, дабы уверовать и не усомниться. Доказать себе лично, что Всемогущие ушами священнослужителя тебя услышали, осудили и искупили, что Всемогущие десницей отца святого на тебя взор свой непоколебимый обратили да под сень своей защиты приняли. Чтобы было все показательно да наглядно.
Я заметил, что к нашему разговору прислушиваются ближайшие к нам посетители. И если на мои слова они презрительно кривились, то речам святого отца благоговейно внимали.
— Только так, сын мой. Этим и только лишь этим они руководствуются неосознанно, грехи в уме перебирая, да к персту святому очередь выстаивая. Истинно лишь так.
Мне показалось, или на меня взглянули с интересом?
— Все эти службы и проповеди созданы лишь для одного — успокоения метущейся души.
— Вы действительно так считаете, святой отец?
Он глубоко втянул носом воздух.
— Да, я, — выделил он это слово, — действительно так считаю.
— Вы все это сейчас говорите лишь ради того, чтобы я уступил вам свою комнату?
— Отнюдь. Мне достаточно будет и уголочка в ней.
— Скажите, святой отец, все ли священнослужители предпочитают считать так же, как и вы?
— Тебя что-то интересует, сын мой? Прошу, задавай вопросы, не стесняйся, а я же, по мере своих сил и возможностей, попытаюсь на них ответить. Я же чувствую, как тебя что-то гложет.
Какая удивительная прозорливость, но тем не менее точная.
— Правду ли говорят, святой отец, что убийство — самый тяжкий из грехов?
— Истинно так, сын мой. Так писано в заповедях, так завещали нам Создатели. Лишение ближнего своего, даже совсем незнакомого, есть тяжких грех и тягчайший по сравнению с остальными. Ты можешь сколь угодно прелюбодействовать, лгать, таить и красть — все это простится, если в итоге подобное деяние не привело к страшным и ужасным последствиям. Все они обратимы, каждый способен раскаяться в совершенном, искупив ложь и клевету правдой, воровство вознаграждением, а ненасытность мирскую отрешением от сущего и обращением ко миру внутреннему. Но вот убийство искупить невозможно.
— Такого просто не может быть — чтобы от чего-то не было пути назад. Ведь все всегда можно обернуть вспять, я уверен.
— Действительно ли уверен или слепо веруешь? Поверь, Марек, между ними великая разница.
— Хотел бы я солгать, что первое, но тогда бы я согрешил, верно? Не хотелось бы брать на себя очередной грех.
Священник грустно улыбнулся.
— Я мог бы отпустить тебе твои грехи, но для этого тебе пришлось бы исповедоваться.
Я вздохнул, сокрушенно покачав головою.
— Понимаю, — обиженно сжал он губы, отчего они превратились в тонкую полосочку. Не знаю почему, но мне вдруг стало не по себе: с какой ясной проницательностью он взглянул мне в глаза, словно куда-то вовнутрь, таким же и голосом он произнес следующие слова: — Ты способен исповедоваться самому себе.
Эта его фраза чем-то тяжелым, повисшим на моей шее стопудовым камнем, запала мне в душу. Сдавила плечи, сжала грудь, как-то моментально лишив сил. Склонила меня к столу.
— Что-то не так, сын мой? — Сочуственно произнес настоятель с плохо скрываемым торжеством в голосе. — Тебе словно внезапно поплохело.
— Почему, святой отец? — Он внимательно наклонился ко мне. — Отчего мне так плохо от ваших слов? Словно… обухом по голове. Ведь только что я сам так говорил! Говорил про себя же! И верил! Ведь так и есть…
— Все просто, Марек, — крепкая ладонь легла мне на плечо, сжала его. — Разница в том, что ты этому слепо верил, а слепая вера, она… Она хрупка, как хрустальный сервиз, а сервиз цел лишь до тех пор, пока хранится в потаенном уголке, недоступном для глаз чужих. Также и слепая вера — цела, пока лична, пока недоступна еще рукам посторонним, загребущим. И способна разбиться, разлететься на мелкие кусочки, едва ты доверишь ее кому-либо неуклюжему, неважно нарочно ли либо с худыми намерениями. Сейчас, разрушившим твою слепую веру, эдаким невеждой, оказался я. С любым другим ты бы обязательно поспорил, посмеялся бы над его словами да забыл, но волею случая твоим собеседником оказался я.
Нет, подумал я, совсем не волею случая — моей. Зачем я желал этого, почему к этому стремился? Тот ли это разговор, что мне был так необходим? Кажется, теперь я начинаю осознавать ответ.
— Ты веруешь в Создателей, в тебе есть кроткость и смирение перед ними, а следовательно, и передо мною — говорящим в этом мире их устами и являющимся проводником их воли, некогда записанной в трактаты. Мое слово важно для тебя, и я понимаю почему — я оказался совсем не тем самовлюбленным и чванливым святошей, каким ты представлял всю нашу братию. Я способен не просто сказать, но поговорить, однако не подумай, что я кичусь этим умением. Просто надеюсь, что этим я действительно могу помочь и помогаю людям.
Я поднялся, отрицательно покачав головою. Медленно, не разбирая дороги, двинулся к выходу.
— Куда ты, Марек? Что с тобой?
— Скверно мне, святой отец. Нужно на свежий воздух, хочу пройтись. Комната в вашем полном распоряжении.
— Здравствуй, конь, которого зовут конь. — Невесело попытался пошутить я, слепо буравя обслюнявленную ладонь. Постоялец стойла с нескрываемым удивлением взглянул на меня. — Я переночую неподалеку, не против?
Если он и был против, то виду не подал. Молодой паренек, еще на въезде в постоялый двор забравший у меня поводья коня, забежал в конюшню, коротко глянул на меня и умотал прочь. Значит, и этот малолетний конюх тоже не против.
Скинув с себя куртку и бросив на пол, я обессилено опустился туда же, облокотившись спиной о дверцу стойла и чувствуя макушкой жаркое дыхание пребывающего в смятении скакуна.
— Не будешь же ты меня прогонять за недавнюю обиду, дружище?
Мне в волосы возмущенно фыркнули, однако гнать действительно не спешили. И даже не подумали укусить, что, в общем-то, было бы справедливо.
Нога уже давно не болела, даже не ныла. Действительно, затянулось как на безродной собаке. Шрамы в любом случае останутся в напоминание, но шрамы мелочь.
Двери конюшни вновь открылись, пропуская вовнутрь очередного постояльца. Святой отец, критически оглядывая подсохшую у хозяина сутану, встал напротив. Удовлетворившись или нет, он ее аккуратно разложил на полу, на ней же и умостившись.
— Если ты решил переночевать здесь, то самое правильное было бы отдать комнату в ней более нуждающимся. Надеюсь, ты окажешься не против?
Я не был против. Какое мне дело, как распорядился ею настоятель Николас, если возвращаться в нее я не собирался?
— И все же, сын мой, я готов тебя исповедать. — Проговорил он спустя какое-то время, задумчиво вглядываясь в мое лицо. — Принять груз твоего греха, даже если это убийство — самый тяжкий из всех грехов.
Это было так соблазнительно — просто взять все и скинуть. Освободиться. Так приятно думать, что за совершенное отвечает некто иной, он же прощающий и искупляющий. Так просто жить, когда знаешь, что все твои поступки ничего не значат, и после очередной исповеди, подняв свою мерзкую задницу от кровати на утреннюю воскресную службу, ты вновь окажешься чистым и безгрешным словно новорожденный. А для этого нужно лишь малое — признаться в совершенном тобою грехе, прочувствовать вину, а все остальное уже чужие проблемы.
— Нет, святой отец. Это только мое бремя. Мое и ничье больше. Простите, я не смогу вам открыться.
Он открыл было рот, чтобы мне возразить, дать совет, попытаться утешить, но, видимо, не нашелся нужных слов. Просто закрыл его, пространно глядя куда-то мимо меня.
— Убийство — наитягчайший грех, — зачем-то повторил он свои слова. — На своих проповедях в доверенном мне храме я частенько касаюсь этой темы. Я рассказываю о том, что есть грехи исправимые, и есть грехи неисправимые, накладывающиеся тяжелым отпечатком на души человеческие. Я говорю много, и прихожане с надлежащей им прилежностью внимают. Я говорю то, во что верую сам, надеясь, что не навязываю другим мнение свое. Но вот убийство… это совсем иное. — Он помолчал, склонив голову и прикрыв глаза. — Убийство страшно само по себе, как нечто чужеродное. Оно непозволительно. Кто мы такие, чтобы обрывать чужую жизнь, играть роль Создателей? Это неверно, мы не смеем… Все, что угодно, только не убийство…
— В какую сторону направляетесь, святой отец?
Погода стояла просто великолепная: прохлада зорьки и свежесть недавно отгремевшего дождя. Отгремевшего, кстати говоря, очень тихо, где-то там, вдалеке — практически у горизонта. Постоялый двор гром великодушно обошел стороною.
— В сторону Далии. Впереди, буквально через час езды, будет развилка, я возьму восточнее.
Он тоже полной грудью дышал свежим воздухом, наблюдая, как поднимается далекое солнце, озаряя своим ранним светом мокрую от ночного своеволья погоды листву и траву. Деревья медленно и могуче колыхались, играя в лучах мириадами блесток.
— Тогда мне с вами по пути. — Настоятель Николас заинтересованно обернулся ко мне. — Примерно до развилки, а дальше мне придется свернуть южнее.
— Примерно?
Я небрежно кивнул, понимая, что съехать с дороги на раскисшие проезды, как я планировал, мне вряд ли удастся.
А на распутье нас уже ждали: банальнейший ствол дерева, перегородивший еще не разделившийся надвое путь.
— Разбойники?
Мы подъехали к сгрудившимся на оборонительный манер телегам купцов, издалека высматривающих западню.
— А то! Мерзавцы!
Невысокий и пузатый дядька задорно спрыгнул с крыши одного фургона, двинувшись к нам. Мы одновременно спешились.
— И это на тракте, подумать только! В непосредственной близости от постоялого двора! Совсем распоясались мерзавцы! Брауни Кохх, будем знакомы.
Мы пожали друг другу руки, понимая, что только накануне виделись под одной крышей в трапезной зале. Так уж вышло, что наши пути совпали, однако купец и остальные здесь столпившиеся отправились чуть раньше нашего.
— Настоятель Николас, — представился священнослужитель. — Со мною Марек.
— Вместе путешествуете? — Прищурился тот.
— Разве что до недостижимой пока развилки.
— Это верно. Негодяи кучу народу переполошили, всем нужно в путь, а толпятся аки барашки на заклание.
— Брауни!
— Простите, святой отец, но все выглядит именно так. Из-за ливня и раскисших дорог иначе не проехать, по сути, тракт — единственная дорога. И разбойники это знают. Как и то, что постоялый двор был битком набит промокшим и замерзшим людом. И всему этому люду на следующее утро двигаться в путь!
— Притом, смотрите, как жадно-то поступили — решили захапать не одну дорожку подальше и побезопаснее, а сразу две! — К нам подошел еще один попавший впросак путник — полная физическая противоположность Брауни Кохху. Но с такой же цепью имперской купеческой гильдии на шее.
— Кларсон Войл, — представил его товарищ.
— Доброе утро, господа. Или день?
— Ни утро ни день не добрые! — Рявкнул тучный купец, принявшись нервно мерить шаги. — У меня товары стоят скоропортящиеся, а после такого дождища как пить дать будет сама жара! Духота неимоверная! Мне ехать надо, торопиться, а я тут кукую из-за пары десятков раздолбаев, решивших разжиться золотишком!
— Я предлагал скинуться мешочком…
— Ты как будто заново родился, Войл! Иногда я просто удивляюсь твоей поистине детской простоте!
— У тебя есть другие варианты?
— Нету! — Вновь раздосадовано рявкнул он, насуплено удалившись в сторону телег, где его настойчиво призывал один из слуг.
— Ласточки низко летают, как бы не к дождю…
— Только что дождь прошел, болван! — Раздался по округе звонкий шлепок оплеухи. Пара помощников мгновенно оттащила своего вспылившего господина от брякнувшего глупость слуги.
— Не с той ноги встал, явно, — улыбнулся ему вслед Кларсон Войл.
— Его можно понять, — откликнулся священник. — Сколько у него телег?
— Вот эти вот три, и за ними на обочине еще пара.
— И все с товарами, верно?
— Только крытые, да еще вот этот фургон.
— Итого, четыре повозки не терпящего задержек груза. Приличные убытки.
— Но все же несравнимые с потерей жизни, не так ли?
— Безусловно. Я даже несколько уязвлен, что эту фразу выдали вы, хотя по положение положено-таки исключительно мне.
Кларсон Войл обезоруживающе улыбнулся.
— Я бы с удовольствием послушал вашу проповедь по этому поводу, святой отец.
— Обязательно, но, боюсь, момент к этому совершенно не располагает. Как-нибудь погодя.
— Погодя — это только завтра! — Воскликнул оказавшийся тут как тут Кохх, закатывая глаза к небесам.
— О чем это он?
— Мы уже послали человека в ближайший город, но карательный отряд прибудет только к завтрашнему дню.
— Завтра! Завтра! Да за это время я бы уже миновал Ларимор и был бы на подъезде у Здемина! Что за растраты! Мерзавцы, чтобы им пусто было! — Сплюнул он под ноги и тут же яростно затоптал.
— Приедут, а разбойников тут уже и след простыл, — кивая собственным мыслям, сказал кто-то из подручных Кларсона Войла.
В этот момент несколько пеших молодцев отделились от общего сборища, решительно двинувшись к нам. Видно, недолго думали.
— Святой отец, так вы мош того, поговорите с этими-то разбойничками? А мы вам подсобим, а? — Хитро прищурился самый дурной на вид из них.
— Я да вас четверо, — откликнулся настоятель Николас, покачивая головой, — а их неизвестно сколько там.
— Так и шо ж? Сподмогнем мы вам, того не бойтесь. Вон ваш спутник тош пойдет.
— Не послушают они меня. Я бы и рад.
— Послушают, куда они денутся! — Воин похлопал по обуху топора на бедре, довольно скалясь. Твое дружков поддержали его каким-то невнятным мычанием, что без взгляда на безумно оскаленные хари можно было бы счесть нотой отказа. — Да сколько их там — раз, два и обчелся.
— Хотелось бы знать, что вы там собрались делать вчетвером? — Скептически оглядел этот недоотряд я.
— Все пойдем. Нечего тут сидеть и помощи с города ждать.
Я беспомощно обернулся к священнику.
— Настоятель Николас не воин, нечего его бросать в самое пекло.
— Да подмогнем, не тушуйся так! Ничего с твоим ненаглядным святым отцом не станется! Мы ш просто поговорить.
— Надо идти, — вдруг заявил Кохх. — Всем идти. Не знаю, как остальные, но вот я сидеть и дальше не намерен. Не терпит груз! Со мной еще семеро. Чего вы на меня вылупились? — Бросил он своим людям. — Знали, на что шли.
— О, — протянул воин с отбитой задницей, — а вот как все соберутся, так и будет внушительная ватажка! Разбойнички-то от такой нашей шайки мигом разбегутся!
Дипломат из него, прямо скажем, никакущий. И тем велико было мое удивление, когда люди вокруг возбужденно загалдели, согласно кивая его словам. Неужели так много безрассудного народа собралось в одном месте в одно время?
Однако не все, далеко не все вняли его словам. Многие скептически отнесись ко всеобщему настроению, думая в первую очередь своей головой. Не всем горит срочно ехать, не всех поджимают сроки — эти готовы преспокойно подождать помощи от карательного отряда из города. Но все равно желающих набиралось достаточное количество.
— Что скажешь, Марек? — Отвел меня в сторону священник.
— В любом случае, я в стороне не останусь. Решите идти на разговор с разбойниками, я пойду тоже. Но по мне, так это все выглядит бессмысленным риском.
— Многим просто необходимо проехать дальше, и ждать они не могут. Я же, в свою очередь, не могу оставить их мольбы неуслышанными. Если меня просят и это в моих силах, я обязан попробовать.
Я в последний раз обернулся, глядя, как примерно половина из тех людей, что оказались узниками перекрытого разбойниками тракта, разворачивает свою поклажу назад, ожидать карательного отряда на постоялом дворе. Глупо рисковать, находясь у бандитов прямо на виду, да к тому же в раздербаненном состоянии, они не решились. И верно сделали. Я бы тоже так поступил, если бы не подписался идти следом за святым отцом, который все же внял уговорам толпы. Среди решивших переждать также оказался богатый экипаж со знакомым мне на лицо кучером, который я не приметил сразу среди общего столпотворения.
Чуть больше двадцати человек — все разномастные и разобщенные. С такими я побоялся бы идти даже на лисицу.
— Мы будем позади, — сказал кто-то из купцов, из-за дрожи в голосе не разобрать было кто.
Они отстали шагов на пятьдесят, старательно прикрываясь едва плетущимися телегами, и впереди оказались лишь мы с настоятелем Николасом и четверка отмороженных бойцов. Эти точно ничего не боялись.
Конь, шедший сбоку, испуганно вцепился в мое плечо, без труда разобрав значение поваленного поперек дороги ствола, и отцеплять его мне было лень. Этот тоже бы с удовольствием сам дернул в сторону постоялого двора, но возможности я ему такой не дал — мне нужен скакун на случай непредвиденных обстоятельств, которые, собственно, предвиденные. Вся эта затея шита белыми нитками, и надеяться можно лишь на чудо. Впрочем, я на него не надеялся, полностью осознавая ситуацию.
К нам вышли заранее — перепрыгивая ствол притащенного сюда дерева, в нашу сторону двинулись сразу десяток человек, демонстративно размахивая обнаженным оружием.
— Неверный путь вы избрали — путь греха корыстного и бездуховного. Одумайтесь, дети мои, и придите к свету и праведности, пока еще не поздно, ибо помыслы ваши темны, а деяния недостойны.
— Чего вы хотите, святой отец?
— Остановите свои бесчинства, оберните намерения свои вспять! Прошу вас, дети мои, освободите дорогу и дайте этим людям преспокойно проехать дальше.
— Святой отец, мы вас не тронем. Поезжайте с миром, — прохрипел один разбойник, сделав несколько шагов вперед. — А вот… — Его кривой палец не успел указать. — Святой отец, ну зачем же вы! Что же вы делаете?
Настоятель Николас небрежно отцеплял от притороченных к седлу подсумок чудаковатого вида шестопер: с чрезмерно длинной рукоятью и раздутым в стороны на манер шара оголовьем.
— Прочь с дороги, дети мои. Прошу вас, не доводите до греха.
— Э-э, святоша, ты совсем ополоумел? Брысь отсюда, пока тебя не вынесли вперед ногами! Живо!
На дальнейшее я уже не смотрел, запоздало отметив, как со всех сторон на нас брызнули вооруженные люди с самыми явными намерениями, а шестопер в руках священнослужителя, описав широкую дугу, приземлился на лицо бросившегося на него с ножом разбойника. Громко и смачно чавкнуло, не раздалось даже крика.
Я бросился в сторону, уворачиваясь от метившей в меня стрелы. Лук был плохонький, стрелок — еще хуже, и именно поэтому он чуть было в меня не попал — выстрелил совершенно не туда, куда намеревался. Разбойник, оказавшийся за моей спиной, возмущенно вскрикнул, бросаясь на землю с перебитой ногой. Я пнул его в грудь, опрокидывая навзничь и мечом рассекая плечо его зазевавшегося товарища. Коротко обернулся, чтобы увидеть, как твое оставшихся в живых рубаки встали спиной друг к другу, отбивая наседавших со всех сторон бандитов. Последний уже лежал в луже крови с перебитой головой.
А со всех сторон бежали еще люди. Целая прорва разбойников, радостно гогоча и предвкушая, неудержимой лавиной кинулась мимо нас, к опасливо замершим у телег путникам. Но надо отдать должное купцам и остальным, они успели их развернуть боком, сцепив и выцеливая в просветы между ними бегущих по их головы душегубов. Нестройный залп, и несколько головорезов, хрипя, повалились на землю. Однако их прочие товарищи этого даже не заметили, вереща, приближаясь к добыче.
Пускай, что основная масса двинулась мимо, но и нам, оставшимся здесь в скромном количестве, этого было достаточно. Мне-то моих двух подоспевших уж точно. Я отступил на шаг от замаха по мне топором, как чуть было не словил по хребту обитым стальными полосками дрыном. Спасло лишь то, что я, заметив это, попытался нагнуться, споткнулся о земляной выступ и чуть не упал. Дрын воткнулся в шаге от меня. Я едва сумел сохранить равновесие, рубя наотмашь ближайшую ногу противника. Удар получился так себе — прошел вскользь, совсем слабо зацепив ткани.
Новый удар топора заставил меня отступить, хватая обух топора гардой и продолжая его движение. Разбойник, чтобы не терять бросившееся оружие из рук, развернулся ко мне боком, куда между ребер я и воткнул свой меч. Навалившись, я приподнял вопящего бандита, закрывшись им от очередного удара дрына. Получив по затылку такой дурой, он безвольно повис. Мне пришлось поднапрячься, хекнув от натуги, свалить его вперед, прямо под ноги размахивающему дубиной. И, опешившего, рубануть наотмашь. Кровь брызнула вслед жадно разодравшему плоть клинку. Шаг в сторону и обратным движением в бок. Противник взвыл, пытаясь отступить, но споткнулся о тело товарища. Два косых удара в плечо и шею завершили бой.
Я обернулся, ища глазами настоятеля Николаса, но вместо этого уперся взглядом в разъяренную морду угрожающего мне мечом подранка. Пока я бился с этими двумя, он успел вытащить стрелу, сейчас стоя достаточно ровно, хотя припадая на больную ногу.
Достаточно оказаться у него справа, подумал я, и тогда довершить его будет несложно, как вдруг он сам, выпучив глаза, завалился назад, получив внезапный удар шестопером под колено. И следующим в лицо.
— Святой отец, — вскричал я, оглядываясь вокруг. Пока на нас не обращали внимания, но вскоре обязательно заметят. Мы словно оказались за спинами гурьбой наседавших от доблестно обороняющегося обоза разбойников. — Нам нужно уходить!
— Что ты такое говоришь, сын мой? — Откликнулся грязный, весь в крови, насупленный священник.
Мой взгляд скользнул на к его ладоням, удерживающим шестопер, и меня передернуло. В голове родилась и мгновенно запряталась какая-то мысль, но я еще не понимал какая.
— Как видите, вам не удалось убедить их пропустить нас. Оставаться опасно, нам нужно бежать! Срочно!
От толпы, все же глянув в нашу сторону, отщепилась кучка головорезов, бросившись на нас. Против такого количества у нас не было ни малейшего шанса. Из четверки отморозков, пошедших с нами, никто не выжил, валяясь сейчас где-то вперемешку с вражескими трупами.
Я схватил его за локоть, подталкивая к отбежавшим лошадям.
— Святой отец, пора!
Он попытался было сопротивляться, что-то говорил про свой долг и веру, но я не слушал, благо мой конь оказался более понятливым, подскочив к нам. Взлетев в седло, я еще успел бросить взгляд назад, краем глаза отметив шесть недвижимых тел там, где на настоятеля напали бандиты.
— Святой отец, вы убили этих людей! Убили собственными руками!
— Истинно так, сын мой, — сказал священник, отирая шестопер от крови. — Убил. Иначе они убили бы нас. Это вынужденная мера, самооборона — убийства во благо.
И во мне что-то перевернулось. С каким-то немым отчаянием я стоял, разинув рот, и глядел на священнослужителя, на его заляпанную кровью сутану, испачканные ею же руки и невозможное оружие. И понимал, что все то шаткое, о чем говорил этот проповедник, что еще держалось во мне, сейчас содрогнулось, медленно и грандиозно рушась, погребая осколками меня под собою. Лучше бы я не видел этого, лучше бы не слышал этих последних слов, — запомнил его таким, каким он был на постоялом дворе. Обернуть бы все вспять…
Я вдруг понял, что в этом мире нет ничего святого.
— Убийства во благо? Так вы их называете? — Крикнул я на него, чувствуя сжимающую грудь тяжесть. — Вы, святой человек! Как вы позволили себе такое — убить ближнего?! Как же вы опустились до самого тяжкого из грехов?!
— Сын мой… — Растеряно произнес настоятель Николас, с каким-то сомнением переведя взгляд с моей негодующей фигуры на свое грозное оружие.
— Не продолжайте! — Злобно сплюнул я ему под ноги. — Нам с вами больше не по пути.
Зря я посчитал проделки разбойников случайным совпадением и не ко времени обострившейся в их мозгах жадностью. Случайное происшествие оказалось вовсе не случайным. От Самаки во все стороны вели сразу пять крупных дорог, и эта, по которой я двигался, была одной из них — вела назад, через Криметрик в Далию. Первый городок я благополучно объехал стороной, затратив на это лишние дни пути, однако появляться в нем посчитал незаслуженным риском.
Мне казалось, что перекрыть сразу пять трактов невозможно и бессмысленно, только не учел того, что в игре оказались завязаны явно не дилетанты, к тому же обладающие определенными возможностями. В общем, происшествие с западней на трясущихся золотом купцов я посчитал меня совершенно не касающимся. Если бы не одно но: все это и было затеяно ради меня.
Я часто вспоминал наш последний разговор со священником, и каждый раз меня дико передергивало, хватало жестокой яростью, заставляя беспомощно кричать от досады. Я буйствовал, часами пиная ни в чем не повинные деревья и осознавая, как вновь проснувшееся чувство никуда не пропадает, никуда не уходит. А потом еще часами сидел, безвольно повесив голову, и в голове было девственно пусто от любых мыслей.
Куда я ехал, я не знаю, хотя мог бы припомнить, если бы захотел. Просто правил куда-нибудь подальше. В какой-то момент, где земля была посуше и дождь бушевал не на полную силу, я, как и хотел, съехал с тракта, двинувшись проселочной дорогой. И, однажды остановившись на отдых в одной из рощиц, понял, что на поляне не один. Обычная такая поляна, с кривыми границами, поросшая мелкой дикой травой, примечательная разве что тем, что прямо по центру стоял широкий и не в меру рассохшийся пень, державшийся лишь на честном слове. Вообще удивительно было, как он не рассыпается прахом даже от слабого дуновения сквознячка. Вопреки воле времени он продолжал стоять.
Однако самое необычное было в том, что сидевшая на нем знакомая неизвестная мне птица, даже и не подозревала о давно истекшем сроке жизни своего насеста. Заслышав мои осторожные шаги, она обернулась, протягивая в мою сторону зажатое в ее лапе послание.
ГЛАВА 5
* * *
В этот момент Усман обернулся в мою сторону, задумчиво-хмурым взглядом скользнув по моей фигуре.
— Считаете, имперские знают или пускай подозревают о вашем здесь местонахождении?
— Повторюсь: возможно, мое здесь местонахождение и есть причина постигшего Обитель злоключения.
— А вот это мы сейчас и проверим, — хмыкнул он, проведя ладонью по подбородку. — Не возражаете, если я все же выдам им ваше имя?
— Ни в коем разе.
Орденцы на стенах, предчувствующие представление, довольно заухмылялись.
— Эй, вы! Имперские собаки! — Гаркнул Усман так громко и неожиданно, что у меня даже заложило уши. Судя по виду ближайших воинов, не у одного меня. — Вы зачем сюда пришли?! Забыли что-то?!
Дружный свист со стен был ему поддержкой.
— Дайте-ка угадаю — золото!
— Золото! — Взревели на стенах, потрясая оружием.
— Целые подвалы золота! Серебра, рубинов, топазов, алмазов! Драгоценностей! Целые катакомбы, забитые богатствами, только и ждут, пока их приберут к рукам! Вы для этого сюда заявились, собачье отродье?!
— Деньги! Золото! Богатства!
Военачальник довольно притих, пережидая истовую вспышку ревущих на стенах Обители бойцов.
— Бред собачий! Да кому нужно это неохраняемое золото?! Да никому! Верно?!
— Да-а!
— Долой золото! Вы нас не проведете, имперские негодяи! Не за золотом вы здесь! Совсем не за ним! Марек! — Гаркнул он последнее слово. — Вам нужен Марек, а?! А вот шиш вам!
Задрал он руки в неприличном жесте. Сомневаюсь, что с такого расстояния все можно было узреть в деталях, но общий посыл имперцы явно разобрали. Я бы сказал, прониклись им.
Затихшие на последних фразах командира орденцы, как-то удивленно переглянувшиеся и попробовавшие найти взглядом меня, довольно закричали.
— За золотом приходите, ждем с нетерпением! Попробуйте выковырять его у нас из кишок! Все, что достанете, — ваше!
— Да-а! — Стройным хором взревели бойцы, которым наскучило смотреть на еле передвигающегося в лагере неприятеля.
— А вот Марека мы не отдадим! Золота — сколько угодно! Но вот Марека — нет! Своего надо иметь!
— Да-а, — уже не так стройно, перебиваясь на хохот, вкричали со всех сторон. И даже со двора, остановившись от дел и запрокинув в интересе головы. — Нам самими нужен! Попробуйте забрать!
— Вы еще ждете?! Вам мало?! Особого приглашения нужно?! Вот ваше приглашение!
Трое ордецев, до этого молчаливо удерживающих на руках огромные ведра, накрытые тряпками, сбросили мешковины, явив свету и мне наполненные доверху тары. Наполненные золотом. Целое состояние!
Сначала у меня перехватило дыхание, едва я увидел это «приглашение», а потом, когда под одобрительные крики, эти трое орденцев вдруг перевернули ведра над самыми воротами. Огромные золотые монеты, сверкая в утренних лучах, звеня о стену, полетели вниз.
— Приходите и заберите! — Неудержимой яростью взревел Усман. И последовавшая за всем этим волна восторга была едва ли не осязаема, едва ли не сбросившая меня со стены вслед тому богатству.
Трое прочувствовавшихся воина в сердцах запустили в сторону имперского лагеря теперь уже совершенно пустые ведра.
Казалось, алчные взгляды легионеров, сверкающие в полулиге от Обители, готовы яростью растопить ворота и стены крепости, уже представляя все несчислимые запасы, припрятанные в недрах, в закромах приказавшего долго жить ордена. Сверкающее «приглашение» видели все, и готов поспорить, даже несмотря на то, что упало оно в пылевую подушку на дороге, выбивая в стороны фонтанчики той самой пыли, самый явственный звон раздался в головах.
— Неплохо подразнили. — Улыбался Усман, прикрываясь ладонью от солнца наблюдавший за поднявшейся у неприятеля суматохой.
— Кажется, вы их только раззадорили.
— А то! Не удивлюсь, если даже самый последний туалетный теперь точит на Обитель зуб!
— Хорошее представление. — Улыбнулся я ему в ответ.
— Ух, как же они теперь сюда рваться-то будут — по головам друг-дружки пойдут! А, как считаете, Марек? Кто успел, тот и съел, а все остальные с носом.
— Это все-таки имперские легионеры. — Покачал я головой, не соглашаясь. — Не думаю, что они станут резать друг другу глотки в жажде бесконечной наживы. Все, что они вынесут отсюда, если конечно тут есть что выносить, — намекающе кивнул я ему, — у них будет тут же изыматься.
— Друг мой Марек, вы слишком плохо знаете человеческую натуру. Особенно, — он поднял указательный палец, — особенно ту, что касается наживы. Уж позвольте мне судить с высоты прожитого мною жизненного опыта — я, как-никак, старше вас лет эдак на тридцать. И всякого уже повидал на своем веку.
Я удивленно моргнул, вновь осмотрев его фигуру. Крепкий, широкоплечий, поджарый. На лице боевые шрамы, но не следа морщин, а на голове ни единого седого волоса.
Усман засмеялся.
— Представьте себе! Вот такой вот я недряхлый старик!
— Напомните, какому божеству поклоняется ваш орден?
Стоящие неподалеку, прислушивающиеся к нашему разговору, но не встревающие в него орденцы грянули смехом. Сам псевдостарик, довольный эффектом, улыбался, являя мне идеально сохранившиеся зубы.
Пока веселились и улюлюкали явно оскорбленным противникам, не заметили, как от их лагеря отделились несколько фигур, спешной рысцой направившись в сторону Обители.
— Что-то новенькое, — хмыкнул в их сторону воевода.
— Смотрю, не последние чины, — подошел к нему некто мне незнакомый, приветственно хлопнувший Усмана по плечу. Тот ответил ему тем же. Мне же орденец просто кивнул. — Ставлю на то, что начнут грозиться с безопасного расстояния.
Усман покачал головой, укоризненно поглядев на товарища.
— Сильвестр, ты как будто первый день на свете живешь. Вон тот седой с перпендикулярным горбом на шлеме явно легат — не вздорный мальчишка, чрезмерно тщеславный или чей-нибудь сынок.
Я глянул туда, куда указывал военачальник. Разобрать среди подъезжающего народа седовласого не представлялось возможным. Необычные нынче старики пошли.
— Думаешь, торговаться едут? — С сомнением глянул на него товарищ. — Не больно ли скоро? Штурмовать они, думается мне, собираются только завтра. Зачем бы им прямо сейчас нарушать традиции?
— Да к тому же сразу после «подразниловки», — подал голос кто-то из младших.
Офицеры глянули на него с сомнением, потом как-то нерешительно переглянулись, встретившись на мне взглядом.
— Эй вы там, на стенах!
— Чего надобно?!
— Марек! Марек Арктурский?!
Воеводы с еще большим сомнением, вперемешку с недоверием, глянули на меня.
— Нежданно-негаданно… Что же вы не сказали, Марек, что в своей Обители мы привечаем целого сэра?
Я поморщился словно от горькой редьки.
— Всего лишь уточнение, не берите в голову.
— Он самый! — Гаркнул вниз мастер переговоров Усман. И добавил, подтверждая этот титул: — Не знаю, что значит: «Надрать имперские задницы каленым железом»!
Снизу бурно и с чувством выругались.
— Спускайтесь!
Сильвестр злорадно ухмыльнулся, потерев ладони.
— Мне идти с вами?
— А как же? Неужели вы действительно собираетесь пропустить все веселье?
Торг, а это был именно он, не удался. Имперские чины, едва лишь мы спустились, пройдя к ним потайной калиткой, сразу же попытались взять быка за рога, но несколько метко выпущенных к их ногам болтов и просто непробиваемая уверенность двух воевод поставила всех на свои места.
«Именем империи!» решить дело не удалось, как и «Волей императора!». На их высокопарные высказывания, что Усман, что Сильвестр лишь откровенно посмеялись, чем вызвали их полнейшее недовольство, выраженное едва не полопавшимися ремнями шлемов на их раскрасневшихся и пульсирующих подбородках.
Кидался словами, брызжил слюной и едва сдерживался, чтобы не выхватить оружие исключительно седовласый легат, однако по взглядам остальных сопровождавших его легионеров можно было прочитать полное согласие, хотя и непонимание. Просто так принято — ты не обязан понимать, но обязательно должен поддерживать.
Когда заведомо проигрышная стратегия не сработала, право говорить взял статный господин, оказавшийся наместником провинции, на землях которой и расположилась Обитель старого ордена. Вернее, провинция, выросшая вокруг неприступной крепости орденцев.
Говорил он сдержанно и кратко, и по тому, что говорил, становилось понятно, чей заслугой мы обязаны этому визиту и кто стали его инициатором. Легат был откровенно недоволен, однако помалкивал, передав полное право торговаться, — теперь уже точно торговаться, — знающему больше него наместнику.
— А? — Переспросил я, взглядом ища позвавший меня голос.
— Я говорю, отвлекитесь от ваших воспоминаний, Марек, — ухмылялся Усман, наполняя свой и ближайшие кубки. — Думаю, сейчас самое время расслабиться перед завтрашним штурмом.
— Конечно!
— А вот я теперь уже не уверен. — Покачал головою вслушивающийся Сильвестр.
— Да брось ты! Все готово к атаке, и новая переменная в их плане не станет причиной для отмашки запланированной операции.
Я присвистнул.
— Что поделать, — развел руками Усман, — я уже давно живу на свете, всего успел понахвататься.
— И кто меня сегодня порицал тем, что я как будто первый день на свете живу? — Пропустив его последнюю реплику мимо ушей.
— Как считаете, Марек, это хорошая ночка для откровений?
— Считаю, превосходная.
Усман с той стороны стола отсалютовал мне бокалом.
— Желаете знать отчего?
— Догадываюсь, — кивнул он, — но услышать это от вас было бы вернее.
Я развел руками.
— Ночка накануне смерти — тут хочешь не хочешь, а выговоришься. Что уж тут таить-то.
— Тогда может поведаете, почему тот имперский хлыщ обозвал вас Арктурским? — Вояка подался вперед. — Неужели передо мною теперь сидит благородны сэр: рыцарь али барон?
Он хитровато прищурился, только чтобы через секунду выругаться.
— Герцог, — хмыкнул я, не особенно добиваясь какого-то результата. Но результат был — орденцы все как один прекратили пьянствовать и скалиться, взглянув на меня иными глазами. У многих губы в присвисте свернулись в трубочку, но самого свиста так и не последовало. — Не берите в голову, — откинулся я на спинку кресла, — титул номинальный, а формально… У меня нет ни земельного надела, ни худо-бедно известного дворянского рода, ни даже собственного герба.
— А как же…
— Чтобы, скажем так, всякая чернь по королевскому двору не шныряла. Несколько вынужденная мера.
Некоторое время мы с Усманом играли в гляделки, прежде чем он громко хмыкнул на потонувший в тишине зал, громко и чувством выругался и довольно заухал — засмеялся. Остальные тоже не остались в стороне, принявшись зубоскалить друг другу.
— Оставим этот вопрос. Я все понимаю — это уже кое-что личное, и умею быть дипломатичным. Временами…
Новый взрыв хохота раздался за столом.
— Как насчет того, чтобы немного возвратиться во времени, скажем, припомнив наши с вами взгляды на алчность людей?
— Пожалуйста, — пожал я плечами. — Однако кроме моего поверхностно сложившегося мнения вы ничего не услышите — мне нечем его подкрепить.
— Вот! — Наставительно поднял палец Усман. — Об этом я и говорю. Жаль, весьма жаль, Марек, что вам не довелось встретиться с настоятелем Николаем. Окажись вы в наших стенах месяцем ранее, вы наверняка пересеклись бы с ним — настоятель частенько бывает в наших местах, и особенно любит погостить в Обители. Но теперь уже, увы, вряд ли
— Марек, — внезапно подался вперед Усман, — вы бывали когда-нибудь в лесах Сантрипо Грация?
— На другом континенте? — Шокировано округлил я глаза. — Бывал.
— Вот как? — Оба офицера сдержанно поперхнулись. — И что, простите, вы там забыли?
— Шутка, я блефую, — улыбнулся я. — Мне просто была интересна ваша реакция. Однако о лесах Сантрипо весьма наслышан. Собственно, как и о Грацие.
— Да, громкая была когда-то история.
— А вы сами, Усман, раз спрашиваете, должно быть, бывали?
— Я оттуда родом.
— И что, простите, вы здесь забыли?
Он вежливо улыбнулся, признавая за мною раунд. Зато Сильвестр во весь голос расхохотался, довольно хлопнув кружкой по столу:
— Как он тебя, а?
— Неблагополучные леса в неблагополучном королевстве, — желая загладить возможное недопонимание, продолжил я. — В те времена, когда две империи были единым целом, проводилась полномасштабная экспансия на ближайший материк. И Граций был первым королевством, встреченным Священной империей на своем пути. Целые легионы армий высадились на тех берегах…
— Где в непроходимых лесах все и полегли, — закончил за меня воевода. — Граций неприступен с моря, леса Сантрипо непроходимы. Священная империя поняла это, однако поняла слишком поздно, когда возвращать назад с негостеприимного материка оказалось уже некого.
Мы помолчали.
— Мы обменялись исторической справкой, — заметил я.
— Это было мое откровение, — упрямо взглянув на меня, закончил воевода.
— Весьма познавательно… и поучительно.
— Послушаем, что расскажет нам Сильвестр?
— Да пожалуйста! Я всегда готов к откровениям. Я в любой момент готов исповедоваться в злостном и неоднократном преступлении наших священных запретов. День и ночь — много раз, но иногда, — подскочил он, высокопарно задрав голову, — я сдерживался что есть мочи, я блюл месяцами! Чаще двумя, потому как на большее меня не хватало…
— Сядь уже, — едва сдерживаясь от смеха и с укором поглядывая на младших товарищей, беззвучно согнувшихся над столом, пробормотал Усман. — Про твои грандиозные похождения по богатым юбкам в Обители известно всем без исключения, даже магистру. Все их слышали, и не раз!
— Это все были старые и мною уже давно забытые! Я обзавелся новыми!
— Я… не знаю… когда ты успел, — перебиваясь на позывы хохота бормотал его старший товарищ, — но оставь подробности… при себе. Постой-ка, ты ежеминутно был при мне и не отлучался из Обители ни на один день! Как ты сумел?! Кто-о?! — Вскочил он, обводя яростным взглядом заполненный бойцами ордена зал. — С кем?! Я не желаю знать подробности, просто укажи мне на этого негодяя и уже завтра утром вы оба прямо перед наступлением подвергнитесь Четвертому наказанию! Прямо перед вратами!
Что тогда началось — невозможно описать. Все утреннее веселье, когда Усман в свойственной ему манере дразнил осадившие крепость имперские войска, не идут ни в какое сравнение с той истерикой, что сейчас закатилась. Орденцы висели друг на друге, лежали на столах, потряхиваясь от хохота, сползали в бессилии на пол. На гневные восклицания раскрасневшегося командира, требующего назвать имя поганца дабы в целях истинных и истовых обелить имя столь светлого ордена, своими мирскими деяниями и молитвами снискавшего славу самого богатого на весь свет.
— Бесполезно! — Смеялся вместе со всеми Сильвестр.
— Садись уже, — буркнул Усман, первым подавая пример. — Я не имею ни малейшего представления, как ты умудрился провести ее в крепость мимо меня. Где она?
— В покоях магистра. — Усман страдальчески взвыл. — И не она, а они. И они тут еще с отъезда настоятеля Николая.
На воеводу было жалко смотреть.
— Когда ты мне собирался об этом сообщить?
— Да, в общем-то, никогда. Магистр знает, и ладно.
— То-то его сегодня с нами нет…
— Как видишь, это только твоя вина, что ты не задумывался о причинах и следствиях. А теперь позволь мне откланяться, у меня сегодня еще весьма важное и несомненно приятное дело.
— Это было откровение Сильвестра…
— Теперь дело за мной? — Хмыкнул я.
— По вашему собственному желанию.
Я кивнул.
— Это разумно, но ведь я сам только накануне признал, что эта ночь — лучшая ночь для откровений. Будет несправедливо, если я один не поделюсь чем-нибудь эдаким.
— Вы знаете об этом! Знаете о существовании ночи, когда мертвецы поднимаются из могил!
— Вам кажется.
— Нет, не кажется! Вы совсем не были удивлены услышанным!
— Это событие, когда мертвецы поднимаются из своих могил в поисках живых существ, называется упыриной ночью. Действительно, мне довелось стать свидетелем опустошенного этими тварями селения. Давным-давно, еще не на этом континенте. Вот вам еще одно крохотное откровение от меня: Упыриная ночь — стихийное, неконтролируемое явление, и, к сожалению, далеко не единственное в своем роде.
— Сейчас день или ночь? День или ночь? Не понять.
Облака пепла, заполонившие небо, скрыли солнце. Они — неумолимо жгут, а ветер, как будто до глубины души оскорбившийся чем-то, дул только в эту сторону.
— Какая-то напасть.
Хриплый голос, уставший, а за ним какой-то нервный смешок. Веселого было мало, смешного — еще меньше. Хотелось выть от бессилия и страха, но это признак слабости. Хотелось сорваться, но это — признак несдержанности и глупости. Хотелось… Хотелось делать хоть что-нибудь, но вместо этого воля мудрых обязывала подчиняться. Неукоснительное выполнение — вот все.
— Темно-то как…
— Страшно. Страшно вот так ожидать незнамо чего…
— Понятное дело, хе. Потерпи, уже скоро.
— Откуда же тебе знать?
— Поверь мне, знаю. Не первый год на свете живу и не в первый раз ожидаю смерти.
— Смерти? — Гулко сглотнул кто-то. — Он сказал смерти?
— Смерти-смерти, малец. Ты не ослышался.
— Ну что там? — Гаркнул наверх уставший ждать новостей воевода.
Две с лишним сотни бойцов, над ними Усман и магистр столпились во дворе Обители вокруг неторопливо и качественно возведенных баррикад. Еще свыше полусотни, возглавляемые вторым орденским воеводой, заняли стены.
— Они идут, — откликнулся сверху Сильвестр.
— Ну, и что?
Даже на таком расстоянии было видно, как тот побледнел.
— У них десятка.
Усман громко и с чувством выругался. И словно в довершение, раздались возбужденные крики орденцев со стен, тоже увидевших то же самое.
— Десятка! Они тащат десятку!
— Что такое десятка? — Тихо спросил себе под нос один из младших, еще возможно не прошедших инициацию орденцев. Похоже, он не рассчитывал на ответ, но я все равно откликнулся:
— Таран.
— Таран? Но почему таран назвали десяткой? Что значит это название?
Я хмуро оглядел массивные, с виду неприступные внешние врата Обители, гадая, что же там такое имперцы припасли. А припасли они нечто серьезное.
— А значит это, малыш, то, что тарану потребуется на эти врата самое большее — десять ударов.
— Но разве такое возможно? — Мгновенно побелел он лицом, самым критическим взглядом глядя на подпертые сразу тремя бревнами створки ворот.
— Я тоже о таком не слышал, но если так определил сам воевода, то выходит, что возможно.
— Не повоевать! — Закончил ругаться над ухом Усман. — Вот же ж собаки — решили нас мясом задавить. — Он хлопнул кулаком по набитому землей мешку. — И это самый разумный вариант для них, потому что стены мы можем держать сутками напролет! Но откуда же они вытащили такую дуру? В столь короткий срок? Имперские свиньи и свиной трус-легат!
— Откуда жгут? — К нам неспешно подошел магистр: полный латный доспех, полуторный меч и седая длинная борода с такими же волосами словно грива — невероятное зрелище, притом, что как боец магистр был околонепобедим.
— С западных предгорий. Видимо, тумана они так и не смогли дождаться.
— Они травят своих же, — заключил магистр. — Долго это продолжаться не будет.
Усман согласно кивнул.
— Им лишь бы подвести войска, подвести таран. А там уже возьмут числом.
— Уверен, это та же десятка, что штурмовала Карабас.
— Считаете? Мне казалось, что тогда ее развалили на запчасти — Карабасцы же всегда славились своими гремучими смесями.
— И тем не менее, это она. Подлатанная, скорее всего, восстановленная, но, как видно, действующая, если ее все же тащат.
— Тогда у нас действительно проблемы.
— Если считать ими то, что очередной рассвет мы уже вряд ли увидим, — пожал плечами магистр.
— Впереди идут наемники. На стены, — прикрикнул вниз Сильвестр. — Тут и арктурские, с южных герцогств есть! Регуляры стоят позади — эти попрут в ворота.
— А они? За что сражаются они, а, Малько?
— А мы за что сражаемся?
— Мы — за веру. Битва за веру священна.
— Вот и они за веру.
— Они бьются ради денег, обыкновенные наемники!
— Значит, — нравоучительно заметил Малько, — они верят в деньги. Каждый верит и сражается за то, чего сам желает.
— Ты богохульник! — С ужасом покачал головою самый младший, а остальные тихонько засмеялись.
— Хулу еще нужно доказать. Как считаешь?
— Были бы здесь все магистры…
— Но их нет, верно? Если еще и живы на южных рубежах империи со всеми нашими братьями, то ненадолго. Ничего сверхнеобычного, наемники — это ведь просто люди. Они хотят денег, богатство их божество. Их можно понять, вот как я сейчас понимаю тебя.
Малец хотел было что-то сказать, раскраснелся, уже раскрыл рот для истовой речи, да так и замер. Сглотнул тягучую слюну и отвернулся, до зубовного скрежета сжав челюсти. Старшие понятливо хлопнули его по плечам, но тот, кажется, этого даже не заметил.
— Усман! — Донесся до моих ушей звучный окрик магистра.
Он бился сразу с тремя имперскими наемниками, наседающими на него с трех сторон. Однако риариям можно было только посочувствовать, потому что ход боя протекал явно не в их пользу. Полуторный меч плясал в его руках, магистр размахивал им словно деревянной болванкой, блокируя, отводя и парируя наскоки всех троих. Причем неважно, порознь ли атакующих или всех одновременно.
— Магистр?
— Пора, Усман!
Воевода замер, чисто механически продолжив отбиваться от нападок своего противника.
— Это воля магистров?
— Я здесь единственный магистр, так что да, это воля магистров! Поспеши!
Меч сверкнул в руках Усмана, виртуозно отбивая косой удар имперца, нанесенный из средней стойки. Шагнул в сторону, целя ему в плечо — тот успел закрыться щитом, в который орденец со всего маху воткнулся плечом. Легионер отступил на несколько шагов, сохраняя равновесие, но из-за задранного щита не успел заметить бьющего его по ногам клинка. Истошно заверещал от боли, заваливаясь на бок, но земли коснулся уже хрипя, с рассеченной шеей.
— Что происходит?
— Сейчас мы призовем свое божество, — хрипло бросил воевода, пробегая мимо меня.
Что ж, я хотел узнать их божество, и все идет к тому, что вскоре узнаю. Только боюсь, это знание станет для меня последним откровением. Карабасцы поклонялись Пороху, но даже им не удалось дать приличествующий отпор жадной до чужих сокровищ империи. Настала очередь Обители продемонстрировать ненапрасность своего поклонения.
Земля издала такой протяжный рев, что заложило уши, но то, как она в следующий миг задрожала, заставило меня судорожно хвататься за стены, неумело отпинывая повисшего на мне имперца прочь. Пришлось несколько раз ударить его навершием по сползшему на затылок шлему.
У меня подогнулись колени, и не у меня одного. Однако я, нашедший опору, остался стоять, глядя как остальные люди, как защитники так и атакующие, попадали. На их лицах царил неописуемый ужас. И если имперцы, почувствовав неладное, заорали от страха, то орденцы от несдерживаемой радости и восторга. И если первое от того, как задрожали противники, то второе — от снизошедшего на них божества. Он не оставил их, услышал мольбы и чаяния верующих в него последователей.
Не прекращавшая дрожать ни на секунду земля вдруг расступилась. Разошлась тысячей паучиных сетей, извергнув из себя бьющее до самых небес пламя. Я упал на холодный, но быстро нагревающийся пол, обхватив голову руками, но уже сейчас понимал, что спасения от этого воли божества Обители вряд ли найдется.
ГЛАВА 6
— Ты когда-нибудь интересовался, что за неведомые птицы с таким усердием таскают тебе письма от твоего приятеля?
— Хм, должен заметить, что не все, далеко не все те письма оказались за авторством самого Номада.
— Что поделать, я тоже иногда люблю развлечься бумагомарательством и корреспонденцией. К тому же эти птицы принадлежат исключительно мне. Но не суть — хотелось бы обратить внимание на свой оставшийся без внимания вопрос.
— Если вопрос к самому себе можно считать любопытством, то да, интересовался.
— А стоило бы поинтересоваться у того, кто именно тебе их посылает.
— Такие невероятные птицы?
— Много невероятнее, чем ты думаешь. — Одна такая птица едва слышно проворковала где-то под крышей. Хозяин поместья улыбнулся. — Императорские соколы — единственные птицы, способные найти своего адресата где бы тот ни находился. Говорят, в дороге они даже способны предугадать предполагаемый маршрут своей цели. Эти невероятные птицы никогда не ошибаются и никогда не теряют своих посланий — еще не было случаев, когда бы императорского сокола сбили во время доставки послания. На охоте, при… — да, но не во время исполнении поручения.
Он помолчал немного, с полуприкрытыми глазами вслушиваясь в едва различимый клекот под потолком. По всей видимости, ворковали там уже двое.
Легко уловив мою мысль, собеседник проговорил:
— У меня две таких птахи, и еще две, насколько я знаю, принадлежат императорскому двору Железной империи. Всего же количество столь необычайных птиц по всему миру не превышает трех сотен.
* * *
— Ну и пекло здесь! Это ведь пепел? Пепел! Так почему он настолько горяч?!
— Затихни, Гринди.
— Здесь никого нет, только мы! Да вороны. Только клевать этим проглотам здесь нечего! Разве что только пепел. И почему он настолько горяч?!
— Я сказал, затихни.
Второй даже не повышал собственного голоса, но по тому как это было сказано, отпадало всякое желание поступать ему вопреки. Или, что еще хуже, вступать с ним в опасную полемику.
— Э-э, да тут все подземным пламенем выжгло… Ничегошеньки не осталось.
— И ты туда же?
— А-а, да забей ты. Знаешь, Повокла, ты слишком серьезен. Гриди дело говорит: тут никого кроме нас нет. Никогошеньки. И ничегошеньки, чем бы можно было поживиться. Все сгорело дотла. Впервые такое вижу, чтоб ни трупов, ни костей, ни захудалой железяки… А кто-то болтал будто тут полным-полно золота…
— Тут даже вон.
— Что вон?
— Ну это — ничего нет.
— А я тебе о чем толкую?
— Не-не, я про все, не про это.
— А-а, ты в общем!
— Ну да, же!
— Это да, видел я здешние стены, и саму крепость, то есть за стенами, ихнюю видел. Да-а, здоровенная была! А теперь что, где она?
— Вот-вот! И где стены?
— Ты давай мне не поддакивай, чай не голубки. А стены это да — в пух и прах, как говорится. А крепость так вообще — под землю будто канула. Что скажешь, Повокла?
— Скажу, чтобы вы оба заткнулись.
— Опять ты за свое. Что? Куда это ты указываешь? О-о, кое-что еще осталось!
— Не все сгорело! Но до чего же тут горячо! Ай! За что?!
— Куда поперек батьки лезешь?! А ну пошел отсюда, Гриди!
— Куда?!
— Иди… вон, ворон разгони.
— Там это… Они кипишуют чего-то…
— Чего-о?
— Жрут они там чего-то, говорю!
— Ох ты ж… Повокла, хей, Повокла! Поди сюда!
— Ну?
— Гляди, первый труп! А вон еще, смотри! И вон, и вон! Сколько их тут, под пеплом?!
— Это лестница, лестница не прогорела, выдержала жар и пламя. Колонны, из которых она сложена, видимо, монолитные, огроменные…
— Пепел горячий, жжется…
— Замолкни… Э-э… Повокла, тут это, кажется, того…
— Чего того?
— Тут один, кажется… живой!
— Ох ты ж, Создатели…
— Нет-нет-нет! Не смей подниматься!
Кто-то мягко, но твердо удержал меня за плечи, прижав обратно. У меня не было ни сил ни желания сопротивляться этому необычайно осторожному напору.
— Вот, попей, — что-то твердое ткнулось мне в губы. — И отдыхай. Даже не думай вставать и ничего не спрашивай. Потом, все потом.
Ладонь легла мне на лицо, коснулась лба. Она чем-то пахла. Чем-то… что я не мог определить — я ничего не чувствовал, ни единого запаха. Поэтому ли во рту разлилась та неприятная горечь, обжегшая гортань, спустившаяся вниз, к самому нутру, столь соответствующе на нее отреагировавшее. Меня скрутило спазмом и, кажется, вывернуло наизнанку, хотя в последнем я не уверен — это словно происходило уже без моего обязательного участия.
Меня пытались отравить. У них ничего не вышло.
— Присядь. Как себя чувствуешь?
— Превосходно.
— Я слышу сарказм. Спешу напомнить, в твоем случае категорически не должно быть места подобным проявлениям. Так болит? Здесь?
— Везде болит.
— Ну же, не хмурься — ты жив, а остальное неважно. Будешь спорить? Ну, давай же, поспорь! Твоя угрюмость утомляет.
— Тогда оставь меня, нечего со мной возиться.
— Может быть тогда и вытаскивать тебя с того света не стоило? Молчи, не хочу ничего слышать! Я и так знаю, что ты ответишь!
— Куда ты?
— У меня больше нет сил! Приду вечером. А до тех пор выпьешь это.
— Я не буду Это пить!
— Выпьешь как миленький.
Хлопнула дверь, набатом ставя жирную точку в этом разговоре.
— Больно.
— Терпи!
Ее аккуратные пальчики умело распутывали лиги бинтов, плотно стягивающих мое тело. Она запрещала мне двигаться… Двигаться, ха-ха, как будто в этом саване без посторонней помощи можно было хотя бы сесть! Хотелось бы верить, что она перестаралась с заботой, однако подобные меры, по ее мнению, были не просто в самый раз, но необходимы. И боюсь признать, но она была исключительно права: эти путы единственное, что сумело задержать меня здесь, в этих пропахших вечной весной, четырех стенах.
Сирень, крыжовник, утренняя роса и прохлада — свежесть, приятно щекочущая ноздри. Я не потерял нюх, как опасался изначально, и этот запах… словно дарил некую надежду. Твердил о том, что все всегда начинается заново, все обновляется. Обещал исцеление. И я ему поверил. Как и ей, из раза в раз накладывающей чрезвычайно тугие повязки. Так нужно, — и я молчаливо соглашался, позволяя себе ворчать лишь тогда, когда дело было сделано.
А еще… повязки пахли свежестью. Каждый раз обновленные они одурманивали, заставляя бесполезно валяться, вдыхая их чудесный аромат, и голый потолок, пронзенный единственной деревянной балкой, многие часы напролет оказывался прелюбопытнейшей картиной созерцания.
— Я постараюсь сделать посвободнее, чтобы ты мог ходить, долго отлеживаться тоже вредно. Особенно воинам.
— Я не воин.
— Тебя нашли на Осколке, ты ведь из их ордена, верно? А они там все воины. Ну вот, готово. Как себя чувствуешь?
— Терпимо.
— Хм, прогресс налицо. Я поставлю стул здесь, в дальнем углу. Попробуй походить по комнате, но прошу тебя, не перенапрягайся. Ты сейчас еще очень слаб.
— Это все из-за той отравы…
— Да, кстати о ней, чуть не забыла. Я принесу ее тебе через пару минут.
Я тихонько застонал, молясь лишь о том, чтобы она этого не услышала — выслушивать наставления сверх этого наказания не было никакой мочи.
— Ты упоминала Осколок.
— Что?
Она отвлеклась от какой-то книги, которую вдумчиво и с выражением мне читала уже битый час. Сказать по правде, суть я потерял минуте на пятой, и все остальное время лишь молчаливо слушал ее повествование произведения, судя по всему, ей весьма интересного. На меня, сонно клюющего носом, она поглядывала только первое время, оказавшись вовсю втянутой в оставшиеся для меня таинственными переплетения неизвестного мне романа столь же неизвестного автора.
— Ты упоминала Осколок, помнишь? Что ты под этим названием имела в виду?
Книга медленно, со вложенной между страниц ажурной закладкой, была отложена в сторону. Узкие, с необыкновенно тоненькой оправой, очки отправились вслед за нею. Поправив укрывающий ее ноги шерстяной плед, она внимательно взглянула на меня.
— Я вижу по твоим глазам, что ты пытаешься от меня что-то утаить. Прошу, не нужно недомолвок, скажи как есть.
— Возможно, это будет тяжело…
— Сама же говорила, что я сильный.
— Ты сильный, раз сумел выжить.
— Тогда скажи мне.
Почему-то мне это казалось чрезвычайно важным.
— Осколок… Та крепость, которую вы прежде называли Обителью… В общем, ее больше нет.
— Нет крепости? — С сомнением протянул я. — Такого не бывает. Что это за сила такая, уничтожившая неприступное творение рук людских?
— Ты не впадаешь в отчаяние, — кивнула она, — это хорошо.
— Не торопись, возможно, я еще не до конца уверен.
— Ты подвергаешь скепсису мои слова? — Подняла она брови домиком.
— Да как я смею?
— И все же?
— Самую малость.
Она возмущенно фыркнула.
— Не помню, чтобы хоть раз давала повода усомниться в том, что я говорю. Однако если хочешь, можешь поверить мне на слово, так как никаких доказательств тебе я предоставить не могу.
— Прошу тебя.
— Тебе виднее, что там было, и что за тайную силу своего ордена вы использовали, но стены разрушились словно песчаные, а сам замок целиком ушел под землю. Живым нашли лишь тебя.
— Что это было, кстати?
— Я думала, это ты мне скажешь.
— Не скажу, ибо даже не представляю.
— Я дочитаю главу и пожелаю тебе приятных снов.
— Как скажешь, — пожал я плечами. — Я здесь гость, а ты хозяйка, тебе и решать, когда меня лучше всего запирать.
— Ты здесь не пленник, — поджала она губы.
— Тогда выпусти меня.
Она поднялась. Плед упал на землю, но остался словно незамеченным.
— В следующий раз дочитаю. Доброй ночи.
Дверь привычно хлопнула, оставив меня наедине с грызущими меня изнутри мыслями. Я подозревал, что это затаившаяся до поры до времени совесть.
— Я не буду это пить. Снова.
— Перестань, ты давным-давно не ребенок, а я не твоя заботливая мамочка.
— Но выглядит все именно так…
— Что ты там бормочешь?
— Очень жаль, говорю, что не мамочка. Я бы лучше молочка попил, чем этого…
Кажется, я сказал что-то не то — пунцовыми лица не становятся сами по себе.
Я задумчиво перебирал пепельно-ржаные локоны, любуясь ее умиротворенным лицом с пушистыми ресницами и приоткрытым во сне ротиком. Зрачки только-только перестали возбужденно бегать, а значит, женщина по настоящему заснула, окунувшись из мира дремоты в мир грез.
Моя ладонь легла ей на плечо. Такая грубая, изуродованная мозолями, ссадинами и шрамами ладонь легла на идеальной чистоты кожу, мягкую и податливую кожу предплечья. Я уже и забыл каково это — касаться женщины.
Она уснула рядом со мною, за чтением, кое занятие она всенепременно любила, зачастую отдавая ему большую часть вечера. Читала вслух, с необыкновеннейшим талантом, отчего ее было просто приятно слушать. Не обязательно было вслушиваться и понимать о чем речь, пытаться разобраться в хитросплетениях таланта автора, а просто слушать немонотонное повествование. Чем я и занимался, пропуская если не львиную, то большую часть сюжета. Думал о своем или просто разглядывал ее, понимая как она красива, осознавая, что я все еще мужчина…
Она уснула рядом, положив голову мне на плечо, но очень скоро безвольно повисла, нежно уложенная на колени. Сон сморил ее полностью. Не знаю, чем нужно заниматься весь день, чтобы вот так засыпать без задних ног, с какой-то глупой улыбкой подумал я.
Ладонь медленно переместилась чуть выше, минуя ее полуприкрытые груди, легла на шею, едва-едва ее касаясь. Такая тоненькая, такая хрупкая… Казалось, я мог ее обхватить одной рукою. Прямо сейчас. Схватить и крепко сжать, и я смогу уйти не попрощавшись.
Женщина заворочалась во сне и не дала мне исполнить того, что я с каким-то отрешением уже рисовал себе в воображении. Она повернулась, обхватив мою руку сразу двумя руками и прижав к себе. Книга с глухим звуком упала на пол, выронив свою ажурную закладку. И мое наваждение словно сдуло ветром — она мне доверилась, она обо мне позаботилась, и я не мог так поступить. Это было бы просто чудовищно, даже для меня.
Гувернантка неуверенно ойкнула, когда я осторожно открыл дверь плечом, удерживая на руках сонно прильнувшую ко мне хозяйку.
— Где ее комната?
Оглядев меня критическим взглядом, решая можно ли мне покинуть свои покои, она надолго задержалась на удерживаемой мною ноше. После чего, фыркнув, повела за собою. Указав на нужные двери, просто оставила меня одного.
Я бережно уложил женщину на громадную кровать, прикрыв легким покрывалом, и уже собирался возвращаться к себе, когда она несмело приоткрыла глаза.
— Останься, — прошептали ее губы.
— Вот интересно, — пробормотал я, глядя на себя в начищенное до блеска металлическое блюдо, — кожа обгорела, даже на голове волосы поредели и висят клочьями, а бороде хоть бы хны.
Миражанна сдержанно улыбнулась, явно недовольная тем, что я нашел способ себя оглядеть.
— У тебя будет бритва, лезвие, хоть что-нибудь?
— Не сейчас! — Отрезала она.
— Похоже, мне от нее ни за что не избавиться.
— Я потеряла закладку и не помню на чем остановилась. Ты мне не поможешь?
— Эм…
Я старательно нахмурил лоб, стараясь глядеть куда-то поодаль — по моему мнению, так получалось наиболее достоверно.
— Ладно, я поняла. Как-нибудь в другой раз припомню.
Книга, а сверху закладка, легли в сторону. Очков не было. По каким критериям она решала их использовать, оставалось для меня загадкой. Вместо чтения она положила голову мне на колени, принявшись играть со мною в гляделки. Но очень скоро проиграла, начав зевать и подолгу моргать. Не успел я опомниться, как она уже дремала.
Однако стоило попытаться мне ее приподнять, чтобы отнести к себе, как она умело вывернулась на кровати, призывно потянув меня к себе.
— Что это? Перемешанные желтки?
— Апельсиновый сок!
— Вздор! Апельсинам неоткуда появиться в этом краю, а значит, это опять какая-нибудь дрянь.
— Ты невозможен!
Она залпом выпила ярко-желтое содержимое моего стакана, и сколько бы я не всматривался, так и не смог обнаружить отражения хоть какого-либо послевкусия на ее лице.
— Я хочу апельсинового сока.
— Вздор! Апельсинам неоткуда появиться в этом краю, а значит, будешь пить яичные желтки.
Я вздохнул.
— И на том спасибо, что больше не заставляешь меня пить выворачивающее наизнанку… нечто.
— Это было лекарство.
— А еще я слышал, что апельсиновые соки полезны.
Улыбаясь краешком губ, она подвинула мне свой бокал. При этом в ее глазах плясали лукавые искорки.
Она выглядела обворожительно. Не очень высокая, стройная и гибкая словно ствол березы и с такой же светлой кожей, она не вошла — вплыла в трапезную, приветственно улыбнувшись лишь одними губами. Глазами же она меня просто пожирала. А я ее, обтянутую в таком тончайшем платье, что казалось, будто оно больше открывает все ее прелести, нежели скрывает.
Она остановилась поодаль, требовательно взглянув на меня из-под опущенных ресниц. Я не помню, как оказался рядом, стоя перед нею на одном колене и прижимая к губам ее ладонь.
— О госпожа, ответь мне! Как зовут столь прекрасную деву?
— Миражанна, — кротко ответила она, опустив голову.
— В постель!
— Здравствуй, Повокла.
— И вам не хворать, господин.
Селянин одарил меня взглядом прищуренных глаз, отвлекшись от скидывания с телеги накошенной травы.
— Надобно чего-то?
— Госпожа ваша сказала, что за мое спасение нужно поблагодарить тебя.
— Не меня, — мотнул тот заросшим волосами лицом, — а вон его. Он вас и нашел.
Я обернулся на вышедшую из-за палисада пару, вооруженную вилами с висящими на них ошметками травы. На кого из них двоих указал крестьянин, я не разобрал, просто приветственно кивнув обоим.
— О-о, да мне никак чудится! Гринди?
— По-моему нет, — как-то кисло откликнулся тот, что был помоложе.
— Доброго здравьичка, господин! А оно вам, судя по всему, и не особо надобно — выглядите так, как только что из мамки выбрались.
Повокла на него недовольно шикнул.
— Да не шикай ты! Я же это, я же не пургу мелю, а как есть говорю. Быстро вы поправились, господин!
— Хозяйка ваша, Миражанна, постаралась.
— Да-а, госпожа Миражанна та еще умелица — настоящая знахарица. Бабки твердят, любую проказу может исцелить, а вы же знаете бабок — этим не особливо надобно врать. У нас в деревне так: что тяжкий недуг, так идти на поклон к госпоже целительнице. Она-то завсегда поможет, и завсегда излечит. Да и роды она лучше всяких… принимает. А вы чего сюда, просто так али по делу?
— Поблагодарить хотел и на этом, собственно, все.
— А-а, да это всегда запросто, господин. Что ж мы, не люди что ли, оставлять там живого человека, на таком-то пепелище…
Повокла на него снова шикнул, куда грубее прежнего, но тот уже и сам поспешно захлопнул свой разговорившийся сверх меры рот.
— Да вот, кстати, хотел спросить: а что вы там делали, на руинах Обители на следующий день после штурма ее имперскими войсками? На Осколке, в двух днях пути отсюда.
Замялись все. Повокла недовольно проворчал сквозь зубы, Гринди шмыгнул обратно за палисад, а болтун виновато закусил губу. Этой темы они, судя по всему, стараются избегать.
— Так снеди мы свозили-то, — развел руками тот. — Наша деревенька завсегда торговала-то с орденом. Мы им хлеба да молока, а они нам деньги.
Я понимающе кивнул.
— А вообще, хорошо у вас тут. Уютно. Сразу видно, богатая деревня.
— Так все же стараниями нашей хозяйки, господин. Если б не она!
— Богатая у вас деревенька. Богатая.
— Настолько богатая, что у обыкновенных деревенских рубак на поясах под одеждой висят имперские мечи.
— Это из моих запасов, — тут же откликнулась Миражанна. — Я сама их им выдала.
— Зачем человеку, не умеющему пользоваться мечом, меч?
— Я предложила — они не отказались.
— Это все равно, что дать барану мандолину…
— Отсюда два дня до Осколка. И привезут они за эти два дня вместо хлеба да молока сухари да простоквашу. Какое-то бесполезно занятие, не находишь?
— И, знаешь, что-то я их не припоминаю в стенах Обители.
Я бил наугад, не имея ни малейшего представления о действительно положении вещей, однако кое-что, так явно всплывшее перед глазами, позволяло мне это делать
— Это они тебе наплели? — Спустя пары минут тягучего молчания откликнулась женщина, плотно сжав губы.
— Надеюсь, ты не думаешь, что я это все сам придумал?
— Балбесы! Лучше бы сразу признались, чем врать нелепицу, — кому! — орденцу! — Вспылила она, вскочив.
— Давай по порядку, — попросил я.
— Хочешь напрямую? Мародерствовали они там, вот что! Сорвались с места сами не свои, отпросились у меня на несколько дней, и вдруг спустя четыре дня заявились ко мне с полутрупом в телеге и повинной! Да если бы я знала изначально, куда они собираются, я бы сразу им их поникшие головы бы пооткрутила!
— Не сомневаюсь, — почему-то поверил я. Трудно не поверить, когда, странно, что еще не кипящая, женщина в истинном возмущении наматывает круги по комнате. Тут бы о себе позаботиться в первую очередь. — И много они там намародерствовали?
— Тебя вот привезли!
Она остыла так же быстро, как и завелась. Села мне под боком, ткнувшись плечом.
— Прости за резкий тон, — пробормотала она своим коленям. — Я не хотела тебя оскорбить и обидеть и… — Она тихонько шмыгнула. — Но не подумай, я рада, что они тебя привезли, и особенно рада, что ты оказался таким охочим до жизни. Любой другой бы даже не выдержал одного лишь пути… Но ты сильный, ты сумел. А я не имею права так говорить… Прости меня.
Я ничего ей не ответил. Лишь прижал посильнее к себе, слушая ее оправдываюшийся лепет.
Деревня выглядела пустынной. Словно только недавно покинутой. Крепкие саманные избы, в срок и с мастерством подлатываемые, хорошие изгороди и плетни, не рассохшиеся, без прорех, богатое дворовое хозяйство, преимущественно птичье, и прочая утварь. Все казалось умиротворенным, таким идеальным, но незаконченным. Не было людей.
Знакомая троица приветственно кивнула мне откуда-то с краю деревни. Чем они там занимались — хороший вопрос, потому как я был готов поставить на то, что ловили нечто в луже помоев. Ближе подходить я к ним не стал, завернув на вторую из двух улиц селения.
Нет, не то, чтобы жителей здесь не было — просто я их не видел. Но вот следов от них — полно. Пасущийся где-то на лугах скот, печной дым из труб, забытые на завалинках ведра, вывешиваемые на сушку вещи. Словно деревня полностью вымирает, исключая трех неизменных спасителей, при моем приближении. Почему они прячутся, сами ли этого желают или получили какие-то указания от хозяйки — неизвестно.
Я нервировал здесь всех, мешал им спокойно заниматься своими делами. Я это понимал, мельком наблюдая выглядывающие в мою сторону из окон силуэты. Это было необычно, хотя на правах гостя я не имел права тут что-то разнюхивать. Просто должен смириться с очередной странностью, и так натерпевшись их целую прорву от обворожительной Миражанны. Какая хозяйка, такое же у нее и владение: красивое и со странностями. Словно попал в какую-то неправильную сказку со своей чудачной королевой.
Тона, еще недавно задорно блестевшие на солнце, поблекли. Померкли, затухли, обесцветились. Словно испарились. Жизнь бьющая ключом замерла, медленно но верно заболачиваясь в набежавшей вокруг лужице. Туч не было, как не было и тени, просто… Просто будто из ниоткуда на здоровую поляну начал наползать чужеродный сумрак.
— Что происходит?
— О чем ты, Мира?
— Ты стал каким-то другим… Что-то случилось?
Она призывно потерлась щекой об удерживаемую в своих ладошках мою руку. Я аккуратно ее высвободил.
— Нет, ничего не случилось.
— Тогда почему…
— Я пойду. Мне требуется немного пройтись.
Две женщины, не замечаемые мною ранее, полоскали белье в ручье неподалеку от деревеньки. Вот и еще две жительницы, которых мне удалось узреть. Не успели спрятаться перед моим приходом или просто я был невниматален?
На меня товарки не обращали ни малейшего внимания, перешептываясь о чем-то своем. Даже не смотрели в мою сторону, хотя я уверен, заметили. Лицо одной было настолько обыкновенное и незапоминащееся, что мгновенно выветрилось у меня из головы, стоило лишь только отвернуться. Но вот лица второй я так и не смогу увидеть, как бы ни старался углядеть со своей позиции. То она оказывалась ко мне спиною, то вполоборота, но так, что голова была либо опущена либо отвернута в сторону. Передом она так ни разу и не повернулась.
— Не смотри на него с таким отвращением, это гранатовый сок.
— Я хочу апельсинового. — Упрямо повторил я.
— Попробуй этот, тебе должно понравиться!
— Нет, — брезгливо отодвинул я наполненный доверху стакан.
Ее плотно сжатые губы предательски дрожали.
— Пойми ты, ну нет апельсинового сока!
— Наверняка ты пытаешься меня обмануть, — пробурчал я себе под нос. Тихо, неразличимо, однако женщина каким-то шестым чувством меня услышала, вскочив из-за стола и бросившись прочь из комнаты.
— Что с тобою?
— Я не уверен, но мне кажется, что пьян, — пробормотал я, желая поскорее лечь куда-то, да хоть бы в этот самый угол, и преспокойно отключиться.
— Что это значит? — Брови ее хмурились, но тонко сжатые губы и пальцы, мнущие края платья, подрагивали.
— Крестьяне в деревне устроили какое-то празднество, меня угощали вином.
— Наглая ложь! — Воскликнула она, прижимая ладошку к губам.
— Вовсе нет, чистейсшая правда.
Она всхлипнула, но вдруг взяла себя в руки, надменно глянув на меня.
— Думаешь, я не знаю, что ты спускаешься в мой винный погреб? Знаю и прощаю тебе это!
— Не понимаю, о чем ты говоришь, — покачал я головой, почувствовал сильное головокружение — мир явно желал принять меня в ином положении.
— А я не понимаю, как тебе удалось взломать замок и пробраться туда!
— Но ведь все твои бутылки на месте, не так ли?
И видя, что она уже готова возмущаться моему чрезмерному знанию, я требовательно вскинул руку, неуверенно разворачиваясь прочь — выворачивать желудок ей под ноги мне не позволяло еще слишком вменяемое состояние.
Меня раздражало буквально все. От частичек пыли, медленно витавших в ярких утренних лучах, до полнейшего и необъяснимого спокойствия. Дурная муха с самой зари принялась долбиться своей головой сначала куда-то в потолок, а потом в открытое окно, напрочь игнорируя возможность вылететь.
— Что за шум? Что здесь произошло?
На пороге, заспанная, в ночной шелковой рубашке стояла Миражанна, за чьей спиной неугомонным стражем нехорошо сверлила меня взглядом ее гувернантка.
— Я уронил табурет.
Женщина каким-то странным взглядом проследила за дырой на месте оконного проема, рассыпавшимися во все стороны стеклами. Перевела его на меня. Тяжелый проницательный взгляд серых глаз словно ощутимым грузом лег мне на плечи.
— Это ничего, всякое случается, — проговорила она, снова глядя на разрушения. — Я распоряжусь, и сегодня же починят.
Я безэмоционально кивнул, ложась на кровать и отворачиваясь в сторону. Женщина еще постояла некоторое время на пороге в нерешительности, но очень скоро тихонько прикрыла за собою дверь. Оттуда негромко донесся едкий комментарий ее гувернантки.
Муха наконец-то прекратила точильным камнем резать мне уши.
— Как прошел твой день? — Мурлыкала Мира мне на ухо.
Ее голова словно поселилась на моей груди, а ладони как заводные метались от одного шрама к другому, подолгу на них задерживаясь.
— Неплохо, — соврал я.
Тошнотворное пробуждение, такой же завтрак, мерзкое настроение на весь день и пренеприятнейшее ожидание встречи с хозяйкой данного поместья. Слишком милой, слишком ласковой, слишком заботливой. Слишком… женственной.
Ее ладонь скользнула ниже, коснулась шнуровки моей одежды. Нет, хотел сказать я ей, но вместо этого лишь перехватил ловко расшнуровывающую руку.
— Я настаиваю. — Беспрекословным тоном прошептала она.
И мне ничего не оставалось, как
Я пресытился, с уверенностью ученого сказал бы мне любой в лицо, презрительно плюнув под ноги. А я бы с утроенной силой закивал его словам, приводя какие-то безумные примеры, делясь воспоминаниями из прошлого и пережитого опыта. Однако самое обидное, он бы ошибался.
Я забыл о том, что я мужчина, забыл давным-давно и просто не придавал этому значения. На женщин не смотрел, а если и смотрел, то совершенно иным взглядом. Да, когда-то я это забыл, и сейчас, к сожалению, зачем-то вспомнил.
— Как насчет конной прогулки? — Спросила она поутру, войдя ко мне в комнату в полном верховом облачении.
Сказать по правде, мне было все равно. Я не видел разницы между тем, чтобы уныло смотреть на горизонты полей либо наблюдать за поползновениями большой черной мухи, что-то рыскающей на потолке. Эта зараза оказывается никуда и не улетала.
Однако из вежливости все же согласился.
— Ты можешь выбрать себе скакуна, какого пожелаешь. Только не вот эту кобылку, эта уже занята мною. — Миражанна ласково потрепала ту за ушами, ткнувшись лбом в подставленный лоб лошади. — Халкида.
— Его нашли там же, на Осколке?
— Нет, этот сам пришел, неделю как.
Не глядя, я сунул руку в карман, достав оттуда нечто съедобное, что и протянул мерину. Тот мгновенно слизал угощение, чуть было не откусив его вместе с рукой. Проглотил и с самым довольным видом оскалился. Вот и что я ему снова дал?
— Как ты умудрился выжить, дружище?
— Погоди-ка, это что, твой конь?
— И верно — мой. Он мне послан словно в наказание, как моя борода, от которой я все никак не могу избавиться.
— Невероятно!
— Ты выглядишь совсем плохо. Лицо осунулось, глаза и губы болезненные. Дышишь часто и ртом, а пальцы трясутся. Мне тревожно за тебя, как ты себя чувствуешь?
Ее дыхание оказалось в опасной близости, кожу теплом опалило словно огнем, заставив меня нестерпимо сморщиться. Я сам не заметил, как отступил от нее на шаг.
— Так себя и чувствую — отвратительно.
— Ты засиделся на месте. — Уверенно кивнула женщина, с самым серьезным видом определив диагноз. Вот только от меня не укрылась та тень обиды, так явно промелькнувшая в ее глазах. — Как насчет охоты? Сельчане докладывали мне, что в здешних лесах уже давненько завелся матерый секач, вот только сама я охотой не промышляю — мне это просто не интересно, а деревенским на такую опасную дичь ходить боязно.
— Охота — дело аристократов и знати, к коим я не принадлежу. К тому же на секача, тем более матерого, ходить двум профанам в этом деле, — уж прости меня за столь резкое словцо, Мира, — смерти подобно.
— К знати ты не принадлежишь, но вот оскорблять ее членов имеешь полное право, верно?
— Я уже извинился.
— Я не приму подобное извинение.
— Чего же ты хочешь? — Вздохнул я, уже зная ответ.
— Следуй за мной в спальню, только так ты искупишь свою вину.
Я сморщился, чуть было не застонав от бессилия, едва она отвернулась. Но, видимо, сделал это слишком явно — несмотря на улыбку, в ее глазах блеснули слезы.
Бароны, барончики и баронята различных мастей прибывали двое суток. В какой-то момент их оказалось более десятка, создав в поместье Миражанны ненужную сутолоку, но женщина упорно твердила, что еще не все, кому она разослала письма с предложением об охоте и ответившие положительно, прибыли сюда.
Ее знакомые из знати были исключительными снобами, заполучившими мелкопоместное дворянство с взлетевшим чувством собственного величия чуть ли не до небес. Они двигались только парами, запрокинув от распирающей их важности подбородки, с самым умным видом что-то обязательно обсуждая. Их стайки постоянно образовывались то тут, то там, мешая пройти. И лучше бы таким сборищам на глаза в такие моменты не попадаться.
Гости прибывали, обнимались с хозяйкой поместья, чмокались, лобызались, а я ловил на себе перекрестные взгляды: одни изучающие и оценивающие, другой — вопросительный. Что она хотела прочесть на моем лице: недовольство, зависть, ревность? Или просто удостовериться, что мне абсолютно все равно? Нет, если было бы последнее, она не смотрела бы вовсе. А так… мне действительно было все равно, и к этим приветствиям, зачастую переходящим границу нормы, я не испытывал ни малейших мало-мальски искренних чувств.
В какой-то момент меня все достало и я заперся у себя в комнате, задвинул ставни на окнах и лег, слушая тишину, отдающую далеким гулом голосов. Когда меня пришла проведать Мира, я даже не открыл.
Они появились внезапно. Пятеро конных, сейчас спешившихся и ведущих лошадей за собою. Я узнал их мгновенно: две женщины и трое мужчин, один из которых глава пятерки — именно с таким отрядом я уже встречался и о псевдославе которого был наслышан. Самака и пятеро пожаловавших по Номадову душу Ловцов — охотников за сверхъестественным. Тогда у меня было преимущество во внезапности и неожиданности, однако теперь…
Мы одновременно встретились взглядами: я и их командир. Он все понял мгновенно. И одновременно сделали следующий шаг, в корне отличающийся как намерениями, так и стремлениями. К сожалению, его был более близок к реализации.
Самострел в мгновение ока оказался у него в руках, щелкнула тетива — болт впился в листву надо мною, едва-едва разминувшись с моей головой. А я уже мчался в сторону, к полянке, туда, где мы оставили своих лошадей.
— Взять! — Рявкнул он непонимающе схватившимся за оружие Ловцам.
Шальной болт воткнулся в ногу стоящего на моем пути аристократа. Тот, ошалелыми глазами проводив ранение, вдруг заорал исключительным сопрано. Так, что у всех вокруг разом заложило уши.
Секач возмущенно взвыл, и, подхваченный писклявыми возгласами мелкоты, бросился в сторону шума. Мелкие барончики завопили не своими голосами, брызнув в стороны, отталкивая с дороги друг друга, глядя как несколькосоткилограммовая туша несется на них.
И словно в довершение всего этого закрутившегося спектакля безумия со всех сторон раздался призывный волчий вой. Целая стая нахлебников, невидимо притаившаяся вблизи тупого и грузного кормильца только теперь дала о себе знать, брызнув в разные стороны с пути страшной машины. Шутка судьбы, что ни люди не подозревали о присутствии под боком зверей, ни волки, вдыхающие несомые от секача и его семейки запахи.
Хаос и крики неслись отовсюду, вой, рычание, закладывающий уши треск веток. Вопли боли, предсмертный скулеж, визжание кабана-гиганта потонули во всеобщей суматохе. Если светопреставление выглядит не так, то я боюсь представить иное, потому что такого я еще не видел. А видел я за свою жизнь поистине немало.
Мой конь словно вырос из-под земли, как по мановению очутившись прямо передо мной. Не успел я удивиться, как страх преследования уже загнал меня в седло, каблуками понукая и так рвущего с места скакуна.
Удлиненный болт, с противным дребезжанием, впился в стол дерева рядом. Второй прошил воздух прямо перед мордой коня, а третий и четвертый все-таки попали в цель: один чиркнул вскользь, разрезая штанину и едва-едва цепляя кожу, но второй мертвой хваткой впился в правое предплечье пониже локтя.
А дальше я чуть не выпал из седла, оглушенный резкой болью, стягиваемый на землю плотными ветвями. Мерин так послал свою тушу вперед, словно этот густой лес был ровным как полотно полем. Деревья темными силуэтами замелькали по сторонам.
Больше стрельбы мне в спину не было — Ловцам требовалось перезарядить свои самострелы, однако этого больше и не требовалось. Возглас «попал!» все еще звенел в ушах, когда я понял, что ему на смену приходит посторонний, совсем ненормальный шум. Я клюнул носом, в глазах помутилось, рука, только что крепко удерживающая поводья, бессильно опала. И мир перевернулся.
Я понял, что упал только когда теплая морда ткнулась мне в лицо, больно укусила в плечо и шею. Тело ныло от падения, но сознание я, судя по всему, потерял лишь на короткий миг. Требовалось встать, чтобы продолжить бегство: со всех сторон доносились леденящие кожу на загривке звуки, а охотники уже дышали в спину, но сил не было. Тело, пропитанное неизвестной мне отравой, слушалось в сотню раз хуже — неимоверных усилий мне потребовалось лишь на то, чтобы согнуть единственный палец.
Конь схватил меня за шкирку, могучим рывком подняв над землею, бросил в сторону. Ствол огромного дерева молотом выбил из меня последний воздух, а конь, словно ему этого было мало, подхватил меня снова, поднимая на ноги, ставя вертикально, подпирая меня лбом. Не знаю, что задумало это животное, но все, на что меня тогда хватало, это самому упереться ногами в землю, облокотившись о дерево. Что я и сделал. Конь развернулся, подпер меня крупом, подогнул передние ноги, и я безвольным кулем завалился ему на спину. Он, хекнув от натуги, поднялся, кося глазами в ту сторону, из которой раздавалось больше всего шума. Дернулся в одну сторону, но там вдруг, шелестя, разошлись кусты, выпуская в нашу сторону оскаленные злобой и голодом пасти. В другую — в опасной близости раздались крики загонщиков, подкрепляемые щелчками арбалетных тетив.
Конь бросился в единственном возможном направлении, по спешно сужаемому коридору, прямо сквозь кусты, сквозь сухие дерущие ветки. Прямо мимо взвывших от обиды острозубых морд, щелкнувших у самого брюха вхолостую.
— Спасибо, — бормотал я в этой безумной скачке, последними силами вцепившись в луку седла и молясь лишь о том, чтобы не упасть. — Спасибо.
— Потом сочтемся, — буркнул на меня конь, и я понял, что надо бы приберечь те крохи, что еще были мне доступны, так как сознание, застилаясь темным туманом, начинало меня покидать.
ГЛАВА 7
— Божество-то? — Почесал он пальцем свою острую аккуратную бородку. — Отчего же, вполне себе материальное.
— Не понял. Снова Порох?
— Почему порох? Ага, наслышался уже историй о Карабасцах? Хе-хе, странные они были ребята, необычные, этого у них не отнимешь. Однако нет, не порох. Нечто более соображающее, хотя и по своему глупое. Кое-что очень большое и при этом живое. Есть предположения?
— Дремлющий под скалами дракон! — Засмеялся я, медленно и неуверенно выпадая в осадок, глядя, как сидящий напротив с самым серьезным лицом хлопает в ладоши.
— Браво!
* * *
— А-а, дружище.
Морда моего верного мерина, постоянно оказывающегося под боком в трудную минуту, ткнулась мне в лицо.
— Все-таки мы с тобой попались, да? Я и ты. Видимо нас обоих ранило, а?
Он повернулся ко мне боком, где ближе к спине я увидел у него небольшой, но длинный надрез, сейчас уже затянувшийся. Тот самый болт, прошивший мне штанину, задел еще и шкуру животного.
Я… покачал головой, бормоча куда-то в пространство:
— Таких преданных коней у меня еще никогда не было. Ни единый скакун не задерживался у меня надольше одного сезона, а с тобой мы уже… как раз сезон и будет, наверное. Если честно, я немного потерялся во времени. Да и важно ли это? — Я протянул стянутые веревкой руки, погладив верное животное. — Такой верный и умный конь, а я все пытался от тебя избавиться. Знаешь, теперь я чувствую просто жгучий стыд от своих прежних намерений и деяний.
— Просто конь… А ведь я даже не дал тебе имя! Так и не удосужился. И совсем не представляю, как можно вообще тебя назвать…
— Зови меня Бонифацием фон Ингроссо. По крайней мере, это мое настоящее имя.
Тишина недопонимания повисла между нами.
— Что ты только что сказал?
— Я? Сказал? Ты дурак или как? Я конь, а кони не говорят!
Тишина недопонимания сгустилась до физически ощутимой отметки.
— Ты это сейчас со мной говорил что ли? Ты меня слышишь?
— Вашу мать, говорящий конь!
— Вашу мать, слышащий человек! Что, приятно, да?
— Что молчишь, съел? А? А?
Я даже немного опешил от такого напора.
— Ты — Тварь?
— Нет, я не Тварь. Мне казалось, что ранее я достаточно полно дал тебе это понять.
— Э, че ты там бормочешь?
— Я говорю со своим конем.
— А, тогда ладно, базарь дальше.
Я проводил взглядом презрительно сплюнувшего в мою сторону Ловца, переведя его на мерина. Тот пожал плечами, если это вообще допустимо к лошадям.
— Ты волшебный конь?
— Я самый обычный конь. По моим меркам. Просто умеющих говорить осталось очень мало из нашего народа, но умеющих слушать из вашего — единицы.
— И чего же ты раньше тогда молчал, не пытался со мною заговорить?
— Вот, знаешь, как-то не было желания с тобой общаться!
— И как же мне тебя теперь звать-то?
Бонифаций фон Ингроссо думал лишь миг.
— Зови Фоном.
— А разве это не приставка?
— Не знаю, никогда не задумывался. Тогда зови как-нибудь иначе.
Вот и поговорили.
— Если ты не волшебный конь, то как ты умудряешься постоянно оказываться рядом со мной?
— Это ты про последний случай в лесу? Ох, и напугал же ты своим появлением неизвестно откуда меня до чертиков!
— Со своей стороны могу сказать то же самое…
— Услышал переполох, логично предположил, что ты опять влип куда-то, вот и дернул тебе на выручку.
— Восхитительная самоотверженность, — пробормотал я с открытым ртом и округлившимися глазами. — А в остальных случаях?
— Это когда ты пытался меня волкам скормить? — Насупился он.
— Да, неудобно получилось. Ты уж извини.
— Ладно, все равно я не в обиде — слишком отходчивый. — Конь вздохнул. — В общем, не считая этого раза, все остальные получались как-то самими собой. Когда покупали меня тебе — я не напрашивался, когда выжил в том ужасе штурма — просто брел куда глаза глядят.
— Я тут послушал, — откликнулся конь, достаточно проворно разворачиваясь на стреноженных конечностях. — Это вот…
— Ловцы, — подсказал я.
— Да, Ловцы. Собственно, они выполняют волю какого-то своего господина по твоей доставке. Вообще они убить тебя собирались, но поймать и доставить живым приоритетнее — так их сильнее по головке погладят.
— А еще они только недавно сцапнулись с другими ловцами от других господ, которые, кстати говоря, тоже тебя искали, только как-то пассивно, вокруг да около…
Я хмуро кивнул его словам.
— А что эта?
— Она меня не понимает, — покачал Бонифаций головой. — Вижу, что вслушивается, но не понимает.
— А меня?
— Тебя понимает.
— Да неужели! — Выпучился я на нее.
— Если ты не заметил, то часть нее достаточно… человеческая.
— Эй, Тварь, ты меня слышишь?
В ответ змееподобное существо злобно оскалилось, зашипело.
— Теперь видишь?
— Невероятно… И, кажется, она не очень-то любит людей — вон как недобро зыркает.
— Считаешь? — Иронией Бонифация было впору поперхнуться. — Думаю, для этого не было никаких предпосылок. Вот совсем. Дикое тварюка, что с нее взять, ага.
— Э! Эй, мать твою! Ты че там делаешь?!
Ловец, первым заметивший меня, вскочил. За ним, попутно хватаясь за оружие, все остальные.
— Назад!
— У нее болт застрял в теле, она умирает. Вы разве не видите, как ей плохо?
— Назад, я сказал!
Змееподобная женщина каким-то замутненным взглядом следила за моим приближением. Даже не шипела по своему обыкновению, бессильно склонив голову к земле.
— Уйди! Пошел вон! Фу!
— Не трогай! Назад!
Последнее, кажется, выкрикнул ошалевший от моих действий Бонифаций. Вот его-то мне, пожалуй, и стоило бы послушать.
Едва я коснулся застрявшего в змеином хвосте болта, потянув древко на себя, как этот самый хвост плавно пришел в движение. Просто незаметно перетек с одного места, все так же плотно связанный тугими нитями, в другое, каким-то образом оказавшееся вокруг моего тела. Не успел я ничего понять, как мощная сила плотно прижала меня к земле, многокилограммовой тушей навалившись сверху. Скованный хвост тугим комком сковал мое тело.
— Вашу мать!
— Стреляй!
— Куда?! Убери, дурень! Этого грохнешь!
— Рогатину! Рогатину мне!
— А-а, тварь, не поддается! Плотно держит!
— Да подмогните мне! Еще рогатину!
— Куда?!
— Под шею! Воткни ей под шею!
— А-а!
Высокий женский визг порвал методичный шум суматохи.
— Куда попала?
— Она мне голову рассекла!..
— Оттащи ее подальше! Твою ж…
Брызги крови попали на мое лицо. Крик, а потом и хрип, резко оборвался. Наступил краткий миг тишины, в котором даже змееженщина прекратила шипеть и извиваться.
— Я ее убью! Прямо сейчас убью эту тварь!
— Положи!
Послушались звуки борьбы, в ходе которой второй голос явно одержал верх.
— Ничего ты ей не сделаешь, щенок! Именно поэтому ты все еще сопляк позорный!
— Она убила Кенну!
— Кенна сама виновата, что подставилась.
— Да как ты можешь?!
— Вот так! Я твой командир, я стою над тобой, и ты будешь меня слушать. Понял? Понял, я спрашиваю?!
Младший Ловец взвыл от боли.
— Понял я, понял! У-у!
— Так-то. Не смей трогать самострел. Повторяю тебе первый и последний раз.
— Но как же…
— Ты меня услышал. Кенна виновата сама, ей не стоило подходить так близко.
— Феска тоже с разбитой головой лежит — тоже скажешь, сама виновата? — Раздался новый грубый голос.
— Скажу. Нечего было лезть к хвосту, когда я сказал ей держать башку этой твари. Она ее увидела — она ей перебила туда, куда достала, и Феска была обязана это знать — не первый год уже ходит со мною. Всем известно, что эта гадина опасна даже тогда, когда яд начинает действовать в полную силу, а щас… Сама же к ней под хвост подлезла, а не прошло и суток!
— Она походу того, вырубилась.
— Ничего, выживет. Замотай ей потуже, главное. Эта баба живучая, на своем опыте знаю.
— А с этим что?
— С этим?.. А ничего. Хрен его знает, что теперь с ним будет, но голову его мы в любом случае привезем. А так, походу, она его и не собирается убивать.
— Че она с ним делает-то?
— Сношается! — Сплюнул обладатель грубого голоса. — Не видишь что ли?
Довольный гогот и похрюкивания сменили трагически витавшее настроение. Тварь они, спустя время, доставят по назначению, меня или мою голову тоже, а вознаграждение поделят уже на четверых. Если и еще одна окочурится, то на троих. Все оказывались только в плюсе от моего безумного своевольства. Ну, или почти все.
Бонифаций усиленно причитал, поминая Создателей и всех богов, о которых он только слышал. Я и не ожидал, что он успел ко мне так сильно привязаться. И как, собственно, он до этого все это время умудрялся молчать? Змееподобная женщина сверлила меня все таким же мутным взглядом, с каким-то замиранием стягивая мое тело. Судя по всему, яд на нее подействовал достаточно, и у нее просто заканчивались силы — в этом краткосрочном бою она окончательно выдохлась.
— Не двигайся, о-о Создатели! Только не двигайся, Марек!
— Спасибо… за заботу… Бонифаций, — прошептал я, стараясь, чтобы Ловцы меня не услышали, — но лучше бы… ты чем-нибудь помог.
— Чем? Чем, Марек? Ты только скажи, я сделаю!
— Видишь… веревку? — Кивнул я на размотавшийся край, дождавшись пока змееподобная не успокоится окончательно, замерев в одном положении. Никто не давал гарантии, что это существо вновь не кинется буйствовать, но попробовать стоило, если уж конь горел таким желанием помочь.
— Ну-у, — протянул он уже без особого энтузиазма (без особого запала).
Инициатива наказуема, сомневаюсь, что он этого не знал.
— Потяни…
— Э-э, конь, ты че? Пошел вон!
— Куда?..
Что-то тяжелое прилетело в бок Бонифацию, отчего тот обиженно заржал, но от намерений своих не отказался — стреноженным медленно, чересчур медленно подошел к свалявшимся на земле телам. Хряпнул край веревки, с такой же скоростью потянув на себя.
— Смотри, че делает!
— О, о-о!
Змееженщина никак не реагировала, каким-то стеклянным взглядом продолжая глядеть исключительно мне в глаза. Лицо ее при этом ничего не выражало. Казалось, она даже не осознавала происходящее, застланное сейчас пеленой огромной дозы отравы. Лишь медленно, как заспанный жук, пошевелила руками, когда ее хвост начал сползать с меня на землю.
— Хватайся! — Мне в плечо ткнулось древко рогатины, за которое я, с трудом отведя глаза от дурманящего взора, схватился. Сдвоенным рывком меня выдернули прочь.
— Что-то ты совсем плохо выглядишь.
— Нормально, — отмахнулся я от чрезмерной заботы.
— Но побили тебя крепко.
Я хмуро на него взглянул, уже жалея, что это животное умеет говорить. Или я слушать? В любом случае, от его констатаций фактов уже становилось тошно.
Но побили меня действительно крепко. Отыгрались за все их злоключения этого дня, благодаря мне и имеющие место быть. Оказалось, что они все ой как скорбят о почивших товарищах — вторая, с перебитой головой и руками из задницы перебинтованная, протянула недолго. Оставшись втроем, по такому поводу, долго решали необходимость гнаться за двумя зайцами. Один предлагал добить змеюку, второй — меня. Но командир, с самого начала твердивший о нехорошем предчувствии по поводу такого везения, вдруг сменил свое мнение на противоположное, категорически запретив трогать кого бы то ни было. Он планировал получить вознаграждение за нас обоих.
Женщина со змеиным хвостом не двигалась вот уже несколько часов. День сменился вечером, потом сумерками, непроницаемая тень наползла на лес ночным покрывалом, а она так ни разу не пошевелилась. Лишь шумное дыхание, раньше совсем беззвучное, все чаще перебивалось хрипом.
Я поморщился, отвел взгляд в сторону, не в силах больше смотреть на ее мучения. Мне вдруг стало нестерпимо жаль эту женщина, это необычное создание, помесь человека с животным. Было больно видеть ее состояние, медленное угасание в ней жизни.
Она была совсем другая, иная, непохожая на кого бы то ни было, виденного мною прежде. И это были не просто физические отличия, в этом было все: смысл жизни, ее значения и понятия, уклад, умение жить и выживать, иные ценности жизни, ее прелести. С одним лишь змеиным хвостом все это не передастся. Я это прекрасно видел. Понимал и осознавал, что передо мною совершенно иное, иначе думающее существо, и мне было все равно его жаль. Кто знает, возможно, сама бы эта змеедева меня бы совершенно не поняла.
— Да че за день-то такой…
— Самый удачливый день, — перекривил его командир. — Накликал ты, щенок, как пить дать, накликал…
— Не гони на него!
— Ты меня поучать еще вздумал? Кто, я спрашиваю, кто должен был следить за змеюкой?! Твой недосмотр, ты допустил ее бегство!
Ловец, поджав губы, угрюмо молчал.
— Вот это удача: потерять на ходке сразу двух человек, один из которых ходит со мною уже третий год! Лучше эта Тварь вас двоих забрала, чем Феску — от нее пользы, как от десятка таких как вы недоумков! Упустили полудохлую тварюку! Да она еле ползает, в каждое первое дерево от одури втыкается! Идите ищите ее!
— Щас ночь, никуда мы не пойдем…
— А днем ее уже не будет!
— Нам и оставшегося хватит…
— Хватит им… Где гарантия, что и этого до утра не упустите? У-у, балбесы тупорылые.
— А сам-то че?
— Я че? Я?! Я, гады, специально над вами такими безмозглыми стою! На то вы и мясо, чтобы выполнять мои приказы и загонять Тварей. Мозгов как и думалки у вас своих нет… Да что там, вы не можете даже выполнить простейших приказаний!
Он долго еще распалялся на своих притихших под таким напором подопечных, рвал и метал, рычал и выл на них. Однако ничего того, о чем он так усердно причитал, я в его глазах увидеть так и не сумел. Словно ему было все равно на только что случившееся недоразумении, как будто он и сам видел разошедшиеся веревки, тем самым решив дождаться побега змееподобной, и сейчас просто наслаждался закономерным итогом. Если припомнить с каким энтузиазмом он вдруг сменил свое мнение по поводу сразу двух добыч, выглядело правдоподобно. Сомневался в том, что удалось дотащить обе добычи втроем? И тем самым избавился от одной, свалив это все на подопечного. Только он учел одного: Тварь ослабла настолько, что сама бы ни за что не смогла бы разорвать свои путы. Ему просто повезло, что его задумка, вкупе с зубами Бонифация, удалась.
Меня подтащили ближе к костру, связали еще плотнее, хотя казалось, это невозможно. Так, что я мог шевелить только лишь пальцами. За мою охрану и сохранность принялись всерьез.
Черная тень два заметной тенью метнулась от ближайших деревьев. Луна, подглядывающая в просветы драно-разлапистых крон, едва-едва позволяла увидеть силуэты разбросанных вокруг стволов. Я было решил, что мне показалось, так как никто у костра на это не отреагировал, и даже многое подмечающий Бонифаций молчал, сонно склонив голову, как внезапный треск разорвал мирную тишину ночи. Ночной пришелец попался в ловчие сети, и Ловцы, до этого безмятежно сидевшие у костра, мгновенно оказались на ногах, кинувшись по направлению к раздавшемуся звуку.
Конь словно невзначай наступил на стоящее поодаль ведро воды, окатив ею ярко пылающий костер. Послышалось шипение, во все стороны брызнули искры с разлетевшимися мелкими головешками — на округу навалился тягучий полумрак, изредка перемежаемый желтоватым пламенем, вспыхивающим то тут то там, по всему периметру раздербаненного костра.
Нечто темное, остающееся мне неизвестным, торжествующе завыло. Так пронзительно, что у меня по коже пробежали предательские мурашки. А следом, словно то являлось истинным продолжением набежавшего кошмара, леденящий душу человеческий крик, в котором без остатка потонули ругательства Ловцов. Треск, какой-то чавкающий звук, и через секунду крик захлебнулся булькающим мычанием.
В тревожном свете разрастающейся луны мне ничего не было видно. Какое-то движение на самой грани видимости, какие-то силуэты, разобрать в которых происходящее я мог, лишь основываясь на слух. Но звуки двигались так быстро, столь молниеносно сменяли друг друга, что я за ними совершенно не поспевал.
Судя по всему, оставшиеся двое Ловцов бросились в разные стороны. Чересчур быстрая тень метнулась за одним из них. Из-за деревьев раздался звон тетивы, слишком отличающийся обыкновенного арбалетного, глухое поскуливание, и не успевший войти в силу закладывающий уши визг потонул в предсмертном хрусте костей и веток. Возникшая следом тишина тяжелым грузом навалилась на мои скованные веревкой плечи. Только где-то далеко шумел, продираясь сквозь кусты, последний оставшийся в живых Ловец.
Шорох травы раздался откуда-то слева. Конь, забыв все слова и о том, что он умеет говорить, дико заржал, шарахнувшись прочь. В нос дохнуло сводящим с ума гнильем, кровью и свалявшейся шерстью, и в следующий миг перед моим лицом словно сотканная из самого мрака возникла огромная, яростно оскаленная морда волка.
— Спасибо, Рюдриг. Еще раз. Даже не знаю, как тебя отблагодарить.
— Я бы посоветовал тебе проставиться в благодарность, но вот смотрю я на тебя и понимаю, что деньги у тебя вряд ли водятся.
Я виновато развел руками.
— Да не бери ты в голову, Марек! Ты меня извини, конечно, но делал я это не из-за награды, и уж точно не из-за тебя. Вот кто ты мне, скажи?
— Никто.
— Верно, случайный знакомый, к тому же совершенно мне иной. Зачем бы мне тебя лезть рисковать спасать? Да я даже не представлял о притаившихся под боком Ловцах, преспокойно выгуливая по лесу свою тушку. Подумать только, эти твари осмелились лезть так глубоко в наши дебри!
Я хмыкнул его в сердцах выраженному эпитету. Рюдриг на меня в ответ косо посмотрел.
— Думаешь, все они были людьми? Спешу опешить тебя, нет. Мне повезло — на моей стороне сыграла ночь, а их командир очень плохо видит в темноте. Случись это поближе к заре, висели бы клочья моей шерсти украшениями на деревьях… Эх. Нет, ты все-таки обязан проставиться. По такому случаю я даже одолжу тебе денег.
— Ларка, все это она… Если бы не ее просьба, — ха, кто бы подумал, что эта девица вообще умеет просить! — я бы шишь так резво сорвался с места. Да еще и ради какого-то там человека. Да я бы ни за что не стал бы рисковать собственной шкурой, не зная, куда лезу. Не зная броду, сунулся в воду… Повезло, что не утоп.
— Ее зовут Ларка?
— Лара, — поправил он меня. — Кто бы мог подумать, что такая ненавистница всего рода человеческого может вдруг попросить за человека. Чем-то ты ей явно приглянулся.
— Может быть тем, что помог сбежать?
Рюдриг внимательно посмотрел мне в глаза.
— В таком случае, ей надо благодарить не меня. Моего коня — это он перегрыз ей веревки. Кстати говоря, до сих пор жалуется на несварение.
— Кто его заставлял глотать веревки?
— Я заметил ему то же самое. Но, говорит, это улики, а улики следует уничтожать.
— Оригинал. — Покачал Рюдриг головой.
— Где она, здесь?
— В задней комнате.
— Как она?
— А как бы ты себя чувствовал, если бы тебя травили сутки напролет? Лежит, не двигается. Едва дышит и совершенно не соображает. Вообще чудо, что она сумела двигаться в таком состоянии, да к тому же еще и попросить за тебя. Она еще совсем молодая, немудрено, что гадость взяла ее так быстро.
— Если что, то на меня она подействовала уже спустя пять минут. А ты говоришь, сутки…
— Ты человек, это разные яды. Не сравнивай. Но да, ее травили гораздо мощным ядом, растянутым во времени.
— Ты так хорошо знаком с методами Ловцом, — покачал я головой.
— Знаком. У нас с ними некоторое соглашение.
— Но не на этот раз.
— Верно, не на этот, потому как сейчас они перешли все границы дозволенного — выловили саму Ларку. То, что ей удалось бежать, их совершенно не обеляет, хотя благополучно выбраться отсюда им бы никто не позволил.
— Тогда почему…
— За тебя попросили, — сжав губы, хмуро бросил Рюдриг. — И остановимся на этом.
Тварь, а по совместительству мой спаситель, недовольно дышал мне в затылок. От того, чтобы вышвырнуть меня прочь отсюда, его удерживало малое — слово той самой женщины со змеиным хвостом, пожелавшей меня увидеть. Почему для него ее каждое слово оказывалось столь важным, он объяснил мне после. Очень доступно объяснил немного погодя, после чего чуть не убил. Странно было наблюдать, как перекинувшийся в звериную ипостась добрый самаритянин едва удерживается от того, чтобы не порвать тебя на части. Я бы даже сказал, любопытно, потому что таким образом меня еще не пытались убить. Удивительно, что никакого страха я тогда не испытывал.
— Ты так и будешь стоять позади меня?
— Я тебе не доверяю, — процедил он сквозь зубы, не сдвинувшись ни на шаг.
— Как ты помнишь, это была не моя инициатива.
— Она сейчас без сознания.
— Будем ждать, пока придет? — С нескрываемой долей скепсиса отозвался я.
Рюдриг лишь засопел еще усерднее.
— Ты ведь понимаешь, что я не желаю ей зла? — Попробовал я самый банальный аргумент.
— Откуда мне знать, что ты там для себя считаешь злом, а что благом?
— То есть то, что я пытался ей помочь, освободил ее, не в счет?
— Ты тут ни при чем, за тебя все делал твой конь.
— Значит, ты все перепутал. — Определил я. — Верно, она звала не меня, а моего коня — своего спасителя.
Если я хотел довести его, то двигался в верном направлении. И тем не менее, это не то, что мне было нужно. Я глубоко вздохнул.
— Пойдем, — проговорил я, — нам здесь нечего делать, тем более вдвоем. Ты говорил, что она слаба, я это видел и вижу сейчас — ей нужно время, чтобы восстановиться, так?
— Так.
— Тогда нам тем более нечего здесь делать — ей нужны тишина и покой.
Стоящая позади меня Тварь думала долго. Я буквально слышал, как ворочаются мысли в его голове, и не понимал, в чем причина его поведения. Едва лишь мы зашли в заднюю комнату, как настрой Рюдрига, только что спокойно со мной болтавшего, кардинально переменился. Он стал дерганым, недовольно рычащим, а все его намерения сквозили какой-то невнятностью.
Лара, на короткий миг придя в сознание и справившись обо мне, пожелала меня видеть, после чего меня чуть ли не за шкирку затащили сюда, только чтобы найти змеедеву вновь сознанием впавшую в небытие.
— Это ее воля, — просто сказал он, и я понимающе кивнул.
Сравнивая с тем, какой я ее видел в последний раз, сейчас она выглядела получше. Дыхание, по крайне мере, уже не раздавалось с таким нездоровым хрипом.
Правда, Рюдриг был готов простоять здесь хоть до умопомрачения, но не я.
— Либо ты прямо сейчас оставишь меня с ней наедине, и я сам дождусь, пока она очнется, — да вон хотя бы в кресле посижу, — либо пойдем оба прочь — смысла стоять вот так столбами я не вижу.
За моей спиной раздалось нечто невразумительное, при должной фантазии легко определяемое как несогласие с обоими вариантами. Просто в несколько изощренной форме. Наверняка Рюдриг хотел добавить что-то еще, но прямо в этот момент больная перед нами зашевелилась.
— Ос-ставь нас-с, — слишком тихо, так, что мне пришлось поднапрячь слух, произнесла она.
Стоящий за моей спиною охранник повиновался, причем мгновенно, аккуратно прикрыв за собою дверь. При этом я был абсолютно уверен, что подслушивать он не станет, и отойдет как можно дальше, вопреки своим желаниям. Откуда во мне взялась такая уверенность — я не знаю.
— Человечес-ские с-слова даютс-ся мне с-с трудом. Как и человечес-ские мыс-сли. Мне с-сложно думать, но я попытаюс-сь это выраз-сить.
Ее глаза, такие пронзительные и незамутненные отравой, смотрели на меня. Я и не думал, что в них могут плескаться настолько чистые и пронзительные эмоции. Несмотря на то, что лицо ее ничего не выражало, глаза отыгрывались за все.
Это не был простой разговор, как ни был он и коротким. Рюдриг, вероятно, весь извелся в ожидании и предчувствии чего-то нехорошего, однако в комнату, откуда доносились голоса двоих, заходить не смел.
Как я и предполагал, мы оказались совсем разными, подолгу непонимающе смотрели друг на друга, объясняли, казалось бы, прописные истины, вдалбливаемые нам еще с молоком матери. Настолько устоявшиеся, что нам просто казалось, будто бы не знать подобного невозможно, кощунственно. Временами мне казалось, что надо мною откровенно смеются, хотя в глазах собеседницы не было ни малейшего намека на шутку. Иногда — что издеваются. Но никогда, что каким-то образом пытаются опорочить.
Лара интересовалась всем, как оказалось, я единственный человек, с которым она вообще решилась поговорить. Задавала вопросы о Ловцах, об их стремлениях, о том, что ими движет. До этого момента о том, что я ей поведал, она даже и не подозревала. Почему-то просто не интересовалась, не любя и не признавая людей. Но однажды попав в ловчие сети, выбравшись из них с человеческой помощью, ее мировоззрение несколько изменилось.
Как оказалось, будучи оба Тварями, они столь же отличались друг от друга, как я от человековолка. Один, хоть и выглядел как человек, был иной, имел две ипостаси. Мог преспокойно жить как среди людей, так и среди Тварей. Она же…
Она долго формировала мысли, задумчиво сверля взглядом мое лицо. Долго их выражала, внимательно следя за тем, чтобы я обязательно ее понял. И очень сильно тянула шипящие звуки, хотя причины этому, казалось бы, совсем не было — ее рот и гортань совершенно не отличались от моих. Когда спустя время я намекнул ей на это, предложив обратить внимание, она странно на меня посмотрела, и больше я к этой теме не возвращался.
Вне всяких сомнений, разговор давался ей с трудом, но эта змеедева упорно отказывалась сделать хотя бы малейшую паузу, как будто предвидела то, что поговорить нам с нею больше не удастся. Она была слаба. Это было заметно со стороны, да и она сама прекрасно понимала. В итоге долгая болтовня ее окончательно вымотала. Я стоял и смотрел, как она безмятежно дремлет, и язык не поворачивался назвать ее Тварью. Другое создание, иное существо — да, но не тварь.
Я медленно гладил ее по волосам, будучи у кровати на коленях, куда встал в стремлении услышать ее все стихающий от усталости голос. Гладил, потерянным в прострации взглядом глядя куда-то в окно. Как она открыла глаза, не сделав ни единой попытки остановить мое своевольство, я даже не заметил.
— Что с тобой такое? — Прямо передо мною раздался знакомый голос.
Я честно попытался сконцентрироваться, чтобы его увидеть, но лишь недовольно хмурился, пробурчав в ответ то, что от меня хотели услышать:
— Со мной все в порядке. Просто… все как-то так навалилось. Считаешь, я крепкий?
— Считаю, и поэтому спрашиваю.
— Видимо, недостаточно крепкий…
— Тебе на сегодня хватит.
— Ты мне кто, мать?! — Взбеленился я, хватаясь за ускользающее спасение от реальности. Но вместо этого, не удержавшись, лишь свалился на пол. — Верни!
— Между прочим, ты… мои запасы.
— Я расплачусь… Расплачусь с тобой!
— Интересно, чем же? У тебя ничего нет.
— Меч! — Наставительно поднял я указательный палец. — Забирай мой меч. Хороший, Арктурский! Такого ты больше ни за что не сыщешь — их просто больше не делают!
— Твой меч уже давным-давно мой, забыл? К тому же это дешевая поделка южных оружейников — кроме липового арктурского клейма у основания клинка он больше ничем не ценен. Сталь — дерьмо.
— Да как ты смеешь… — Возмутился я, но на душе скребли кошки — откуда бы у меня взяться настоящему арктурскому мечу, когда свой личный я заложил какому-то доходяге больше двух лет назад.
— Гол, как сокол, — заключил (подытожил) Рюдриг. — Тебе нечем расплатиться. Если хочешь оставаться у меня, оставайся, но к винам больше не смей притрагиваться.
— И что, — презрительно процедил я, — не дашь даже по-дружески?
— Мы с тобою не друзья. И побрейся уже, а то выглядишь как последняя дворняга.
Дверь хлопнула, отрезая меня от дальнейших препирательств.
— Не буду, — зло сплюнул я ему вслед.
Лары уже не было. Восстановившись в достаточной степени, ушла. Или уползла, не знаю как вернее. В любом случае, ее уход я пропустил, пребывая во все затягивающемся небытие. Собственно, мне было плевать. Как и на то, что в гостях у Твари я явно подзадержался. Не плевать было лишь на возникший накануне запрет. Хренов монстр, решил строить из себя невесть кого…
— Как ты это делаешь? — Однажды задал ему вопрос, когда Рюдриг, ночной порою, вернулся домой. От него вновь воняло гнилью и свалявшейся шерстью.
— Что ты хочешь знать?
— Как это происходит? По твоему собственному желанию? И почему этого никогда не бывает днем?
Тварь долго косил на меня глазами, то ли раздумывая стоит ли вообще говорить и не послать бы меня подальше, то ли пытаясь определить что стоит за моим внезапным любопытством. Но в итоге решился.
— Ночью — потому, что я могу перекидываться лишь при луне.
— При лунном свете? — Уточнил я.
— Нет, просто при луне, даже если она сокрыта облаками.
— Днем луну тоже видно. Вот, например, вчера.
— И тем не менее, днем ни за что не выйдет.
— Значит, тут дело не в ночном светиле, а времени суток.
— Нет, — покачал он головою, — как раз таки в нем. Ты хочет знать, как это происходит? Что ж, знай, что при растущей либо убывающей луне это происходит по моему собственному желанию. Но когда она полная… луна меня сама вынуждает, вырывая из меня на всю ночь все человеческое. — Он нехорошо оскалился. — Обычно под утро я прихожу в себя с ног до головы измазанный кровью, чужой кровью. И ничего не помню.
— И как ты себя чувствуешь?
— М?
— Как тебе, осознавая, что только что ты в беспамятстве разорвал несколько не заслуживших подобной участи человек?
— А кто сказал, что я по уши в человеческой крови? Конечно, никто не дает гарантий, что какой-нибудь сумасшедший в такое время и в такое место не набредет на свою беду ко мне в лапы, но вероятнее всего, что это животная.
— Не понял.
Рюдриг как-то торжествующе улыбнулся, словно поставил меня в угол.
— В такие ночи я по обыкновению ухожу куда-нибудь подальше от людей, от Тварей, от населенных мест — куда-нибудь в глушь, где мое ночное буйство не окажется настолько безжалостным и непоправимым. Обычно таких как я в глуши набирается целая стая и, ха-ха, в эту ночь она перестает быть такой уж глушью! Достаточно прибыть кому-то одному, чтобы вокруг, не сговариваясь, образовалась целая толпа.
— Меры предосторожности… — Задумчиво кивнул я, иным взглядом посмотрев на собеседника, но вдруг чрезмерно жизнерадостно хлопнул в ладоши. — А помнишь, как-то ты мне рассказывал об исключительном прошлогоднем сборе винограда на южных холмах отсюда?
— Не нравится мне, Марек, как ты пристрастился в последние дни к дурману, — покачал он головой. — Совсем не нравится.
— Ты пытался выменять меня на выпивку! — Сразу начал с наезда Бонифаций, стоило лишь мне выйти к нему с седлом.
Я поморщился, словно меня ткнули носом в мое же дерьмо.
— Рюдриг от тебя все равно отказался.
— Ну естественно! Зачем наполовину волку конь? Но вот от тебя я такого не ожидал.
— А стоило бы… Стой смирно, я не могу подтянуть подпругу, когда ты вертишься.
Он замер, настойчиво кося глазами в противоположную от меня сторону, и лишь хлестающий по бокам в опасной близости от меня хвост говорил об его истинном настроении.
— Почему ты уезжаешь?
— Мне здесь делать нечего.
— Ты хотел сказать, больше нечего, когда у тебя отобрали право нажираться до умопомрачения? Ты это хотел сказать?
— Помолчи…
— Нет, тебе меня не заткнуть.
— Помолчи, Бонифаций, — схватил я его за ноздри, прекрасно осознавая, что это ему совершенно не нравится. — Прошу тебя, помолчи. И так тошно.
Меня что-то гложет, снедает, пожирает изнутри. Я не могу этому сопротивляться. Чем дольше я держусь, тем хуже мне становится, а критическая точка так ни за что не достигается. Зенит, словно распарывающий вечность, в насмешку лишь отдаляется, и смеется, смеется надо мною… Слышу этот смех, такой громкий, такой ясный и незамутненный. Такой звонкий. Откровенный. Это ведь его смех. Его же, верно? Хочу забыть его, стремлюсь всеми силами… Но он все звучит и звучит. Смех, будто бы… детский?
Прости меня, Бонифаций, говорящий конь, и прощай. Прошу, не держи на меня зла — просто нам с тобою больше не по пути. Ты, живой, так просто не откажешься от жизни, а я же ухожу в закат. Как патетично и высокопарно звучит, право слово, но, я надеюсь, из рассветного полумрака мне больше уже не предстоит вернуться. Это дорога в никуда, где-то там, в сгущающейся тьме впереди, под ногами, должна оказаться пропасть. Это моя последняя цель, моя последняя воля — дойти до нее.
Рюдриг говорил, что я сильный, Лара тоже так считает, но… они монстры. Миражанна, Номад, таинственный незнакомец — все они твердят об этом: сильный, неуловимый, живучий как… пес. Словно волей самой жизни мое место и время смерти уже предопределено, и как бы ни старался кто-либо, ничего у него не выйдет. Даже у меня самого. Будто бы я лишь посторонний зритель, глядящий на непостоянную нить собственной судьбы от самого себя, но никак на нее не влияющий. Это тяжело…
Что-то не дает мне покоя. Нечто, что посторонние волей или неволей вызывают у меня в памяти. Видимо, я старался это забыть — именно это. Старался забыть целых два беспробудных года. Великий срок? Как бы не так. Однако… А что, если я выбрал неверный путь? Шагнул неверной дорогой? Ха-ха, вздор! Какой вздор! Я просто боюсь — страшно, что это вдруг не поможет. Страшно думать о том, что я некогда забыл, страшно представлять различные вариации в ужасном предчувствии того, что я вдруг… вспомню.
Человеку ведь свойственно ошибаться, так же как свойственно и думать, мыслить, искать пути, вероятности и возможности. Так же, как и учиться на собственных ошибках. Моя ошибка была в том, что однажды я ожил…
ГЛАВА 8
— Знаешь, Марек,
— И нет, и да.
— Не понял?
— Не знаю. Действительно, Марек.
* * *
Что это, город? Деревня, село? Торговый пост? Может быть, просто придорожный трактир? Не помню. Ничего не помню. Даже того, как сюда попал, хотя что-то подсказывает мне, что прибрел пешком. С конем я расстался где-то… Не знаю, где. Наверняка продал, и хотелось бы верить, что за хорошую цену, не продешевил. А ведь я точно мог, в сердцах, ведь мне было настолько плохо, что…
Но сейчас лучше, гораздо лучше. Мыслей нет, тревог нет, ничего нет. Спокойно. Хорошо. Создатели, как же мне сейчас отвратительно…
Колокола… Где-то неподалеку есть часовенка, а значит, либо село либо небольшой город, так как плюют в мою сторону исключительно часто. В крупных на меня было бы всем плевать, уже в переносном смысле, — перешагнули бы и даже не заметили.
Колокола… Так темно, и я не могу разобрать откуда доносится звук. Колокола звонят во тьме, наверняка звонят по мне.
— Ха-х! Стоило бы задаться вопросом, отчего к моей задрипанной персоне вдруг проявлен такой живейший интерес!
— Не стоило бы. Всему свое время, и тем, что ты вздумаешь торопить события, ты сделаешь только хуже.
— Что я буду иметь взамен?
Мысль ублажать какую-то неизвестную особу откровенно претила.
— Ты проведешь со мною ночь, взамен будешь получать бесплатный кувшин вина каждый день в течение месяца в этом самом трактире. Трактирщик не посмеет нарушить условия нашего соглашения.
— Всего-то ночь? — Премерзко оскалился я, откровенно пялясь на ее колени и промежность. — Запросто…
Как вдруг согнулся пополам, содрогаясь в неудержимых конвульсиях. Желудок сжимался, всеми силами пытаясь исторгнуть из себя все до последней крошки, до последнего не стекшего по гортани глотка. Чья-то рука легла мне на плечо, а лицо склонилось ко мне. Близко, слишком близко. Я схватил его, оттолкнул прочь, к раздавшемуся грохоту, перевернутой мебели и зазвеневшей посуде.
Нечто твердое ткнулось мне под ребра, вышибло последний дух, опрокинуло. И снова, по ногам, по груди, по рукам.
— Нет!
Это прекратилось мгновенно, хотя я был не прочь продолжению. Девушка уже вскочила, вся всклокоченная, взлохмаченная, в остатках перевернутой на нее еды, удерживая своего спутника от дальнейшей экзекуции. Глупее всего с моей стороны было бы повторить свою премерзкую улыбку, сейчас искореженную грязью и кровью. Что я и сделал.
— Зачем нужно было это делать? — Поджав губы и едва сдерживаясь от рыданий, произнесла девушка, обрабатывая мои царапины и ссадины. Сущий пустяк, право слово. — Он ведь чуть тебя не убил!
Я бы с нею поспорил, только, боюсь, она бы ни за что не вняла моим доводам. Чтобы это понять, требовалось прожить мою жизнь или хотя бы последние несколько лет. Вот только что там было за эти несколько лет? Не помню, но вспоминать не буду, ни за что.
Моя рука зачерпнула волны ее шелковистых волос, поднесла к самому лицу, чтобы я вдохнул этот аромат. Такой… приятный. Темно-пшеничные волосы, густые, они были разбросаны по подушке словно колосящееся море. Оно звало и манило, и я не устоял, окунувшись в них в головой. Ткнулся ей за ухо, обжег дыханием, пытаясь не пропустить ничего, захватить каждый щекочущий ноздри запах, попытаться ощутить его вкус на языке. Аврора подо мною тихонько застонала, но я не придал этому ни малейшего значения… Эти волосы, как я мог не обратить на них внимания?
Задыхаясь от переполнявших меня чувств, я приподнялся на локтях, взглянул на девушку сверху вниз, поймав такой нежный и влюбленный взгляд знакомых мне серо-зеленых глаз, словно видящих меня насквозь. Словно глядящих мне прямо в душу, знающих обо всем, что со мною происходит и что со мною творится. Не сдержавшись, я улыбнулся им, проведя по ее щеке так нежно, как только мог своей мозолистой и грубой ладонью.
Этот высокий лоб, из-за челки почти всегда прикрытый, небольшие ушки, прямой, чуть вздернутый кверху носик и тонкие, но такие выразительные губки, словно смешливо морщившиеся моей очередной глупости. Словно вот-вот звонко рассмеющиеся…
Сердце затрепетало, запрыгало, затрепыхалось, больно кольнув грудь. Дыхание участилось, а глаза, будто до этого слепые, неправдоподобно широко раскрылись. Аврора, ОНА, подо мною постанывала в такт моим движениям, глядела на меня все тем же самым преданным взглядом, закусив губу. И мое сердце, достигшее пика, вдруг замерло. Ком, будто это и было норовившее выпрыгнуть сердце, подкатил к горлу.
Кажется, я закричал. Нет, не от удовольствия, от ужаса! Отшатнулся от нее, вскочив на ноги и уперевшись спиной в дверь трактирной комнаты. Все мои члены дрожали, я едва ли не выл, полного недоверия глазами глядя прямо перед собой, на поднимающуюся следом такую знакомую девушку.
— Кто ты?! — Вскричал я или прохрипел?
— Ты разве не помнишь? — Плавной, словно летящей по воздуху походкой она оказался прямо рядом со мной.
Дверной замок позади меня предательски щелкнул, я заметался на крохотном пятачке словно загнанная мышь.
— Это же я. Вспоминай.
Что-то неуловимо изменилось. Фигура напротив меня. Стала ниже, коренастее, раздалась в плечах, волосы словно втянулись в широкую черепушку. Своими короткими жесткими пальцами она схватила меня за подбородок, прижала плечом к двери.
— Вспоминай. — Шевелились звуками изуродованные вертикальным шрамом губы. — Вспоминай.
— Марек!
Где-то вдалеке, за всем шумом и суетой прозвучавший призыв, потонул в раздавшихся следом криках, суете и прочей сутолоке, так и не достигнув получателя. Ни единая живая душа, если не считать рядомстоящих шарахнувшихся от громового гласа, не вняла тому призыву. Более того, никто его даже не услышал в творящейся суматохе, где кругом звенело, грохотало и вовсю надрывала сотню глоток втянутая в происходящее та же сотня человек. Может, больше и вряд ли меньше — и это только на видимом открытом пространстве.
Несколько бойцов, самых прытких, побросали сужающие обзор шлемы прямо так, под ноги, свесившись вниз у самого края открытой галереи. Вооружившись небольшими, легковзводимыми самострелами, они пытались выцепить противников уровнем ниже, на почти столь же отрытой галерее, выдающейся в сторону. Та, в свою очередь, будучи в несколько раз крупнее самой верхней, еще удерживаемой остатками сил, нависала над нижней громадиной, еще сильнее выпирающей в сторону. И ниже еще на два уровня. Все вместе эти галереи образовывали собою нечто вроде каскада — невероятно прекрасное со стороны зрелище, сейчас частью догорающее, частью разбираемое на части, частью уже погребенное под обломками, хороня с собою все те неимоверные богатства многих поколений, одним лишь стремлением королевского желания выделяемые на строительство этой части врезанного в скалы дворца. Главной части дворца — лицевой части, возвышающейся над окружающими дворец
По сути, весь город построен вокруг одинокой скалы, странным образом возвышающийся на одном из холмов будто хребет погребенного где-то под землей фантастического существа.
— Марек! — Вновь раздался призыв, куда ближе, продирающийся среди копошащегося народа в поисках одного-единственного человека.
— Марек! — Новый голос вплелся в какофонию звуков — еще ближе, буквально у меня над ухом, заставив присесть от неожиданности всех вокруг.
И только теперь я расслышал этот самый призыв — только сейчас, когда ему вторил громоподобный бас поставленного над нами сотника Барбанна, прозванного похожим на его имя инструментом за умение громко и точно, словно на марше, чеканить шаг. Лишь он один, отличающийся феноменальным слухом и умением слышать от начальства и подчиненных лишь самое главное, смог разобрать едва пробивающийся сквозь шум чей-то голос, цель которого сейчас была занята стаскиванием кипящего маслом чана к зеву воронки для стока дождевой влаги.
— Лей, лей! — Бесновался прямо над нею десятник, бросая частые — слишком частые — взгляды на подстреленного прямо над винтовой лестницей солдата. Понятное дело: погиб боец, выполняя его приказ, свой самый последний. Погиб, однако свою задачу выполнил — разорвал этот самый сток прямо над головами захватчиков.
Раздались безумные вопли, крики настолько ярчайшие в своей агонии, что на короткий миг поглотили собою остальные звуки сражения. Жгучее масло, плюя на профессионализм и выдержку, закованность в латы атакующих, немилосердно коснулось их тел, обхватив своими кипящими ладонями.
Захватчики дружной волной отпрянули от взламываемых дверей, поскальзываясь на скользких ступенях, крича и воя, устремились обратно — подальше, осознавая, что винтовой подъем стал их западней. Изламываясь в три погибели, они топтали друг друга, спасаясь, толкали за перила. Глядящие им вслед гвардейцы хищно скалились, по очереди прикладываясь к крохотной бреши.
— Марек! — Гаркнули мне в самое ухо, и только теперь, когда дело было выполнено, я обернулся.
Красный как рак сотник, расталкивая гвардейцев локтями, подбирался ко мне. Заметив, что я наконец откликнулся, он взглядом, как это умеют делать только сотники, подозвал меня к себе. О том, что не по рангу, я не задумался ни на секунду.
— Корвен тебя ищет! — Схватив меня за плечо, он подтащил к самому лицу. — Иди к нему!
Я покосился назад, где трое гвардейцев в бежевых накидках с Пылающей лилией вновь поднимали чан, готовясь тащить его за новой порцией.
— Иди! — Правильно понял меня Барбанн. — Судя по его виду, ты нужен ему срочно!
— Не пойду! — Закашлялся я от пересохшего горла, вновь оборачиваясь назад. — Не пойду! — Повторил я, опасаясь, что из-за окружающего нас безобразия он мог меня не расслышать.
— С ним Бурболен.
На этот раз сотник не повышал голоса, однако это имя я услышал и так — разобрал по характерным движениям его губ. И тут же скривился, понимая, что от призыва первого я еще мог, ссылаясь на того же Барбанна, отказаться, но вот от второго… Понятно, что им нужен именно я, и никак иначе выразить свою волю — донести ее до меня на галерею — ни Калеб ни король были не в состоянии — всех остальных, даже того же сотника, я бы проигнорировал.
По сути, король вообще никак не в состоянии был меня вызвать, а значит — воля королевы. Сенешаль ее величества, в кои то веки отлипнувший от подола ее платья — прямо доказательство того, что высокую волю нельзя игнорировать. Не на этот раз.
Сотник же, не давая мне возможности в очередной раз отказаться, сам занял мое место, с четвертой стороны подхватив пока еще пустой чан.
— Иди. — Кивнул он мне напоследок, указывая этим направление.
Но не успел я двинуться, как каменное крошево от брошенного поверху снаряда окатило меня болезненной волной. Кто-то крикнул, кто-то по звериному завыл, хватаясь за ушибленное место, но в целом все обошлось малой кровью, если она вообще имела место быть. Последняя галерея удобная, высокая, защищенная словно выгнутым дугою высоким парапетом — обстрелять такую требовалось настоящее мастерство. И как раз один такой искусник по нам сейчас и работал.
Каменный снаряд вновь врезался в стену над нашими головами, уже заметно ниже — требюшетные расчеты, а их как минимум два, продолжали пристреливаться. Били с самого утра. И хотя ни жертв ни серьезных ранений от их действий пока еще не возникало, свою долю сумятицы в творящийся хаос они вносили.
— Я им сейчас вот этим самым чаном перешибу! У-у, гады! — Ругался за моей спиною Алой, бросив ношу и спешно напяливая пропревший и только накануне снятый шлем обратно. По его лицу пролегли две спешно набухающие красные дорожки.
Мраморный зал, вестибюль, коридоры, лестницы, пролеты и снова коридоры. Проходя мимо одного из балкона бросил короткий взгляд вниз, поежившись от наполонившего дворец имперского сброда. Семь галерей, каждая следующая чуть меньше предыдущей, просто кишели солдатами
— Я так понимаю, командовать спасением придется мне? — Обвел я взглядом лица Корвена и Бурболена.
— Нет, не тебе. Ты тут с совсем иной целью. — Процедил, будто выплюнул, коренастый шпик. Понятно, видимо, все решилось за его спиной, однако вот запросто оспорить волю еще живой королевы он не мог — только не при осаде. И он чужому решению был совершенно не рад, как и моему в нем участию.
— Главой отряда уже назначен Эрик. — Добавил маг.
— Эрик, — хмыкнул я. — А это случайно не тот самый Эрик, который Негодяй? Может быть, Эрик Кровопийца? Или Эрик Свиное Рыло? Эрик Ублюдок? — С каждым новым предположением я улыбался все шире, а кулаки мои сжимались все сильнее.
— Ты говоришь об одном и том же человеке.
— Вашу мать! — Вспылил я, шарахнув сбледнувшего Корвена. — Вы что, совсем ополоумели?
— Он боевик! — Проблеял из-за спины мага тот.
— На кой вам сдался боевик? Сейчас, вот прямо сейчас?! Откуда вы его выдернули?
— Из-под Сораса, — задумчиво почесал свою рыжую бороденку Бурболен, сам, кажется, отрешенный ото всей этой осады. Словно его это ничуть и не волновало. — Ему открывали стационарный телепорт, перебросили сюда троих.
— Да лучше бы он там сдох, под Сорасом! От него будут одни лишь проблемы!
— Он нужен, чтобы вывести принцессу из-под осады. Нужно, чтобы она покинула дворец, покинула столицу, и только боевики могут ее провести. А с нею и тебя.
— Вот пускай сами и выводят, раз командовать ими будет Ублюдок. И я не рвусь, чтобы меня хоть откуда-нибудь выводили, если вы еще не заметили.
— Так надо, это лучшее решение.
— Лучшее?! Значит, вы ни капли не знаете того, кого вызвали в столицу. Боевики они на то и боевики, что им абсолютно нечего здесь делать. Особенно, слышите меня, особенно Ублюдку!
— Это уж нам решать, — заметил со своей позиции Корвен, — обойдемся как-нибудь без твоего мнения.
Маг на него даже не покосился, преспокойно заметив:
— Это был единственный вариант. Только у него не было прорыва, и была возможность и время построить ему переход.
Я покачал головой.
— Я не удивлюсь, если это самая обыкновенная диверсия. Попомните мои слова: вы еще пожалеете о том, что сумели привлечь к своим планам Ублюдка. Обязательно пожалеете, если, конечно, останетесь к тому моменту живы, чтобы о чем-нибудь жалеть.
— Что с ней случилось? Почему принцессу выносили на руках?
— Она была без сознания.
— Да неужели! — Саркастически протянул я, чувствуя, как от меня утаивают нечто очень и очень важное.
— Ваша воля, королева, — процедил я сквозь зубы, вызвав на себя злобные взгляды здесь присутствующих.
— Воля моя!
«Я никому здесь не доверяю! — Кричали глаза королевы, изуродованные надменностью. — Ни единому мерзавцу! И ни тебе, ни тем более имперской собачонке Бурболену! Я вынуждена идти на крайние меры и доверить жизнь своей дочери в твои руки! И все равно одному тебе не справиться, не выбраться из окружения, не вывести Ильфионну в безопасность!»
«Я сделаю все, что в моих силах». — Нескрываемым презрением ответил я ей.
«Ты сделаешь, иначе даже после смерти я явлюсь за тобою!»
Это мы еще посмотрим. Не сегодня, так завтра ты уже умрешь высокородная ведьма, а я все еще буду жить. Подсыплешь яда, — не сомневаюсь, что в каком-нибудь перстне у тебя обязательно припрятан Белый сумрак к такому случаю, — прыгнешь с балкона, перережешь себе вены — не знаю, но в том, что ты сделаешь это собственноручно — не сомневаюсь. Потому что иначе — империя, скорое показное судилище и какое-нибудь распятие на главной площади в назидание силы и славы устами пытающихся очернить такое светлое государства. После подобной разгромной победы никто даже не заикнется сказать, что столь веками могучая Железная империя окончательно захирела.
Дверь за моей спиной хлопнула, поднявшийся гомон был причиной избранием моей кандидатурой. Видимо, они до последнего момента надеялись, что некий Марек — лишь досадное недоразумение, определенное глупой волей королевы. Они все еще верили, что воля совета, даже в условиях тотальной осады, окажется непременно главенствующей. Однако Лидия, стоит ей отдать должное, в критический момент оказалась еще более твердотелой, нежели ее почивший при странных обстоятельствах в летней резиденции муж.
В тайный переход под замком и городом спускались втроем: я, Эрик Ублюдок и Ильфионна, испуганно жавшаяся ко мне. Когда надо, принцесса могла быть сильной, но сейчас отчего-то полностью сдалась, не зная, как правильно себя вести.
Дождавшись, пока мы отойдем достаточно, вход за нами намертво завалили, сбив трухлявые подпорки. Теперь агрессорам придется постараться, разбирая завалы, чтобы попытаться нас здесь поймать. Тоннель длинный, многодневный и до ужаса старый, еще тех времен, когда столица Арктура Ижель только-только начинала возводиться. Единственная скала, в которой вырезали невероятных трудов дворец, как будто намеренно приглашала темным зевом пещерки, оказавшейся длинной подземной червоточиной. Как оказалось, оканчивающейся тупиком, который спустя время все же продолбили на поверхность далеко прочь от города.
Мы спускались вниз, во тьму, и я чувствовал, как дрожала под боком ничего не понимающая принцесса. Мы спускались, а в груди щемило противное предчувствие чего-то нехорошего. Предчувствие чего-то неизбежного, однако я пока еще не понимал чего.
— Уже скоро, — пробормотал Эрик, крутя что-то в своих заскорузлых пальцах.
— Я не отдам, — вдруг прошептал я, удивляясь собственным словам.
— Чего?
— Я не отдам империи Ильфионну.
— Ха! Как будто тебя кто-то спрашивает!
— Я отказываюсь от сделки. — Упрямо повторил я, сглатывая ставшей тягучей слизью слюну.
— Коней на переправе не меняют, и девку захапают сразу, как только мы выйдем из подземных катакомб.
— Так ты здесь для этого?
— Ну естественно, чтобы один особенно чванливый дуралей вдруг не передумал!
— Лидия знает? Знает? Это ведь она тебя пихала ко мне!
Но Свиное рыло лишь презрительно фыркнул. Встал, намереваясь пройтись до конца коридора и обратно, давя зазевавшихся крыс.
— Малявке не позавидуешь. А вот у нас с тобой скоро карманы будут просто ломиться от золота, а, дружище?
— Ты мне не друг, — хрипло бросил я, тяжело дыша от волнения.
Ублюдок довольно заржал.
— Что ты сделал? Что ты сделал?!
Свиное рыло подскочил ко мне, коротким ударом опрокинув на землю. Пол, холодный, сырой пол.
— Ублюдок, мать твою!
Удар, снова удар. Ильфионна молчит. И плачет. Рыдает, закрыв лицо руками. Плач ее, такой бессловесный, такой неощутимый, колокольным набатом звучит в моей голове. Отдается во всем теле, причиняя больше физической боли, чем ярость Негодяя.
— Ложись, — сказал я ей, — раздевайся. — И она выполнила. Беспрекословно. Словно раз и навсегда забыла о своем вздорном характере, словно спорить и несоглашаться не было для нее любимым занятием. Ее глаза предательски блеснули — и больше ничего. Ни единой фразы, слова… писка.
Эрик появился внезапно, будто что-то почувствовал, собачье отродье. Почувствовал все те свои шкуры, что с него живьем спустят за мое самовольство. Почувствовал кипящее масло, крючья, дыбы, «писантские» иглы. И ему стало страшно. Отмороженному боевику вдруг стало до онемения в конечностях страшно.
— Мразь! Мразь! — Пинал он меня, целя в голову, в лицо. Пинал отчаянно, понимая, что холодные пальцы смерти уже коснулись его загривка, медленно, с наслаждением спускаясь вдоль по позвоночнику.
Остановился он лишь раз, выдохнувшись и поскользнувшись в луже натекшей ему под ноги крови. Упал на меня, отпинывая прочь, глянул в сторону, на прекратившую рыдать, но зажатую, дрожащую в углу Ильфионну. Девочку, обнявшую свои извазившиеся в грязи коленки и глядящую в никуда отрешенным, совершенно ничего не выражающим взглядом. Хватило одного короткого взгляда в ее сторону, чтобы Свиное рыло в самом искреннем отчаянии завыл. Его крик, эхом погибающего от несправедливости судьбы, повис тяжелым покрывалом под сводами, поглотившим своды подземных катакомб.
— Я собственноручно выковыряю твоего ублюдка из нее, — прорычал он, поднимаясь.
Я не знаю, что он имел в виду и что собирался делать. Что собирался сделать с ней, с моей Ильфионной, и уже никогда не узнаю. А жаль… Может, стоило дать ему волю — дать исполнить то, что он задумал… Наверняка нужно было. И тогда бы я не жалел. Тогда бы на меня не лег тот груз, что я несу в себе и по сей день.
Не легло бы это бремя. Я бы не знал ее этого взгляда.
Пронзительный крик. Девчачий. Ее крик. Нестерпимая боль. И кровавая пелена.
Нужно было дать ему закончить задуманное.
Она рядом, со мною, прямо под боком. Так близко… Свиное рыло валяется в лужах нечистот, кривясь вертикальным шрамом на уродливых губах. Разбитый, окровавленный, с расколотым черепом. Мертвый. Он так и не сумел до нее добраться, обнажил лишь свое оружие. Кистень, сейчас зацепленный вокруг тонкой шеи моей девочки. Я толкаю ее, толкаю плечом, упираясь в спину, между лопаток. И тяну. Что есть мочи тяну на себя цепь, слыша… чувствуя, как хрустят ее позвонки, как утекает из нее жизнь.
И ее взгляд. Незабываемый взгляд. Невозможно… невозможно забыть. Взгляд… Кроткий, всепонимающий и всепрощающий. Взгляд, неизменно стоящий у меня перед глазами, стоит их лишь ненароком прикрыть. Ни боли, ни обиды, ни ужаса — ничего. Лишь всепоглящающее, невозможное для живого существа смирение…
Как же я пытался его забыть. Видят Создатели, я не хотел жить, только бы не видеть больше ее глаз, не вспоминать ее робко улыбающегося лица, словно несмело шепчущего прямо на ухо: «это ничего, ничего, просто так нужно, иначе никак — я все понимаю».
Девочка, моя девочка…
— Я любил ее! Любил!
— И именно поэтому ты жестоко трахнул собственную дочь. — С премерзкой ухмылкой Ублюдка отвечало мне лицо Номада.
— Я не мог иначе, я хотел ее спасти…
— Да, ты один — такой великий и благородный. Герой, изнасиловавший глупую принцеску.
— Ее везли на заклание! Империи нужно было лишь ее чрево! Ты же знаешь это, Номад! Должен знать!
— Знаю, — грустно кивал мой товарищ.
— Какая самоотверженность, — противным каркающим голосом скрипел Свиное рыло.
— Я любил ее! Да, любил всем сердцем! Не то, что этот старый мерин, подохший как собака на очередной охоте, в объятиях очередной фаворитки!
— Однако он не трахал дочь. Ха-ха! Ты-ы, именно ты обрюхатил собственную дочь!
— Я сделал глупость, я… пытался ее спасти.
— Таким образом?
— Да! Именно таким! Я надеялся, что тогда-то интерес империи к ней пропадет! Совсем! Но я не знал, какие силы стоят за этим! Не знал, что императору кто-то шепчет на ухо! Не знал, насколько она важна для империи.
— И потом убил. Собственную дочь.
Я застонал, бессильно обхватив голову руками. Упал на колени, ткнувшись в пол лбом.
— Я не мог позволить империи схватить ее, просто не мог… Я совершил ужасное деяние, кощунственное, но гораздо более милосердное, чем то, что ее ждало в столице.
— Ее ждали почести, почет и уважение наложницы императора!
— Ее ждал насильственный выкидыш, вынужденный бастард императора, долгие пытки и распятие на главное площади столицы… С лучшими зрительскими местами из самого дворца… В назидание силы и славы Железной империи…
— Вздор!
— Прямо такой же вздор, как оживленный двойник Лидии, одурманенный для показательной казни…
— Как будто ты знал об этом тогда!
— Я не знал, просто не мог знать, — твердил я ссохшимся доскам. — Однако что-то почувствовал.
— Зачем, Номад?
— Что?
— Зачем ты сделал это со мною? Зачем вернул в памяти все то, что я так пытался забыть? То, что меня убивает?
— Так было нужно, Марек, так было нужно.
— Опять твои игры? Опять ты вздумал делать мною ход?
— Нет и еще раз нет. Однако я чувствую в себе вину, что мне пришлось сыграть тобою втемную, потому как объясни я все тебе, ты бы ни за что не согласился. Как ты уже догадался, мне пришлось выдумать ту историю, чтобы вытащить тебя из того омута, где тебя невозможно было найти. Пришлось припомнить безумного императора, хотя здесь, по правде говоря, я больше говорил правду, нежели лгал. Да, мне стыдно за то, что я, считая тебя другом, использовал тебя, а это же… считай моим искуплением.
— Думаешь, я стану считать себя твоим должником? После всего случившегося?
— Не думаю. И если уж считать чьим-то, то точно не моим, а Авроры. И если ты все же почувствуешь себя лучше, если больше не захочешь уходить за грань, отрекаясь от этого мира, то ты знаешь кого за это поблагодарить. Она, выслушав мою ей исповедь, сама вызвалась тебе помочь.
— Ее действительно так зовут?
— Да. Аврора.
— Я запомню это имя. Когда-нибудь, возможно, если мне действительно станет лучше, я ее поблагодарю.
— Я должен тебе кое-что сказать, Марек. Признать наконец то, из-за чего началась вся та охота на Ильфионну, перекинувшаяся на тебя, и продолжающаяся по сей день. Комитет Крови — слышал что-нибудь об этом?
— Тайная организация, имеющая какую-то власть.
— Верно, тайная организация, которой не страшны законы и угрозы любого государства. Настолько могущественная организация, способная свергать целые династические семьи. Им никто не указ — они сами «истинная правда и вера». — Я поднял свой затуманенный взгляд. — Да-да, Марек, им ничего не стоит раз и навсегда уничтожить задержавшийся на троне империи род Аустиев. Для этого все лишь необходимо во всеуслышание объявить им свою волю, чего они не делали уже многие и многие десятилетия. «Волею Комитета Крови… ныне существующая и действующая власть провозглашается незаконной, а власть имущие — узурпаторами, обманом и подлостью захватившими престол и право престолонаследия. Отныне и впредь она объявляется нелегитимной, порченной и узурпирующей трон», — так звучало последнее обращение к миру этого Комитета почти семь сотен лет назад. Напомнить тебе, Марек, что вследствие стало с некогда покорившей Полмира Священной империей?
— Не может быть…
— Может, мой дорогой друг. Еще как может. Не прошло и года, как монолитную и непоколебимую Священную империю раздербанили на две худо-бедно равные части.
— Но… причем же тогда здесь Ильфионна? Причем здесь я и вся эта непрекращающаяся охота?
— Притом, что не так давно, если судить по интенсивности всплытия этого названия — Комитета Крови, кое-кто нашептал на ушко Форевию Аустию о том, что в одном задрипанном королевстве на севере, почему-то до сих пор не подчинившемуся Железной империи, растет одна очень интересная принцесска. Принцесска тем не менее имеющая больше прав на престол чужеродной ей империи, чем нынешний император. — Номад всем телом подался вперед. — Стоит ли говорить о том, что высокородная Лидия узами крови не имеет к той Железной империи ни малейшего отношения?
Я сжал кулаки.
— Об этом тоже нашептали?
— Да, кое-кто из Комитета Крови, почувствовавший свою власть и превосходство.
— Что от меня нужно? Комитету Крови, империи? Миру?
Но Номад лишь отрешенно покачал головою, очень грустно, стараясь не смотреть мне в глаза, произнес:
— Больше ничего, дружище. Больше ничего. Ты уже сделал все, что должен был, и вскоре чета Аустиев, желавших сотворить то с твоею дочерью, перестанет существовать. Очень скоро на свет появится тот самый наследник, должный «побеждать и властвовать».
— Появится от случайной дворянки, представленной свету Комитетом.
— Да, Марек. Именно так.
— Это воля Кровавого Комитета?
— Это воля Провидения. — Покачал он головой.
А я, запрокинув голову, истерично расхохотался. Было в этом что-то такое, отчего хотелось просто разбиться головой об стену. Сумасшествие, бред, безумие! И все это, неудержимым вихрем, закрутилось вокруг меня, вовлекая в фантасмагорический танец остальных.
— Ты сумел приплести сюда Провидение! Само Провидение! — Отчаянно вскричал я, хватаясь за голову. — Какое безумие!
— Неужели все было просчитано настолько точно, настолько верно и далеко? Просчитано без меня?
— Зачем, Номад? Ответь мне, зачем?
— Так было нужно, — едва слышно проговорил он. — Прости, Марек, и попытайся понять. Здесь стоят куда более могущественные силы, чем ты можешь себе представить.
— И они тебе предложили ультиматум: втянуть в их игру меня, с возможностью присоединения к их касте вседержателей, или же сгинуть навеки. Я могу ошибаться, но общий смысл, я думаю, сумел передать, верно, Номад?
Мой товарищ мне ничего не ответил. Лишь с какой-то потаенной грустью продолжал смотреть куда-то мне над плечом.
— Надеюсь, ты понимаешь, что после всего этого мы с тобою больше не сможем быть друзьями?
— Я же просил меня понять… — Опустил он свой взгляд, вперив его в свои ладони. Словно тот вдруг стал невыносимо тяжелым.
— Я понимаю, правда понимаю, и принимаю это. Я не думаю о тебе скверно. Возможно, я не знаю всей подноготной, но на доступных обрывках просто не смею права тебя в чем-либо винить: либо тебя, либо кого-то другого — в нашем случае далекого приятеля. Выбор действительно очевиден.
Я не старался сделать ему больно, но тем не менее сделал. И мне от этого отчего-то было противно приятно. Я сидел, чувствуя на лице уродующую губы усмешку, а в душе, где-то внутри, разливалась желчь обиды и непонимания, разбавляемая лишь моим прескверным поведением по отношению… да, пожалуй, к бывшему приятелю. Тоска тяжелыми тисками сковала мне голову, виски, опасно сдавила грудь и сжала кулаки.
Ты ему доверился, словно мне и так не было горько, твердило сознание. Доверился и пошел за ним, и вот к чему он тебя в итоге привел. Где жизнь, спрашиваю я себя? Здесь и сейчас, в предательстве и одиночестве, или тогда, в прострации и небытии, откуда Номад меня больше сезона назад вытащил? Этот вопрос не дает мне спокойствия. Это важный вопрос, словно от него зависело прошлое, зависит настоящее и будет зависеть предполагаемое будущее. Это важно, очень важно, но на этот вопрос у меня просто нет ответа.
Он вытащил меня оттуда. Снова. Нашел в какой-то канаве и вытащил, поместив мою больную голову между молотом и наковальней, страшными воспоминаниями прошлого и отказом от настоящего. Заставил вспомнить все то, что я и так помнил, но всеми силами старался забыть. Память, заливаемая литрами пьянящей дури, в один миг вывалила это все наружу словно только и ждала удобного для такого случая момента. И я выдюжил, выплыл на поверхность из тех вод тащившей меня на дно мути. Осилил быстромечущийся поток, хотя должен был в нем утонуть.
Говорят, клин вышибают клином. Это верно. Также верно, как и то, что это мое бремя и только лишь мне одному его нести, как бы я ни пытался его с себя скинуть. Меня вытащили из канавы. Снова. Однако я все еще сомневаюсь, что даже в первый раз это было действительно верное решение…
— Слишком больно было это вспоминать…
— Я был должен, Марек. По другому просто никак. Это самое меньшее, что за свое предательство я мог для тебя сделать. Теперь, рассказав правду, сделал чуть больше. Однако я все еще хочу, чтобы ты кое-что увидел. Надеюсь тогда-то ты наконец поймешь меня в полной мере.
ГЛАВА 9
* * *
— Это она? Точно?
На входе появилась значимая фигура, оглядев сверху вниз пирующий и гомонящий народ. Активный шепоток прошелестел сквозь бальную залу подобно дуновению осеннего ветерка. И подобно же дуновению ветров, своим содержанием и сухостью произносимых в страстном лжевосхищении слов, вызвал невольные ассоциации с пожелтевшими, сухими, местами прелыми и залежалыми листьями, с неизменным сомнением обсуждающих каждый неверный шаг.
— Несомненно. Это она. Ее лица сложно не узнать.
Вздохи, должные показаться тихими и скромными, сменили шепотки. Вздохи, прозвучавшие раскатами грома после короткого сезона ветров.
— Невероятно, такая молодая.
— Ей на вид не дашь много.
— Действительно, словно подросток.
— Она выглядит на двадцать, когда со времен восстания прошло уже больше пятнадцати лет. Ей что, тогда было пятнадцать?
— Я слышал, больше. Она уже тогда не была подростком. Думаю, вы верно понимаете значение моих слов.
— Она из тех, кого годы лишь красят.
— Ах, франт!
— Вы как всегда в своем репертуаре, франт. Нет, не нужно кланяться, и руку свою я вам не дам! Облобызайте чью-нибудь еще!
— И на ней нет ни единого шрама, ни единой отметки бывалого воина! Ни единой… морщинки! Ладони юнессы и шея княжны, едва дозревшей до замужнего возраста!
— И верно, пора выдавать замуж. Уж я бы не сомневался, и даже не поскупился б на отсутствие приданого!
— Ха-ха!
Веселый, пронзительный, заразительный смех, прикрываемый батистовыми платочками, вуальками и накрахмаленными ладоньками с ярким и броским маникюром морозил в жилах кровь.
Отара Отары погонщиком погоняемая.
— Элизара Финкаскор! — Звучным тенором оповестил герольд, вдруг проснувшись от летаргического сна, будучи недвижимой слепой и глухой статуей — еще одним достоянием интерьера праздничной залы семейства Отара.
— Также известная, как Искра Нокса, Пылающее Пламя Тильзита. — Добавил Бельгемонц, хозяин празднества. Негромко, но так, чтобы это не прозвучало полушепотом. Так, чтобы это услышала даже только что вошедшая гостья, среди благоговейно замерших в молчании и предвкушении гостей.
Элизара замерла, улыбнулась одними лишь губами, неглубоко поклонилась. Шагнувший вперед Бельгемонц подал ей руку, приглашая на банкет, в полной мере втягивая в начинающееся празднество замка. Осторожно облокотившись, женщина обвела вокруг взглядом.
— Невероятно, такие проницательные глаза.
— Я бы сказал, что там мудрость. Много мудрости.
— Как она взглянула на Бельгемонца… Аж мурашки по коже.
— Да-а, такой момент.
— Держу пари, у него тоже внутри все перевернулось.
— Так может глядеть только прошедший через пекло человек.
— И не говорите. — Смех.
— Маршал знает, о чем говорит, мадемуазель. Я вот, например, отношусь к его словам с максимальной серьезностью.
— Думаете? — Задумчиво протянула, поглядывая при этом в сторону маршала.
— Маршал мой друг, и я знаю некоторые… аспекты его биографии.
— Ну полноте, граф. Не будем сейчас об этом.
— Нет-нет, маршал, я и не думал углубляться в подробности. С другой стороны, это ваше личное дело кому и при каких обстоятельствах доверять строчки собственной жизни, пресыщенные, скажем так, заметной остринкой.
— Остринкой, говорите? Какой же именно?
— Вы позволите?
— Извольте. Это не тайна.
— Зареченской остринкой.
— Заречье! — Пораженный вздох.
— Надеюсь, теперь вы верите словам маршала о том, что со взглядом Искры не все так просто?
— Теперь — верю! Невероятно, Заречье! Я слышала весьма распространенные слухи о Заречье, но то, что слышала — впечатляет. Даже не верится. Там действительно так было, маршал?
— Слухи, как это принято, в основном, серьезно приукрашены. Смотря какой смысл вы вкладываете под «действительно». Но надо отдать должное, даже слухами они в полноте передали творящуюся там ситуацию. Однако, — задумчиво пожевал губами, — в Ноксе все было намного хуже. Страшней, кровопролитней и жестче. И на острие всего того ужаса шла Искра и вела сжавшиеся в страхе и панике ряды за собою. Только лишь своей решимостью, твердостью, волей… И она провела их через весь Тильзит, подожгла, словно пересушенный хворост. Все сгорело, но вопреки тому, выжило. Выжило именно тому, что оказалось уничтожено и сгинуло ровно в срок, чтобы дать нормальную, настоящую жизнь. Да… Именно так.
— Лестно слышать столь высокий отзыв о своей персоне из уст столь искушенных в вопросах войны и кровопролития.
— Элизара Финкаскор. — Зардевшись, маршал поклонился чуть более низко, чем того требовали обстоятельства и правила этикета.
— Маршал Гайне Херст. — Холодно улыбнулась Искра Финкаскор. — Предупреждая ваш следующий вопрос, нет, я не намеревалась встревать в ваш разговор, но вы слишком бурно и громко обсуждали меня и мои деяния, что я против воли пожелала выявить говоривших.
— В этой зале прекрасная акустика. — Не поднимая глаз, красным как вареный рак, проговорил он.
Упомянутый маршал Гайне Херст был невысок, но кряжист, крепко сложен, широк в плечах и толсторук подобно какому-то пирату или морскому волку, отчего его ноги казались несколько коротковаты. Это же подчеркивал строго вышитый серебром дублет, отдающий военным характером и консерватизмом. Каких-либо украшений у него и в помине не было, да чувствовал он себя среди всех этих знатных и высокородных гостей безманерной свиньей в гусыном обществе.
— С кем имею честь познакомиться? — Приподняла уголки бровей Искра, обводя взглядом остальных участников сплетничающего кружка.
— Леисан Абрау. — Широко и искренне улыбнулась единственная в той компании женщина.
Длинное, на ладонь ниже колена приталенное синее платье, в которое была одета гостья, блистало многочисленными каменьями, усеявшими бархат ее одежд. Несмотря на кажущийся вызов в броскости подобранного наряда, декольте платья было закрыто вплоть до ключицы.
— У вас восточное имя.
— Я родом из Дюриссы. Знаменитые виноградничьи угодья, думаю, слышали о них? Взять чуть восточней от тех границ, и местность вполне можно считать восточной. — Широко, показав все свои передние зубы и идеальный прикус, улыбнулась Леисан. — Преподаю историю младших курсов в Нойградском университете.
— А я, позвольте представиться, — шагнул вперед мужчина в оливкового цвета жилетке поверх малинового окраса рубашке, своей пестротой и несовместимостью вызывающих слезы, — Артье Кампф. Ректор этого самого Нойградского университета.
Элизара Финкаскор коротко взглянула на странное одеяние этого человека, чтобы через мгновение отвести взгляд — мало того, что оно было вызывающе неадекватным, так еще и было рассечено крохотными черными полосами, заставляя взгляд блуждать как у умалишенного.
— Нойград, если я не ошибаюсь, это небольшой, стоящий на отшибе городишко? — Намеренно глядя ему на переносицу, произнесла она.
— Городишко? Хе-хе, интересного же вы мнения об этом месте. Что ж, можно и так назвать, но, думаю, будет более полным, и что уж там — откровенным, если его прозвать дырой. — Хмыкнул Артье Кампф. Леисан Абрау прыснула, явно соглашаясь. — Захолустье и истинное ничто в одну улицу и десяток домов.
— Как же так, ведь название его буквально гуляет у всех на устах.
— Нашими стараниями. — Расцвел Кампф. — Имя этого селения — наша заслуга и некогда построенный там университет. Который, кстати говоря, будучи крепостью и крепостью преотличнейшей, пережил и расцвет, и упадок, и уничтожение близстоящего города — Нойграда, о котором все должны были бы уже давным-давно позабыть. Но помнят ведь, помнят!
Как-то незаметно разговор из едва пробивающегося ручейка превратился в горную речушку, смело набирающую обороты на голых склонах и каменистых порогах. Уже через несколько минут Искра перестала пристально приглядываться к каждому, сиюсекундно ожидая подвоха. Леисан Абрау рассказывала о годах своей молодости, о теплых и приятных воспоминаниях будней дочки виноградаря, содержащего в своем владении поля на обоих некрутых склонах протянувшегося на много миль холма. Поразила всех редкой и недешевой маркой вина, подающегося исключительно в трактирах крупных городов и столиц, а также предложила посетить Дюриссу и те места в частности, пообещав прекрасные виды и незабываемые впечатления.
Артье Кампф говорил лишь о собственном университете, ректором которого ему довелось стать восемь лет назад, но уже за подобный недолгий срок на посту главы привнесшего в копилку университета несколько дополнительных приятных наград. Он не смолкал бы ни на минуту, повествуя о кадрах, как он сам выразился о лекторах и работниках университета, и хвастаясь их фантастическими, — грандиозными! — научными трудами, опытами и проектами. О себе же в этой стихии он говорил исключительно мало. Однако знал меру и легко угадал по лицам и настроению слушателей о необходимости передачи собственного слова.
Маршал и здесь оказался совсем немногословен. Он больше молчал, нежели рассказывал. Делился, словно просеивал каждое свое слово через трехступенчатое мелкоячеистое сито. И по итогу неполучившегося повествования, растянувшегося на полноценную историю, слово вынужденной очередности пришлось брать Искре.
— Мне самой вам нечего рассказать. — Немного растеряно произнесла Элизара Финкаскор, и даже самый проницательный слушатель не заметил бы в ее словах неестественности. — Однако знаю, что вам интересно было бы услышать, а главное, на что бы оказались пролиты, и желательно красочно, слова правды. К сожалению, я этого не могу вам предоставить. — Она замолчала, медленно оглядев залу, остановившись на чем-то на мгновение дольше. — К сожалению я — не красноречива, однако знаю, и даже больше того — вижу того, кто смог бы это исправить. Поистине, его велеречивые речи утащат вас, господа и дамы, в самую бездну интереса. Взгляните туда, — Искра указала направление только что взятым с подноса фужером с шампанским, где стоял одинокий, с щедро пробивающейся от возраста сединой на висках и затылке, зрелый мужчина. — Альфтанд Капелле. Этот человек — непосредственный участник тех событий. Думаю, нет — уверена, что от этого рассказа он ни за что не откажется. Особенно если его попрошу об этом я.
В этот момент, словно по старому уговору, мужчина вдруг обернулся в их сторону, встретившись взглядом с Искрой. Она приподняла бокал, кивнув ему и улыбнувшись уголком губ. Альфтанд Капелле, повторивший ее жест, понял намек почти мгновенно.
— Он вас ждет, господа. Надеюсь, эта история не покажется вам слишком уж вычурной.
— Элизара, как можно! — Рассмеялся Кампф.
— О-о, поверьте, из уст Альфтанда она прозвучит именно таковой. Ну же, не заставляйте его ждать, я ведь вижу, как вас снедает интерес, а его нетерпение!
Искра подозревала, что за разговором их четверки кто-то определенно следил и слушал каждое слово, впитывая губкой для себя или очередных ушей, но не ожидала, что людей окажется столь большое количество. Вслед за Артье Кампфом, Леисан Абрау и Гайне Херстом к источнику захватывающего дух рассказа устремилась целая прорва народа. Причем некоторые из этих случайных слушателей, а вернее почти что треть, потянулись из дальних концов длинной, ярко освещенной залы. Что говорить, да и сам хозяин замка сделал несколько осторожных шагов в ту сторону, наущая окруживших его гостей на скорую занимательную историю.
— Отара Отары погонщиком погоняемая. — Едва-едва скривилась Искра, постаравшись придать своему лицу выражение близкое к плохо сдерживаемой улыбке. Так и не притронувшись к содержимому удерживаемого ею бокала, она оставила его от себя подальше.
* * *
— Сегодня ночью. Будь готов.
Фирри не без причины скривился. Он нервничал, впрочем, как и всегда, когда ему доводилось говорить с этим человеком.
— И почему заговорщики всегда предпочитают действовать по темени? Разве днем чем-то хуже? Если бы меня спросили…
— Следи за словами! Тебя не спрашивали! — Прошипел на него Левис Рига. — Все уже решено за тебя и вместо тебя. И, скажем так, для тебя. К тому же днем — хуже, минусов хоть отбавляй! Слишком неудобно и опасно действовать в светлое время суток. Не тогда, когда говоришь о всякого рода диверсиях. Подумать только! Не будь ты столь диким и невежественным здесь, в этой теме, я бы попытался тебе объяснить. Однако не вижу смысла распаляться и тратить на болвана свое драгоценное время, которое ты у меня, стоит отметить, уже порядком порастрепал!
— Ладно тебе, не кипятись, Рига! Это я так, беседу поподдержать…
Рига, сам жутко нервный и дергающийся, чего раньше за ним не замечалось, лишь прошипел проклятия, хотя не прочь был бы их озвучить в полный голос. Всем стоящим перед ним людям разом.
— Чего это он, а? — Проговорил кто-то из парней, глядя на спешно удаляющегося заговорщика и разбегающихся перед ним парней. От греха подальше.
— Боится он, вот чего! А вы… В ночь так в ночь, нам ведь не привыкать, а? Давайте-ка парни, закончим с приготовлениями. Негоже, чтоб потом нас во всем обвинили. Дело-то серьезное.
— Как знати, одини-то обвинять, а другие-то похвалють. Сморя каку сторону, значиться.
— Оставь эти мысли. — Скривился Фирри, мельком оглянувшись. — Мы выбрали свою сторону, и, думается мне, единозначно. А уж в такой-то момент менять ее было бы глупо и невежественно. Причем, глупо — в большей степени. А, парни?
— Дык я ж такжу уразумию. Это я так, для прохормы, значиться.
— Болтун ты, Дубохват. — Беззлобно проговорил Фирри, а остальные заулыбались, поглядывая на глупо ухмыляющегося бородача. — И балаболка. Ну ладно, начнем! Выгружайте все. Тюки с соломой, нет, не туда, ближе к зданию, ближе, к самому фасаду, чтобы не бросалось в глаза столь сильно! Сейчас Остроглазова телега подойдет с бочками. С ними, с бочками, пока ничего не делайте, в сторонку отставьте, куда-нибудь под навес. А Горма, если таковой все же объявится, снять с козел и усадить под наблюдение. Тоже под навес, на бочки.
— Связать?
— Не, связывать не нужно. Карлик, чай, не дурак, быстро смекнет, когда все увидит. А там и решим, к какой он стороне…
— До како он стороны охочь, значиться.
— Да. И обойдитесь пока без кровопролития, не накликайте чего… раньше времени. Слышите, парни? Откажется — пригрозите и ладно будет. Пускай шурует. Но без крови!
— А не выдаст?
— Этот — нет. Но нам позарез нужна его помощь и участие. А особенно его… как он их называет?
— Хитили.
— Да, фитили. Рига настойчиво просил их использовать, а когда он просит, сами понимаете, он требует. Да и с фитилями риска-то меньше. А без фитилей, Дубохват, придется уж тобой пожертвовать. Что поделать, это диверсия!
— Чегой-то? — Разинул тот рот, как вдруг с величайшей досадой на лице махнул рукой. — А-а, сам ты балаболка, Фирри! И болтун!
На этот раз одними лишь улыбками дело не обошлось. А бородач, расстроенный до глубины души, насупленно сплюнул.
— Чуть што, сраз Дубохват.
* * *
Появившийся в самом деле спустя какое-то время Горм смекнул обо всем на удивление споро. Его даже не пришлось снимать с козел — карлику хватило лишь короткого взгляда на хаотичное на первый взгляд мельтешение людей. Узнав, что от него требуется, он кликнул двух парней из шайки Фирри, чтоб подсобили, и с ними отъехал в одному ему известном направлении.
Обернулся он лишь спустя несколько часов, вконец замучив сидящих на его повозке людей своей непрекращающейся болтовней, но его самого это как будто даже и не заботило. Едва они доехали, парней словно ветром сдуло. Карлик же, не обратив на их дезертирство ни малейшего внимания, скинул жесткую неприметную мешковину с телеги, сунув проходящему мимо случайному человеку, которому выпало сомнительное счастье оказаться в эпицентре ростовщического внимания, ящик с инструментами и бухту какой-то странной веревки. И сверху еще одну бухту, потяжелее. Недолго думая, невольный участник спектакля скинул все это обратно на голову торговца, придавив тем самым его к земле.
— Что здесь происходит?
Отдышавшись от пронзительных воплей вслед свалившему подальше пройдохе, и по уши запутавшись в размотавшихся мотках, карлик соизволил обратить внимание на появившегося невесть откуда Фирри. Тем не менее, ему хватило наглости и задиристости, чтобы даже из такого положения вызывающе запрокинуть голову и, изогнув одну бровь, поинтересоваться:
— Сколько отмерять? Фитиль, — пояснил он, — ты чего от меня требовал? Сколько, спрашиваю, отмерять его? Учти, я взял с запасом.
— Ну-у, — замялся тот, запустив пятерню в свою русую шевелюру. — Давай во-он до того угла. Чтоб наверняка, не рисковать — не хочется парней своих подставлять зазря.
— Я тебя про время, а не про расстояние спрашиваю, дубина!
Фирри недовольно засопел. Насупился, как недавно Дубохват.
— Четверть часа! — Выдал он. — Ну что, слабо отсчитать?
Вместо слов Горм отмотал от бухтообразного мотка своей неведомой нити на две ладони, велев одному из задержавшихся рядом из праздного любопытства взять инструменты и обрезать. В присутствии начальства в лице Фирри тот не посмел бежать.
— Это — на пятнадцать минут. Сколько всего нужно? Таких — на пятнадцать? — С явным укором и ударением на последнее слово произнес карлик.
Откуда-то из района Чаек донесся яркий звон раскричавшейся часовенки. Звук, стелясь низко, по самой мостовой, и отражаясь от застекленных окон и фасадов домов, легко проник на эти глухие и опасные случайным горожанам задворки.
— Гадко звучит, — хрипло откликнулся кто-то из разом побросавшего свои дела народа. — Кабы не к беде.
— Вырвать бы тебе язык, да скормить свиньям.
— Ему же самому и скормить.
— Пустомеля хренов… Накаркает еще. Как пить дать, накаркает.
— Кто это сказал?
— Байдан, не иначе. От этого всегда жди скверного словца.
— В яму его!
Фирри видел, что ситуация среди его парней накаляется. Видел также и то, что требовалось действовать, причем действовать незамедлительно, иначе суеверная людская похоть, подогреваемая совместными усилиями, обязательно выльется в закономерный итог — а именно со всеобщим обозлением и причинением ненужного членовредительства. И ладно бы все это происходило среди простого оголтелого люда, но нет, среди его собственных, ужаленных нервозностью, парней.
Самый верный выход — наказать виновника, но так, чтобы несчастливцу никто из прежних недоброжелателей не позавидовал. Да, это самый простой и самый верный выход, однако требующий решительных действий.
— Байдан! — Гаркнул Фирри во весь голос и, несмотря на то, что при рождении ни басовитостью ни громогласностью наделен не был, легко перекричал заводящийся народ. Его парни притихли. — Байдан! — Вновь гаркнул он, отыскивая глазами виновника. — Подойди ко мне!
Только что норовящий задавить его массой народ несколько сконфуженно расступился. Резкая вспышка главы была им хорошо знакома. Фирри же, понимая, что поздно останавливаться на достигнутом, достал из-за голенища сапога нож.
— Возьми его, Байдан. — Тихо, и даже с какой-то родственной заботой произнес он. — Возьми и крепко сохрани, потому как только я пойму, что что-то идет не так, ты сам, собственноручно вырежешь себе язык. Под самый корень, Байдан. И, при совсем отвратительных делах, если потребуется, я вот этими руками вскрою тебе глотку, чтобы достать из своего сквернословящего хайла очередной шмоток дряни, помогающий тебе изрыгать всякую мерзость. Впредь, Байдан, — добавил он посеревшему лицу виновника и затаившимся остальным, тоже бледным и затаившим дыхание, — тебе стоить следить за словами.
Не передать словами, как Фирри этого не любил. Просто ненавидел всеми фибрами души, помня каждое мгновение из тех угроз и их воплощений в жизнь, что ему уже довелось исполнить. Кошмары, мучающие его после таких событий, имели обыкновение в мельчайших подробностях напоминать ему о каждом пережитом случае. К сожалению, будучи главой всей этой плохо контролируемой своры разбойников, без показательных наказаний было обойтись нельзя. Взваливши на себя такую ношу, не избежать ответственности.
Сбледнувший с лица и уже тысячу раз пожалевший о сказанном Байдан развернулся на нетвердых ногах, потопав прочь. Недавно желающие скормить ему собственный язык молчаливо и виновато расступались прочь.
— На пятнадцать, — откликнулся спустя некоторое время Фирри, — ну, давай три.
— Чего? — Словно очнулся от какого-то забвения притихший за остальными неугомонный карлик. — Четче! Чего ты хочешь?
— На этих задворках три заряда, трое моих парней могут одновременно их активировать, двинувшись дальше. Остальные расположены через одинаковые промежутки в три стороны: на запад, вплоть до бульвара, на север, вдоль фасадов по…, на восток, по канавам для сточных вод.
— Опасно. — Покачал головой карлик.
— Кроме меня, тебя да моих парней ни единая живая душа не догадывается об их расположении. На западе все заросло так, что даже оголодавший пес не проберется сквозь заросли на другую сторону за куском копченой буженинки. На севере они высыпаны в мусорные ямы на задах домов — здесь, признаюсь, самое опасное место, но там и моих людей вдосталь. На западе сточные канавы, и тебе ли не знать, Горм, когда в последний раз хотя бы капало с неба. Бригиту и Ожурону, видимо, теперь вовек не отмыться от этого запашка. Но да ладно, если все пройдет как надо, у них хотя бы будет на это возможность.
Крепость Нокс, за свои размеры и население называемая не иначе как город, пылала.
— Не слышно военного марша, не кричат люди в исступлении своего счастья от часа освобождения… Нет ни войск, ни…, вообще ничего. Только ревущий в трех направлениях огонь, и тишина… Разве так все должно быть, Фирри?
— Подождем еще. Думаю, прошло не так много времени.
— Времени прошло предостаточно. Ты заметил, нас даже не кинулись искать, гончими псами разлившись по улицам? Улицы просто пусты… Держу пари, они знают где мы сейчас находимся, как и то, что нам отсюда нет выхода.
— Выход есть всегда! — Буркнул Фирри, лихорадочно перебирая варианты. Противно было признавать, но в словах карлика была если часть, то хотя бы крупица истины — все выглядело слишком скверно, не так он себе представлял сегодняшнюю ночь.
Он раз за разом прокручивал в голове их разговор с заговорщиком. «Сегодня ночью. Будь готов», — именно этими словами его приветствовал Левис Рига. Тот самый Рига, повода не доверять которому просто не было. Рига — настоящий пример самоотверженности, преданности родине и короне. Истинный патриот на всю голову.
Нет, Фирри ни минуты не верил, что вся эта акция якобы затеяна лишь для того, чтобы сдать его, Фирри с его верными парнями, действующей власти. Не может быть, чтобы он настолько сильно насолил кому-то рангом Риги или даже самому Риге. Не то, чтобы он не сидел ни у кого в печенках, — истинный и преуспевающий бандит просто обязан иметь десяток-другой врагов, — но все они — лишь мелкая шушера по сравнению с действительными действующими на арене лицами. А лица такие, что лишь при упоминании нескольких имен из того списка у людей «знающих» обязательно всплыл бы в мозгу какой-никакой грешок, липкими пальцами забравшись под кожу на спине. И то, что такая важная фигура явилась самолично предупредить о грозящей акции, уже о чем-нибудь, да говорит. Например о том, что все реально, что все действительно планировалось.
Фирри досадливо закусил губу.
Однако все без труда могло планироваться и так, чтобы учесть возможное участие — громкое участие! — банды Нокса в эту ночь. Участие, заключенное лишь в одном — не просто отвлечении внимания стражи и стоящего гарнизоном копейщиков, но наиболее полном средоточии, акцентирования всеобщего внимания именно на них и их грандиозных поделках.
Прямо сейчас горят три района крепости. Зеленый район, район Неприступности и район Чаек. Возможно, в ближайшее время огонь перекинется на Трущобы и Ливневый. К утру все продолжит полыхать, но уже сгорит.
— И нигде нет людей! — Хлопнул кулаком о перила Фирри.
— Что? — Опешил Горм, тоже погруженный в задумчивость и вырванный оттуда внезапной вспышкой молчавшего собеседника.
— Дома пустые! Должны быть трупы, много жертв, но гореть некому!
— Как это, все внезапно пропали? Испарились? Прямо мистика какая-то…
— Скорее, спешно ретировались, — сквозь зубы прорычал главарь бандитов. — Никакой мистики. Я велел парням выбирать наименее оживленные и застроенные места для прокладки горючего и бомб, но как бы мы не мозговали, на пути обязательно попадались квартальчики из наших, соотечественников. Мы до последнего не думали, но все же решились их предупредить о грядущем представлении, чтобы те по возможности успели принять меры. Если жизнь дорога… А внутри — никого. Ни в первом, ни во втором и последующих домах! Все куда-то спешно убрались! Кто-то их предупредил вместо нас! За нас! Пустыми оказались даже дома захватчиков! Этих-то, никоим образом не должных знать о грядущем для них подарке!
— И вы все равно начали, — Горм удивленно обвел вокруг ладонью, — свой подарок?
— Был уговор. И никакие проволочки не должны были его нарушить. Даже… такие. Но теперь я вижу, что все вокруг слишком уж сильно затягивается. И по наши души, если они знают о причастных ко взрывам и поджогам, что-то не спешат укомплектованные отряды.
На это карлику нечего было ответить. Он вдруг насупился, облокотившись о перила мансарды второго этажа, взглянул вниз. Парни Фирри развлекались кто чем мог: играли в карты, тискали приволоченных откуда-то хихикающих девчонок и выпивали. Умиротворение прямо какое-то. Карлик злобно сплюнул, постаравшись ни в кого особенно не попасть.
— Неизвестность хуже всего. — Пробурчал он. — Проще, когда знаешь: то ли тебе свободно на выход из Нокса, то ли свободно на эшафот…
— Все ворота закрыты. — Откликнулся Фирри. — Даже порт перегорожен, уж не знаю, чья это заслуга.
— Ну вот, мы теперь еще и в мышеловке. Будем надеяться, что кот к нам повернется не иначе как задом. Тут-то мы и ухватим его за причиндалы, потому как если передом…
Договорить эту несомненно философскую речь ему не дали. За несколько улиц к северу к небесам поднялся истошный и такой пронзительный вопль.
— Фи-ирри-и!
Надо отдать должное Фирри как главарю, выучка у его парней оказалась отменная. Мгновенно побросав все свои дела и девок, они рванули в сторону крика. Лишь пара человек осталась на местах, положив на колени свое оружие.
Фирри, среагировавший на зов чуть ли не первым, спрыгнул на землю прямо так, с балкона, устремившись туда и словно подавая пример остальным. Стальной меч неведомым образом оказался у него в ладони. Горм, поддавшись общему чувству и ощущению внезапности, тоже было рванул вниз по лестнице, но вовремя опомнился. На улицу он спустился в своей обычной неторопливой манере.
Они вгрызлись в толпу ничего не подозревающий пикинеров, словно нож, врезаемый в подтаявшее масло. И, как всякий нож, умудрились подзавясть там, в самом центре, почувствовав все нарастающее сопротивление. Если бы здесь был Горм, он бы несомненно пофилософствовал на тему человеческого бутерброда из четырех компонентов: один, едва проглядываемый, зажатый к самой стене протяжно надрывающегося огнем здания, и два других, неравномерно, буквально рассеченных на две части совершенно чуждым этой композиции элементом. «Чечевица, безбожно разбавленная свиным соусом. Вроде и знаешь, что здесь должна быть чечевица, а чувствуешь только растекающийся по пальцам жир».
Солдаты дрогнули. Их было больше, но они, разбитые на две части, одна из которых оказалась опасно близко прижата к трещащей пламенем стене, запаниковали. Фирри уже слышал подобные своей остротой и паническим ужасом вопли, и знал, что в ближайший момент это предвещает, но, с присущей ему предосторожностью и уважением к противнику, даже и не подозревал, что бойцы регулярной армии вот так запросто могут обезуметь от страха.
Однако он был по эту сторону, не знал и не видел вдруг окруживших его, истекающих злобой и пеной диких варваров, набросившихся на копейщиков, словно на скот. С дикими, наполненными неестественной и нечеловеческой ярости они бросались и рубили, сами будто даже не чувствуя ответных ударов. Это не был бой, такой воспетый и такой прославленный мающимися от безделья трубадурами, — это была обыкновенная резня, никем не восхваляемая, и даже больше — порицаемая теми, для кого убийства, война и кровопролитие были лишь искусством, благодатной нивой для творчества и полета прогоркшей (захрясшей) от бездействия фантазии.
— А-а! Да помоги же ты мне, болван, подставь плечо! Вот так!
— А с остальными что?
Рига, обернувшись, еще некоторое время изучал израненных и беспамятных, валяющихся в неестественных позах, заговорщиков.
— Захватите Ландскена. Это Брув который, и выглядит как боров. Знаю, что потрепало его, не смотрите на раны так. Этот выкарабкается. Знаю.
— А…
— С остальными уже, к сожалению, все. — Он коснулся ребром большого пальца своего лба. — Все, идемте, пока не подоспело подкрепление. Их там было больше, много больше…
— Хей, Тили, Вили, отведите следы. Бьюк, останься пока с ними, потом разведай насчет остальных солдат. К Дому никого не подпускать!
— Они знали о готовящейся акции! — Рычал Рига, пока ему грубыми стежками сшивали бедро. Рычал, но держался, поглядывая за работой, но не пытаясь контролировать или жаловаться. Чувство, что ему было все равно, что получится, лишь бы побыстрее, чтобы можно было двигаться самому, и держалось.
— Усе будет в лучшем виде, милсдарь. Уж мы-то постараемся, осподин хороший, — бормотал себе под нос Дубохват, но никто его особенно не слушай — главное, что не раздражал.
— Знали, и дали поджечь почти половину города? Да к будущему вечеру от района Чаек и трущоб останутся лишь одни тлеющие головни! — В сердцах выкрикнул Фирри, которому крепость Нокс была самым настоящим домом.
— И, несмотря на это, они посчитали подобное средство, сродни уничтожения внушительной части города — вынужденной мерой для достижения своих целей.
— О каких целях идет речь? — Замер бандит в нерешительности, прекратив наконец свои метания по комнате.
«Все пропало! Все пропало!» — Упорно твердило его сознание, не желая искать выход в отчаянной ситуации. Он попадал во многие передряги, но эта, когда он со своими парнями пошел против двора, и когда на него готовы спустить своры собак, была апогеем. Против государства, с его армией, с его поставленной системой шпионажа и ловли вот таких вот загульных бродяжих банд вроде его, Фирривской. Ему не будет жизни, нигде.
— Они не просто подозревали о неких заговорщиках внутри Нокса, они знали о нас. Не знали только имен и полного состава. Это, как ты понимаешь, всегда оказывается лишь делом времени, а зачастую и старания. Сегодня, — он сделал паузу, глубоко вздохнув, — не мы начали кровопролитную акцию — они выманили нас. Спровоцировали на активные действия. Под «они» я подразумеваю Элли Блатанну с генералом Фордесом.
Фирри даже икнул от неожиданности, полным глупости взглядом уставившись на собеседника, но не видя ни его, ни вообще чего-либо. Дубохват, менее знакомый с этими личностями, лишь ткнул варварски изогнутой иглой чуть сильнее, чем того требовалось, вызвав у Риги недовольное шипение сквозь зубы.
— О-откуда они здесь? Здесь ведь нет армии, лишь один гарнизон…
— Моя вина, — скривился тот, — прошляпил. И теперь вот, расплачиваюсь за свою халатность. Остальные за мою халатность уже расплатились, к сожалению…
Единственный вариант спастись — выдворить войска и поселенцев из захваченной крепости. Тогда будет шанс сбежать, слиться с гражданскими и на время, если не навсегда, забросить свое ремесло. И молиться, чтобы до того момента о нем не прознали. Или пусть бы посчитали безвольной, использованной марионеткой.
— Да мне плевать кто внутри: рига или дерьмига! Открывай немедля, пока я тебе пасть не разорвал, иначе потом будет поздно — тебе ее рвать будет Фирри!
Фирри единым слитным движением переместившись к двери, резко распахнул ее.
— Что здесь происходит?
У самого порога стояли двое: красный, задыхающийся от бега и взъерошенный доносчик Бьюк, отправленный Фирри на разведку, и не менее красный страж, поставленный у входа во избежание подобных инцидентов.
— Фирри! — Влетел в комнату Бьюк, бросив мимолетный взгляд на хмурое, но в то же время заинтересованное лицо Риги. — Там бой, слышишь меня? Там вовсю идет бой!
— Какой еще бой? — Вместо Фирри, к коему и обращался доносчик, откликнулся Рига. — Все уже кончено, парень, незачем так орать.
— Там бьются! Люди бьются! — Выпятил он губу, как всегда делал, когда его словам, зачастую оказывающимся несусветным бредом, мало кто верил. — Ноксцы теснят копейщиков!
— Что ты такое говоришь?.. Нет, лучше сядь. Принесите воды, нет, вина! И поживее. А ты, Бьюк, дружище, давай-ка все рассказывай по порядку.
Доносчик часто-часто закивал, отсутствующим взглядом водя по сторонам в поисках кресла. Старший собственноручно усадил его напротив, всунув в дрожащие от волнения рукикубок с подоспевшим вином.
— Не, — мотнул он головой. — С самого начала будет слишком долго. Там помощь нужна, Фирри, говорю тебе! Пока-то они жмут, но скоро ихняя подмога подоспеет!
— Да в чем дело? — Рявкнул Рига, в очередной раз чрезмерно ужаленный иглой. — Объяснись ты наконец!
Фирри, в ответ на вопросительный взгляд нервных глазок, утвердительно кивнул.
— Я сам видел, как это было. Не с самого начала, но кое-что мне дорассказали доброхоты.
— Знаем мы этих доброхотов…
— Солдаты со стражей согнали кучу народа на площадь Чаек, — запинаясь, заговорил Бьюк. — Несколько сотен человек оказались запертыми там, когда прозвучали наши взрывы. Все вспыхнуло мгновенно, прямо по периметру площади…
— Но мы не закладывали там взрывчатки.
— Оставался единственный путь — по проспекту, который оказался слишком широким для огня. Там ему пожирать было нечего. — Тем временем продолжал доносчик. — На проспекте строем встали копейщики…
— О боги!
— Это была казнь. Публичная и беспощадная. Надо ли говорить о том, что все согнанные туда были гражданскими лицами, сочувствующими сопротивлению?
— Так много? — Тихо удивился Фирри словам Риги. — Я и не знал.
— Как легко согласился на эту теперь уже авантюру ты, столь же легко и остальные.
— Продолжай, Бьюк.
— И как будто этого было мало, они… они…
Полный боли вопль «а-а, вашу мать, да куда ты это бросаешь» донесся с улицы, легко преодолев плотно запертые витражи. Ответный голос мог принадлежать только Горму. Кто-то в дверях мгновенно среагировал, правильно распознав настроение главного, бросившись вниз. Карлика от смерти разделяло не такое уж и большое расстояние.
Поняв, что можно продолжать, и что все вокруг от него только этого и ждут, Бьюк начал:
— Не знаю, что произошло точно, но что положило начало всему, я могу сказать с уверенностью: некто, не выдержав насилия и беззаконности, перерубил одуревшего от безнаказанности копейщика, забравшегося слишком глубоко к массам паникующего народа, пополам. И, как все утверждают, словно сговорившись, это была женщина.
Дубохват кончил. Затянув последнюю стяжку на разорванном бедре, он перекусил нитку, да так и замер, втянутый в повисшую в комнате какую-то магическую тишину. Угрюмо молчал Рига, изогнув одну бровь, жевал губами Фирри, насупившись услышанному, беззвучно переводил взгляд с одного на другого Бьюк. И даже столпившийся у настежь распахнутых дверей народ благоговейно замер.
— Она что сделала? — Первым подал голос заговорщик. — Уточни, что она сделала?
— Перерубила копейщика пополам. — Глупо повторил тот.
— Копейщик был что, голый? А у нее в руках рыцарский двуручный меч? Ты понимаешь, о чем ты мне сейчас говоришь? Женщина — женщина! — перерубила пополам копейщика, облаченного в полное армейское обмундирование! Хотя… сколько по времени она его рубила? И как позволили ей все те массы военных так долго измываться над трупом?
Бьюк озадаченно почесал нос, не зная как реагировать на фразу, что все это он говорил исключительно Риге.
— По времени неведомо. — Пожал он плечами. — А по удару-то ровно раз. Думаю, аккурат в несколько секунд по времени-то.
— Ты веришь, а, Фирри, ну хоть единому-то слову веришь?
Бандит задумчиво пожевал губами, подав своим парням какой-то особый, им одним понятный знак, после которого перед дверью комнаты больше никого не осталось.
— А знаешь, Рига, верю. Я видывал многое, кое что такое, о чем лучше никогда больше не вспоминать. На задворках, в трущобах, которых ты, обязанный своему положению, весьма чурался, среди простого люда, даже на вычурных приемах благородных. Не знаю, что стряслось там, что на самом деле произошло, хотя я обязательно выясню, но о способностях человеческих, зачастую невероятных, зачастую удивительных и ужасающих, знаю не понаслышке. — Он встал. — Я собираюсь, Рига, отправляюсь на помощь. И, как знать, может быть, лично узнаю у той женщины, как оно было на самом деле. Если, конечно, мне совесть позволит это сделать. Такая ярость не возникает с пустого места…
— Я иду с тобой. — Спохватился Рига, но охнув, едва приподнявшись, тут же завалился обратно.
— Адреналин сошел на нет, сейчас ты никуда не встанешь. Оставайся здесь, иначе разойдутся швы. Дубохват за тобой присмотрит.
Левис Рига взглянул на него исподлобья, но ничего не сказал. Верно, его раздражало подобное с ним общение и бросаемые в его сторону команды, но правота, а главное, сила сейчас были на стороне бандита — все признаки диктующего условия, хотя Фирри, благородный мать его Фирри, этим не пользовался. И это раздражало вдвойне. Нет, втройне, вкупе с навалившимся от ранения бессилием.
— Теперь мы знаем, — бросила цель раздражения от дверей, — что стало отправной точкой настоящего восстания, дайте боги, чтобы оно не захлебнулось в первые же часы, — ярость самоотверженной женщины, вызванная жестокостью людей. — Фирри вдруг во весь голос рассмеялся, запрокинув голову. — Представляю же я их лица, и тех и других, когда Это произошло! Не-ет, такая ярость не могла вот так запросто раствориться, она заразила собою остальных отпущенных на смерть горожан.
— Теперь ты видишь? — Плясали у меня перед глазами строки недавно вскрытого конверта. — Теперь ты понимаешь, какие силы за всем этим стоят?
Мне казалось, что я понимал. Понимал еще тогда, но теперь, наглядно продемонстрированное, — тем, кто знает куда и на что смотреть, — оно приобретало совершенно новые краски.
Совсем недавно я пересел южную границу Железной империи, возвращаясь назад. Подумать только, охваченная войной полоса милостиво пропустила меня через себя, даже самым краем не подумав втянуть в этот самый конфликт. Как это удалось Номаду, учитывая, что меня пропускали без объяснений сразу обе стороны, — загадка. И тоже своеобразная демонстрация власти. Однако мой некогда хороший знакомец хотел мне поведать совершенно иное.
— И видишь ли ты, на что способны эти силы?
Теперь — да. Я считал россказни Номада слабо подкрепленным блефом изувеченной годами историей. То было семьсот лет назад — да какой дурак поверит подобному, если наплести можно все, что угодно! Но теперь, когда я услышал историю из самых первых уст, за дальностью в пятнадцать лет, — смешной срок, — собственные взгляды просто пришлось пересмотреть.
— И знаешь ли ты теперь, что собою представляет Комитет Крови?
Власть и еще раз власть — почти всемогущество. Эта история в полной мере показала мне, что Комитет сам, своими собственными руками способен вести интересующие его войны. Способен кроить государства и писать свою собственную историю. Искре не просто так дали выжить — ее заставили, гоня вперед знаменем освобождения.
— И что же теперь ты будешь делать? — Этого вопроса он не задавал, я задал его себе сам, подсознательно уже зная ответ. Знал уже давно, правя неговорящую лошадь по имени Садия к одному заждавшемуся меня селению.
ГЛАВА 10
* * *
— И все-таки ты явился сам.
Тот, кто желал, чтобы его называли Кардиналом, откинулся на спинку кресла.
— Я сделал столько для того, чтобы наконец-таки увидеть твое присутствие здесь, вот в этом самой комнате, в этом самом кресле, только чтобы в итоге ты пришел сюда без чьей-либо провожатой помощи. Никто так и не сумел ухватить тебя за плечи, связать, насильно доставить пред очи мои. Ты сделал это сам — попался самому себе — такими путами, которые не разорвать даже Создателям.
— Создатели… Неужели даже Твари веруют в них? Отчего-то мне казалось, что у вас обязательно должно быть свое божество или даже целый сонм божеств, в противопоставление людским Творцам.
— Вот как! — Казалось, Кардинал был искренне поражен. — И как же ты догадался?
Он демонстративно оглядел себя, одежду. Даже встал, покрутившись на месте.
— Что, так заметно, да?
— Если не считать бледной кожи и осунутого лица, что запросто можно приписать затхлости, жизни в постоянном сумраке и алкоголю, то ни единого намека.
Мое откровение повисло между нами тяжелым покрывалом. Насквозь пропитанный маслами и ароматами воздух кружил голову, заставлял нервно ухмыляться, глубоко дыша, в попытках сохранить собственный рассудок — не расхохотаться прямо здесь, в лицо неведомой Твари, сидящей передо мною с глупым выражением лица. Рассмеяться тому безумному пату, что привел меня сюда.
— Знал и все равно пришел. — Неверяще покачивая головой проговорил хозяин.
Недавно початая бутылка, стоящая на столике перед ним, совершила небольшое путешествие к носу Кардинала, была тщательно обнюхана и, с отвращением, отставлена обратно. Следующая закупоренная бутылка задорно чпокнула, пустив по комнате очередной аромат сводящей с ума притерности.
— Номад, — задумчиво проговорил он, удерживая тремя длинными пальцами горлышко бутылки. — Должно быть, Номад проговорился. Иного объяснения этому я не вижу.
Я загадочно улыбнулся.
— Неужели не этот сукин сын?! Тогда кто, как?
Он вскочил с места. Впервые с начала нашего долгого разговора. Не встал, прохаживаясь взад-вперед, а именно вскочил, яростно бросив бутылку чего-то терпкого прямо под ноги. Нечто тягучее, темно-красное, медленно выливаясь из узкого горла, растекалось у кресла.
— Отвечай! — Вскричал он, и крик его был подобен крику ворона — противный, громкий, гаркающий.
Я встал вслед за ним. Впервые позволил себе встать с этого кресла. Никто не выстрелил из боковых проходов, никто не выскочил из арочных галерей. Казалось, все они, буде есть здесь кто-либо помимо нас, застряли в этом тягучем воздухе словно в паутине огромного паука.
— Волей Провидения! — Медленно, с чувством, произнес я, наблюдая разыгравшуюся гамму чувств на лице моего собеседника. — Весьма и весьма возвышенно…, однако иного объяснения тому я не вижу. — Я сделал осторожный шаг в сторону. Один, второй, уверенно пойдя полукругом. Кардинал замер на месте в той самой позе, какой он встретил мое самовольство. И лишь голова поворачивалась вслед моему движению. — Провидение — какое высокое, страшное и всемогущее слово. Не правда ли? Должно быть, это очень интересная история, раз ваш всемогущий Комитет решил прикрываться дланью самой Судьбы! Ах, как бы я хотел послушать ее, узнать ваши мотивы, намерения и чаяния — ведь не каждый день встречаешь того, кто привык ставить себя выше других, решать их жизни, судьбы. Определять их волю. «Волю твою волей чужой» — и само Провидение, пребывающее в умах простого люда и… нелюда, такой невозможностью, неотвратимостью и ужасом предопределения подходит как нельзя лучше.
Кардинал, казалось, не дышал. Не улыбался, не скалился, не щурился — лицо его словно омертвело, и лишь глаза, живые глаза, продолжали тяжело буравить меня взглядом.
Я остановился прямо у него за спиной.
— Тяжело быть ренегатом, верно?
Он медленно, очень медленно, неторопясь развернулся.
— Это ты мне скажи, каково?
— Сложно, — податливо (кротко) кивнул я. — Очень сложно. Трудно в первый раз, тяжело во второй, и невозможно в третий.
— Предать собственное королевство, — процедил Кардинал, подергиваясь всем телом, и только презрение ко мне не давало ему рассмеяться сквозь зубы, — предать империю…
— Предать себя, — закончил за него я.
— Я буду звать тебя Ильф. Знаешь, кто такие ильфы?
— Да, отец рассказывал мне. Это маленькие невидимые проказники, но все зовут их эльфами. Лишь некоторых — ильфами.
— И верно, — щелкнул я ее по носу, — таких проказников, какой достался мне, еще поискать нужно.
Малышка звонко рассмеялась, ткнувшись «раненой» частью своего тела мне в плечо. Просто ткнулась, глянув на меня снизу вверх. Обожгла и прикосновением и взглядом, а смех ее до сих пор звучит в моей голове.
Я сглотнул тяжелый ком, невесть откуда образовавшийся в горле. Показалось, наверное, но вместо того, чтобы ухнуть в желудок, он подкатил куда-то к глазам.
— Думаю, за смерть моей дочери я должен благодарить тебя.
Кулаки сжимались и разжимались. Тягучий воздух словно подрагивал. Возникшая перед глазами пелена медленно, будто нехотя, рассасывалась.
— Ты пришел сюда ради мести?
— Я пришел сюда ради справедливости.
— Мне нужно будет единожды воспользоваться одной из ваших птиц.
— Только в моем присутствии — иначе они тебя просто не послушают. И при одном условии: я должен знать содержание того письма.
— Эвери, вот и вы! Наконец-то!
— Император Форевий? — Словно разом вкопанный в землю остановился тот, кто желал, чтобы его называли Кардиналом.
— Это ваш экипаж стоит у открытого атриума базилики?
— Ну конечно же мой! Не пешим ходом же я должен был сюда приехать. Но, право слово, я совершенно не понимаю к чему все эта спешка!
— Спешка? — Глупо повторил за ним таинственный Кардинал. — Какая спешка?
Император нахмурился.
— Эвери, прошу вас, не валяйте дурака. В вашем письме вы в достаточно несдержанной форме, что для вас столь необычно, указали мне на то, что мое присутствие в этом храме просто жизненно необходимо. Я знаю цену вашим словам и, следовательно, привык им доверять.
— Какое еще письмо? — Пробормотал он. — Я не отправлял вам никакого письма!
— Но ко мне явилась ваша птица!
— Я…
— Не волнуйтесь… Эвери, — с легкой усмешкой, шагнув вперед, подал голос я. — Это я его пригласил. Будем считать, господин император, что на этот раз вы мой гость.
— Гость? На этот раз? Что это значит? Эвери?
— Вы столь упорно приглашали меня к себе и искали встречи, что я сам решил ее устроить. В более, скажем так, непринужденной обстановке на более нейтральной территории.
— Эвери! Что это значит? Кто этот человек?
Однако названный этим именем молчал. Наиболее разумного поведения в его положении трудно вообразить.
— Приятно познакомиться, — я шагнул навстречу императорской чете, протягивая Форевию руку. Тот на автомате ее пожал. — Я Марек. Марек Арктурский, если будет угодно.
На лице императора отразилась скорая работа мысли, промелькнуло догадка, узнавание и ужас совершенного знакомства. Его бледная и болезная супруга испуганно ойкнула, прижав ладошку к губам, однако в ее глазах не было и тени того испуга. Пожалуй, эта женщина мгновенно обратила свое внимание на меня как на мужчину, которого несколько лет назад ей напророчил некто стоящий позади Кардинал. То, что сейчас ситуация не предрасполагала для зачатия «того самого» наследника, она еще пока не поняла. Хотя достаточно было взглянуть в лицо своего побелевшего супруга.
— Не… узнал вас, — откашлявшись, пробормотал наконец император. Достаточно быстро взял себя в руки.
— Должно быть это из-за бороды, — понятливо кивнул ему я. — Представьте себе, господин император, я не брился уже целую вечность!
— Вероятно…
— А может быть оттого, что мы с вами никогда прежде до этого не встречались.
— Воистину, такую вероятность отрицать не стоит. Однако что же, черт возьми, здесь все-таки происходит?
— Вы не объясните? — Обернулся я к замершему Кардиналу. — А мне бы пока хотелось пройти.
— Где?
— Все обязательно будет, просто дождитесь.
— Мне не нравится игра, которую ты со мной ведешь. Здесь слишком много постороннего народа!
— Ой-ли, Кардиналу не нравится навязанная ему игра. Парадокс.
Эвери просверлил меня уничижительным взглядом, тем не менее не став развивать скользкую для него тему.
— Форевий упорно твердит, что получил от меня птицу, но этого не может быть! Просто не может быть, чтобы кто-либо другой без моего ведома отправлял почтовых соколов!
— Отчего же?
— Потому что я их хозяин! Как тебе это удалось? Признайся!
— Как же глупо.
— Глупо? О чем ты говоришь?
— Просто немыслимо то, что действующий, пускай и пошедший иным путем, член Комитета Крови до этого не способен дойти самостоятельно. Я просто решил проверить, отчего эта порода столь драгоценных соколов зовется именно так, и теперь, кажется, представляю. И уж не этими-то птицами ваш всемогущий Комитет определяет чистоту крови?
И только сейчас заигравшийся в единичного вершителя судеб Кардинал начал осознавать происходящее. И по мере того, как приближался к истине, кожа его, и без того серая, бледнела еще сильнее. Он запрокинул голову, как будто он мог вглядеться, увидеть черное небо, побеленное ярким ночным небесным светилом.
Ответить он мне не успел. Если вообще собирался что-либо говорить. Холодящий в жилах кровь вой вдруг раздался со всех сторон, зависнув где-то под высокими сводами старой и обшарпанной временем базилики. А от накатившего следом за этим страшным воем грохотом опасно затряслись посыпавшиеся штукатуркой колонной. Левый неф, откуда доносилось сильнее всего, с еще более ужасным грохотом обвалился.
— Совершенно зря вы подумали, что я шутил про могилу, господин Кардинал. Хотите знать, откуда я узнал о вашей хм… нечеловечности? Кто мне сказал? Ответ прост: вы сами, решившие отправить меня на западную границу империи в тот момент, когда мертвецы вдруг решились подняться вновь. Что поделать, я не внял вашему с Номадом письму с предостережением. Вот такой вот я растяпа.
— Не может быть! Нет! Упыриную ночь не в состоянии пережить ни единое живое существо! Это просто невозможно! Блеф — подобное просто не может быть правдой! Стихийные события никому не под силу пережить! Нико… му…
— И это говорит мне член такого всезнающего Комитета Крови, — улыбнулся я. — Пускай и ренегат. Некий грандмастер в вопросах понимания значения крови.
— Этот феномен не был изучен… — Проблеял он, вдруг как-то сжимаясь. Его взгляд неотрывно следил за темнотой далекой арки центрального нефа всеми позабытой базилики. — Слишком опасно, слишком непредсказуемо… практически невозможно предугадать и уж тем более найти добровольца. Можно было предполагать… лишь теоретически.
— Считайте, — как и он, я уставился на далекий вход в храм, — этот «феномен» наконец-то изучен. — Проговорил я, и, нехорошо ухмыляясь, добавил, глядя в темноту ночи за стенами. — Практически.
— Назад! К задней части! В крытый атриум! — Не своим голосом завизжал такой страшный и могучий Кардинал Эвери.
Номад с ужасом в глазах уставился на меня, однако я лишь покачал ему в ответ головой. Не сказал бы, что с особым сожалением. Но он меня понял, кивнул, со знакомой мне обреченностью бросившись следом за пронесшимся мимо ренегатом. Мой старый знакомый усатый офицер, плюнув на распоряжение господ и перестав таиться где-то в тени, кинулся за ними.
— Убить! — Переходя на свинячий визг, воскликнул его высочество император. Обернувшись напоследок, я еще успел заметить его отяжеленный перстнями палец, указующий в мою сторону, как в следующий миг его схватили сзади свои люди, поволоча в укрытие. Вздохнув, я продолжил свой путь к лестнице, сомневаясь, что кто-то в здравом уме был способен броситься выполнять его безумное приказание.
Воля императора — закон! Ха-ха! Ха…
Первые обросшие свалявшейся, воняющей шерстью ходящие на задних лапах волкоподобные создания появились прямо на входе. Я отошел в сторону, пропуская их вовнутрь. На меня взглянули дикие, голодные, налитые кровью пары глаз. Остановились, обошли, обнюхали. Наверняка я должен испытывать страх. Трястись от ужаса и бояться пошевелиться. Но я отчего-то не чувствовал ничего. Я оказался им неинтересен.
В проходе, на секунду задержавшись на мне взглядом, замерла знакомая мохнатая фигура. Я, улыбаясь, ему приветливо кивнул, сомневаясь в его нынешней разумности.
Это представление должно состояться без меня. Я так решил, потому как уже невыносимо устал играть навязанные мне чужими роли. Теперь этот спектакль играется для меня — я лишь обыкновенный зритель. Актеры подобраны, маски надеты, сюжет известен, но не избит. Орган, если таковой имел бы здесь место быть, сейчас бы зазвучал на самой трагической ноте. Зрелище обещает быть просто фантастическим.
— Ты не поможешь собственному другу? — Удивилась Миражанна. Ее высокий голосок колокольчиком непонимания прозвенел прямо рядом со мною.
— Я знал, что ты придешь. Но Эвери, придя сюда ради тебя, тебя так и не дождался. Ты, подобно Номаду, просто не могла пропустить кое-что интересное прямо под боком, верно? Ты очень сильно рискуешь, Мира.
— Ни в малейшей степени.
Я не спеша обернулся, встретился с нею взглядом. Приветственно кивнул. Она в ответ понимающе улыбнулась, осознавая, что я не мог знать о том, что она рядом. Лишь догадывался. И все-таки она здесь была не с самого начала.
— Нет, — покачал я головой. — Не помогу.
Пахло свежестью. От нее, от женщины. Сколько мы с ней знакомы, — всего ничего, — но от нее всегда пахло какой-то утренней свежестью. Словно незримая морось в воздухе на заре, едва заметный пар изо рта и тяжелые капельки росы, скатывающиеся с согнувшихся под их тяжестью листочков.
Она появилась столь же внезапно, будто из полуночного сумрака. Просто шагнула ко мне, устав таиться где-то в недостижимых мне гранях.
— Почему же? — Пропела она, хлопая ресницами. — Это ведь твой друг.
Не знаю сколько ей лет, да и не хочу знать. Даже не представляю, сколько живут подобные не люди. Для всех она выглядит прекрасной молоденькой девчонкой. Да и важно ли это? Она мне совершенно безразлична, что сейчас, что тогда, когда я поддался ее чарам, шагнул вслед ее призыву. К сожалению, она не заменила мне алкоголь — опьянила, закрутила, но чем дольше я был с ней, впитывал ее ласки и гостеприимство, тем сильнее испытывал послевкусие. Горечь, нестерпимую, все увеличивающуюся горечь. Она не стала мне тем дурманом, который я искал.
Я искал отрешение, а нашел ее. Но, как оказалось, меня в ее лице и от чужого решения искали тоже.
— Потому что он сам выбрал это. Номад не мог не догадываться о том, что его там поджидает. — Я поднял на нее взгляд. — Это его выбор, это его воля.
Кто-то возник за нею, прямо в проходе, призраком темноты выскочив из самого черного угла. Блеснула сталь, метя ей в спину — метя прямо в поясницу… и прошла сквозь нее. Я перехватил эту руку, сжал кисть, дернул на себя. Послышался хруст, короткий вскрик — кинжал, звеня, завалился на пол, а его владелец, на продолжении рывка размозживший себе об стену голову, медленно скатился по ступеням.
— Достойный выбор, — кивнул я в пустоту, отворачиваясь от искореженной фигуры.
— В чем же? — Выныривая из ниоткуда, произнесла женщина. Казалось, только что произошедшее ее совершенно не касается — словно обошло стороной.
— В выборе матери, которой не страшны физические угрозы.
— Я всего лишь сосуд.
— Вот как? И разве не в планах Кровавого Комитета посадить тебя на престол?
— Нет, — мотнула она головой. — Я — никто. Просто безымянная мать истинного престолонаследника — истинного императора.
— Неужели это настолько важно?
Я тяжело вздохнул, отказываясь верить в то Предначертание, которым прикрывается Комитет. И тем не менее знал, что мне ответит Миражанна. Просто знал, не чувствовал.
— Важна правильная кровь во главе империи. Истинная кровь владыки — только так.
— Я не согласен становиться императором.
— А тебе никто и не предлагает, — удивленно захлопала она ресницами, но вдруг звонко рассмеялась, склонив голову набок, отчего ее лежащие словно косынкой волосы рассыпались пшеничными колосьями. — Твой сын займет надлежащее ему место.
— Превосходно. На душе стало так легко и не принужденно…
— Я не понимаю твоей бравады.
— Ваша секта разделилась на два лагеря: тех, кто поддерживает императора, и тех, кто отдает предпочтение совершенно новой ветви правления.
— Один ренегат — не лагерь! — Отмахнулась Миражанна. — По сути — никакой разницы. К тому же изначально Эвери был сторонником твоего уничтожения, благо император его предостережение истолковал по своему, решив не просто в необходимый момент лишить жизни имеющую право на престол Железной империи принцессу Ильфионну, а схватить ее, самолично заделав с ней истинного наследника. А когда ее не стало, — женщина с укоризной посмотрела на меня, — все внимание переключилось на тебя.
Знала бы ты, Мира, при каких обстоятельствах погибла моя малышка… Если бы ты знала.
Ее смех, такой звонкий и незамутненный вдруг прозвучал в моей голове. И я вспомнил ее лицо, вспомнил ее глаза и взгляд. Всепонимающий, всепрощающий взгляд любящей дочери. И не испытал ничего кроме тепла, медленно разливающегося где-то внутри, где-то под ребрами. Ее последний взгляд, воспоминание, такое страшное и горькое, от которого я бессмысленно пытался убежать, больше не приносило мне того невыносимого страдания. Кажется, я наконец-таки его принял, перестав гоняться от неизбежного.
Моя девочка… Я заменил ей отца, но всей правды она так никогда и не узнала.
— Смотри, — махнул рукой я вниз. — Прямо сейчас двое твоих товарищей убивают друг друга. Умирают сами, и забирают с собою нынешнюю императорскую семью. Смотри же! Видишь? Прямо сейчас престол освобождается от узурпировавшей его крови! Чего же ты стоишь? Ну же, делай что-нибудь!
Однако она стояла. Даже не двигалась. «У меня нет на этот счет никаких распоряжений», — вот и все, что она прошептала мне в тот момент. Вниз, как указывал ей я, она так и не посмотрела.
— Воля Провидения, — понимающе кивнул я, с какой-то ненормальной приятной злостью наблюдая, как мать будущего истинного императора закусывает губу. Понимала всю абсурдность того первонамерения, что лежат у основ ее организации. Понимала всю нестерпимую глупость того, чем ее пичкали и пичкают сильные мира сего. Те, кто поставил себя выше Создателей, объявив истинным гласом и дланью Провидения. Те, кто сами решили малевать на картине жизни красками крови свое собственное Предначертание.
А может быть, ничего подобного она не понимала. Будучи пешкой, лишь исполнителем, она кротко приняла на себя выданную ей роль. И не просто примерила, а вжилась.
Я уже обнимал ее за плечи. Крепко, прижав к себе.
— Теперь тебе никуда от меня не вырваться, — яростно прошептал я ей на ухо. Она дернулась от меня, часто задышав и впившись мне в лицо каким-то диким взглядом. — Прямо сейчас мне достаточно сделать одного шага, лишь одного коротенького шажка, чтобы навсегда избавить мир от собственной крови: что во мне, что зарождающейся в тебе. И больше не будет ничего, больше не будет никакой воли свыше. Все закончится здесь и сейчас. Скажи мне, Мира, что станет в планах у Магистров Крови с Железной империей в этом случае? Ну же, только не говори мне, что они совершенно не продумали подобный сценарий и поворот событий. Потому что в таком случае я начинаю думать, что они обыкновенные кровопийцы, присосавшиеся к кормушке под названием Власть. Жалкие псевдовершители жизней и судеб, где-то там, наверху, незримые, разжиревшие от собственного всемогущества. Что скажешь, Мира?
— Это твой ребенок, твой сын!
Она попыталась вырваться из моих объятий. Впилась в предплечья ногтями, глубоко, до крови разодрав кожу. Она толкала меня, колотила и стонала от бессилия. А я блаженно улыбался. Потому что прямо сейчас ничто ничего не значило. Хотелось бы мне сказать, что мы стоим у истока, однако русла, как и жизнь, никогда не поворачивают вспять.
— Ты не можешь! Твой плод во мне! Ты не посмеешь лишить жизни собственное дитя! — Кричала она.
И я засмеялся, наблюдая как бледнеет ее лицо, а удары, только что яростные, теряют силу. Как обмякает она в моих руках, сжимаясь и рыдая. И ответил ей тем, что уже однажды говорил — немного в другом месте, немного другому не человеку. И все-таки не так давно, чтобы память услужливо попыталась забыть такие жестокие слова.
— Мне не впервой убивать собственное дитя. Воля Провидения? Воля моя!
ЭПИЛОГ
Запахи прелой листвы щекочут ноздри, веют прохладой и сыростью. Я снова один, я снова ото всех сокрыт, снова — не от мира сего. Где-то вдали, в такой глубине, где нет места живым и думающим. Небо над головой серо и хмуро, кажется, будто оно, серое с белым, неуклонно падает вниз. Что ни день, то мелкий моросящий дождь, слякоть. Деревья тяжелы и массивны, клонятся к земле, изгибаются в такт здешней жизни. А сам воздух… воздух буквально пропитан витавшей в нем грустью, тоской и унынием — самое подходящее место, чтобы навсегда раствориться и пропасть. Самое место для меня.
Дверь отчаянно взвыла скрипом, хлопнула за моей спиною, отрезая внешний мир. Лучина, затрещав, заалела.
Темнеет здесь медленно и словно как-то незаметно. Однако если уж темнеет, так насовсем — хоть выколи глаз. Ночью нечего делать снаружи, если только интерес не заключается в стремлении заблудиться и пропасть, по пути встретив одну из частых здесь болотных ям. И тем не менее, снаружи отчетливо донесся какой-то посторонний звук. Мне не было нужды его игнорировать.
Темнота и темнота кругом. Еще не совсем полная, не до конца вошедшая в силу, перебиваемая все сгущающимися сумерками, она невесомым бархатом легла на плечи. Никого и ничего вокруг, как показалось мне изначально. Но я не спешил оборачиваться внутрь. Просто стоял и дышал влажной прохладой, а единственная лучина где-то позади скупо выхватывала из мрака редкие очертания.
Тихий шорох снизу, прямо у самых ног. Я нагибаюсь, внутренне удивляясь, что не заметил этого сразу, своей тенью накрыв будто покрывалом. Протягиваю руку и замираю. Сердце бешено колотится и дыхание спирает нечто инородное, заставляя меня упасть на колени. Котомка уже рядом, уже у меня в руках. Я прижимаю ее к себе.
— Она с-совсем другая, — едва слышным шепотом кричит мне темнота. — Пос-заботьс-ся о ней.
Но я ее не слышу, полными влаги глазами глядя в крохотное сокровище у моей груди, смешно-серьезным взглядом изучающее мое лицо. Я несмело протягиваю палец, касаюсь им щечки, крохотного носа, не успеваю заметить, как он уже оказывается крепко зажатым в уже прорезанных зубках. По пальцу медленно разливается онемение.
— Нет, молчать не надо, — шепчу я ей, склонившись, почти ее касаясь. — Крик — твоя награда.
И она сделала то, что сделал бы самый обыкновенный младенец: выпустила мой палец, все также неотрывно глядя на мое лицо, шмыгнула раз, другой, и вдруг во весь голос разревелась. Тягучая тишина вокруг лопнула мыльным пузырем.
— Я увезу тебя отсюда. Далеко-далеко, на другой континент, на другой материк, хоть на край света. Подальше отсюда, от этого прогнившего места. — Слезы катились по моим щекам, струились по бороде, оседая где-то на плечах и груди. Я ничего не видел вокруг — лишь ее наполненные влагой глаза. — Ты навсегда станешь для меня королевой всех королев.


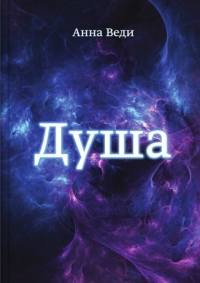




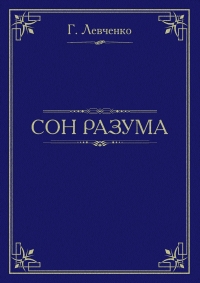


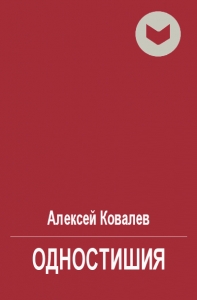
Комментарии к книге «Воля твоя », Андрей Николаевич Кречетов
Всего 0 комментариев