Эрик обитал в крошечной однокомнатной квартирке без ремонта и надежды на лучшее в дряхлой пятиэтажке, располагавшейся прямо под путями новой монорельсовой дороги, и, как водится в подарок ко всему вышеперечисленному, на последнем этаже, сердито и по средствам, которых не было.
Каждый проклятый день поезд из пункта «А», назовём его условно «А», ибо Эрик ни разу не удосужился выяснить его истинное название, в пункт «Б» проносился над головой каждые сорок пять минут днём, заставляя сотрясаться панельные стены и жалобно позвякивать пыльный хрусталь времён Советской империи на импортном серванте коричневого дерева. Каждый день поезд из неизвестного пункта «Б», спеша обратно, проделывал то же самое, и Эрику поначалу даже нравилось ощущать собственную нужность, значимость, причастность, наконец, к некой вселенской макроарифмитической задаче, когда же данные поезда встретятся на узком пути над его больной головой.
По выходным график убыстрялся, как убыстрялась и сама жизнь, а по ночам железо замирало. И тогда начиналась бесконечная какофония из собачьего лая и завывания сигнализаций авто, брошенных во дворах многоэтажек спального района. Лай, надрывный противный, мелких, поганых, выспавшихся за день тварей, не затихающий всю ночь, и Эрик мечтал, как обзаведясь снайперской винтовкой с глушителем и прицелом ночного видения, удобной такой винтовкой в компоновке «булл-пап», винтовкой такой достаточного калибра, чтобы поразить танковый мотор, он поднимется на крышу и устроит охоту. Охоту? Нет! Ночь успокоения. Ночь, когда родится тишина, тишина с вырезанным языком, выколотыми глазёнками и связанными конечностями, и только кровавые ошметки шавок будут неприятным сюрпризом для спешащих ранним утром на опостылевшую работу прохожих.
Но это было мечты.
А пока Эрик с трудом выбрался из-под горячего и ставшего влажным за ночь от пота одеяла и встал с дивана. Левая нога привычно нашла тапок. Пошарив спросонья другой по плешивому ковру, и не найдя пару, пошлёпал в санузел, силясь продрать заплывшие похмельные очи. А где-то в многогодовой пыли под осевшим диваном гадко ухмылялся порванной пастью второй, правый тапок.
Совмещённый санузел. Идиллия для одинокого жильца. Можно одновременно справлять нужду и приводить себя в порядок, выполняя несложные гигиенические процедуры, например, чистить зубы. Можно, конечно, всё это делать одновременно и в раковину, но сие не всегда эстетично, особенно, когда с похмелья трясутся руки, и вот – на тебе! – зубная щётка падает в бассейн раковины, прямо в щедро льющуюся струю дурно пахнущей тёмно-жёлтой мочи.
Однако почистить зубы не получилось.
Снова при виде безобидной такой зубной щётке пришли воспоминания о стоматологическом кабинете, и желудок скрутил дикий рвотный спазм. Но блевать было не чем, только отвратительные звуки и слюни, и не было даже обычной в таких случаях горькой желчи.
Отдышавшись, Эрик посмотрел в мутное зеркало над раковиной: вылезшие из орбит покрасневшие глаза, покрытое испарением больное лицо. Надо было начинать надоевшую, но столь необходимую каждоутреннюю процедуру.
Трясущейся рукой он взял с полочки мазь, крышка от которой давно была потеряна, и, подло ускользнув, так же как и старший брат-тапок, сейчас корчила рожи под ванной или за унитазом; так вот, Эрик взял мазь и, нанеся на палец, приступил к уже привычному действу.
Его чело, а так же скулы и область вокруг глаз покрывали засохшие белые чешуйки.
– Генезис данного заболевания современной науке не известен, – гласил официальный врачебный приговор. – Она может быть вызвана целым набором жизненных факторов, таких как, нездоровый образ жизни, экология, долгий и сильный психологический стресс, а так же великолепно передаётся по наследству.
В роду Эрика уродов не было, а сам себя считать мучеником он отказывался.
Он принялся отдирать с лица корки, обнажая бордовую воспалённую кожу, на которую наносил мазь. Зачастую кожа под наростами была настолько слаба и изранена, что тут же кровоточила, но он уже привык к неизбежному зрелищу за последние два с половиной года.
Как же его должно быть ненавидели в районном военкомате, так испортить сезонный план призыва, пусть и на одну человеко-единицу, а, может, именно её и не хватило, чтобы гордой звёздочкой лечь на погоны, получить сверх прибавку к сытому и пьяному быту пузатых тыловиков.
Конечно, его затаскали по больницам. Трясущаяся от старости и глубокого маразма старуха-врачиха из медицинской комиссии никак не могла принять такой поворот дел.
– Пусть они там пишут, чаго захотят, – шепелявила она беззубым ртом с некачественным съёмным протезом, роняя ядовитую слюну на карточку истории болезни, – а я направляю тебя повторно на подтверждения диагноза.
Так Эрик оказался завсегдатаем терапевтического отделения Городской Больницы №1, древней, как сама бабка-врачиха, пропахшей всякой разнообразной гадостью, больницы, как потом понял он, куда в отличие от новой приблатнёной №2 привозили умирать.
В терапии лежали преимущественно алкаши, наркоманы, уклонисты и лица полубомжовского образа жизни, кого-то выкинула на обочину жизнь, кого-то любимые родственники, некоторые пришли к этой цели самостоятельно. Там он научился пить ворованный спирт, нюхать клей, но сей процесс ему пришёлся не по душе, и отвозить на каталке свежие трупы в морг, здание которого находилось по соседству через крытый переход.
– Эй, мужики есть, что ли? – обычно вопрошала в таких случаях дородная медсестра, заглядывая в шестиместную палату с распростёртыми на железных, скрипящих кроватях задохликами, и, уперев руки в боки, обводила нетерпеливым взглядом помещение. – Нужно помочь на каталку покойничка погрузить.
Надо сказать, что случаи такие происходили буквально ежедневно.
За всё своё пребывание Эрик ни разу не встречал санитаров, может они постоянно бухали, или чурались такой работы, а может, их и не было вовсе в таком нереспектабельном отделении, однако, всегда находился кто-то изъявлявший унылое желание помочь. Пререкаться с медперсоаналом считалось не то что, по меньшей мере, бессмысленно, а и опасно. Так и могли вколоть что-то не то, а то и вовсе проигнорировать в роковой момент, и тогда уже ты поедешь на той каталке, а толкать тебя будет недавний сосед по палате.
Ещё в коридоре стоял подслеповатый ламповый телевизор, показывавший всё преимущественно в зелёно-болотных тонах. Других развлечений не было.
Покончив со всеми делами, Эрик, прихрамывая, направился обратно в жаркий полумрак комнаты. Присовокупите к его внешнему виду ещё и больные колени, и вы получите полное представление о том состоянии и месте во вселенной, в котором Эрик перманентно находился уже не первый год. Неудивительно, что перебивался он случайными, и, как следствие, недолговременными работами. Благо хоть пособие от государства позволяло решить проблему коммунальных платежей.
Итак, одевшись, Эрик пересчитал скудную наличность.
Не густо.
Однако, что же, вполне хватало на сегодняшний моцион с прогулкой и опохмелом.
Он собирался пешком дойти до ближайшей железнодорожной станции на промзоне, и сесть там на монорельсовый поезд до соседнего города, находившегося в примерно двадцати минутах езды.
Покупать билет не было ровным счётом никакого смысла: если заплатить контролеру непосредственно в вагоне, получалось на треть дешевле, что весьма ощутимо, когда каждый паршивый рубль на счету, а крохотный кусочек кассовой ленты был бесполезен и никому из обеих сторон столь удачной сделки попросту не нужен.
Там, в пункте назначения, небольшом курортном городишке со странным названием, которое в переводе, по одной из версий означало «Девять Знамён», в честь победы здесь девяти крупнейших калмыцких родов над аборигенами, имелась крошечная, под стать городу, привокзальная распивочная, где по бросовым ценам, ценам, которые Бештаугорскому спальному району, где обитал Эрик только снились, можно было отведать необлагаемой непомерным акцизным налогом водки, наливаемой из-под прилавка, и, закусить дешёвыми бутербродами с колбасой либо сыром.
* * *
В помещении было накурено.
Шумели подвыпившие завсегда, эти сиплые премудрые речи о жизни и политике в плотном сигаретном дыму и пьяном угаре, их силился перекричать спутниковый канал, позвякивало стекло, чавкала и материлась досужая публика. Духота, застоявшийся и уже порядком смердящий воздух, вонь не лучшим образом влияли на пищеварения Эрика. Подташнивало. Но каждый раз, подавившись и вытерев слезящиеся глаза платком, он упорно подносил граненый стакан ко рту.
Жаждал ли рот? Вряд ли, равно как и содрогавшийся в конвульсиях желудок. Скорее это была уже психологическая зависимость, а платок одновременно служил и чтобы отирать с чела пот, и для сморкания, и для жирных после еды, ежели оная имела место быть, рук.
Здесь всегда существовала тонкая надежда, что какой-нибудь состоятельный или по-пьяному щедрый посетитель угостит стограммами. Посему Эрик не спешил уходить в курортный парк по соседству в историческом центре города, дабы клянчить там мелочь среди неработающих бюветов минеральной воды и наскоро окрашенных старых скульптур у важно прохаживающих отдыхающих.
Родители Эрика были разведены. Но ни один из когда-то горячо любящих супругов впоследствии не смог или не захотел создать новую семью. Может, потому что чувства до конца не угасли. Тем не менее, он практически сбежал из-под всеобъемлющей опёки матери в ту самую однокомнатную квартирку в Бештаугорском районе, доставшуюся ему по наследству после нелепой и трагической смерти отца.
* * *
Уже изрядно смеркалось, когда изрядно захмелевший и голодный Эрик погрузил расслабленное тело в обратный поезд. Был будний ничем не примечательный вечер, и час пик уже миновал, так что вагон был практически пуст: какая-то бабка в тёмном платке в дальнем углу, сам Эрик, да хромавший по проходу одноногий дед на костылях.
Вагон только набирал скорость, посему инвалиду удавалось сохранять равновесие, лишь слегка болтаясь меж рядов кресел, ударяясь не слишком шибко боками то об одно, то другое.
Эрик уставился в окно.
Зелёные насаждения вдоль пути следования монорельса, ржавые рельсы двухколейного пути, уходящие в тупик, склады, ветхие корпуса бывших санаториев, в лихие времена переделанные в казино да клубы, а с очередной сменой строя просто брошенные на произвол судьбы из-за непомерных долгов, всё это неспешно проплывало перед его пустым взором меж тем, как поезд набирал ход.
Он даже не заметил, как возник этот гул.
Возможно, тот уже какое-то время звучал на недоступных уху частотах, и только сейчас набрал громкость, обретя полноту, законченность и силу.
Он был подобен низкой ноте органа, насыщенной, но ужасно однотипной и длящейся, не заканчивавшейся, и не переходящей во что-то другое, бесконечной.
Эрик болезненно, словно в ознобе, не смотря на жару, передёрнулся.
– Ты тоже это слышишь? – раздался прямо над ухом надтреснутый старческий голос, и ощутимо дохнуло дешёвой махоркой.
От неожиданности Эрик снова дернулся, оставив на стекле запотевший след.
Прямо супротив его сидел тот самый одноногий дед, удобно, и как-то по-хозяйски, уложив костыли, так что перегородил выход, подкравшийся незаметно и решивший почему-то во всём пустом вагоне избрать место именно здесь, рядом с Эриком.
– Да какого… – поперхнулся Эрик и смутился.
Дед был опрятен, в старомодных поношенных, но застиранных вещах, неопределенного цвета брюках и клетчатой рубашке, побрит, мочой от него не пахло, не похож на опустившегося поездного попрошайку, и он смутился, что едва не оскорбил пожилого человека, аксакала, как называли их здесь местные, к тому же увечного. Может, тому просто одиноко, как и ему, Эрику, больному изгою, чьи друзья либо померли, либо отвернулись от него, может тому позарез хочется мало-майского общения? Что до едкого запаха табака – так от самого Эрика, небось, на весь вагон разило перегаром и потом, так что нечего кривить смазливо нос.
– Э…Здрасти, – преувеличенно учтиво от внутренней неловкости кивнул Эрик.
– Хм… Ну и тебе не хворать, – как-то неопределённо отозвался дед, внимательным взглядом обволакивая лицо Эрика.
Эрик замялся, что хотел случайный попутчик? Но, удостоверившись, что в достаточной степени привлёк нужное внимание, дед скрестил когтистые, поросшие седым волосом кисти на груди и продолжил:
– Помню я, до этих новомодных поездов, которые, так и, кажется, сейчас, вот-вот опрокинутся на повороте, тут ходили, причём, заметь, не спеша так ходили, но уверено и не думали упасть, электропоезда на нормальных таких двухосных шасси, которые никуда, сам понимаешь, не дёрнуться с дороги. О, было это ещё при старом строе, ты тоды, небось, ещё и на свет-то не родился, так что вряд ли что-то знаешь.
– Когда делали насыпь на прокладываемый путь по генеральному плану, взяли да срезали оконечность старого кладбища там, где ранее жил старый немец Франц на холме, ну, чтобы, значит быстроходные электропоезда, везущие усталых тружеников со всей необъятной социалистической страны в профсоюзные санатории здравницы, не огибали так долго и не экономично заветный путь. Да ещё по всевозможным буреломам и оврагам рек, всяких там Бугунтой, Капельной, да в прочем их уже давно нет, тебе названия такие ничего не скажут, а сколько представь себе там ещё выкорчевать и засыпать надо, мосты, сам понимаешь, возводить…
Дед, походу начинал сбиваться с мысли, но вдруг резко продолжил:
– В общем, работяги не сколько не сумливаясь, как и приказало бригадирное начальство, снесли наземную часть погоста, все эти чуждые кресты, де не нужные гробнички, а после сверху положили всё, как положено, землица ведь ужо как хорошо улежалась за столько-то лет.
– Со временем электропоезда ушли в небытие, рядом, а где и поверх, проложен был этот одношпалный цирковой ужасный канат. Только, что тоды, шо теперь, по многу раз на дню, когда вы мчитесь по своим праздным или нужным делам, вы топчите прах умерших. Почивших, не сделавших вам, ныне живущим, ничего дурного, дробя и без того ветхие кости стальными колёсами, сокрушая безносые черепа в пыль, выдавливая остатки зубов и раня ветхую плоть. А вот, спрашивается, за шо?
– Дед, я того-этого, не знал, словом, – наконец смог ставить слово в тираду протрезвевший Эрик.
Поезд, всё это время нёсшийся с протяжным, раздирающим душу огранным гулом, начал вновь сбавлять ход перед очередной станцией.
– То, что ты слышишь, – сказал дед, поднимаясь, внимательно, не отрываясь, глядя на Эрика, нашаривая костыли, – суть стон незаслуженно терзаемых мёртвых. Несчастных, которым и после смерти, у всех такой разной, уж поверь мне, не удаётся до самых сих пор обрести покой. Задумайся об этом, когда в следующий раз надумаешь прокатиться по сему маршруту.
– А, в сущности, – дед закашлялся, – в сущности, по костям мёртвых.
И одноногий болтун прочь заковылял по проходу.
– Эй, дедушка! – окликнул сгорбленную, но всё ещё спину Эрик. – Прости ты… вы откуда это всё знаете?
– А ты женат, сынок, детки-то малые или большие поди уже есть? – вопрос на вопрос прохрипел дед через плечо, не оборачиваясь.
– Да никак нет, – ответил Эрик, почему-то по-военному, хоть на фронтах или генеральских дачах служить не привелось
– Что, даже дочи какой завалящейся нету? – это поскрипывание костылей.
– Да нет, вроде…Блин, почему вроде – точно нет!
– Зря. А ведь всё было…
Эрик замер, тупо уставившись вслед удалявшемуся попутчику.
– Наркоманы проклятые! – зло пробурчала бабка в дальнем конце пустого, если не считать её, высоко одухотворённую, да скверно выглядевшего парнишку, качающегося вагона. – Нету на вас, окаянных, надзирателя нашего храма Света, жертвования и покаяния! – и истово веря, плюнула на пол.
* * *
Эрик проснулся с пением птиц, едва забрезжил рассвет, было ещё почти темно.
По опыту, работая после невостребованного в родном городе института, сторожем, охраняя, таким вот незатейливым образом, никому не нужный и заброшенный государственный детский лагерь глубоко в лесу горы Машук, он знал, что, должно быть, сейчас около четырёх утра.
Так же он знал, что предстоит ещё ворочаться в полузабытье в потной мерзкой постели до пол седьмого утра, когда на весь дом из распахнутого окна не загремит железом – это рабочий мусоропровода потащит переполненные контейнеры в соседней девявиэтажке, ругаясь матом на брошенные на тротуаре и подпирающие двери подъездов сраные легковушки. С тем, чтобы там они и стояли, переполняясь и отравляя пока ещё свежий утренний воздух миазмами, ещё пару-тройку дней, пока мусороуборочная машина, по счастливой случайности, наконец, не сможет подобраться то к одному к другому в положенное время.
Как по расписанию наступили рвотные спазмы.
Добредя до ванной комнаты и держась за края некогда белой, а теперь с жёлтыми потеками, да ещё и выщербленной по краям фаянсовой раковины, он после очередной конвульсии вдруг вспомнил о деде. И весь тот чудовищный кладбищенский прогон.
Встречался ли он давеча с таким персонажем, слышал ли всё это, был ли вообще вчера в городе Девяти Знамён? Или проползал весь прошлый день на четвереньках по плешивому ковру, снятому со стену ещё его предками, чтобы на жрала моль и постеленному на пол?
– А ты женат, сынок, может, детки есть? – вдруг возник в голове хриплый старческий голос.
Голос того самого деда! Из, как он её там называл, электрички! Или всё таки обычного монорельсового поезда? А может, сна?
Эрик по привычки начал отрицательно качать головой.
И вдруг остановился.
Как, нет?
А чья тогда крошечная тёплая ладошка, вместо, как сейчас холодного фаянса раковины, лежала в его крупной пятерне, когда он… они… возвращался раз за разом с опостылевшей, но приносившей доход работы в магазине? Чей маленький ребёнок со смешным вздёрнутым носиком шёл, спотыкаясь, так близко рядом, таща непомерный, набитый дорогостоящими толстыми учебниками ранец? Ранец, который папа, отпахав на ногах девять часов без перерыва, просто не хотел, да и не мог уже тащить сам?
Не мог? Или всё таки не хотел?
А ведь стоило хоть раз попытаться.
Он – скотина.
Ну почему он не сделал этого?
Звук органа. Низкий звук, пока ещё еле слышимый.
Эрик завыл от бессильной злобы. Злобы на самого себя. Может, тогда всё бы было по-другому?
Но нет, не было.
Откуда эти воспоминания?
Он вломился в комнатушку, едва не снеся двери, скула, бок, он не чувствовал боли.
Упав на красную обивку дивана, где, как всегда, уползшая за ночь в угол простыня, оголила проплешины и дырки с торчащими пружинами, он прижал ладони к лицу и закричал:
– Господи, что это было?
Ответа не было.
Медленно он убрал руки и его взгляду представились какие-то синюшнее пальцы, с когтистыми, как-то непомерно отросшими нездоровыми ногтями.
Когтями, как у того деда в электричке, вспомнил он.
Выцветшие бумажные обои в его квартире если и имели когда-то розовый цвет, то давно уже вылиняли, рисунок давно уж не угадывался, да и попросту не был знаком Эрику.
Долгая протяжная нота органа….
Она такая протяжная, как слово суупруугааа…
Супруга.
Разве у него была когда-либо жена, человек, которую он любил больше всех на свете? И пусть Бог и родители будут ему страшным судом – но это было так!
Но когда?
Кто она?
Он упал и пополз к креслу.
А мёртвые выли и стенали в его мозгу, рассказывая всю позабытую и вычеркнутую из памяти историю целиком.
Должно быть, это был тот магазин.
Да, ведь был магазин. То место, где он работал вроде как официально продавцом-консультантом, меж тем, по сути, вёл ещё отдел технической литературы, был грузчиком и маркетологом, да мало ли кем, вкалывал он там на свиноподобную хозяйку, надеясь лишь на скудную прибавку в «конверте».
Иначе? Иначе работ в родном городе не было, а он всеми силами желал прокормить семью, не взирая на то, как это даётся, позабыв собственное достоинство и здравый смысл. Ведь они просто очень любили друг друга, поженившись на последнем курсе института, когда она вдруг сказала, что забеременела. Вот так, неожиданно забеременев вопреки презервативам. Но он очень верил ей.
Вой органа, плач мёртвых.
Имена, какие это были имена?
Он не мог ухватить их, как не может удержать человек в руке песок, когда нахлынет волна, лишь уходящее вдаль эхо, скользящий между посиневших пальцев песчинки, да расплывающиеся буквы имён…. Всё заглушат многоголосый стон мёртвых.
А что потом, спросите Эрика, когда стон мёртвых вдруг становиться тише из-за звуков приближающейся грозы, и он начинает царапать обои непослушными пальцами.
Потом – он заболел.
И вылетел с работы, а спустя уже пару месяцев, фактически, будучи прикованным к постели, он плакал от физической и душевной боли, когда привыкшая к достатку супруга всячески поносила его перед ребёнком, запершись в соседней комнате, называя козлом, уродом, да и никчёмным алкашом.
И это было только начало.
Этот вой мёртвых в мозгу являл ему, как всё было.
Так он потерял дочь, которой тогда было лет, наверное, десять – одиннадцать, юный мозг сдался влияниям матери, ведь она всегда ближе ребёнку, чем донор-отец. Особенно, если он болен, козёл и ни на что не годен. А ведь с рождением, пусть таким и не запланированным доченьки, им удалось наскрести достаточно денег на двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. Основную часть затрат покрыла продажа однушки Эрика, недостающую часть внесла его же мама. Но где это всё?
Эрик, рыдая, полз вперёд, в каком-то исступлении он вскарабкался на засаленное бурое кресло, принадлежавшее к одному с диваном некогда богатому гарнитуру.
Не помня себя, он начал царапать не сгибающимися синюшными пальцами обои.
Орган выл и стонал тысячами голосов в унисон.
– А знаешь, почему ты его слышишь? – вдруг раздался в голове у Эрика спокойный глас деда. – Всё потому, что они, так сказать, твои родственники, браться по высохшей крови – вы все мертвы!
Не может быть!
Тут он осознал, что все люди, все кого он встречал так или иначе в разных местах представлялись ему нечёткими силуэтами с вовсе уж смазанными кисточкой усталого художника лицами. Все, кроме деда.
Эрик всхлипнул и нажал сильнее, и из-под обоев потекла кровь. Но она не принадлежала ему, он в остервенении драл когтями тонкую кожуру бумаги, а затем цемент под ней, именно тот и кровоточил.
Оставляя полосу за полосой прорех в стенах постылого дома-ловушки он всё драл и драл, и текла кровь.
Вконец обессилив, Эрик тяжело опустился на колени в лужу бордовой тягучей жидкости. И хор мёртвых поведал ему развязку той истории…
С воем низкочастотным и гулом пришло понимание, словно взорвались плотины в зашоренном мозгу.
Она звонила на мобильный Эрика и всячески, как обычно, поносила его, но в этот раз в каждодневных истериках супруги прозвучала новая резкая, как порвавшаяся струна, нотка. По её словам выходило, что ей настолько осточертела такая вот жизнь, что вот прямо сейчас она готова броситься под колёса первой проезжающей машины. В другой раз это был поезд, когда, стоя на перроне, она уже готовилась сделать шаг навстречу. Она очень хорошо знала, что, не смотря на презрение к собственному полурастительному существованию, фактически потери живой дочери и отсутствию уже давно нормальных отношений, он всё ещё продолжал любить её. А ещё он так удачно верил в Бога, и просто не простит себе, если на его совесть ляжет ещё и такая вина. Посему, когда по прошествии месяца он всё ещё оставался обузой, ему был поставлен следующий ультиматум: он оставляет квартиру ей и уходит в монастырь, замаливать грехи, ведь суть их его болезнь; иначе она кончает жизнь самоубийством, а дочку отправит перед этим на свою историческую родину, в зону отчуждения, подвергшуюся в своё злосчастное время радиоактивному заражению после Чернобыльской катастрофы, когда на землю пала звезда и имя ей было – полынь. Там всё ещё проживали её порядком деградировавшие родители, да, дескать, пусть она там и сгниёт заживо с ними, назло ему, бесполезному уроду.
О банальном таком разводе, как ни странно, вопрос никогда не стоял. Она хотела всё и сразу, с как можно меньшими затратами сил и временем.
Так она изводила день ото дня, неделя за неделей Эрика, и он начал всё чаще и чаще просто уходить из дома, который уже давно не был семейным очагом, превратившись в позорный столб, к которому и был он прикован двадцать четыре часа в сутки.
Уже была зима, болезнь с кожи проникла вглубь организма и отложила там свои мерзкие личинки на суставах, которые принялись разрушать и пожирать хрящевую ткань.
Хромая, с опухшими коленями, болью в позвоночнике и груди, Эрик бесцельно бродил по незнакомым улицам, куда его прежде, в бытность здоровым, никогда не заносило. Там он, по крайней мере, не мог встретить злорадно ухмыляющихся знакомых. А жалеть его было не кому, да и не нуждался в жалости, воспринимая свалившееся на него, как крест, за прошлые прегрешения. Под давлением собственно возложённой на себя вины за беспомощность, с ранящими осколками разбитой вдребезги любви в сердце, он всё дальше уходил и всё позже возвращался.
Пока не вернулся вовсе…
Однажды он ощутил давящую боль в груди, на этот раз она была гораздо сильнее обычного, и шла не из рёбер, а откуда-то глубже, из самых недр грудной клетки. Словно чьи-то безмерно могучие несокрушимые пальцы сжали её правую сторону, одновременно вышибив дыхание, да так, что он не смог больше набрать воздуха. Сделав несколько судорожных, безрезультативных попыток вздохнуть, он просто, как был в поношенном чёрном драповом пальто поверх домашнего спортивного костюма и вязаной шапке, взял да и завалился в грязный подтаявший снег где-то на окраине родного города.
Лишь на следующий день случайный прохожий, по виду лежащего смекнув, что перед ним не упившийся в стельку алкаш, наконец, вызвал «скорую», но было уже поздно.
Вот о чём поведали Эрику мёртвые.
Воя, как они на перегоне меж городов, когда по костям прокатывается многотонный состав, он попеременно то бил головой о стену, то царапал и рвал её.
И та поддалась!
В дырку он увидал тусклый металлический блеск. Там, за раскрошённым цементом шёл сплошной слой хладного металла, и на него внезапно, будто ниоткуда, спустилось осознание того, что, даже распахнув сейчас входную дверь, он встретит всю ту же самую металлическую поверхность, запечатавшую его в этой старенькой однокомнатной квартирке, куда он вернулся в своих посмертных снах, как возвращается младенец в безопасную утробу матери, меж тем, как физическое тело его было кремировано, прах помещён в железную дешёвую урну, та, в свою очередь – в бетонную ячейку под номером 2013 городского колумбария.
А душа, душа, заточённая в металле и камне, не могла уйти ни к Богу, ни к дьяволу, ни в следующее воплощение, ни раствориться в стихиях огня и воды и земли; будучи навечно прикована к этому определённому месту на поверхности планеты под названием Земля, она была обречена переживать сны.
24 мая – 8 июня 2014 года
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg












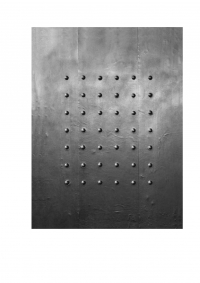
Комментарии к книге «Ячейка №2013», Александр Сергеевич Ясинский
Всего 0 комментариев