Сергей Смирнов Ангелы приходят и уходят
«Кое разлучение, о братья, кой плач, кое рыдание в настоящем часе. Приидите убо целуете бывшую в мале с нами, предается бо гробу, камнем покрывается, во тьму вселяется, к мертвым погребается и всех сродников и другов разлучается… Восплачьте обо мне, братья и друзи, сродники и знаемы: вчерашний день беседовал с вами и внезапу найде на меня страшный час смертный. Приидите все, любящие меня, и целуйте последним целованием».
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей«Ангелы приходят тихо и уходят незаметно».
И. М. Соловьев — о Г. Бураковском. «Млечный путь», № 2, 19971. Ангелы приходят тихо
Октябрь 1990 года. Томск
Ковалев вышел на круглую, серую в утреннем свете привокзальную площадь. Вышел и осмотрелся, будто оказался здесь впервые. Погода стояла пакостная — не то снег, не то дождь. Мигал вдали желтый глаз светофора. Несколько машин стояли у выхода с перрона — наверное, в ожидании утреннего поезда. Но в машинах, кажется, никого не было, и площадь была пустынна, только возле входа в автовокзал маячили несколько темных расплывчатых фигур.
«Кой черт меня сюда занес? — спросил сам себя Ковалев, тряхнул головой и чуть не взвыл от боли — в голове что-то ухнуло и накренилось. — Однако, крепко мы вчера… Ни черта не помню…». Он оглянулся на стеклянные двери вокзала, только что выпустившие его, повернулся и побрел через площадь, туда, где темнела серая башня гостиницы.
В голове гудело. Гнусно было во рту и муторно в животе. И на душе совершенно пакостно. Ковалев прошел в просвет между мокрыми кустами акации, внезапно остановился и застонал, схватившись за живот. Его качнуло, согнуло, изо рта под куст брызнула вонючая жижа. «Портвейн, — машинально определил Ковалев. — Портвейн и пирожки с рисом и яйцами, из вокзального буфета…».
Вскоре полегчало. Ковалев отплевался, тщательно вытер подбородок, добрел, пошатываясь, до ближайшей скамейки и рухнул на нее. Порылся в карманах. Нашел измятую, отсыревшую сигарету. А спичек не нашел.
«Гады, — подумал он. — Спички сперли. С кем это я вчера, а?»
Часы над вокзалом показывали 6 часов 29 минут.
Накренившись на бок, промчался мимо троллейбус, расплескивая грязь. Вынырнуло такси из мутной пелены, подрулило к вокзалу. Из такси выбралась старуха с сетками и сумками.
«Паршивый городок-то какой, надо же!» — Ковалев осторожно коснулся простреленного навылет виска. Нюхнул рукав пальто, сморщился и потер его о мокрые ребра скамейки. «Вон идет добрый человек… Надо у него спички попросить…»
Из серой бесконечности к нему приближался некто — высокий, подтянутый, в блестящих сапогах. Когда он приблизился настолько, что можно было различить черты невыразительного лица, Ковалев привстал:
— Друг, спичек не будет?
Человек в шинели, перетянутой портупеей, остановился прямо над ним. Секунду молчал, будто глубоко задумавшись, потом вдруг отрывисто сказал:
— Документы ваши попрошу!
«Во тип!» — подумал Ковалев и промолчал.
— Документики ваши где? — повторил человек в портупее.
— А дома, — нахально соврал Ковалев. — В комоде забыл…
— В комоде, значит?.. — Человек внезапно схватил Ковалева за плечо, рывком приподнял. — Пошли.
— А какое у вас право? — спросил Ковалев, пытаясь вырваться. — Я, может, за утренней газетой вышел. Международным положением интересуюсь, может быть, а?..
— Международным, значит? — почти игриво переспросил человек. — А я вас задерживаю за появление в нетрезвом виде в общественном, это самое, месте. Пройдемте, будем личность выяснять.
«Во дает! — подумал Ковалев. — Ну, тип!..». Ему стало смешно, он криво улыбнулся и встал со скамейки.
Человек тут же крепко ухватил его за руку и потащил в сторону вокзала.
— Слышь, полковник! — взмолился Ковалев, уяснив, что намерения у портупейного самые серьезные. — Я тебе что сделал-то? Брось, слышь? Сейчас поезд подойдет, я жену встречаю.
Портупейный молчал, только крепче сжал его руку.
В зале ожидания вокзала Ковалев резко остановился, вырвал руку:
— Нет, серьезно, слышь…
Портупейный как бы в недоумении глянул на Ковалева, потом быстро заломил ему руку за спину.
— Ой! Больно!.. Ты чего? Ну, ненормальный какой-то! — Ковалев посмотрел на уборщицу, возившую мокрую мешковину по каменному полу. Уборщица разогнулась, Ковалев умоляюще глядел на нее снизу вверх — в позе, не очень-то удобной для апелляций.
— Этот тут и спал, — раздумчиво пожевав губами, сказала уборщица. — Видела я его, он еще вчерась тут у буфете фулюганил.
— Понятно… — промычала портупея.
Через минуту Ковалев оказался в дежурной части. На него через перегородку сонно глядел сержант, что-то мычавший в телефонную трубку. Сержант был рыжим, в веснушках. Руки у него тоже были в веснушках, и даже уши. А глаза — оловянного цвета.
Портупейный сказал:
— В скверике, на скамейке…
— Водкой, что ли, торговал? — спросил рыжий.
— Да нет. Пьяный и выражался.
— Это когда я выражался? — вскинулся Ковалев, но тут же замолчал, осаженный криком: «Сидеть!». Но все же продолжил упавшим голосом: — Только и выразился, что прикурить попросил…
— Фамилие ваше! — строго спросил сержант.
— «Фамилие»… — фыркнул Ковалев. — Фамилия, а не «фамилие».
— Вы еще поучите, — сказала портупея. — Вы если грамотный, так людей не обижайте.
Ковалев промолчал. Он понял, что может быть еще хуже.
— Ну так что, будем говорить? — сержант занервничал, уши у него, и без того красные от веснушек, вспыхнули факелом.
— Ковалев, — сознался Ковалев и вздохнул, чувствуя себя законченным рецидивистом. — Виктор Владимирович. Год рождения 59-й. Не судим. — Подумал и добавил: — Пока еще…
— Что значит «пока еще»? — не утерпел сержант. — Вас суда не судить привели.
— А для чего?
— А для того, чтоб порядок не нарушали. Сколько выпили?
— Да много… — махнул рукой Ковалев. — Вчера, на поминках.
Портупея склонилась над сержантом, зашептал что-то. Сержант качнул головой, записал.
— Работаете где?
— В редакции. В газете.
— Где-где? — сержант оторвался от бумаги.
— Ну, в газете. «Знамя Ильича» называется.
Портупея с рыжим обменялись непонятным взглядом. Сержант протянул Ковалеву лист бумаги.
— Пишите.
— Чего писать?
— Поясните, почему нарушали. Что у вас там было — поминки, что ли…
— Насчет поминок — это я соврал. Так, выпили за субботу.
— Может, вы и насчет редакции соврали? — угрюмо спросила портупея.
— Может, и соврал…
Стражи порядка снова обменялись непонятными взглядами, посовещались вполголоса, рыжий кивнул Ковалеву:
— А вы пишите, пишите…
Ковалев взял непослушными пальцами казенную ручку и накарябал на бланке протокола:
«Поясняю, что вчера вечером выпили с друзьями по поводу приближающейся годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В результате чего, проснувшись утром, вышел на улицу с целью проветриться и попросить прикурить…».
— Вызывай машину, — сказал вполголоса портупейный сержанту.
Ковалев насторожился, поднял глаза.
— Не примут же! — отозвался сержант и — Ковалеву: — А ну-ка, встаньте. Встаньте, встаньте… Закройте глаза.
«Бить, что ли, будут?» — подумал Ковалев.
— Руки вперед, — командовал сержант. — Вперед руки! Приседание сделайте.
Ковалев сделал. И стоял, зажмурившись — не потому, что не было команды открыть глаза, а потому, что сейчас, с закрытыми глазами, все происходящее показалось ему дичайшим бредом.
— Средняя степень, — вполголоса сказал сержант. — И то не тянет… Могут не взять.
— А нам какое дело? — набычился портупейный.
Ковалев открыл глаза, глядел на них и тоскливо думал: «Загремлю в трезвяк. И за что? Хоть бы уж действительно пьяный, а то так, не проспался просто… Вот шеф-то обрадуется!»
Они еще что-то выясняли, звонили куда-то. Наконец портупейный ушел, обиженно нахлобучив фуражку на самые уши. А сержант вдруг поднял бесцветные глаза и сказал:
— В общем, давай иди отсюдова.
— А? — не понял Ковалев.
— Топай, говорю. Как раз поезд пришел. Он на перроне, — смотри, не попадись. Другой раз не выпустит.
— А чего он злой такой? — спросил Ковалев.
Сержант посмотрел на него, как на пустое место. Ковалев поспешил к двери.
* * *
Через несколько минут он был уже далеко от привокзальной площади. Радость его по поводу счастливого освобождения еще не улеглась и он, сидя в трамвае, перебирал от нетерпения ногами — так хотелось поскорее этой радостью поделиться. Трамвай, погромыхивая, уносил его все дальше от центра города, мимо грязных панельных пятиэтажек, мимо пустырей, заборов, луж и мокрых голых тополей.
Подъезд, куда он вошел, тоже был грязным. Причем грязь была многолетняя, даже какая-то особенная. Наверное, такая возникает при крупных стихийных бедствиях вроде землетрясения, пожара или совершенно случайного попадания авиабомбы.
Стены подъезда украшали надписи на разных языках, включая собачий, ступеньки были обломаны, будто по ним били кувалдой, и арматура торчала, как корешки.
Но Ковалев всего этого не замечал, поскольку в других подъездах ему бывать не приходилось. Он взбежал на пятый этаж, постучал в обшарпанную, разбитую дверь. Никто не отозвался. Ковалев взялся за ручку, державшуюся на одном шурупе, и дверь открылась.
В квартире пахло сортиром и помойкой. В единственной комнатке с плотно задернутыми шторами на диване лежал кто-то большой и толстый, с намотанной на голову простыней.
— Тэ-эк! — сказал Ковалев, закуривая. Нагнулся, потолкал его и сказал: — Товарищ! Верь!
Спящий не отозвался. Ковалев опять потолкал:
— Взойдет она, слышь?
— Хто? — донесся шелестящий голос.
— Звезда! Пленительного счастья!
Спящий засопел, закряхтел, забулькал. Из-под простыни показался красный бессмысленный глаз.
— Куда?
— Звезда-то?
— Ну.
— На небосвод взойдет… Вставай, алкаш, проклятьем заклейменный… Случай тяжелый, но будем лечить.
— Кого?..
— Тебя.
— Зачем?
— А как же? Так и помрешь непролеченным?
Простыня заколыхалась, показались кудлатая голова и мятое лицо; человек заворочался, приподнялся, сполз с дивана.
— Ты куда? — строго спросил Ковалев.
— Во-ды… — простонал несчастный запекшимися губами и рванулся в сторону кухни.
— Э, нет. Стой. Сначала скажи: у тебя опохмелиться есть?
— Не… не… не зна-аю…
— Так, не знаешь. Ай-яй-яй.
Ковалев прошел на кухню, осмотрелся. Его цепкий взгляд тут же выловил из горы немытой посуды, объедков и окурков граненый канцелярский графин с остатками самогонки. Ковалев поднял графин, открыл, нюхнул и удовлетворенно заключил:
— Е-есть. Ну, иди, харю сполосни. Да побыстрее, а то я ждать не буду.
Пока хозяин квартиры, стеная и охая, плескался в ванной, Ковалев сполоснул стакан, налил из графина, разбавил водой. Подошел к окну и рассеянно посмотрел во двор. Двор был обычный, гнусный. Мамаши с детьми бежали к автобусной остановке. В доме напротив из такого же кухонного окна на Ковалева глядел старик в майке. Он методично махал гантелями.
— Ты, собс-но… — хозяин появился в кухне. Он был голый до пояса, в выцветших и вытянутых на коленях спортивных штанах, босой. Лицо опухло, на животе синел кровоподтек.
— Друг! Вова! — закричал Ковалев. — Я хочу выпить, понимаешь ты, или нет, скот ты без упрека!
— Но ты, собс-но… — Вова скосил глаза на живот, оттянув губу, прищурил глаза и махнул рукой. — Собс-но, конечно… Наливай…
Ковалев нашел другой стакан, плеснул. Они чокнулись.
— За то, чтобы! — сказал Ковалев и выпил. Тут же поперхнулся, закашлялся и, выпучив глаза, бросился к раковине. Его вывернуло.
— Собс-но, так и бывает, — меланхолично заметил Вова. — Натощак, оно…
Он выпил и, пока Ковалев обнимал раковину, немного оживился.
— Нехорошо ты поступаешь, — сказал он, хрупая полуистлевшим соленым огурцом. — Непорядочно. Пришел и начал блевать. Порядочные люди поступают наоборот.
Он налил еще немного и снова выпил и снова закусил. Ковалев поплескал в лицо водой, нащупал рукой грязное полотенце, утерся, сел и улыбнулся, глядя светлыми, чистыми глазами.
— Ну, вот и я, — сказал он жизнерадостно. — Здравствуй, Вова!
Вова хрупнул огурцом.
— Собс-но, порядочные люди сначала здороваются, а потом уже блюют.
— Так то порядочные! — подхватил Ковалев.
Он налил себе снова, развел водой, зажал нос и выпил.
— Порядочные-то и на вокзалах не ночуют.
— А ты ночуешь?
— Да!
Вова развел руками:
— Тогда ты скот вдвойне.
— Именно! Вдвойне! Уснул не помню как, а проснулся — игральный автомат под ухом щелкает. Ну, что ты будешь делать? Встал с лавки и пошел. Только в себя начал приходить — милиционер. Хвать меня, гад, и потащил в кутузку. Еще руку вывернул… — Он пощупал руку. — До сих пор больно, гадство.
— А потом?
— А потом, Вова, в их рядах нашелся Иуда. Он меня выпустил.
Вова подумал, отрыгнул и сказал:
— Не верю.
Они выпили снова и закурили.
— А все ж таки, Вова, и хорошо же иногда бывает жить на свете!
Вова вдруг булькнул. Слеза покатилась по щеке.
— Друг! Вова! Ты меня понимаешь. Понимаешь же, да?
Вова сграбастал Ковалева, всхлипнул в ухо:
— Во… Это самое… Вот ты понял. А они — не…
— Да ну их! Плюнь! Есть это, как его? Упоение в бою!
Ковалев высвободился из объятий и поискал глазами графин.
— Нет, — Вова поднял палец. — Не так. А вот как: «С души…». Как это?
— Воротит?
— Не… Сам дурак, иди отсюда… А! «…Как бремя скатится, сомненья далеко. И верится, и плачется, и так, это, мать его, легко-легко»… А? А?
— Сомненья далеко, а поэт-то повесился, — сказал Ковалев.
— Это он в другой раз повесился. Сомненья далеко — так редко бывает. Это только у дебилов сомненья всегда далеко.
— Маяковский об этом писал.
— Да? Не люблю я Маяковского. Еще в школе, помню… Это…
— Да брось. Ни черта мы не помним. И нас не вспомнят.
Вова внимательно посмотрел сквозь Ковалева.
— Это чистая правда…
Разлили остаток, выпили, выловили из трехлитровой банки по помидорине, закусили. Помидоры тоже были старые, прокисшие.
— Тесно тут у тебя… Хоть бы прибрался, что ли?
— Приберешься тут, когда вы шляетесь! — плаксивым голосом сказал Вова. — Что толку прибираться? Придут, накурят, наплюют, наблюют… Скоты, одним словом.
Вова ушел в ванную и там фыркал бегемотом, плескался и в голос вздыхал: «О-о-ох…».
Входная дверь распахнулась от пинка и в комнату вкатился отставной майор Мясоедов. Он был лысый, маленький и круглый. В руке его была старая, порванная в нескольких местах полосатая сумка.
— Привет! — жизнерадостно сказал Мясоедов, бросил сумку и обнял Ковалева. — Жрете, гады? Все выжрали?
— Все! Ничего нет! — радостным голосом подтвердил Ковалев.
— Кто сказал — «ничего нет»? Ты это сказал?.. — Мясоедов зашустрил по кухне, на ходу снимая куртку, на ходу доставая из сумки заткнутые газетой бутылки и свертки. — Ты соврал, брат! Ты страшно наврал! Лучше признайся сразу!
— Признаю! Наврал! — с готовностью выкрикнул Ковалев и козырнул Мясоедову.
Смутным контуром нарисовался в дверном проеме Вова. С него текла вода, затекала, сбегая по животу, в штаны.
— Вова! Генерал пришел! — объявил Ковалев.
— Я вижу, — слабым голосом отозвался Вова. — Опять пить будете, да? И сколько можно?..
— Будем, Вова. Мы именно будем пить. И столько, сколько нужно!
Мясоедов деловито сполоснул стаканы, разложил на краю стола закуску, откупорил бутылку.
— Ура генералу! — Ковалев выпил и занюхал луковицей.
— Нет, не «ура», — отозвался Вова и тоже выпил — только булькнуло в безразмерном животе.
Все сели и задымили, счастливо жмурясь.
— Но это еще не все, — сказал Мясоедов. — Я вам, мужики, сегодня солянку сделаю. Настоящую, из курицы… Так что обождите напиваться…
Мясоедов надел фартук, развернул все свои свертки, вооружился ножом. В кухне стало жарко и дымно. Вова и Ковалев, налив себе по «чуть-чуть», вышли в комнату, расселись прямо на полу.
— Вчера на станции Волокитино катастрофа произошла. Поезда лбами столкнулись. Я по радио слышал. Трупов — тьма, — сказал Ковалев.
— Пока будут править коммунисты — катастрофы будут продолжаться, — сказал Вова и икнул.
— А по-моему, народ такой. Ему все плохие. Иван Грозный, Борис Годунов, Петр Первый, Александр Второй… Хоть золотого поставь — все не тот будет.
— Не клевещи на народ. Россия…
— Чего тебе — «Россия»? Москва тыщу лет под себя гребет. О себе заботится, а преподносит нам как заботу о нас. «Государство», «держава»… Кому они на хрен нужны, эти державы? Всю Россию раздела, и еще покрикивает — вы там, на Кавказе, чего баламутите?..
Вова вздохнул.
— С другой стороны… Ну, выпьем.
Из кухни вышел Мясоедов, присел на корточки:
— Выпить с вами, что ли?
— Пей. Но не свинячь, как вчера, — предупредил Вова.
— А чего вчера-то? Это ж вы решили самогонку гнать. Флягу с брагой на печку ставили. Пока закапало, бражкой упились… Спасибо, я еще трезвый был, по бутылкам разливал.
Вова вспомнил и захрюкал.
— Жаль, тебя вчера не было, — сказал он Ковалеву. — А может, и не жаль. А то тоже нажрался бы, как скот и повел себя соответственно. Скотским образом.
Мясоедов хлопнул себя по лбу.
— Мужики, чуть не забыл! Я сюда шел — кого встретил-то… Сидит. На песочнице. На край присела и сидит. Ну, мужики!.. Во глазищи! Волосы — во. А я мимо иду, вам, гадам, опохмелку несу. И…
— Стоп! — Вова поднял палец. — Кто сидит-то?
— А я разве не сказал? Баба, баба сидит. Понимаешь?
— Нет, не понимаю.
— Ну, женщина, понимаешь? Вот, значит, иду я мимо…
— Стоп! — Вова поднялся с пола и пошел на кухню. Через минуту появился с новой порцией.
— Теперь излагай.
— В общем, иду и думаю — вот такую подцепить бы!
— Женщину? — уточнил Вова.
— Ну!
— Кому подцепить — тебе?..
— Тьфу! — Мясоедов обиделся.
— Да ладно тебе, — сказал Ковалев. — Чего она сказала-то?
— Ничего. Куда вам, скотам, оценить такое…
Мясоедов ушел на кухню.
— Ну, Шкаф, ты полегче, — сказал Ковалев Вове. И крикнул:
— Слышь, генерал! Ну, пошутил он — Шкафа не знаешь?
Мясоедов будто ждал — сейчас же появился снова.
— Я у нее спрашиваю: ждете кого? Она — ноль внимания. Я стою. Потом говорю: холодно же тут сидеть, елки-палки!
Вова хрюкнул и махнул рукой: ладно, мол, молчу, молчу.
— А она молчит. Только глазами меня окатила. Мне даже нехорошо стало. Я говорю — может, помочь чем? Она хмыкает и просит закурить. А мне неловко — у меня нету, как назло, с трамвая шел — последнюю выкурил. И пачку выбросил.
— Она бы твою «Приму» и не стала курить, — сказал Вова.
— Ну, ясное дело. Так хоть предложить. Ну, я и пошутил: курить, говорю, вредно. Минздрав, говорю, предупредил…
— Да, шутки у тебя. Прямо закатишься…
— А чего?
— Да ладно… Излагай дальше.
— А дальше все.
И замолчал.
Вова подумал, икнул:
— Нет, ты еще забыл рассказать, как она твоей шутке смеялась…
— Да не смеялась она! Слезы у нее на глазах были, слезы!
— От смеха? — уточнил Вова.
— Дурак ты, Шкаф! Ну, дурак!
Мясоедов хотел уйти, но Ковалев удержал его, сам пошел на кухню за новой порцией. Когда он вернулся, Вова говорил:
— А сознайся, что ты про эту бабу наврал!
— Да когда я врал? — кипятился Мясоедов. — Сам можешь поглядеть — она и сейчас в песочнице сидит.
— А ты откуда знаешь?
— А я только что глядел.
Вова раздвинул шторы и скосил глаза вниз.
— Точно — сидит кто-то… А кто — не вижу. Может, это женщина, а может, и мужик.
Ковалев тоже подошел и тоже стал глядеть.
— Так не видно, — наконец сказал он. — Надо балкон открыть.
Вова со вздохом стал открывать балконную дверь. Дверь разбухла от сырости, открыть ее оказалось не так просто. Подошел Мясоедов и стал ковырять кухонным ножом. Дверь подалась. Правда, вылетел кусок стекла и разбился о круглую голову Мясоедова. Через гору пустых бутылок и какой-то рухляди они втроем шагнули к перилам балкона. Свесили головы вниз, разглядывая маленькую темную фигуру, застывшую на краю детской песочницы.
— Да, ты не врешь, — задумчиво сказал Вова. — Это знаешь кто? Это Ирка Алексеева. Она во-он там жила…
— А сейчас?
— А сейчас не знаю… Пошли.
Ковалева оттащили от перил чуть не силой. Мясоедов вспомнил про солянку и убежал на кухню.
— Слышь, Вова, а кто она такая?
— Ирка-то?.. Кто ее знает. Женщина.
Ковалев остался неудовлетворенным ответом. Он выпил, закурил и задумался.
— Вова… Ты как думаешь, умные женщины — они какие?
— Не знаю… Моя копёшка — дура.
Ковалев вздохнул и пошел на кухню. Мясоедов у раскаленной плиты вытирал уголком фартука слезящийся глаз — то ли соринка попала, то ли слеза прошибла от избытка чувств.
Ковалев пристроился на подоконнике:
— Слышь, генерал, а за что тебя из армии выперли?
Мясоедов загремел посудой:
— Так я ж тебе рассказывал.
— Забыл. Пьяный же был.
Мясоедов еще погремел, отошел от плиты, налил себе и начал:
— Началось, когда я еще в ЗГВ служил. Почтовый адрес — Москва-88. Германия, значит. Одного парня во время учения танком задавило. Пошумели- пошумели — и притихли. А про виноватых все знали. И все молчали. А я, как дурак, в политотдел написал. Вот и началось. Ну, придираться стали на каждом шагу — долго рассказывать. Потом сюда перевели. Года три я в танковой дивизии прослужил. Опять же, учения. Танк в болоте утонул — кто виноват? Я. Командир взвода на повышение пошел — молодец, мол, не растерялся в сложной ситуации, экипаж спас, а меня — в стройбат. Ну, в стройбате я уж и сам задерживаться не хотел. Ну, пить стал внаглую — полбеды. Там все пропойцы. А потом одному чурке по морде съездил. Ну, ты представь: ворует кто-то в казарме, а кто, дознаться не могу. И однажды я его, стервеца, за этим занятием и застукал: пёр, гад такой, сапоги из каптерки. Ну, я ему — бац по чайнику. А он длинный такой — втрое сложился и давай верещать, сапогами ворованными морду прикрыл. Сбежались. Дежурный по части начштаба вызвал, и поехало. Суд офицерской чести… А какая у них честь — я хорошо знаю. Я из нормальных войск пришел, мне эти стройбатские порядки поперек горла стояли. Ну, и уволили. За аморалку.
Ковалев курил, скосив глаза вниз, за окно. Темный силуэт на краю песочницы не давал ему покоя.
Мясоедов растрогался от воспоминаний, выпил сам с собой.
— А ведь был на хорошем счету… Да… Часы получил с благодарностью, с гравировкой от самого Гречки…
— Часы? Покажи!
— Да я ж тебе показывал!.. Дома они, в серванте лежат…
На плите зашипело. Мясоедов снял крышку кастрюли и объявил:
— Ну, все. Зови Вовку. Солянка вышла — во!
Он очистил кухонный стол, водрузил на него кастрюлю, порубил хлеба.
Выпили стоя. Курица, действительно, была что надо. Закусывали шумно, нахваливали повара. Мясоедов сиял.
Наевшись, отвалились от стола, закурили.
— Да, мужики, послужил я… Хлебнул этого дерьма через край.
— Да вы, батенька, па-ци-фист? — проговорил Вова и погрозил пальцем.
— Станешь тут пацифистом, елки-палки!.. Хотя, я считаю, армия всегда нужна. Границы охранять надо? А как же…
— От кого? — округлил глаза Вова.
— «От кого»! Будто не знаешь. У них техника какая? Случись что — с землей сравняют, за ночь, и без потерь…
— Правильно. Они ж не дураки — миллионы укладывать. Это наши до сих пор военное искусство изучают по Второй мировой. Это ж надо — гениальный план сражения на Курской дуге!
— А что, не гениальный, что ли? — набычился Мясоедов.
— Гениальный, гениальный, — махнул рукой Вова. — Наши не умением брали — массой. Наши иначе сражений не выигрывали — только если танков больше в три раза, а артиллерии — в десять.
— А ты думаешь, воевать легко было? Фашисты же пуль не жалели!
— А мы людей не жалели. И вообще — ты еще про беззаветную преданность скажи и про политруков впереди.
— И скажу! Без морального духа высокого победы никак не добиться!
— А двадцать второго июня сорок первого у нас моральный дух низкий, наверное, был…
— Внезапность! — завопил Мясоедов.
— И до самого декабря все внезапность была, эх! — Вова махнул рукой. — А чего ж тебя с твоим моральным духом из армии выперли?
— Я случай нетипичный…
— У нас с семнадцатого года все случаи нетипичные… И вообще. Комиссары наши чем занимались? Доносы строчили.
— А ты откуда знаешь?
— Стоп! — сказал Ковалев. — По-моему, мужики, надо успокоиться. По-моему, пора вторую бутылку начать.
Начали вторую. Тяжелый, тупой хмель постепенно разливался по кухне, скрадывая очертания предметов.
— Я сейчас выпью и пойду с Иркой Алексеевой знакомиться, — сказал Ковалев.
Почему-то все промолчали. Потом Вова с Мясоедовым опять заспорили — на этот раз, кто разливать должен.
Ковалев посидел еще, чувствуя, что еще способен передвигаться и внятно говорить. Еще стакан — и эти способности, пожалуй, будут утрачены.
— Ну, я пошел.
— Сиди, — тут же отозвался Вова.
— Почему?
— А мы ее сейчас в гости позовем.
— Ура! — обрадовался Ковалев.
Все втроем они снова вывалили на балкон.
Маленькая фигурка по-прежнему чернела на краю песочницы. Ковалеву показалось, будто двор до самых крыш полон тумана. Он протер глаза — туман исчез, и фигурка внизу стала яркой и отчетливой, ему показалось даже, что он различает складки одежды и пряди волос — обыкновенных волос, не слишком темных, не слишком светлых.
— Не пойдет она, — убежденно сказал Мясоедов. — Не зови даже — не из таких.
— Да? А вот посмотрим… — Вова сложил руки рупором: — Ирка!
Женщина внизу подняла голову.
— К нам, к нам! Сюда! — замахал руками Ковалев.
Женщина посмотрела и отвернулась.
— М-да… — сказал Вова. — Не суетись. Это не шалава же, не шлындра подзаборная. Эта — не пойдет.
Вова уперся руками в перила, опустил голову. Постоял, покачался.
— Я прав безусловно. Собс-но, тут нужен совсем другой подход…
Он вернулся в квартиру, постоял перед зеркалом и объявил:
— Ждите с цветами. Форма одежды — парадная.
Когда за ним захлопнулась дверь, Мясоедов принялся искать галстук.
— Есть же у этого бизона галстук, как ты думаешь? — спрашивал он Ковалева, который мечтательно жмурился, покачиваясь на табуретке. — Не могу же я без галстука такую женщину встречать… Как ты думаешь?
— Не можешь, — кивнул Ковалев.
— У нас же как? Встречают же по одёжке… А я одет неадекватно. Без фрака и без галстука.
Входная дверь хлопнула, появился Вова. На лице его было написано некоторое недоумение.
— Мужики, она не идет. Вот же стерва, а?
— Кто? — очнулся от своих грез Ковалев.
— Она. Это, правда, не она.
— Не Алексеева? — уточнил Мясоедов, стоя посреди разбросанных штанов, пиджаков и рубашек с цветастым галстуком в руках, лет на двадцать отставшим от моды.
— Ну, — подтвердил Вова. — Но при этом, мужики, Ирка. И, что характерно, Владимировна. А?
Помолчали. Мясоедов бросил галстук, пригладил волосы на затылке:
— Ладно. Тогда иду я.
Вова пошел на кухню заваривать чифир, пояснив, что таких женщин надо встречать, будучи абсолютно трезвым.
Чайник успел вскипеть, чай завариться, Ковалев и Вова опрокинули еще по четверти стакана, и только тогда пришел Мясоедов. Он ничего не сказал. Прошел к столу, молча налил, выпил, закурил, и уставился в потолок.
— Так, — сказал Вова. — Этот тоже выбыл из списка. Остался ты один. Дойди, родимый!
Ковалев поднялся, придирчиво оглядел себя:
— Ну как?
— Краше в гроб кладут, — сказал Вова.
Ковалев отважно пошел к двери.
— Погоди! — встрепенулся Мясоедов. — Галстук надень!
Ковалев погодил. Галстук был ужасен, на резиночке. Но Ковалев стерпел, подождал, пока Мясоедов приладил его.
* * *
Он вышел из подъезда и замер: в песочнице никого не было. Он сорвался с места, побежал за угол, выскочил на улицу. На остановке стояли молодые парни, но ее не было. Холодный ветер рябил бесконечные лужи и раздувал хвосты гревшихся на люке теплотрассы голубей.
Он закрыл глаза, зная, что будет дальше.
— Ну что, не пошла? — встретит его Вова. — Видишь, какая! Не то, что моя копёшка.
— Она — гордая, — ответит Ковалев словами Мишки Квакина из «Тимура и его команды», — А ты — сволочь.
— Каждому — свое, — ответит Вова и предложит выпить.
А спустя полчаса уснет на полу, широко раскинув могучие руки. Мясоедов все будет сидеть на кухне, бормоча что-то про высокий моральный дух и про гадов, которые этот дух нарочно подтачивают, а Ковалев будет рассеянно слушать, подперев голову руками и тоскливо думать бесконечную думу о том, что жизнь — штука мрачная, и ничего тут поделать нельзя.
А потом он выйдет из дому и земля будет белой от снега.
* * *
Он открыл глаза. Земля была белой от первого снега.
* * *
Вдоль трамвайной линии сияли зеленые огоньки, под ними бежали люди, волоча за собой маленьких детей. Пьяные парни на остановке хватали друг друга за руки и яростно матерились.
— Как одинок многолюдный город… — бормотал Ковалев, бредя к остановке по снежной каше. — Стал как вдова он, владыка народов… Горько плачет он ночью. Нет у него утешителей, любивших его: все изменили ему, все стали врагами…
Подошел дребезжавший трамвай, освещенный внутри и казавшийся снаружи нарядной игрушкой. Ковалев влез в трамвай, отыскал свободное место, сел и уставился в темно-синее окно.
«…И нет идущих на праздник, ворота опустели, священники вздыхают и девушки печальны… Неприятели его благоденствуют и дети его пошли в плен впереди врага. Зову друзей моих, но они обманули меня, священники и старцы умирают, ища себе пищи. Сидят на земле безмолвно, посыпали пеплом свои головы, препоясались вретищем; опустили к земле головы свои девы иерусалимские… Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дочь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева? Ибо рана твоя глубока, как море. Пророки твои вещали пустое и не раскрывали твоего беззакония, изрекали откровения ложные. И все проходящие мимо всплескивают руками и свищут и качают головой, говоря: «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?»… Воззри, Господь, как женщины едят вскормленных ими младенцев, как убиваемы в святилище священник и пророк; дети и старцы лежат по улицам, девы мои и юноши пали от меча. Ты убивал их в день гнева своего, заклал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел».
Трамвай наполнился озлобленными людьми, и вот уже закричал придавленный ребенок и громко и страшно ругался пьяный, и молодая женщина стыдила:
— Мужчины, чего вы смотрите? Выкинули бы его из трамвая, и все! Эх вы — такие здоровые, стоят и смотрят!
Молча топорщились мокрые плащи и куртки, пахнувшие сыростью и болезнью.
— Да не связывайтесь вы, — говорила другая женщина, — он поругается и перестанет.
Ковалеву хотелось выскочить из этого ада на колесах и побежать куда-нибудь — все равно куда — сломя голову. Подальше от этой сырой одежды, от этой похабщины, от этого бесстыдства.
Пряча лицо от стыда в воротник пальто, Ковалев выскочил на первой же остановке, растолкав каких-то несчастных неповоротливых женщин с сумками, тяжеленными, как ящики со снарядами.
Он огляделся. Снег уже растаял, блестела грязь под фонарями, дул ветер, прохожие пробирались вдоль красной кирпичной стены молокозавода. То ли весна, то ли осень — не поймешь. Как тогда. Одиннадцать лет назад. Тогда была осень. Конец октября. И холодно было, очень холодно…
* * *
Октябрь 1979 года. Томск
Было холодно. Ковалев был слегка пьян и ощущал необыкновенный прилив сил. Возле большого универмага, среди толчеи, женщина продавала кедровые орешки. Ковалев протянул ей пятнадцать копеек и попросил:
— Не разменяете? Мне позвонить нужно.
Женщина достала из кармана горсть мелочи.
Ковалев побежал к автомату. Набрал 09. Сказал, что ищет адрес девушки. Ирина Владимировна Алексеева. Возраст… Ну, примерно… А на том конце провода ответили:
— Таких справок не даем.
Ковалев заторопился:
— Девушка, не бросайте трубку! Мне надо срочно найти человека, понимаете? Я знаю, как ее зовут, а больше ничего не знаю…
— Обращайтесь в горсправку, — отозвалась девушка.
— Закрыта горсправка! Вечер же, понимаете? Мне именно сегодня надо ее разыскать, иначе не знаю, что со мной будет… Вы понимаете?
— Понимаю, — отозвалась та. — Знаете, такой справки вам сейчас нигде не дадут. Ну, разве только в поликлинике… Хотя…
Она дала номер телефона. По этому номеру тоже откликнулась девушка, и Ковалеву все пришлось объяснять заново. И эта девушка поняла его, и дала еще один номер.
Ковалев лихорадочно набрал номер. Теперь, кажется, это была та самая поликлиника. И снова девичий голос:
— Что вы! Таких справок мы не даем!
— А вы верите в любовь? — спросил Ковалев.
И девушка смолкла, и стала шуршать бумагами, и куда-то отошла, и наконец сказала в трубку:
— Запоминайте: Мира, 18–34. Алексеева Ирина Владимировна. Год рождения 1964.
— Спаси вас бог, девушка, — искренне сказал Ковалев. — Господь вас не забудет, а если забудет — я ему напомню.
Падал снег, серебрясь под фонарями. Ковалев поймал такси и поехал по этому адресу — Мира, 18. Удивительно везло ему в этот вечер, удивительно. Все удавалось ему. Но в глубине души он знал, что это везение не может длиться вечно. Он попросил таксиста не уезжать сразу, подождать — вдруг, он не вовремя, и придется уезжать, а в этом новом районе поймать ночью такси не так-то просто.
— Ну, полчаса не смогу, — ответил таксист. — Минут двадцать — точно, постою…
Везло Ковалеву в тот вечер на хороших людей, везло.
Дом был длиннющей пятиэтажкой с многочисленными подъездами. Ковалев прикинул и зашел во второй. Глянул на почтовые ящики, понял, что ошибся. Вышел и вошел в следующий. Квартира была на первом этаже. Неухоженная дверь, не крашенная с тех самых пор, как был построен дом. Сердце билось тревожно и сладко — в предчувствии счастья куда большего, чем то, что он испытал за всю свою прежнюю жизнь.
2. Звездный час
Вот она стоит и смотрит на меня — она, она, именно такая, самая красивая, как и представлял, — сонная, ничего не понимающая. Не помнит меня, не знает. А я объясняю. Виделись мы. Я тебя часто встречал там, во дворе, на скамейке. И сегодня опять. У меня в том дворе друг живет, Вова Шкаф, он тебя знает, вернее, кажется, знает. Мы выпивали, потом я вышел — а ты сидишь на краю песочницы, и никого не ждешь. И так мне жалко стало тебя, просто кошмар. Все бы отдал, чтобы узнать — кого ты ждала? Почему перестала ждать?
Мне твое имя Вова сказал — имя, отчество и фамилию, — правда, он потом сказал, что обознался, за другую тебя принял. Ну, неважно. Я хотел познакомиться, вышел — а тебя уже нет. Земля в снегу и ни одного следа. Вот только что была здесь — и исчезла, испарилась, не ушла даже. Я испугался. Мне судьба подарок делала, а я не понял, испугался, постеснялся… Надо было сразу подойти, давно еще, а все как-то неловко было… А все ведь объяснить можно было, все. Все и объяснилось бы постепенно.
И вот ты исчезла, как будто и не было тебя, примерещилась. И я очень испугался и побежал искать. Все соседние дворы обежал, вдоль трамвайной линии, и вниз, под горку, и на троллейбусном кольце. И понял — уже не найти. И тогда стал звонить. Долго звонил, и всем объяснял — зачем мне твой адрес нужен, почему так срочно. И все меня поняли, никто не отказал. Три девушки, а может, и не девушки — по голосу и ошибиться можно, — тем лучше: все вникли, все помогли. Оказывается, у нас в городе больше двадцати твоих полных тёзок — и фамилия совпадает, и имя, и отчество, надо же?.. Я на такси приехал… Как же не торопиться? Завтра все иначе было бы. Завтра я, может быть, и не посмел бы тебя искать. Ну, стал бы я звонить по поликлиникам, дежурных медсестер уговаривать? Да они с утра и не поверили бы. Сказали бы, сумасшедший звонит, ну его. И не помогли бы. Ну, через горсправку нашел бы, допустим. А все равно уже не то.
Ты извини меня, ладно? Извинишь?
Темно у тебя и странно так. Как будто ты уезжаешь. Пусто.
Нет, мне кажется, так и должно быть. Я просто успел. Еще бы день-другой — и не застал бы тебя здесь, да? Нет, не зажигай света, фонарь ведь за окном, светло, я тебя хорошо вижу.
Как странно — зачем здесь эта армейская табуретка? И скамейка эта? И подшивки газет в углу? Тут недавно умер кто-то, да?
Прости.
Можно, я на тебя посмотрю? Вот так. Можно, я тебя поцелую?
* * *
Может быть, он говорил не совсем так. Что-то сказал, а что-то только подумал. Это неважно.
Он прошел в темную пустую комнату, освещенную только уличными фонарями, сел на пачки газет и молча слушал, как она ходит по квартире, разогревает на кухне чайник.
Потом они пили чай. Путаясь и сбиваясь, он снова начал рассказывать, как впервые увидел ее, как искал по всем телефонам…
— Зачем? — спросила она.
— Что — «зачем»?
— Зачем ты меня искал?
Затем, подумал он, что ты мне нужна больше всего на свете, что другого случая в жизни не будет. Он сказал:
— Мне надо было.
Они сидели друг против друга — она на расстеленной прямо на полу постели, он на подшивках «Литературки» — у большого окна, за которым качалась паутина тонких ветвей.
— А мне?
— Что?
— А мне это надо было?
— Я не знаю.
Потом он подумал и добавил:
— Люди должны любить друг друга.
— Всегда?
— Да, всегда. Когда двое друг друга любят, они и остальных людей любят.
— И подлецов тоже?
— Да… Если их можно любить.
— Можно, — сказала она.
И он согласился: да, можно. Ему было трудно говорить с ней. В ее глазах было непонимание. Нет, не враждебность, а непонимание. И оно все росло. Хотя сначала-то, когда он вошел и только начал говорить, в ее глазах было радостное удивление.
— Ну, так почему люди должны любить друг друга? — сказала она. — Объясни мне.
— Что же тут объяснять? — удивился он. — Иначе люди жить не смогут.
— А вот — живут. Может быть, у людей потребность такая — ненавидеть.
— Ну, и это есть. Только ненавидят плохое, злое…
Он замолчал, она не ответила. Только вспыхнул огонек сигареты, вспыхнул отблеск в ее глазах — и погас. Остались во тьме лишь белые кисти рук, и по ним бегала паутина голых ветвей за окном.
Он схватил эти руки и стал целовать. Он прижимал их к своему горячему, еще пьяному лицу, он хотел отгородиться ими — этими руками — от ее вопросов и своих ответов, от всего, что может нарушить его сладкий, такой сладкий сон.
Она отняла руки и поднялась:
— Чепуха. Все это — чепуха. Ты совсем меня не знаешь. А я не знаю тебя… Да и знать не очень хочу, если честно.
Он тоже поднялся и смотрел на нее, вслушиваясь в слова и пытаясь понять их. Потом он решил, что слова эти и не заслуживают понимания.
— Ну и что? Узнают друг друга постепенно. Годами. Тут-то все просто, по-моему.
— А по-моему — нет.
— Просто, — повторил он. — Надо только не слова слушать, а друг друга.
— Это очень романтично, как в книжке.
— Ну и что?..
— Ну и ничего.
Он подумал и вздохнул:
— Не веришь ты мне, вот в чем дело. А для меня это все очень важно. Я именно так и должен был с тобой познакомиться, именно так и должен был все сделать — нелепо, по-дурацки. В этом вся суть. Если бы я все делал как надо — тогда, конечно, ты не могла бы мне поверить. А так…
Он поднял руки и опустил их. Он был беззащитен. Он понимал это и подумал вдруг, что ей-то, наверное, хотелось чего-то другого. Пусть и обмана — но в ее вкусе.
— Ну, ладно. С утра подумаем… — сказал он и стал раздеваться. Снял пиджак, рубашку, сел на пол и начал стаскивать сапоги.
— Не ломай комедию, — тихо сказала она.
Он молча стащил с себя штаны.
— А может, ты псих?
Он улегся на ее постель, натянул на себя одеяло и сказал:
— Хорошо!
— Свинья, — ответила она.
— А сама-то? — мрачно ответил он. — Ну, подумай: хотел бы я тебя обмануть — пришел бы с шампанским, с шоколадом. Совсем не так бы пришел.
Она подумала.
— Да кто вас знает… Может, ты на халяву решил — чего со мной церемониться. Увидали с другом в окно — вон сидит интересная бабенка…
Он махнул рукой, накрылся с головой, закрыл глаза. Цветные стеклышки брызнули из темноты, в ушах зазвенело, а постель вдруг боком-боком поехала вдоль стены.
Он, кажется, застонал, потому что, когда открыл глаза, увидел совсем близко над собой ее теплые глаза. Ее волосы защекотали ему щеки.
— Ну, что с тобой делать? — спросила она.
— Что хочешь. Можешь на кусочки разрезать, заморозить, и всю зиму суп варить…
Она принесла мокрое полотенце и положила ему на лоб. Остановилась посредине комнаты. Он видел ее — темный силуэт в голубом полумраке, руки поднялись и не опускаются. Он подумал: «Ну и молодец же я! Такую королеву отхватил!» И, кажется, уснул. И проснулся.
Кажется, эта ночь никак не могла закончиться. Когда он проснулся, было по-прежнему темно и по-прежнему за окном мотались от ветра голые ветви. Она сидела на матраце напротив него, прислонившись к стене, и курила.
— Слушай, дай закурить, а?
— Последняя, — ответила она.
— Ну вот, здрасьте. У меня тоже нет.
— Выйди на улицу — может, стрельнешь.
— Ага. У кого это стрельнешь среди ночи?..
— Ну, у такого же наивного мальчика, вроде тебя. Может, бродит по улице, звезды рассматривает…
— Ну да, — сказал он. — Вон за окном их целый табун. И все на звезды пялятся.
— Нет, не на звезды. В наше окно…
Он вскочил, подбежал к окну, выглянул. Пустой двор, черное небо, голубой снег.
— Никого нет, — сказал удовлетворенно. — Все спят. Даже мальчики-идеалисты.
— Нет, они не спят, — возразила она. — На улицу не выходят. Лежат по койкам, молча страдают.
— Вот видишь, — сказал он. — А я не дома.
Она не ответила. Он быстро натянул штаны, накинул пиджак:
— Пойду. Может, и правда не спит кто-нибудь…
На улице он постоял, прислушиваясь, потом побежал вокруг дома. И снова повезло — кто-то шел навстречу, курил. Ковалев попросил сигарет, взял несколько штук и бегом вернулся в тепло. Сел к ней на матрац, привалившись к стене. Закурил.
— Не спит? — спросила она.
— Не спит.
— Бедный…
Он сказал:
— Ты так сказала, что мне теперь стало стыдно. Ну, за то, что я такой счастливый…
— А ты сейчас счастливый?
— А ты разве нет?..
Она помолчала.
— Я представляла себе счастье иначе.
— Когда представляла? В детстве?
— В детстве. Знаешь, я ведь училась во вспомогательной школе.
Он удивился:
— Где-где?.. Для умственно отсталых, что ли?
— Угу. Для отсталых… Два класса закончила там. Потом, правда, доучивалась с нормальными.
Он погладил ее по голове, заглядывал в глаза, слушал. Она рассказывала, как училась в «нормальной школе». А папа у нее был большой начальник. Главный инженер в крупной строительной конторе.
* * *
— Собрания у нас в школе репетировали. Мне досталась роль юной пионерки. Я должна была возмущаться теми, которые отказываются от общественных поручений. Я сказала, что не буду учить эту роль. Наша классная с пионервожатой говорят: ну, поищем для тебя что-нибудь другое. Я говорю — не надо, не хочу. Вообще выступать не хочу. Они говорят: подумай, чего ты несешь? Я разозлилась и говорю — вы сами подумайте! Они обиделись. Но папу моего боялись — он же начальник. В этой школе нам многое прощалось. Один мальчик на перемене выбил другому глаз из рогатки — из маленькой такой, проволочной. И ему все простили — папа его начальником был. А того, что без глаза остался, в другую школу перевели. У него папа был маленьким начальником. Ну, тогда-то я мало что понимала, просто «выступала» много. Где по глупости, где из вредности. Они мне слово — я им два. Я и отличниц не любила, знала, что они стукачки, и однажды на совете отряда об этом сказала. Мне интересно было — как наша завуч себя поведет? Тогда такая должность была, знаешь — завуч по внеклассной работе. Она у нас вроде политрука была. Она ничего, терпела. И потом терпела, когда я нашей математичке на уроке высказала все, что о ней думала. А думала я о ней, что она без вранья жить не может. Меня к директору вызвали. Чтобы покаялась, а я не покаялась. На совете дружины отличницы— артистки захлебывались от возмущения: «Ты же наш товарищ! Как ты могла?..» И завуч: «Дочь ответственного работника, уважаемого в городе человека…» А за мной тогда уже много чего числилось, — все это, оказывается, не пропадало, в папочку складывалось. «Как тебе не стыдно??» — кричали мне. А мне было стыдно, стыдно. Но только не за себя, а за них за всех. Мне бы покаяться, но я взбрыкнула. «Нашла коса на камень», — как моя любимая учительница сказала. Она единственная за меня была до самого конца. Я так и стала думать: да, нашла коса на камень. Камень — это я. Потом к прокурору вызвали. Тогда прокуроры школы курировали, появлялись раз в неделю, лекции читали. И у нас был свой прокурор — солидный такой дядечка, лысый, с портфелем. А я-то — соплюха, пятиклассница. Он мне: покажи-ка, что у тебя в портфеле. Я говорю: вы права не имеете. А он: много ты знаешь про права, про права все знают, а про обязанности надо напоминать. И портфель у меня выхватил, начал из него на стол в учительской все вытряхивать. «Так. А это что?» «Журнал». «А какой журнал, знаешь?» «Знаю. Его папа в обкоме покупает». Журнал-то безобидный, не помню уж, «Шпигель», что ли. А в журнале — красавицы в мини-бикини. «Так вот чем ты на уроках занимаешься! — этот дядька кричит. — И другим девочкам показываешь, да? А может, и мальчикам тоже?» Тут я портфель взяла и по лысине его — хлоп! Жаль, портфель легкий был, пустой. Он как взвился: «Ну, сейчас я тебя увезу куда следует!» К телефону кинулся и кричит кому-то: «Немедленно пришлите машину!» А сам-то даже номер набрать впопыхах забыл! Думал — я не замечу. Но я заметила, хотя все равно испугалась. Маленькая же… Портфель схватила — и бежать.
— А отец что же? Мама?
— У отца новая жена была. Красивая, молодая. Она ребенка ждала, ей волноваться вредно было. А отец что? Когда до него все это доходить стало — поздно уже было, я уже завелась. Он на меня закричал, ногами затопал, потом по голове стукнул. Никогда он меня не бил, и разговаривал, как со взрослой. Всегда, сколько себя помню. А тут… Ну, хоть бы спросил сначала, узнал, как все на самом деле было… Я бы ему рассказала. Но он не спросил. Видно, уже пустили слух, что я ненормальная, и отец тоже на меня странновато посматривать стал. Я после этого в школу не пошла. Утром говорила, что иду на уроки, а сама — в кино, на утренний сеанс. В подъездах грелась, по магазинам шаталась. Там подружки нашлись. Мы курили потихоньку, выпивали. А потом отец однажды пришел домой злой, красный: «Чтоб завтра в школе была! Я за тебя краснеть не собираюсь!» И снова меня ударил. Он не злой был, но нервный. А тогда у него, наверное, много своих неприятностей было. Я в школу вернулась. Сначала все ничего было, а потом — опять. Разговоры, бывшие подружки за спиной шептались, а одна меня спросила по секрету, правда ли, что у меня уже мальчики были. Ну, по-настоящему. Я удивилась, говорю: «Кто тебе сказал?» Она засмущалась. Потом говорит: «Нам классная по секрету сказала. На классном часе». Я классной на уроке истерику устроила. Они — врача вызывать. Прибежала наша школьная врачиха, старушка, увела меня к себе, успокоила. Все головой качала. Я ж не понимала, что они тогда уже решили меня на комиссию вызвать, для освидетельствования. Я на них на всех рукой махнула. Прогуливала часто. С новыми друзьями по подвалам ходили, грелись, в карты играли. Я самой младшей была, меня никто не трогал. Правда, не обижали. Ну, а потом, к концу учебного года, это все и случилось. Я не помню, я не в себе была. Меня прорабатывать начали на очередном заседании — уж не помню чего, комитета комсомола, что ли. И лысый этот там был, прокурор. Он злой на меня был, и выступал больше всех. Слово за слово — и сказал, что меня пора гнать из школы, да жаль, мол, некуда. Таких маленьких сучек нигде, кроме колонии, не ждут. Я его послала. Он закричал, руками замахал, кинулся. И я ему ногой между ног въехала — меня в подвалах-то научили кое-чему. Потом комиссия была. Там меня и не спрашивали ни о чем, все, что надо было, сами написали. Так что на следующий учебный год я уже была в интернате. А в интернате было хорошо… Правда, ты не поверишь — я, когда хочу хорошее что-нибудь вспомнить, всегда интернат вспоминаю. Директор там хороший был, добрый дядька, старый. Не очень грамотный, правда. Но они там, в интернате, все немножко умственно отсталые — и дети, и учителя. Ну, ясно — всю жизнь с дебилами. А ты знаешь, какие они, дебилы? Они добрые. Тихие, верные очень. Они самые хорошие люди, только если по-человечески с ними. Я с одной девочкой дружила, учила ее всему, что сама знала, книжки ей рассказывала. Она откуда-то из деревни была, ее Анжеликой звали. Родители у нее алкоголики. А сама она тихая, забитая такая. Молчит, рисует что-нибудь пальцем, хоть на чем — на столе, на стекле. Стоит, например, у дверей, и водит по ним пальцем, водит… Никто, кроме меня, не знал, что она рисует. А она цветок рисовала. Один и тот же. Нет, были там, конечно, и настоящие дебилы. Но в основном там все нормальные, — думаешь, я одна туда так вот попала? Однажды комиссия из Москвы приезжала, министерская, экзамены нам тогда устроили. Так человек пять сразу обнаружили совсем здоровых. Ну, а толку? Перевели их в нормальную школу — так там их задразнили, даже учителя дураками называли. Они обратно в интернат просились, бедные. Не понимали, что у них вся жизнь такой будет… Это ведь — как надпись на лбу: смотрите, я — дурак. Интернат наш в старых бараках располагался, в них раньше зэки жили, при Сталине. Рядом — колоколенка разрушенная, там у нас что-то вроде склада было, подсобки. Стены полуобвалились, на первом этаже есть потолок, а выше — уже нет, одни стены. Мы на них лазали, играли наверху. А вокруг природа такая красивая, деревня, взгорки, лес, речка. В отдельном бараке у нас столовая была и кухня. А баню мы сами строили. Кирпичная, с прачечной, с водопроводом. Директор с завхозом сами и стены выкладывали. Завхоз тоже дядька хороший был, он у нас вел кружок резьбы по дереву. У него, знаешь, настоящий талант был, фигуры резал, панно такие на стены, из дерева — кони скачут. Его мальчишки очень любили, завхоза. А девочек учили на швей. У нас одна машинка была швейная, старенькая. Учительница по домоводству ее сама чинила. Старенькая тоже, как и машинка, в очках, кривобокая такая, смешная, все выкройки нам из разных журналов носила, говорила, что мы самые модные наряды шить научимся, чтобы даже принцессе какой-нибудь не стыдно было в наших нарядах ходить. Перед новым годом мы сами костюмы всем шили — и девчонкам, и мальчишкам. А у нас почти шестьдесят детей было. Мы день и ночь работали, в очередь к машинке, а большую часть — руками. Настоящие карнавалы устраивали: шестьдесят костюмов, и все разные, ты представь!..
* * *
В окне слегка посветлело. На полу стали таять тени тонких ветвей. Внезапно зашипело радио, оглушительно забили куранты, заиграл гимн.
— Доброе утро, товарищи! — бодро возгласила дикторша откуда-то издалека-издалека, из чужих, неведомых краев.
— Ну, вот и ночь прошла, — она поднялась. — Мне на работу собираться надо. А ты, если хочешь, поспи.
— А можно я с тобой пойду?
Она пожала плечами. Ковалев скатал матрац, сложил раскладушку, подошел к окну. По тропинке меж сугробов, сгорбившись, шагал старик с рюкзаком. В домах напротив загорались разноцветные огни.
В чистой уютной кухне присели за стол, попили чаю, съели по бутерброду. Потом вместе вышли из дому.
Шли по выпавшему ночью снегу к далекой троллейбусной остановке. Над девятиэтажками загорался сиреневый рассвет, и свежий снег тоже был сиреневым, и по-прежнему пахло весной, хотя была осень, глубокая осень. Народу еще было немного, троллейбус подошел почти пустым. Они сели рядом и долго молчали. На остановках входили продрогшие люди, и с ними вместе в салон проникал все тот же сиреневый запах снега и весны. Город просыпался, улицы наполнялись жизнью, но в душе Ковалева сквозь радость и тишину стало пробиваться что-то щемящее, безумно печальное.
На колдобине троллейбус сильно тряхнуло, он прижался к Ирке и прошептал ей в ухо:
— Ты хорошая. Добрая.
Она глядела в окно, и ему подумалось: опять не поверила, а может, зря он это сказал, голос сфальшивил, не так надо говорить такие слова, не здесь, и не так… Если их вообще надо говорить.
Троллейбус доехал до центра и Ирка собралась выходить. Ковалеву надо было ехать дальше.
— Я встречу тебя после работы? — спросил он.
— Нет, — она покачала головой.
— Когда ты освободишься?
— Ну… часа в три, — и вышла.
Дверь-гармошка закрылась с душераздирающим визгом.
* * *
Ровно через три часа он подъехал, увидел издалека — она стояла, ждала его. Он заторопился. Но она огорошила:
— Знаешь, у меня еще есть дела. Я тебя прошу — не ходи за мной, ладно?
Он не успел ответить, а она уже повернулась и пошла прочь, сразу же затерявшись в толпе.
Ничего не понимаю, — сказал Ковалев самому себе. — Однако, делать нечего. Потащусь…
И он не пошел, а именно потащился по тротуару, по подтаявшему снегу, в котором темнели сырые фиолетовые листья.
Он приехал в «школу» (как называли студенты университет), отсидел две лекции, сходил в буфет, съел какой-то безвкусный коржик, запил безвкусным соком и снова оказался на улице.
Идти было некуда. Он поехал к Вове.
Вова, вопреки ожиданию, был абсолютно трезв. Он сидел за пишущей машинкой и выстукивал что-то одним пальцем. В квартире было прибрано, следы попойки исчезли. Гудел холодильник и негромко бубнило радио на стене.
— Чем занимаешься? — Ковалев заглянул в отпечатанный лист. Прочитал: «Алкоголизм — болезнь. Но насчет деградации личности газеты врут. Какая же это деградация, когда люди после запоев творили шедевры? Скотт Фицджеральд к концу жизни, будучи уже алкоголиком (в общепринятом смысле) творил «Ночь нежна». Гофман пил чуть ли не ежедневно — об этом говорят его «дневники алкоголика» — и, однако же, на закате жизни написал «Крошку Цахеса», «Повелителя блох» и «Житейские воззрения кота Мурра». Творческие биографии «великих алкашей» свидетельствуют сплошь и рядом: никакой деградации личности с ними не происходило. Список имен можно множить и множить: Хемингуэй, Эдгар По, Писемский, Высоцкий…».
— Ну и что? — спросил Ковалев, оторвав взгляд от бумаги. — Пить-то все равно — плохо.
Вова вздохнул:
— В том-то и дело…
— Можно тысячу примеров привести обратных — когда именно деградация и наступала, — продолжал Ковалев.
Вова махнул рукой:
— Можно.
— Ну, так что?
— А скоты они, наркологи. Врут. Одаренные люди через пьянку самореализуются. Отдушина у них такая.
— И у тебя тоже?
— И у меня! — почему-то рассердился Вова.
— Да ладно, не злись… Я так, по дружбе… Как дела-то?
— На смену надо идти. Гаврилов заболел, так я за него подежурю… А ты куда делся вчера? Сидели, выпивали — вдруг бац! А тебя нет.
— А я Ирку Алексееву нашел, — буднично сказал Ковалев.
— Кого?
— Ну, Ирку. Алексееву. Не помнишь, что ли? Ты же нас вчера познакомить пытался.
— Я? — удивился Вова. — Да ты что?
— Ну. Забыл уже?
— Я все помню, — угрюмо ответил Вова. — А этой никогда не… Постой, как? Алексеева?.. Нет, не знаю. Хотя, была одна такая. Я еще молодой был. Шлындра подзаборная.
— Какая шлындра? Ты что? Это другая!
— А-а… — протянул Вова, внезапно потеряв интерес к разговору; отвернулся и принялся стучать на машинке.
Ковалев посмотрел на него, пытаясь что-то сообразить, но вдруг ему стало страшно и одиноко — сердце стукнуло и провалилось куда-то.
— Слушай, да погоди ты стучать! Ты что про нее знаешь-то?
— Ничего я не знаю, — покачал Вова седеющей головой.
— Да я же вижу, что знаешь. Знаешь ведь!
— Не знаю.
— Слушай, Вова. Ты мне лучше честно скажи… А то я черт знает что подумаю…
— А ты не думай. На вот лучше, читай, — он сунул Ковалеву в руку лист бумаги.
— Да не буду я эту белиберду читать! — Ковалев отшвырнул листок.
— Ну, ты полегче! — Вова покраснел, поднял листок, аккуратно разгладил. — Ишь, комкает! А то я, соответственно, возьму тебя, скомкаю и подотрусь.
— Скомкай, скомкай. Гад ты, Вова! Деградируешь ты, все-таки!
Ковалев выскочил из квартиры. Он уже бежал по лестнице, когда наверху открылась дверь и раздался зычный голос:
— Витька! Стой! Вот дурак-то! Не знаю я ее, ей-богу!.. Вот же чокнутый… — дверь захлопнулась.
* * *
В центре было несколько учреждений. Ковалев обежал их все, кроме уж самых важных, куда граждан с улицы не пускали.
В одном из учреждений, по вестибюлю размашисто ходила старуха в замызганном халате, с седыми волосами, которые пучками росли из многочисленных родинок на щеках и подбородке, махала руками, развозя шваброй грязь по мраморному полу.
Ковалев остановился, глядя на старуху. Оно оторвалась от работы:
— Чего смотришь? Вон туда иди и спрашивай, что надо. Я вам не диспекчер.
Ковалев с трудом оторвал зачарованный взгляд от коричневых рук, перекрученных, как выжатое белье, от седых пучков на лице, от замызганного халата, почти машинально двинулся к окошечку администратора. Окошко было расположено так низко, что Ковалев, даже согнувшись в три погибели, не смог заглянуть в него и разглядеть того, кто там сидел.
— Здравствуйте, — на всякий случай поздоровался он.
— Здравствуйте, — красиво пропел женский голос.
— Не подскажете, здесь у вас Ирина Алексеева работает?
— Кем?
— Не знаю… Техничкой, может?
— Спросите вот там! — из амбразуры высунулся маленький пальчик.
Ковалев вздохнул, вернулся к старухе.
— Чего надо-то? — спросила она.
— Здесь работает Алексеева?
— Здеся много кого работает. Три этажа их, работничков, сидят один к одному, аж потолки прогибаются.
— Нет, я про техничек спрашиваю. Есть у вас такая — Алексеева?
Он ждал, пока она, заведя глаза к лепному потолку, вспоминала.
— Нету таких.
— Как так «нету»?
— А так и нету. Или я техничек не знаю? Сама на полторы ставки работаю, одна у нас на полную, еще три — на полставки. Комаревцева есть, Кочнева, Зайцева… Эта ишо, как ее, Мамалеева, что ли. А Алексеевых нету.
Как в затмении вышел Ковалев на улицу, где прохожие по-прежнему уныло месили снег ногами.
Надо было присесть, подумать, но присесть было некуда. Ковалев привалился к киоску «Союзпечати»; и увидел вдруг, что пешеходы идут, нелепо накренившись, и дорога перекосилась, и даже светофор лег как-то набок, вроде Пизанской башни.
Потом закрыл глаза, а когда открыл — мир встал на прежнее место, и даже солнышко проглянуло сквозь ватные облака и снег стал быстро таять, обнажая искрящийся асфальт.
«Почему так грустно? — думал Ковалев, бредя по тротуару и ничего конкретно не имея в виду, а именно все, всю жизнь вообще. — Почему так грустно? Так безумно, безумно грустно…»
* * *
«Земля опустошена и разграблена, ибо Господь сказал слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная… Земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет… Прекратилось веселие с тимпанами; умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей… Разрушен опустевший город, все дома заперты. Плачут о веселии на улицах. В городе осталось запустение и ворота развалились… И сказал я: беда мне, беда мне! Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодейски. Ужас и яма и петля для тебя, житель земли. Побежавший от ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю…»
* * *
С матерью он столкнулся в дверях квартиры.
— Где шлялся? — спросила она, одной рукой придерживая дверь, другой держась за косяк.
— У друзей. Где же еще, — ответил Ковалев.
— «У друзей»… — со сдержанным негодованием повторила она. — А я уже все морги обзвонила, все больницы, все милиции…
Обманывала она — никуда она не звонила. Ковалев хорошо это знал, но вынужден был оправдываться — такова была традиция.
— Ну, не мог я позвонить, мам. Телефона в том районе не было.
— Ладно уж… Вот напишу твоему дэкану (она так и сказала — «дэкану»), тебя давно уже пора в ЛТП сдать.
Она с усилием перенесла ногу через порог.
— Ну и сдавай.
— Вот и сдам. А то я слишком добрая… Другая на моем месте…
Она перенесла через порог другую ногу. Ковалев посторонился, мать, переваливаясь, пошла вниз по лестнице, на прощание сказала, не оборачиваясь:
— Курица в духовке. Я к Варваре Михайловне.
Ковалев закрыл дверь, постоял и медленно сполз по двери на пол. Поднял голову. В зеркале, наклоненном к нему, увидел темное лицо с ввалившимися глазами, со щетиной на щеках.
Поднялся, выпутался из пальто и шарфа, прошел в комнату и упал на диван.
Из открытой форточки несся шум большой улицы, но шум перекрывало радио:
— Передаем обзор последних известий. Двадцать первого октября Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума… (вж-жж! — промчался под окном троллейбус, заглушив голос диктора) принял находящегося с визитом в СССР председателя… (вж-ж-ж! — троллейбус пронесся в другом направлении). В ходе дружественной беседы была подчеркнута необходимость и впредь крепить мир во всем мире…
Ковалев упорно слушал. Как-никак, это был голос живого человека. Ну, может, и не совсем живого. Может быть, все эти голоса записываются где-нибудь в отделе пропаганды на один большущий магнитофон, а на самом деле нет никакого ни Генерального секретаря, ни его гостя, ни мира во всем мире. А может, и Москвы никакой нет, может, ее выдумали чиновники для всеобщего воодушевления. Может, она была разрушена еще во время войны, а вместо нее построили декорации. По этим декорациям водят туристов, возят начальников и рыщут по ним «гости столицы», приехавшие за колбасой и наволочками. А может быть, и Москвы-то никакой никогда не было? Выдумали ее, как религию — для объединения земель и укрепления власти. И все остальное выдумали. Историю, географию, политику…
Мысль недодумалась, оборвалась, в голове стало пусто и тяжесть легла на сердце. Слабо засветилась люстра под потолком, раздались шаги.
* * *
— Здесь он. Вон лежит, — сказал кто-то.
Ковалев попытался вспомнить, кому мог бы принадлежать этот довольно противный голос, и не смог. В комнате появились трое. Один был в мятом белом халате, со шваброй в руках. Он непрерывно тер пол, изредка поглядывая на Ковалева с затаенным лукавством. Двое других — худой и толстый — имели вид утомленных жизнью полуинтеллигентных мужчин.
Они подошли к дивану. Белый халат принялся шырять шваброй под диван, быстро-быстро, туда-сюда.
— Ох, грязи-то, грязи-то сколько! — сказал он голосом вестибюльной старухи.
— Погоди, — остановил его толстый, он был в пальто и шляпе, с кожаной папкой подмышкой.
— Чего годить-то? — ответил халат. — Надо грязь убрать, а с чистого уже легче будет кровь-то отмыть…
«При чем тут кровь?» — подумал Ковалев.
— А вдруг это не он. Проверь, — кивнула Шляпа хилому, в беретке. Хилый вытянул из внутреннего кармана длинный узкий блокнот, слюнявя палец, принялся его листать.
Нашел, сунул Шляпе под нос. Потом наклонился к Ковалеву. Ковалев почувствовал, как ловкие руки быстро-быстро обшаривают его карманы, достают какие-то предметы. «Чего это они? — лениво думал Ковалев. — Грабить, что ли, пришли?»
Хилый тыкал пальцем в блокнот, объясняя что-то Шляпе на ухо. Шляпа кивала.
— Бросьте вы хулиганить-то… — слабым голосом проговорил Ковалев.
— Чего это он? — строго спросила Шляпа у хилого.
— Беспокоится.
— Придется потерпеть. Такой порядок… Ну, что, точно — он?
— Вот, — хилый сунул блокнот под нос Шляпе. — Все совпадает. Квартира, диван, троллейбусы под окном.
— Что вы мне про троллейбусы? — раздраженно сказал толстый. — Вы особые приметы давайте.
— А вот. Родинки все, татуировка в виде ядерного гриба с человеческой фигурой в виде распятия…
«Гляди ты! И про это знают!» — удивился Ковалев.
— Хорошо, давайте анамнез.
Хилый перелистнул страницу:
— Ерёма Квасов, двадцати двух лет…
— Это кто — Ерема Квасов? — удивился Ковалев.
— Ты Ерема Квасов.
— Я не Ерема! И не Квасов!
— А нам это без разницы, Квасов ты или не Квасов. Не был Квасовым — так будешь. Не велика птица.
Толстый слушал с брезгливым выражением лица.
— Ладно, — сказал он хилому. — Давайте сразу заключение и приговор.
— Понял. Про шизоидальность не надо? Понял. Значит, грехи. Всего их две тысячи триста семьдесят девять. Из них смертных восемь. Одно убийство. Два покушения на убийство. Хула на ближнего. Клятвопреступление… Восемнадцать краж. В том числе три — кражи стаканов из столовых и автоматов с газводой…
— Э… Стойте… — Ковалев с трудом оторвал голову от подушки. — Это вы про меня, что ли? Это я стаканы воровал?
— Ты, ты, — кивнул хилый.
— Ну, ладно, это могло быть, выпивали, наверное, где-нибудь в парке… А убийство?
— И это твое.
— Неправда, я никого не убивал.
— Правда, правда. Помнишь, камень однажды кинул и мальчишке в голову попал? Этому мальчишке нынче двадцать пять исполнилось бы. Умер он. Свихнулся и повесился. А свихнулся вследствие травмы, полученной в детстве. Правда, медицина до этого не додумалась. Такая она у вас — медицина.
— Так это когда было! Я ж еще в школу не ходил!
— Ну и что? У нас учет строгий.
Ковалев сказал:
— Ерунда. Мало ли от чего можно свихнуться.
— Апеллировать будете потом.
— Ну, а покушения на убийство?
— И это было.
— В детстве? — с надеждой спросил Ковалев.
— В детстве.
— Ну, это же просто… Детская мстительность. Разве это грех? Так, под воздействием момента…
— А большая часть убийств так и происходит — под воздействием момента.
— Нет, что-то тут не то, — проговорил Ковалев. — Бог — он добрый. Не станет он грехи считать. Он не бухгалтер…
И тут его осенило: ну конечно, какой тут Бог! Бог эту мерзкую троицу и близко к себе не подпустил бы. Это он, тот, другой…
…— Так на чем я остановился?.. А! На стаканах. Значит, далее. Соврал тысячу восемьсот четырнадцать раз.
— Это когда же?.. — вскинулся опять Ковалев.
— Не мешайте работать! — огрызнулся хилый. — Все зафиксировано, так что помолчите.
— Девственниц совращал? — лениво спросила вдруг Шляпа.
— Шесть попыток, — подтвердил хилый.
Толстяк вздохнул:
— Картина ясная. Вполне созрел. И приговор?
Хилый захихикал:
— Ну, вы же знаете… Будем брать.
— Это кого брать? Это куда? — возмутился Ковалев.
— А туда, — ответил хилый. — Там тебе будет хорошо. Там — порядок. И никто никому не завидует! А как же?..
Белый халат приблизился к Ковалеву и стал быстро опутывать его бельевой веревкой.
— Что же, я уже умер? — спросил Ковалев.
— «Умер, родимая, умер, сердешная, умер, — и в землю зарыт», как написал большой русский поэт, — подтвердил хилый.
— А как я умер? Когда?
— Обыкновенно. Внезапно. В баню вы пошли со своим другом — помнишь?
Ковалев начал лихорадочно вспоминать. «Да-да, точно… Баня была… Полки скользкие, кафельный пол… Помню, Генка меня под кран с холодной водой подтаскивал. Да спьяну, скот, включил кипяток. Только мне все равно уже было… А потом он им кричал — остальным — уймитесь, гады, Витёк загнулся…».
— Меня уже похоронили? — чужим голосом спросил он.
— Угу, — кивнула Шляпа.
— А где?
— Ну, там… Не на Марсовом же поле, и не у Кремлевской стены.
— А потом что будет?
— В смысле?
— Ну, потом? После?..
— А ничего. Кладбище закроют. Нужных покойников на новое местожительство определят. А вас, мелочь разную, так оставят. Лет через пятьдесят уже и следа не останется. И дома построят. И опять будут жить да грешить… Се ля ви!
Ковалев захрипел: туго натянулась опутавшая его веревка.
Хилый расстелил на столе свежую скатерть, расставил тарелочки с закуской, в центр стола водрузил запотевшую бутылку водки. Гости сели к столу. Разлили, один стакан отставили в сторону. Толстый сказал:
— Мы провожаем сегодня в последний путь… Как его?
— Квасова, — подсказал хилый.
— Вот именно. Помянем подонка.
И опрокинул стакан в горячую красную глотку.
«Но я же жив еще!» — хотел закричать Ковалев и не смог. Потому, что тело его осталось на диване а сам он парил над ним, зная, что тело его в этот момент досматривает свой последний в жизни сон.
* * *
…Он снова очутился в своей комнате, пустой и темной, и радиодиктор, сдерживая волнение, рассказывал о вводе в строй действующих нового моста на трассе БАМа.
Ковалев сполз с дивана, прижался щекой к холодному полу. Вспомнился «Танец смерти» Сен-Санса, и под эту плавную, совсем не страшную музыку его стало раскачивать — вместе с диваном, с комнатой, с желтыми фонарями за окном.
Музыка погасла, он снова задремал, и оказался на улице.
Сияли фонари, отражаясь в мокром черном асфальте, брели редкие прохожие, вдали, над вокзалом, светилось табло часов.
«Чего это я сюда выкатился? — удивился Ковалев и тут же вспомнил: — Ах да, я же бабу Аню ищу».
Он вернулся во двор, прошел мимо детской площадки и увидел бабу Аню. Она шла навстречу в старом зимнем пальто, держа в руке привычную плетеную котомку.
— Здравствуй, баба Аня! — обрадовался Ковалев. — А я тебя ищу!
— Здравствуй, внучек… Хоть ты обо мне вспоминаешь. А вот что ищешь меня — это плохо, плохо. Ты ведь молодой совсем, молодой…
Ковалеву послышался в ее словах какой-то иной, страшный смысл, но он отмахнулся от него.
— Сколько лет тебя не видел, — сказал он. — А ты куда? В магазин?
— Нет. В магазины мы не ходим.
— А куда? В гости?
— И по гостям не ходим.
— Так куда же ты идешь?
— Да и не иду я, милый, никуда. Лежу. Давно уже лежу…
Ковалев вздрогнул.
— Ты не пугай меня, пожалуйста.
— Прости, внучек, прости. Три года уже прошло, а проведать только раз приходили.
— Я не знал, что ты переехала, — сказал Ковалев. — Я бы пришел.
— А вот ты и пришел. Мы ведь не умираем — мы переезжаем. И недалеко. Здесь мы, рядом вот.
— Ты умерла, баба Аня! — закричал Ковалев. — Что ты говоришь? Похоронили тебя!
— Это живые так думают: похоронили — и нету нас. А мы не умерли — уехали. Недалеко. Но навсегда.
Сердце скакнуло, замерло, и сильно застучало в груди Ковалева так, что стало больно дышать.
— Ты прости, баба Аня. Я пойду. Я…
Он стал срывать с горла душивший его шарф, а у бабы Ани изменилось лицо, и вдруг он понял, что это лицо — его собственное. Это чужое ему существо стало наступать на него и посыпало словами тонким бабьим голосом:
— С переездом-то как намаялась! Там очередь, тут очередь. Везде жди, и не смотрят, ветеран ты или нет. И хамят по-нашему, и никто места не уступит в очереди, и еще матом кроют. И пожаловаться ведь некому — ни тебе райкома, ни милиции, ни совета ветеранов. И документов на руки не дают, кроме справки из ЗАГСа, а в справке не сказано ведь, каким ты человеком-то был, так что никому никакого различия, ни уважения!
Защищаясь от этого нарастающего пронзительного голоса, Ковалев замахал руками, поскользнулся и полетел прямо затылком на асфальт. Бац!
* * *
Он застонал и рывком поднялся. Он лежал на полу, рядом с диваном.
— Тьфу, черт! — ругнулся он и поднялся.
Включил свет, открыл балконную дверь. Уличный шум ворвался в квартиру вместе с запахами выхлопных газов и сырости.
Закурил, глядя на светившиеся окна напротив.
«Хорошо людям. С работы пришли, детей из садика привели. Ужинают, газеты читают, радио слушают. Будто и нет никакого Хаоса, будто не плещется он с улицы, не бьется в окна… А вон там настольная лампа горит. Там часто лампа горит, иногда всю ночь. А в этом окне женщина стелит постель. Молодожены. Не терпится. А вон на балконе целая компания. Курят, орут чего-то… Празднуют окончание пятилетки. Ишь, развеселились. А может, поминки у них? Должно быть, скоро подерутся…».
Внизу со звоном открылась балконная дверь и пьяный мужской голос заорал во тьму:
— Лар-риса! Лар-риса!.. Вернись, падла! Все прощу!
Это был сосед, алкаш Вова, от которого, наверное, только что ушла очередная жена.
— Ларис-са! Ведь я тебя, курва, люб-лю! Слышь ты, блядь? Люб-блю!..
Но никто не откликнулся с улицы. Только шумел транспорт, гудели троллейбусные провода, да вдали, над вокзалом, мертвые часы равнодушно считали минуты».
* * *
…Ковалев бежал по длинному, бесконечному коридору, скудно освещенному, с рядами белых дверей по обеим сторонам. Он стучал в одну дверь, в другую, но грохот собственного сердца заглушал этот стук, и не было ответа. Он бежал, торопясь отыскать кого-то, без кого ему нельзя, невозможно было жить дальше.
От бесконечного мелькания дверей перед глазами у него закружилась голова. Двери были совершенно одинаковы, и все заперты, заперты, заперты. Он колотил в них кулаками, но никто не отзывался.
Он стал кричать, сердце выскакивало из груди — и вдруг налетел на глухую стену в драных обоях, споткнулся о толстые подшивки газет и упал. В стене появилась трещина, и в трещине сверкнуло солнце. Ковалев из последних сил рванулся к нему — и наткнулся на себя самого. Он закричал от ужаса, ударил — и огромное зеркало рассыпалось на тысячу кусков. Там, за зеркалом, была открытая дверь. Но он не успел доползти до нее.
* * *
Он в испуге привскочил с дивана. В окно падал тусклый свет уличных фонарей, на часах было почти одиннадцать.
Он встал, включил свет, заглянул в спальню — матери не было. На столе лежала записка: мать сообщала, что ушла ночевать к подруге, их бывшей соседке, которая теперь умирала от рака. Мать время от времени ночевала у нее, кормила, занималась хозяйством.
Ковалев заварил крепкого чаю. Со стаканом в руке подошел к окну и замер от внезапно охватившего его чувства безысходности. Стакан задрожал в руке. Он отставил его и подумал: «Я больше так не могу. Наверное, я сумасшедший».
В спальне он достал из комода шкатулку, отсчитал пятнадцать рублей. Потом подумал и взял еще червонец — на всякий случай. Оделся и выскочил из квартиры.
Такси он поймал сразу и через полчаса уже стучал в квартиру Алексеевой. Никто не отзывался на стук, но он почему-то упорно отказывался этому поверить и стучал, пока на площадку не выглянул заспанный сосед.
— Ты чего хулиганишь, а?
— Ничего, — Ковалев пнул дверь ногой.
— Видишь — нет никого?
— Вижу, вижу…
— Ну и не хулигань, понимаешь!
Ковалев вышел на улицу.
Было морозно, дул ветер. Ледяная земля звенела под ногами.
Ковалев сел на скамейку, посидел. Замерз, начал ходить вокруг дома. Обошел раз — глянул в темные окна. Обошел второй — снова глянул. Но холод становился все злее, все нестерпимей. Ковалев забежал в подъезд, постоял, прижавшись к батарее, над лестницей в подвал.
Делать было нечего: его звездный час миновал, и миновал безвозвратно.
Он поднял большущий ржавый гвоздь, нашел на стене свободное от надписей место и крупно нацарапал: «ИБО КРЕПКА, КАК СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ». Гвоздь он сунул в карман — на счастье.
Потом он вышел на улицу, снова поймал такси и поехал к ресторану. Дверь была заперта, он постучал. На стук выглянул усатый детина в спортивной майке с американским орлом на груди.
— Чего надо?
— Выручи! — проникновенно произнес пароль Ковалев.
— Сколько?
— Одну.
— Пятнадцать, — предупредил усатый.
Ковалев кивнул и протянул деньги. Усатый исчез, спустя минуту появился снова, быстро сунул Ковалеву бутылку водки, завернутую в газету. «Сервис!» — подумал Ковалев, засовывая покупку во внутренний карман пальто. Вернулся к ожидавшему его такси и поехал в общежитие.
На «черной лестнице», где обычно происходили все неформальные общежитские события, Ковалев увидел мрачно курившего вечного студента Жаркова. Жарков с семьей занимал в общежитии служебную комнату — он числился дежурным электриком. Учился Жарков уже лет восемь. Его знали многие поколения студентов как человека честного, но глупого.
Жарков сидел на подоконнике, спиной к окну, поставив ноги в тапочках на батарею. Света на «черной лестнице» никогда не было — она еще и поэтому называлась черной, — но Ковалев сразу узнал Жаркова.
— Привет, — сказал он ему. — Тащи стакан.
Жарков на мгновение застыл от неожиданности, потом опомнился и исчез. Через несколько секунд он появился со стаканом в одной руке и огромным соленым огурцом в другой.
Ковалев достал бутылку, открыл, налил.
— Пей.
— Ну-у, друг… Ну-у, спасибо… — Жарков в волнении принял стакан дрогнувшей рукой, выпил и захрустел огурцом.
Ковалев тоже выпил.
— И чего это ты, а? По какому случаю? — спросил Жарков.
— Так.
— Случилось чего, да?
— Случилось… Захотелось большого и светлого.
— Ну, не хочешь говорить — не надо, — сказал Жарков. — Наливай тогда, что ли.
Когда бутылка уже подходила к концу, Ковалев признался Жаркову, что чувствует себя полным и законченным идиотом. Жарков погладил Ковалева по голове и попросил больше так не говорить.
— Как ты не понимаешь? Говори — не говори, суть не изменится. Я — идиот. Ты Достоевского читал?
— А? Достоевского? Не помню.
— Ну, значит, не поймешь. В этой нашей проклятой жизни все хорошие люди — идиоты.
— Не понял.
— Ну, выглядят так, как будто с луны свалились. Законченные идиоты.
— И я, значит, тоже? — насупился Жарков.
— И ты, и я.
Жарков засопел, обиделся и ушел.
А Ковалев стоял в темноте, спиной к окну, из которого сильно дуло, слушал, как на площадке этажом выше ругались и пели какие-то полуночники, и ему было смертельно грустно. Безумно, безумно грустно.
Около часу ночи он вышел из общаги. Ветер стих, и было светло, тихо и печально. Под фонарями сиял чистый снег, над соседней пятиэтажкой, будто зацепившись за телеантенну, висела круглая голубая луна.
— Ну, чего уставилась, дура? — крикнул ей Ковалев.
И сел в снег. Зачерпнул его ладонью, приложил к лицу.
Посидел, вздохнул, поднялся. «Поеду к ней. Даже если ее еще нет дома, все равно поеду. Может, замерзну под ее окнами, как собака. И то за счастье…».
На такси ему сегодня везло. Быстро промчались по темному безлюдному городу и оказались на горе, в еще более темном и безлюдном новом микрорайоне.
Ковалев глянул на ее окна. В квартире было темно, но Ковалев сразу почувствовал, что там кто-то есть. Она там, Ирка. Эта обманщица. Этот несчастный маленький заблудившийся человек.
В подъезде он постоял, греясь у батареи. Он вдруг испугался: а что, если у нее кто-то есть? Что, если он, Ковалев, тут совсем, совсем не нужен?..
«Не буду я ее будить», — решил он.
* * *
Он дошел до новой девятиэтажки, глядевшей окнами прямо в чистое поле, вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. На самом верху, выше девятого этажа, должна была быть уютная лестничная клетка. Он добрался до нее. В теплом сухом углу постелил чистенький половичок, подобранный по дороге под чьей-то дверью, лег, прижался боком к теплой вентиляционной шахте и закрыл глаза. Ему надо было проснуться раньше всех. Он заставил себя уснуть.
В шестом часу загудел лифт. Ковалев проснулся, поднял половик, побежал вниз, положил половик под ту же самую дверь, выбежал из подъезда.
Первый троллейбус разворачивался на кольце. Ковалев подошел к остановке, попросил закурить. Постоял, подымил, и не торопясь пошел к дома Алексеевой.
Свет в ее окне вспыхнул как раз в тот момент, когда он появился во дворе. На кухонных занавесках мелькнул ее силуэт: она ставила чайник, резала хлеб, уходила и появлялась снова. Ковалев следил за силуэтом, как зачарованный. Прохожий с подозрением покосился на него — Ковалев его даже не заметил. Полчаса он простоял на одном месте, полчаса — пока горел на кухне свет, пока была надежда увидеть ее тень на занавесках.
А когда свет погас, — испугался: сейчас она выйдет, заметит его, и придется объяснять, зачем он здесь, и как тут оказался. Ей все это не понравится. А ведь ему еще придется спрашивать, где она была вчера вечером, почему не открывала, если была дома… И хорошо, если она скажет правду, а если — нет?..
— О господи! — перевел дыхание Ковалев и скорее побежал через двор. В подъезде противоположного дома он остановился и стал наблюдать.
Вот она вышла. Быстро пошла к остановке. Почему она не скажет ему правду? За что?
Еще мгновение — и она скрылась бы за углом. Ковалев рванулся за ней:
— Ирина!..
Она остановилась.
«Я — точно идиот», — понял вдруг он, но было уже поздно.
— Привет, — сказала она.
— Привет.
Она повернулась и заспешила к остановке.
— Очень торопишься?
— Очень.
Дальше шли молча. Пока он не остановился. Она уходила в голубую пыль фонарей, таяла в ней, и это могло быть концом всей истории — печальной, но не настолько, если уж разобраться.
Он вдруг заметил, что к утру потеплело, что снег под ногами стал грязным и тяжелым, и на дороге сверкали лужи. Мимо него проносились машины, окатывая его снежной кашей, а он пристально смотрел себе под ноги, будто боялся сделать шаг, будто впереди была видимая только ему одному бездонная пропасть.
Потом он пошел к остановке. Троллейбус уехал, увез ее. Остановка была на краю обрыва. Внизу сияли огни, и налетал снизу порывами ветер, и отталкивал Ковалева от края. За его спиной высились многоэтажные дома-новостройки, и в них все вспыхивали и вспыхивали окна — множество, бесконечное множество разноцветных огней.
Ковалев почувствовал облегчение — он был рад, что все это закончилось, что больше не нужно мчаться куда-то сквозь ночь и холод, что теперь можно вернуться домой, выспаться, отдохнуть, почитать хорошую книгу…
Подкатило такси. Шофер открыл капот, начал ковыряться в моторе; из кабины доносилась музыка, которая сейчас была в моде — «Голубое мгновенье», «Спейс», Маруани. Ковалев слушал, пока не защемило сердце и не захотелось заплакать.
Шофер закрыл капот, вернулся в салон. Не уезжал — ждал подходящего клиента.
Музыка смолкла и Ковалеву снова стало неуютно здесь, под незнакомым черным небом, на краю обрыва, под пронизывающим ветром.
Он перешел через дорогу и двинулся в сторону стройки. Пролез в дыру в дощатом заборе, прошел среди груд кирпича и остановился возле мертвого бульдозера, полузасыпанного снегом. Здесь было совсем темно, и он поднял голову и наконец-то увидел звезды — они сияли над городом, и в этом вечном сиянии был смысл, который Ковалев пытался, но не умел понять.
Он присел на гусеницу бульдозера и просидел до тех пор, пока серый рассвет не вполз на территорию стройки. Ветер стал еще теплее, нагнал облаков, и в этом городе, в котором нельзя было жить — а только влачить существование, или даже, может быть, только медленно угасать, — наступило серое утро зимнего буднего дня.
* * *
Троллейбус долго и нудно ехал по бесконечной дороге среди однообразных домов. Только плакаты и транспаранты поперек улиц оживляли этот безрадостный пейзаж. И Ковалев, глядя в окно, уныло читал мелькавшие перед глазами надписи: «Крепите социалистическую организованность, сознательность и дисциплину!», «Пятилетке качества — наш ударный труд!», «Каждому молодому человеку — активную жизненную позицию!».
Кончились новостройки, последовали поворот и спуск вниз, троллейбус покатился по старому проспекту, мимо деревянных домов. Потом дерево сменилось кирпичом, народу в троллейбусе стало совсем мало.
Ковалев вышел возле университета. До лекций оставалось еще минут сорок, и Ковалев решил позавтракать в общежитской столовой.
Столовая была полупустой, да и есть особенно было нечего. Ковалев заставил себя похлебать суп из куриных отходов, съел рыбную котлету, запил чаем.
В аудитории он сел в отдаленный угол и углубился в свои печальные мысли. Одногруппники оглядывались на него, староста группы Лариса даже записку прислала: «Ты не заболел?». Ковалев на том же листочке ответил: «Заболел, скончался и умер» и отправил записку обратно. Это была формула из средневековой хроники о взятии крестоносцами Константинополя, но вряд ли Лариса знала об этом.
Во время перерыва Ковалев сказал Ларисе:
— Слушай, на следующей паре, если будет проверка, скажи, чтоб за меня крикнули, ладно?
Лариса, впервые услышавшая от него такую просьбу, удивилась, но ничего не спросила. Она была умная девушка, Лариса, и ей не везло в любви.
Ковалев вышел на улицу и решил съездить к Вове. Но по дороге, в трамвае, почему-то раздумал. Поехал домой, хотя ему и не очень хотелось лишний раз выслушивать материнские нотации. Но мать встретила его молча, сказала только: «Ешь».
Ковалев поел, лег с книжкой на диван и уснул. Часа через два проснулся, умылся, и поехал в университет, на семинар. Семинар вел пушкинист Ярошевич, эстет и брюзга, втайне ненавидевший студентов, — пропускать его занятия было опасно.
День был серым, как и утро. В трамвае было тесно, народ ворчал и обреченно толкался. Ковалев с чувством облегчения выскочил из трамвая, побежал через дорогу и вдруг увидел Ирину. Она улыбалась ему с противоположной стороны улицы. Ковалев остановился, как вкопанный, взвизгнул тормозами «Жигуль» и усатый дядя погрозил Ковалеву кулаком.
Ковалев отмахнулся от него и хотел вернуться на свою сторону, но улицу вдруг заполнили автобусы, троллейбусы и перебежать оказалось невозможно. «И откуда вас, гадов, столько сразу понаехало?» — подумал Ковалев, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. А когда поток схлынул, Ирины уже не было. Ковалев в растерянности стал оглядываться по сторонам и тут кто-то тронул его за рукав. Он обернулся — рядом была она.
— Ну, и что? — спросила она.
Он глядел на нее во все глаза, узнавал и не узнавал, и машинально ответил вопросом на вопрос:
— А что?
— Обиделся, да?
— Ну… — Ковалев развел руками.
— А ты не следи за мной. Я не люблю. И не спрашивай. Я сама все объясню, если надо будет.
— А не надо ничего объяснять, — вдруг мрачно сказал Ковалев.
Она внимательно посмотрела на него и глаза ее перестали улыбаться.
— Ну, не надо — так не надо… Тебе туда? Пошли.
Они пошли рядом.
— Я тебя здесь ждала, — сказала она.
— Откуда ты узнала, что я приеду?
— А вот узнала. У тебя сегодня семинар.
— В университет ходила, да?
— Нет. Знакомая там учится.
— Ну-ну…
Он уже не знал, чему верить, чему — нет. Только ощущал какую-то робкую радость, чуть живую, чуть теплую, которую легко можно было погасить.
— А утром? — спросил он.
— Что — «утром»? Утром я тебя не ждала… Я вообще по утрам никого не хочу видеть.
— Играешь ты со мной, — вздохнул Ковалев. — А я ведь не мышка.
— И я не кошка, — сказала она и взяла его под руку.
— А зачем же тогда обманываешь?
— Да не обманываю я. Просто объяснять пока не хочу. Я ведь тоже боюсь, понимаешь?
У него закружилась голова, и вот теперь-то он уже точно ничего не понимал.
— Я так боялся тебя потерять. Так боялся. А ты…
— Знаешь что? Вот когда стану твоей женой — тогда и будешь просить и проверять, где я и почему.
— Не станешь, — скорбно сказал Ковалев.
— Почему? — Она даже остановилась.
— Потому. Не станешь — и все.
— Вот дурачок. Ты посмотри на меня, ну? Я хозяйка хорошая, все умею. А когда накрашусь, так мужики балдеют и падают.
Ковалев опустил глаза.
— Смеешься ты надо мной. Нехорошо это.
Они шли и шли. И шли в сторону, противоположную от университета. «Да и черт с ним, с Ярошевичем. Злобный он и мстительный. Тоже мне, знаток Пушкина!.. Сдам как-нибудь… Вывернусь… Всего Пушкина наизусть выучу», — подумал Ковалев. Вид у него был обалделый, и мысли, конечно, тоже.
Они шли и шли, пока не оказались на привокзальной площади.
— Ну и куда мы пришли? — спросил Ковалев.
— На вокзал, конечно.
— Зачем?
— А я уеду сейчас.
— Куда? — испугался Ковалев.
Она засмеялась:
— Вот глупый! К подруге, она в Белореченске живет. Час езды на автобусе…
Они пришли на автовокзал, купили билет, вышли на посадочную площадку.
— Вон и автобус уже стоит, — сказала она. — Ну, до встречи.
— Когда?
Она опять засмеялась:
— Когда хочешь.
Подошли к автобусу:
— Ну, а сейчас-то ты зачем меня обманула?
— Я не обманула. Насчет встречи? Нет, не обманула. Правда, когда хочешь.
— Ладно. Допустим, я хочу сейчас.
Она немного подумала:
— Знаешь… Прямо сейчас не получится. Следующий автобус — через четыре часа. Вот ты на него сядешь и приедешь в Белореченск. Выйдешь на автостанции, пройдешь лесом до пятиэтажки — она там всего одна на весь поселок, не заблудишься. Квартира сорок шесть. Запомнил?
И она поцеловала его мягкими теплыми губами, вошла в автобус и махнула ему рукой из окна.
Он закрыл глаза, постоял с минуту. Открыл — и оказался вдруг в другом мире. Солнце выглянуло, и все вокруг было залито теплым лучистым светом, и все светилось и радовалось теплу. Даже собака, бежавшая через площадь, — и та, казалось, сияла от счастья.
Он вернулся в здание автовокзала, купил билет на следующий рейс: все было точно, автобус отъезжал через четыре с небольшим часа.
Первое, что он сделал дома — залез в ванну и вволю понежился. Потом объявил матери, что едет в деревню к другу, возможно, с ночевкой.
— Ну, к другу — так к другу, — равнодушно сказала мать. — Завтра когда придешь?
— После занятий. Часов в пять.
* * *
Все было хорошо в этот вечер. Слишком хорошо. Так не бывает. Или редко бывает. Но все же бывает…
Наступили сумерки, вспыхнули за окном веселые фонари. Ковалев слушал магнитофон, подгоняя время, потом подумал, что надо бы погладить брюки и рубашку, и оказалось, что времени остается совсем мало, и надо спешить.
Бегом прибежал на автовокзал. Автобус выехал по расписанию, в салоне было почти пусто — всего шесть или семь пассажиров. Выехали из города и помчались по шоссе мимо белых полей и дымчатых перелесков, мимо черных изб и покосившихся заборов. Ковалев смотрел во тьму. Он впервые оказался за городом на ночь глядя, и все казалось ему необычным, интересным. Вскоре пассажиры стали выходить на остановках, и с Ковалевым в салоне остался один только старик с рюкзаком и в телогрейке.
Потом он задремал, а очнулся, когда переезжали реку, на пароме. Мел снег, исчезая бесследно в черной воде. У дальнего берега в холодных волнах плясали огоньки. Водитель вышел из автобуса, курил, облокотившись о перила парома, сплевывал в густую воду.
Когда приехали в Белореченск, было уже совсем темно. Ковалев увидел маленькую площадь, слабо освещенную двумя фонарями с железными рефлекторами. Черные домишки, заборы — и тишина, нарушаемая только простуженным лаем собак.
Автобус развернулся и уехал, Ковалев огляделся, и пошел по дороге в ту сторону, где, как он предполагал, должна стоять невидимая отсюда пятиэтажка.
Дома и заборы кончились и Ковалев вступил в темный, глухо шумевший поверху бор. Дорогу было еле видно, он то и дело спотыкался, но вот впереди показался огонек: кто-то шел с фонариком ему навстречу. Луч света скользнул по лицу Ковалева и упал в снег.
— Скажите, я правильно иду — к пятиэтажке? — спросил Ковалев.
— А? — отозвался мужской голос. — Ну да. К ней.
Помолчал и спросил:
— А кого там надо-то?
— Не знаю. В гости позвали…
— А-а… — Мужчина помахал фонарем, пожал плечами и пошел своей дорогой.
Через сотню-другую метров лес стал редеть и вот уже всеми окнами засияла впереди пятиэтажка. Над подъездами горели фонари, на скамейках заседали бабушки, мальчишки играли в снегу. Ковалев подошел к бабушкам, поздоровался, спросил, в каком подъезде сорок шестая квартира.
Подъезд был невероятно грязен, здесь пахло кошками и мочой, и стены, и двери были исписаны людьми, которые, кажется, знали всего три буквы русского алфавита.
Сорок шестая была на пятом этаже. Ковалев постоял, стараясь поскорее отдышаться, постучал.
Дверь открылась. В дверях стояла Ирка, но Ковалев не сразу узнал ее: это была незнакомая прекрасная женщина.
— Привет, — сказала она, — проходи.
Он вошел в полутемную прихожую, стал снимать пальто, а она не уходила, стояла и улыбалась незнакомой улыбкой.
В комнате светила настольная лампа с зеленым абажуром, негромко играла музыка.
— Ты одна? — спросил Ковалев. — Ждешь кого-то?
— Тебя я ждала, глупый, — ответила она. — Подруга на дежурстве в доме-интернате. Интернат здесь для престарелых и инвалидов, рядом, в окно видать.
Ковалев сел за стол, слушал ее вполуха и ничего не соображал. Она говорила про дом-интернат, про инвалидов, про подругу, про ее мужа. Ковалев кивал. «Музыка красивая… — думал он. — Донна Саммер, Father Dear».
А потом свет погас и стало тихо.
— Электричество отключили, — сказала Ирка. — Здесь такое часто бывает.
В темноте Ковалев взял со стола рюмку, они чокнулись и выпили. У него закружилась голова, но не от выпитого: вдруг оказалось, что она совсем рядом, и он обнимает и целует ее, целует губы, щеки, глаза.
Вспыхнул свет — и сейчас же погас: это она дотянулась до выключателя.
А музыка осталась. Они танцевали в темноте, а потом он подхватил ее на руки и стал кружить по комнате, и кружил, пока не опрокинул стул, и она сказала:
— Уронишь ведь, Алеша Попович!
А потом сказала:
— Я, кажется, забыла дверь запереть.
А потом, в спальне — слабо светящийся квадрат окна, белая простыня, белое тело.
Ирка прошептала:
— Вот глупый-то…
А он ответил:
— Сам знаю.
Но ничего он не знал, потому что такого еще не было, а то, что было — было совсем не так. Он вскочил с кровати, встал на руки и хотел пробежать по полу, но упал и хохотал лежа.
А потом снова было тихо. Тише, чем сначала. Тихо на всей земле, даже бор не шумел, даже мальчишки за окном кричать перестали, даже музыка смолкла.
Он целовал ее, гладил, а потом уткнулся ей в плечо и загрустил. «Будто сон, — думал он. — Кончится — и проснемся чужими». Потом он подумал про нее: несчастная, зачем она его заманивала, он же и так на все был готов, зачем она играла? Несчастная и глупая… А может быть, она и сейчас обманывает его? И ему стало еще печальнее и вспомнился обрывок какого-то стихотворения, нацарапанного на студенческой парте среди анекдотов, признаний в любви, и рисунков обнаженных женских фигур:
…Так плохо нам, господи, плохо.
Веди же, веди нас туда,
Где нет ни печали, ни вздоха.
Где мы не умрем никогда.
Эти строки никак не выходили из головы, он проговорил их вслух, а потом повторял и повторял про себя, и думал: радость приходит и уходит, а печаль остается с нами. Время уже истекает, еще чуть-чуть — и закончится срок, отпущенный радости, а дальше — только печаль. Потому-то радость так долго и помнится.
Он поцеловал ее так, что сделал больно, а она сказала:
— Вот этого я не люблю.
— Ты не этого — ты меня не любишь, — вздохнул он.
Поднялся, взял сигарету, приоткрыл форточку. С улицы послышался дребезжащий, какой-то вихляющийся голос:
— Все могут кар-рали! Все могут кар-рали! И судьбы всей земли вершат они порой!.. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король!..
Ковалев посмотрел вниз. По асфальтовой дорожке вдоль полутемного корпуса дома-интерната на коляске катился инвалид. Колеса жидко поскрипывали, инвалид подгонял их руками. Разогнался, скрылся из глаз. Стихло пение. Через минуту — снова: скрип-скрип, скрип-скрип. Инвалид взбирался на некрутую горку, взбирался молча — запыхался. Развернул коляску наверху, — и вниз:
— Все могут короли! Все могут короли!..
И снова скрылся. И снова появился. Въехал на горку, развернулся, покатился… На этот раз песня оборвалась раньше: коляска наскочила на бордюр и завалилась набок, в снег. Инвалид выполз из коляски, шевеля обрубками ног. Отыскал шапку, отряхнул. Вытащил на асфальт коляску, и долго пытался в нее сесть. Она не слушала его, отъезжала, — видно, что-то в ней сломалось, — и он снова и снова падал. Так продолжалось долго, мучительно долго.
— Что там? — спросила Ирина.
Ковалев хотел ответить, но тут раздался прежний скрип и вихляющийся, почти нечеловеческий голос опять затянул:
— Все могут короли! Все могут короли!..
Ковалев не стал больше смотреть, лег, укрылся одеялом. Спросил:
— Они, инвалиды эти, нормальные?
— Кто их знает. Всякие бывают. Подруга говорит, все они тут с приветом. И те, кто с ними работает долго — тоже слегка съезжают… Вот недавно в этом доме муж жену кухонным ножом зарезал. Она медсестрой в интернате работала…
— А кладбище здесь тоже есть?
— Есть. У них все свое — и хозяйство, и кладбище. Там, за дорогой, в лесочке…
— И не страшно им тут жить?
— Инвалидам?
— Нет, подруге твоей с мужем…
— Они по распределению здесь. Три года надо отработать. Уже скоро срок кончится — уедут. Хотя многие привыкают: тут зарплата приличная, природа, воздух чистый.
Они надолго замолчали, потом Ковалев тихо сказал:
— Ты прости меня, ладно?
— За что?
— За то, что я не такой, как ты хотела…
Она поцеловала его, опять назвала глупым, а потом вдруг спохватилась:
— Слушай, а чего мы лежим? Сколько времени?
Он перегнулся с кровати вниз, порылся в ворохе одежды на полу.
— Без скольки-то одиннадцать…
— Ох, пора!
— Куда? — удивился он.
— Тебе — на автобус, а мне — постель убрать.
Он полежал еще, соображая.
— Ты серьезно?
— Серьезнее некуда, — она вскочила, одевалась, объясняла на ходу, — Последний автобус в город в одиннадцать идет. Тебе надо на него успеть. Скоро подруга придет — она во время дежурства дома ночует, если надо — ее вызовут, тут же рядом… Собирайся скорее!
Загипнотизированный ее спешкой, он тоже вскочил, начал лихорадочно напяливать на себя рубашку, штаны. Пока она убирала постель, он успел даже сполоснуть лицо в ванной. Она проводила его до дверей, поцеловала и наказала не искать: сама найдет, когда будет нужно.
Ковалев выскочил на улицу и быстро, как будто внутри у него была взведена пружина, зашагал по белой колее между сосен.
На площадь у остановки он выскочил, когда автобус уже отъезжал. Ковалев бросился за ним, отчаянно замахал руками. Водитель притормозил, Ковалев прыгнул в приоткрывшиеся двери, и только тут почувствовал: пружина ослабла, завод кончился.
В автобусе было темно, водитель гнал вовсю. Одинокие березки, выхваченные светом фар, будто выскакивали к дороге и тут же прыгали назад во тьму. Дорога, черная кромка леса на фоне звездного неба, изредка — огоньки встречных машин… Ковалев, прислонившись к окну, слушал музыку, увезенную оттуда, из одинокой пятиэтажки в лесу, и ему казалось — он сам превращается в звуки и парит над непроглядным мраком ночи, над бесконечной белой равниной.
* * *
Дома, ворочаясь на диване, Ковалев долго не мог уснуть. В голове все вертелись строки неизвестного студенческого поэта, перемешиваясь со шлягерами Аллы Пугачевой.
Наконец часа в четыре утра сон сморил его, но в семь он уже проснулся бодрым и свежим.
Чувствуя легкую дрожь, быстро оделся, напился чаю, послушал радио. Местная студия передавала идиотские известия с ферм, а потом — обзор газет «Красный ленинец» и «Молодое знамя». Диктор нес ахинею, но Ковалев не выключал приемник — ему важен был не смысл, а интонация: бодрая и жизнерадостная.
А когда он вышел на улицу и вдохнул свежего морозного воздуха, у него и вовсе закружилась голова от приступа радости. Фонари, прохожие, свеженаметенные сугробы, ажурные кроны деревьев — все казалось ему загадочным и прекрасным, волнующим, как когда-то в детстве.
Он поехал в университет, успел до начала занятий сделать несколько полезных дел — например, договорился с Ярошевичем о сдаче «хвоста», — и весь день чинно просидел на всех, положенных по расписанию, лекциях и семинарах.
На последней «паре» студентов было совсем мало, большая часть уже разбежалась. Ковалев сел на самой верхотуре, один, но перед самым звонком рядом села Березкина — тихая задумчивая девочка, которая была знаменита тем, что записывала все лекции. Почерк у нее был разборчивый и перед сессиями ее конспекты рвали из рук.
Когда началась лекция, Березкина положила перед Ковалевым записку. Он прочитал: «Почему ты такой грустный?». Ковалев покосился на Березкину (она ниже склонилась над конспектом) и написал, перефразируя, кажется, Грибоедова, а может быть, и Лермонтова: «Я грустен, а не грустен кто ж?».
Березкина прочитала, покраснела и прикусила губу.
«Эх, глупая ты, Березкина! — подумал Ковалев. — Глаза ты себе этими конспектами испортишь!».
От нечего делать он тоже стал писать конспект.
«В настоящее время, — писал он, торопясь за лектором, — по некоторым отдельным характеристикам социалистическая система управления уступает капиталистической… Например, по техническим средствам управления, по методам получения и реализации управленческой информации. Чем же объяснить то, что социалистическая система в целом эффективнее, чем капиталистическая?..»
«Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Ковалев. — И чем же такое объяснить?» Но лектор не оправдал ожиданий. Дело, как он объявил, в глубинной сути, поскольку социалистическая система прогрессивная, а капиталистическая — регрессивная. «Ну, это ты загнул», — подумал Ковалев и потерял интерес к лекции.
Взгляд его упал на парту, исписанную несколькими поколениями студентов. Он стал читать:
«Чтобы дети соседа не походили на вас, пользуйтесь презервативами фирмы «Адидас»!».
Ковалев покосился на Березкину, прикрыл надпись тетрадью. Березкина почему-то отодвинулась.
Ковалев стал читать дальше.
«Минометчик, дай мне мину,
я ее в п… задвину,
а когда война начнется,
враг на мине подорвется!».
Ковалеву стало смешно. Он поглядел на Березкину и спросил шепотом:
— Ты что, обиделась?..
Березкина молча покачала головой. Щека у нее из бледно-матовой стала розовой.
— Не обижайся, Тамарка, — шепнул Ковалев и вздохнул. — Глупости все это.
— Что?.. — еле слышно спросила Березкина.
— Да все. Лекция эта, конспекты, жизнь наша дурацкая…
За огромными окнами аудитории уже начинало смеркаться, реял легкий снег, в густом синем воздухе отчетливо чернели ветви голых кленов. Лектор устало бормотал себе под нос, не глядя на аудиторию, а студенты занимались своими делами. Кто-то спал, кто-то жевал, кто-то читал, загородившись портфелем. Ковалев вдруг почувствовал острую жалость ко всем окружающим — к лектору, твердившему свои бессмертные формулы, к студентам, изнывавшим от безделья, к Березкиной, и даже — к одинокой мрачной вороне, заглядывавшей в окно с заснеженной ветки.
Он поглядел на Березкину. Пишет, бедная, старается — а зачем? Бессмысленно все.
— Слышь, Тамарка! — сказал Ковалев. — Ты не грусти. К лекциям надо относиться так, как они того заслуживают. Это к людям надо относиться внимательно. Личная жизнь куда важнее, а?
Березкина взглянула на него огромными серыми, слегка косящими глазами, ничего не сказала, отвернулась. Когда она снова стала писать, рука у нее слегка дрожала.
— Тамарка, ты чего?
— Ничего.
Она резко отодвинулась от него. Упал портфель и звякнул. Лектор даже не поднял головы.
Ковалев пожал плечами, стал дальше изучать наскальное творчество студентов.
«Стоят две бабы. Одна:
— Ты по любви отдалась, или за деньги?
Другая:
— Конечно, по любви. Три рубля разве деньги?»
Дальше следовал отрывок из «Руслана и Людмилы» про Голову. Потом рисунок Головы. Потом глупый мат. Потом объявление о знакомстве: «Группа мальчиков с физфака снимет группу девочек с филфака».
В перерыве Ковалев вышел покурить. В коридоре курил лектор — маленькие глазки за толстенными линзами очков, ярко-красная отвисшая нижняя губа, плечи и воротник пиджака осыпаны перхотью.
— Вы правда думаете, что социализм в целом эффективнее капитализма? — спросил Ковалев.
Лектор искоса посмотрел на Ковалева.
— В целом — да.
— А мне кажется, нет.
— Хм, — оживился лектор. — Ну вот допустим, что лучше: есть деньги, а купить нечего, но со временем будет, или денег нет, а витрины ломятся?
— Лучше, когда денег нет.
— Почему же? Товар-то когда-нибудь все равно появится.
— А если денег нет, их можно заработать, — сказал Ковалев. — Продать свою рабсилу. К тому же, учитывая наши очереди, товара можно и не дождаться.
— Хм! — сказал лектор. — Действительно, подумать тут есть над чем. Но рабсилу продать не так-то легко. В условиях конкуренции. Кризис, безработица. Человек предоставлен самому себе. Неплановая, анархическая система хозяйствования… Нет, вы не правы, вы подумайте!
Прозвенел звонок и Ковалев не успел сказать, что он уже подумал.
Березкина поднялась, пропуская Ковалева на его место, молча глядела прямо перед собой.
Второй час тянулся бесконечно долго, Ковалев вдруг подумал, что у входа его сейчас ждет Ирка, — и забеспокоился. Поминутно стал поглядывать на часы. Березкина посмотрела на него осуждающе.
— Слушай, Тамарка, — шепнул Ковалев, испытывая гадское чувство, — а ты хоть раз с лекции сбегала?
— Нет… — испуганно прошептала она. — А что?
— Да вот хочу тебе предложение сделать: давай вместе сбежим!
Она покраснела. Потом ответила беззвучно, одними губами:
— Сегодня после лекции собрание комсомольское…
— А мы и с собрания сбежим. Чего там делать? Муть одна.
— Так нельзя… — с запинкой прошептала Березкина.
«И если соблазнишь кого из малых сих…» — вспомнил Ковалев суровое предостережение, вздохнул и сказал:
— Ну, как хочешь. А я сбегу.
— А как?
— Сейчас увидишь… — Он вырвал из тетради страницу и написал: «Извините, мне нужно срочно уйти!». Свернул листок, написал сверху: «Вниз, лектору», перегнулся через парту и разбудил сладко спавшую Лариску:
— Передай вниз.
Проследил, как записка, двигаясь зигзагами, путешествует к кафедре, за которой, согнувшись крючком, бормочет лектор. Вот записка достигла нижнего ряда, кто-то поднялся, подошел к возвышению, на котором стояла кафедра, положил записку перед лектором.
— Научно-техническая революция в условиях Запада постепенно разрушает капиталистический способ производства, углубляя общий кризис… — тут он заметил записку и умолк. Пока он читал ее и усваивал, Ковалев собрал вещи, подмигнул Березкиной. Березкина покраснела так, что даже слезы выступили. Лектор поднял голову и внятно сказал:
— Э-э… Пожалуйста. Тот, кто написал записку, может выйти.
Ковалев сбежал вниз, сказал лектору — «Спасибо!» — и выскочил за дверь. Торопливо оделся и пошел к выходу.
* * *
Перед главным корпусом университета было пусто и темно. Ковалев еще раз недоверчиво огляделся по сторонам и убедился, что предчувствие его обмануло. А ведь он так ясно представлял себе, как Ирка прохаживается перед входом, посматривая на часы…
«Может быть, еще просто рано? — подумал он с надеждой — Может быть, она расписание смотрела, и знает, когда лекция заканчивается?».
Свернул с главной аллеи, смел снег со скамейки, сел.
Из-за деревьев доносился шум улицы, а здесь было тихо и печально. По аллее прошла шумная группа студентов. Ковалев глянул на часы — занятия кончались. Он расслышал звонок, донесшийся из здания. Спустя минуту-другую из дверей выкатилась целая ватага, захрустел снег под множеством ног.
Потом аллея опустела, в здании стали гаснуть окна. Ковалев сидел и уговаривал себя: «Ну, не может же такого быть. Ведь я так ее жду. Неужели она не чувствует, не понимает?»
Прошло еще какое-то время. Ждать было уже бессмысленно.
Он шел по проспекту мимо старинных зданий, мимо памятника Ленину, который подсвечивали прожектора, мимо большого магазина и еще дальше, и еще… И вдруг замер. Впереди, в толпе, мелькнула знакомая фигура, знакомое пальто.
— Ирка?.. — машинально позвал Ковалев.
Из Дома офицеров вышел военный и строго посмотрел на него.
Знакомое пальто мелькнуло снова — дальше, у светофора, и Ковалев рванулся к нему. Но когда он продрался сквозь толпу на остановке, было уже поздно: поток машин отсек его. Свет фонарей бил прямо в глаза и он не мог разглядеть ее на противоположной стороне. А чуть дальше был ресторан, двери его то и дело впускали посетителей — приближался ресторанный «час пик». Ковалева вдруг пронзила догадка: там она, Ирка, в ресторане. Где же ей еще быть?
Он дождался «зеленого», перебежал через дорогу и устремился к заветным дверям. А когда оказался у цели, вдруг остановился: «Она же там не одна… Ну, увижу я ее, и что скажу? Она же меня прогонит».
Но все же он вошел, встал в очередь в гардероб. Миновал стеклянные двери и, воспользовавшись тем, что администраторша отвлеклась, прошел в зал. Потерянно остановился между столиками. Ирки здесь не было. Он повернулся — и наткнулся на администраторшу — монументоподобную даму с наклеенными ресницами и в фиолетовом парике.
— Вы один? — поинтересовалась она. — Вон туда, пожалуйста…
— Нет… Я передумал. Извините, — пробормотал Ковалев.
Он вышел из ресторана и остановился в раздумье. Какой-то ветеран мощного телосложения, торопясь к автобусу, с разгону налетел на Ковалева, отбросил его к стене.
— Чего встал!.. — гневно прокаркал он.
И побежал дальше. Крутой зад выпирал из-под полушубка.
Потом перед Ковалевым остановилась девушка и стала что-то говорить, улыбаясь и блестя глазами. «Кто это? — тоскливо думал Ковалев, пытаясь понять ее речь. — Что ей от меня надо?»
Она еще что-то сказала, засмеялась, махнула рукой: «Не узнал? Ну, пока, привет!» — и исчезла, растворилась в темной суетливой толпе. Лица, шубы, шапочки, автобусы, зеленые огоньки такси, толчея у светофора, пьяный — милиционеры волокут его за угол, — желтый снег, блестящие провода, частокол горящих окон — все это било по глазам, не давало сосредоточиться…
Ковалев зажмурился и сразу же вспомнил, что ему надо срочно, сию же минуту мчаться к Ирке. Он очнулся и бросился к отъезжавшему переполненному автобусу, на ходу впрыгнул в заскрежетавшие двери, втиснулся в узкое пространство между изумрудным пальто и чугунного цвета шубой.
Автобус тяжело, как переполненная лодка, отвалил от дебаркадера, накренившись на бок.
На следующих остановках народ шел на абордаж, в двери лезли все новые толпы, водитель матерился в громкоговоритель, выскакивал из кабины и оттаскивал от дверей тех, которые ну никак не влезали. Другие пытались пробиться к выходу изнутри, с криком, плачем, угрозами протискивались — и не успевали. Летели пуговицы — хотя им некуда было лететь, — трещали по швам рукава, мохнатые шапки и шали лезли Ковалеву в глаза, в рот, и сам автобус выл почти человеческим голосом.
А потом вдруг стало просторно и тихо. Автобус подошел к конечной остановке, развернулся, обиженно кудахча, и затих.
Ковалев с наслаждением вдохнул воздух свободы. Перед ним расстилалось море разноцветных окон. Где-то там, в одном из этих новых домов, волнами встававших один за другим, его ждала Ирка.
Или не ждала.
Он почему-то был уверен, что ждала. Его уверенность была так велика, что он даже не взглянул на ее окна — взбежал по лестнице, постучал в дверь. Он не расслышал стука — так грохотало собственное сердце. Постучал еще раз и улыбнулся. Но двери не открывались. Он закрыл глаза и снова, как в том сне, увидел пустой безжизненный коридор с белыми дверями. Двери сотрясались от грохота — их пытались открыть изнутри те, кого заперли там навечно.
Тогда Ковалев начал стучать не переставая, и стучал, пока не открылась соседняя дверь. Ковалев увидел перепуганное лицо, волосы в бигудях, застиранный халатик. Женщина что — то сказала, но Ковалев не расслышал.
— Что? — крикнул он, и грохот сразу затих.
— Нету ее! — тоже крикнула женщина. — Нету!
— Да, я вижу… Подождите. А где же она?
— Откуда мне знать? — женщина успокоилась и спряталась за дверью, выставив наружу одну голову. Посмотрела на Ковалева и окончательно смягчилась, — Может, в театр пошла?.. Я, вроде, слышала на днях такой разговор…
— В театр? — переспросил Ковалев, пытаясь понять, что это такое. Ему это удалось со второй попытки. — В какой театр?
— Ну… не знаю… — неуверенно сказала женщина, и, на этот раз уже явно заподозрив в чем-то Ковалева, неожиданно крепко захлопнула дверь.
— Угу, — сам себе сказал Ковалев. — В театр — так в театр. Пошла — так пошла.
* * *
Он сел на ступеньку. Вспомнил, что где-то здесь, на стене, должна быть его надпись. Поднял голову. Увидел следы свежей штукатурки. Все надписи были нетронуты, а его — замазана. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою; ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее — стрелы огненные… Большие воды не потушат любовь, и реки не зальют ее. И если бы кто давал все богатства свои за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем…»
Ничего не останется после нас. Все следы будут уничтожены, всё, что может напомнить о нас, будет затёрто, смыто. Никогда и никто не догадается, что мы тоже жили. Нас не было. Мы — фантомы, к нашей смерти давно все готово. Строгают гробы, на кладбище кострами оттаивают землю, роют могилы. Нас ждут. Нет, даже больше того, подумал он после — нас хоронят уже при жизни, заживо. Вот смотри: ты живешь, но никто об этом не знает. Ни одна вещь не вспомнит тебя. Значит, тебя уже нет. Так что смирись и привыкни: всем пропадать. Никто не уйдет от безвестности.
«Мы без вести пропали, мы без вести пропали, и следопыты юные отыщут нас едва ли…»
Нет будущего, нет прошлого, нет и настоящего.
— О господи! — вздохнул Ковалев.
Полосатая кошечка незаметно подошла к нему и ткнулась в руку мокрым носом.
— Ты откуда? — спросил Ковалев, глядя на нее, как на чудо.
Погладил, она с готовностью подставила лоб, выгнулась, зажмурилась.
— Мало же тебе надо, имя ты не существительное…
Он потрепал ее за уши, она прыгнула ему на колени.
— Мурка-Мурка, зачем мы родились на свет?
— Мяу!
— Мурка-Мурка, зачем мы живем на свете?
— Мя-а-ау!
Хлопнула дверь подъезда. Ковалев поднялся со ступеньки, подхватив кошку. Так и стоял с мяукающей кошкой в руке, пока мимо проходили какие-то темные люди, уставшие, с сумками, с подозрением смотревшие на него.
Потом он снова сел на ступеньку.
И всякий раз, как на лестнице раздавались шаги, он поднимался и стоял, пока люди не проходили, а после снова садился и ждал чего-то — уже и сам не зная, чего.
Он погладил кошку напоследок и вышел на улицу. Сел в троллейбус и поехал в город — мимо зияющей бездны, в которой призывно светились огни.
На центральной площади он вышел и пошел к мрачному зданию облдрамтеатра. Подошел к дверям, подергал за ручку. Прижался носом к стеклу, стукнул в него кулаком — в вестибюле полыхнуло мертвенно-зеленым светом. «Что за черт! Сигнализация, что ли?» Ковалев снова стукнул — и снова вспыхнуло зеленое пламя.
— Тьфу ты!..
Он пошел к служебному входу, открыл дверь — и оказался нос к носу с вахтершей.
— Здрасьте! — опешил Ковалев.
— Здрасьте… — вахтерша привстала.
— А что, спектакли уже кончились?
— Кончились.
— И зрители разошлись? — уточнил Ковалев.
— Разошлись, а как же…
— Ну, тогда извините…
Он пошел к остановке трамвая. Трамвая долго не было. На скамейке валялась пьяная баба, а какой-то мужик пытался ее растолкать, матерился и плакал. Мимо скамейки прохаживались люди и делали вид, что ничего не замечают. Ковалев тоже хотел не заметить, но передумал и зашагал до следующей остановки вдоль трамвайных рельсов.
* * *
Спустя полчаса он поднимался по лестнице на пятый этаж. Постучал в обшарпанную дверь, расслышал голос Высоцкого и вошел.
Сквозь дым и чад он разглядел массивную фигуру Вовы. Обнаженный до пояса, он сидел на полу. Рядом стоял жестяной чайник, на тумбочке орал магнитофон.
Вова увидел вошедшего, широко улыбнулся и икнул.
Ковалев выключил магнитофон.
— Дар-ра-гой… — выговорил Вова не без труда. — Как… это… хар-ра-шо… что ты пришел. Собс-но… Садись…
Ковалев присел на табуретку.
— А я вот, собс-но, пью.
— Из чайника? — спросил Ковалев.
— Из чайника, — мотнул головой Вова. — Постой… А разве я из чайника?.. Ну да. Бражка там, в чайнике.
Ковалев молчал.
— А ты это… — сказал Вова. — Ты зачем музыку выключил?.. Не нравится тебе Высоцкий, да?
— Да.
Вова посмотрел на него в упор, подумал и вдруг, широко открыв рот, загорланил:
— А у меня и в ясную погоду… хмарь на душе! Котор-рая болит! Хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку… А жена — корит…
Напевшись, он повесил голову и глубоко задумался. Потом поднял голову, увидел Ковалева.
— О. А ты как здесь оказался?
— Ногами пришел.
— А-а… Ну, располагайся.
Ковалев промолчал.
— Ты чего, пить не будешь? — удивился Вова.
— Не буду.
— Ну и дурр-рак…
Он вздохнул, повозился на полу, поднялся, и, раскачиваясь, пошел в туалет. Когда он появился снова, весь мокрый, Ковалев спросил:
— Ты не знаешь, где Ирку искать?
— Кого? — удивился Вова. — Какую Ирку?
— Алексееву.
— Але… Стой. Какую Ирку? Ты не путаешь?.. Гы-ым…
И снова надолго задумался.
— Ну? — спросил Ковалев.
— Слушай… — наконец проговорил Вова. — Это та, что в параллельном классе училась?
Ковалев покачал головой и вздохнул.
— Ладно. Поеду я.
— Куда? — удивился Вова.
— В Зурбаган.
Ковалев пошел к двери, Вова плелся следом и бормотал:
— В Зурба… Вот так друг… Хорош друг. Он обогнал меня на круг… Наш, говорит, гвинейский друг…
* * *
Было уже совсем поздно, но трамваи еще ходили. Ковалев доехал до Комсомольского проспекта, вышел, стал ловить такси. Такси, как назло, не было. Тогда он пошел пешком, изредка оборачиваясь, чтобы махнуть проезжавшей машине.
Он прошел уже квартала три, проспект — вернее, то, что от него осталось, — полез в горку, и тут его догнал автобус. Ковалев замахал руками, автобус остановился.
— До Мира доедем?
— Садись! — весело отозвался водитель.
В автобусе было тепло, темно, уютно. Играл магнитофон, водитель ему подсвистывал.
— Здесь, что ли?
— Чуть подальше.
Автобус довез его до самого Иркиного дома.
Ковалев постучал и услышал из-за двери собачий лай. «Вот тебе и раз! Может, квартирой ошибся?» Он посмотрел вокруг. Да нет, вот она, надпись, затертая свежей штукатуркой. И постучал снова. Тогда раздались шаги и ее голос спросил:
— Кто там?
— Ира? Это я…
Загремел замок, дверь открылась. Она стояла полусонная, в халате.
— Здравствуй, — сказал Ковалев.
Она вздохнула.
— Проходи…
— Ты меня прости, я сейчас уйду, — заторопился Ковалев. — Мне просто надо было знать, что с тобой все в порядке…
* * *
(…Мне так плохо было без тебя, разве ты не понимаешь? Я очень испугался сегодня, когда не застал тебя дома, долго ждал тебя, очень долго… Весь день я ждал тебя, и чуть с ума не сошел от беспокойства. Ты прости, я ведь сам не понимаю, что со мной. Прости пожалуйста, прости. Мне показалось, что ты мне приснилась, что тебя больше никогда в моей жизни не будет, понимаешь, никогда!
Вот мы опять в темноте, в пустой комнате, а тут еще эта собака, откуда она взялась, и кто там ходит, за стеной? Почему ты молчишь?
Я в театр ездил, мне твоя соседка — смешная такая — сказала, что ты в театр пошла, — но там было закрыто. А мне обязательно надо было тебя найти сегодня, обязательно. Ты не пугайся, я не всегда такой, просто мне страшно за тебя. И за себя тоже.
Я долго в подъезде сидел, ждал тебя, с кошкой играл бродячей… А потом устал. Я знал, что тебя нет в театре, но подумал — а вдруг? И поехал. А там стеклянные двери, и за ними зеленый свет вспыхивал, и никто не отзывался. И в ресторане тебя искал.
Я подумал: наверное, самое трудное в жизни — найти человека. Самое трудное. А потом подумал: нет, самое трудное — остаться рядом с ним, уберечь его.
Потом я к другу поехал, к тому, который тогда обознался, только имя твое угадал и фамилию, он сторожем работает, он талантливый очень, и пьет, потому, что с талантом жить — это как с бомбой в кармане. Талант покоя не дает, душа выхода ищет, а выхода нету. А еще, наверное, он от жалости пьет. Он людей жалеет, хотя и стыдится этого, и прячет свою жалость. Он и меня жалеет, и нашего Генерала — это прозвище такое, на самом — то деле он не генерал, а всего лишь майор. Но ведь с такой жалостью жить невозможно, можно сердце себе надорвать. Жалости выход нужен, а выхода нет.
Подожди, я снова путаться начал. Грустно мне, а почему — я не знаю. Может быть, я ошибся, может быть, мне в другую влюбиться нужно — в Тамарку Березкину, например. Она хорошая, Тамарка, только людей боится, и жалко мне ее, ох как жалко.
Скажи, кто там, за стеной?
Я не понимаю, кто там ходит? Чья собака скребет пол?
Прости, я больше не буду тебя искать, но и ты пропадать не должна, и не говори мне, что сама меня найдешь, когда тебе надо будет, я уж лучше совсем уйду, чем так: ждать — и не знать, почему.
Да-да, я сейчас говорю, как ненормальный. А ты нормальная, конечно. И тот, за стеной — он тоже нормальный.
А те, что по радио с утра гимн поют — они абсолютно нормальные, да? На них надо равняться. С утра встал, спел гимн — и весь день нормальный ходишь, да?
Где она, эта норма? В чем она? По-моему, она как раз в том, чтобы людей жалеть. Понимать их. Понимать, даже если не любишь…
А вот у них у всех норма такая: не пей, не кури, не ругайся, любовью не занимайся, — то есть, вовсе не будь человеком. Вот она, ваша норма — не быть живым человеком…)
* * *
Но он не сказал этого всего. Только путано попытался объяснить свое появление в половине второго ночи.
— У меня квартирант, — говорит она. — Я тебя с ним познакомлю, но не сейчас, хорошо? Завтра. Или послезавтра. Не сейчас. Сейчас спать пора.
— Зачем это все? — говорит она. — Не нужно. Ничего не нужно. Квартирант — дядя солидный, не думай. Он женат, и жена скоро к нему приедет.
А Ковалев сидел, обхватив голову руками, в пальто, с шапкой на коленях, и думал: любить нельзя, нельзя, нельзя. Любить могут те, кто собой не дорожит, совсем не дорожит. А кому жизнь дорога — они понимают, что это уже не любовь, это безумие.
Но ему-то зачем это все? Страшно как, страшно.
«Я только-то и хотел — полюбить на всю жизнь, — думал он. — Но и этого нам нельзя. Как же можно любить? Это ведь надо жизнью своей не дорожить. Совсем не дорожить. А этого нам нельзя… Нет же, нет, — подумал он после, — как же я сразу не догадался? Можно все — пьянствовать, подличать, доносить, подхалимничать, хамить, совращать малолетних, врать день за днем, можно даже людей превращать в животных. И лишь одного нельзя — этих животных любить».
Он поднялся, нахлобучил шапку. Ирка поцеловала его в губы и сказала:
— Миленький мой, не сердись, не обижайся. Мне еще подумать надо, а ты совсем мне времени не даешь. Вот люби тебя — и все. Так же нельзя, понимаешь? Подожди хоть чуть-чуть…
— Хорошо, — сказал он. — Будем просто друзьями. По субботам будем вместе чай пить и телепередачи просматривать.
— Не сердись, — повторила она. — Я же здесь, никуда не исчезну. Ты подожди меня, ладно?
— Ладно.
Тут он опять подумал про квартиранта с собакой.
— Мне надо с ним познакомиться.
— Познакомишься. Куда ты торопишься?.. Да и зачем он тебе? Квартирант как квартирант. Из Ташкента приехал. Бывают и хуже.
— Мне бы ты комнату не сдала, — вздохнул он.
— Не сдала бы, — согласилась она.
Он вышел. Постоял на улице. Она махнула ему рукой из кухонного окна, потом свет погас. Он еще постоял, поглядел на звезды, на стадо девятиэтажек, замерших в отдалении (ишь, прикинулись слонами). И пошел к троллейбусной остановке.
Внизу, под обрывом, расстилалось море огней, и пунктир огоньков очерчивал огромную чашу города. Ковалев снял шапку, подставив лицо пронзительному ветру, налетавшему снизу.
Потом отправился по дороге, переметенной поземкой, не оглядываясь и ни о чем не жалея.
* * *
Прошло несколько дней, миновали праздники, нудно тянулся ноябрь — самый серый, самый беспросветный месяц в году. День уменьшался, съеживался, а ночь все росла и росла, и казалось, что вскоре она поглотит день, и больше не будет света на земле, потонувшей во тьме. Иногда, оставаясь один, Ковалев ловил себя на мысли, что ведет разговор с Иркой. Ее голос, казалось, не рождался внутри него, а доносился снаружи, — ведь то, что она говорила, он не мог бы выдумать.
— Я люблю тебя, — говорил он.
— Нет, — отвечала она. — Ты меня выдумал и выдуманную любишь. А я-то, живая, тебе не нужна.
— Нет, нужна. Откуда ты знаешь?
— Вижу. Забрал себе в голову, что влюбился без памяти, сам себя обманул, и меня же еще обвиняешь.
— Ни в чем я тебя не виню.
— Нет, винишь. Ты мне мстишь! Что, не так?
— Не так. Я просто люблю, и все. В чем тут месть?
— Ты не просто любишь, ты ждешь, что я тоже начну себя морочить — вот, мол, она, настоящая-то любовь. А я не захотела. Я уже выросла. Вот ты и обиделся. Раз тебе тяжело — значит, надо, чтобы и мне было худо… Как ты можешь меня любить? Ты ведь меня совсем не знаешь!
— Знаю. Я тебя угадал.
— Это тоже самообман.
— Нет, это правда. Ты добрая, вот и все. Ты добрая.
Он бродил по комнате, смотрел в окно, не зажигая света, а голоса все звучали в нем и звучали.
— Я злая! С чего ты взял, что я добрая? Я была доброй когда-то, а теперь — нет, теперь я злая.
Он хватался за голову и твердил сам себе: «Добрая, добрая, добрая. Я же знаю. Зачем ты мучаешь меня? Тебе же самой будет стыдно!»
— Не будет, нет. Я же злая… Когда я впервые влюбилась, мне было тринадцать лет. Это там было, в интернате. В учителя влюбилась. Я за ним ходила по пятам. Я за ним подглядывала. А он краснел. А потом увел меня на речку — лето было — и там, в кустах, на мокрой земле, мы занимались любовью. Ты думаешь, я ничего не понимала? Я все понимала. И была готова на все. А он меня испугался. Любви моей испугался. Он же думал, что я ненормальная. А я и была ненормальная. От любви. Потом мы еще несколько раз были вместе. Я его обожала, я себя забыла и все на свете забыла. Он боялся все больше и больше. Он боялся, что про это узнают, что ему плохо будет, может быть, даже посадят. И он уехал. Ночью, ничего не сказав, никого не предупредив. Он сбежал. Но я почувствовала. Вышла из нашей спальни (там шесть девочек спали, ненормальные, конечно), тихо-тихо прошла коридором, спустилась по лестнице. Наружная дверь закрывалась на ключ, ключ дежурная забирала с собой, у них своя спальня была. Но я знала, как можно из барака выбраться. Я в умывальник зашла, открыла окно и выбралась. Было темно, холодно, дождь шел. А я, дурочка, в одной рубашке ночной — казенной, со штампиком «ШИ» — «школа-интернат» значит, — не сообразила что-нибудь сразу на себя накинуть, а потом возвращаться уже поздно было, могла всех разбудить.
Пошла за ворота, улица темная, дома будто заколоченные, мертвая тишина и черная-черная грязь под ногами. Скользкая, как лед. Я падала. Прямо в грязь. В рубашке. Сначала отряхивалась — ну, ненормальная же, — а потом махнула рукой. Так до дома дошла, где учителя жили: старый дом, бревенчатый, в нем две квартиры, несколько комнат. В каждой молодой учитель жил. Ну, вроде общежития. Я к забору прижалась, стою. Меня трясет, рубашка мокрая к телу прилипла, а дождь холодный-холодный, и слышу, как зубы клацают, громко, как ножницы, и быстро так. Мне кажется, забор от меня трясется, но ведь темно, думаю, не видно же. И вдруг сердце остановилось, дрожь пропала: двери скрипнули, вижу — он потихоньку выходит, учитель. В плаще, с чемоданом. Плащ у него модный был, а чемодан старый, ремнем перетянутый. Смотрю, он быстро-быстро к шоссейке пошел. Там, по шоссе, автобусы ходили в город, да и попутку можно было поймать. А идти до шоссе и недалеко вроде — всего километр. И вот он ушел уже, а я все стою. Наконец, с места сдвинулась. Ноги окоченели. Я вдоль забора иду и реву. Упала все-таки. Еле видно дорогу же. Кусты по бокам темнеют, а больше ничего не видать, хоть глаза выколи. Иду и иду. Сначала медленно, а потом все быстрее. Иду по дороге, недалеко отошла от деревни, вдруг — сзади гул, обернулась — фары светятся. Я испугалась. Если бы подумали, что я сбежала — плохо бы мне пришлось. Беглецов у нас ловили, и хорошо, если в интернат возвращали, а то, бывало, увозили в Октябрьский. Это поселок такой, далеко, и там тоже интернат, но другой, плохой. У нас ведь не били, а в том интернате лупили вовсю, там-то уж даже если и не был дураком — сделают. Ну и вот. Испугалась и с дороги — в кусты. Присела, сижу и думаю: а ведь учитель сейчас на этой попутке, что сзади, до трассы доедет. А если машина в город идет — и вовсе мне его не догнать. И еще я подумала: тут на дороге яма, водитель притормозит, и я незаметно в кузов запрыгну. Сижу, жду. Вот подъезжает большой грузовик и — как по заказу, думаю — ухнул в яму. Я выскочила из кустов и к нему. Хотела руками за задний борт ухватиться, а борт вдруг вверх, я прыгнула, но не достала, ухватилась за какую-то железку, вцепилась в нее, а грузовик рванулся, из ямы выскочил, и я в воздухе болтаюсь. Руками держусь, а ноги бегут. Он едет — а я быстрее, быстрее, сначала успевала за ним, а потом он быстрее поехал, и вдруг погнал сломя голову. И тогда я подумала — все, здесь мне и придется погибнуть, и незачем ехать дальше. Руки закоченели, уже и отцепиться не могут, не разжимаются, ноги о грязь, об ухабы бьются, я закричала, а никто не слышит, мотор ревет, я кричу и думаю — сейчас сердце лопнет от крика. Потом, помню, еще думаю — почему щеке так больно? Почему мир перевернулся и машина едет на боку? А под щекой — грязь, дорога? А это, оказывается, я упала, отцепилась все-таки. Машина уехала. Я еще увидела, как он в кабину сел. И все.
В интернат я пришла сама, уже не помню, как — за заборы держалась руками, и все шептала им, заборам-то: спасибо вам, миленькие, что вы есть, что упасть не даете. Пришла. Обратно в окно влезть не смогла, сил уже не было. Стала камешки искать, девчонкам в окно бросить, разбудить. Пошла к песочнице, к грибочкам, там, вроде, камешки были. А под грибком сухо, тепло почему-то. Я села и все, больше ничего не помню.
Потом болела долго. Простудилась, сердце застудила. Несколько месяцев по разным больницам лежала — сначала в участковой, в деревне, потом в районной, потом меня в город привезли. В городе, в клинике, хорошо уже было. Там в палате женщины взрослые лежали, добрые, они заботились обо мне, им много чего из дому приносили, они все мне отдавали. У меня никогда столько конфет и яблок не было, никогда, даже когда я дома еще жила. И стала я поправляться. А после отец приехал, он меня разыскал. Мы совсем в другой город переехали. И я в нормальную школу пошла. И там училась. А потом сюда вернулась, — отец мне квартиру устроил. Вот и живу.
— А дальше? Что дальше? — спрашивал Ковалев.
— Ты про учителя спрашиваешь, да? Здесь он, в городе. Когда я в институт поступила, встретила его. Он в этом институте преподавал. Вместе мы стали жить, он меня даже замуж звал, с родителями хотел познакомить, да я не хотела знакомиться, и замуж за него не хотела. А потом он женился и опять уехал. Нет, не сбежал. Плохо нам было тут вдвоем. Пусто, плохо. Я институт бросила. И вот теперь одна осталась… Живу.
* * *
«Мы все ненормальные здесь, раз любить невозможно», — думал Ковалев.
Когда темнело, он включал свет в комнатах и на кухне, включал магнитофон, телевизор и радио, и снова бродил по пустой квартире, под какофонию разных звуков, которые, казалось, хоть как-то наполняли пустоту.
Вечером, поздно, когда мать засыпала, он ложился на диван и слушал улицу. За окном гремели трамваи, свистели троллейбусы, а в промежутках, когда становилось тихо, было слышно, о чем говорят прохожие. Часто кто-нибудь кричал под окном, плакал, ругался или пел, иногда дрались, и тогда нижний сосед, если был дома, кричал с балкона:
— Э, мужики! Вы чего, мужики?..
Дрались с матом, с криками, а однажды — Ковалев удивился даже, — молча, с остервенением: били друг друга ногами в грудь, в голову, между ног. А когда один упал, двое других тут же пошли прочь, как ни в чем ни бывало.
А потом, наконец, становилось тихо. Так тихо, что были слышны гудки тепловозов на железнодорожной станции.
* * *
Однажды, часов в пять утра, мать вышла из спальни. Встала на пороге в необъятной ночной рубашке, с измятым лицом. Спросила:
— Ты что, заболел?
— Нет, — ответил Ковалев.
— А чего же не спишь?
— Так.
— Снотворного дать?
— Не надо.
— Ну-ну… — пошла на кухню, погремела там посудой, вернулась.
— Мам, — сказал он, — почему ты отца не любила?
Она тяжело опустилась на стул.
— Молод еще осуждать меня. Проживи сначала с мое.
— Я не осуждаю, — сказал Ковалев, но она отмахнулась:
— Я день и ночь работала, за двоих, днем на работе, ночью дома — чужих детей обшивала. Вас растила, на ноги поднимала. В две смены всю жизнь. А он? Утром встанет, зарядку сделает, и ушел, до вечера. Принесет свои сто двадцать рублей — им раз в месяц платили, — и что хошь с ними, то и делай. И накорми, и напои, обуй-одень… А он еще заботы требовал…
— Как же без заботы… — вздохнул Ковалев.
— А когда мне было заботиться? Я вас растила!
— Да я не про это…
— Раз не про это, так и молчи, — снова оборвала мать. — Чего ты душу мне ковыряешь? Яйца курицу не учат. Я прожила, как могла. Теперь вот ты попробуй. Грамотный…
Она ушла в спальню, в сердцах громко хлопнув дверью.
За окном громыхали первые трамваи. Серое небо низко висело над домами, мертво краснела лампочка на трубе теплоцентрали.
Ковалев вставал, умывался, долго пил чай, долго собирался. Выходил из дому и пешком — времени было хоть отбавляй, — шел на занятия.
Ему казалось, что он не живет, а играет роль, написанную для него кем-то: может быть, Богом, но, скорее всего, Дьяволом. И вглядываясь в прохожих, вдруг замечал, что и они не живут, а играют собственные роли. Вот этот — ветеран войны. Уважаемый, мудрый, совершивший не один ратный и трудовой. Вот — учащийся: серьезный, вдумчивый, пытливый, овладевающий. Вот — руководитель: справедливый, добрый, пекущийся, болеющий за. А это — народ со своими свершениями.
Какой ты человек — это никого не интересует. Главное, какова твоя роль. Ты, к примеру, колхозник? Ну, так им и умрешь. Многостаночник? Мы избираем тебя в областной Совет, потому как людям труда у нас почет и уважение. Ты — наставник молодежи? Ты — активист движения сторонников мира? Ты — добровольный член общества охраны природы? Мать-героиня? Член Союза писателей? Оборотень? Антисоветчик? Работник прилавка?..
Шаг влево, шаг вправо… Сценарий расписан и утвержден. Ни слова отсебятины. Таким в нашем обществе не место.
Человека нет. У наивных ребят еще может возникнуть вопрос: интересно, а Ленин какал? У умудренных жизненным опытом ветеранов такого вопроса не возникает: им ясно, что — нет: боги не какают.
Есть и другие маски. Акулы капитализма. Бездомный, изгнанный из ночлежки за участие в митинге солидарности. Борец за права человека. Остров Свободы. Черная книга преступлений империализма. Лидер национально-освободительного движения. Непотопляемый авианосец НАТО. Свободу Луису Корвалану! Нет — поджигателям войны!..
Спектакль идет без антрактов.
«Хорошим подарком к празднику стала для ребят поселка имени Мусомбе новая начальная школа, досрочно сданная строителями объединения «Умрем-но-не-сдадим»…
«Шахта имени товарища съезда успешно справилась с годовым заданием. До конца года труженики подземных кладовых…»
Вот пионер-герой. Вот огненный тракторист. Но героев-одиночек нам не надо! У нас — коллективное творчество. Герои-молодогвардейцы. Город-герой. Улица образцового содержания.
Так и помрешь в маске, так, в маске, и похоронят. И спросит ангел: «Кто ты, человек?»
И услышит в ответ:
— Отличный семьянин! Умелый хозяйственник! Член бюро РК КПСС!
— Рабочий-новатор! Ударник трех пятилеток!
— Борец за мир! Член общества дружбы за дружбу!..
И ангел вздохнет и заплачет. Куда их, таких? Не в рай же…
Где ты был, что ты видел? Жизнь прошла, как день, без дат, без праздников. Чем таким уж отличался, скажи, 1954-й от 1974-го? Да ничем. Что случилось? Да ничего. Ну, один родился, другой умер. Подумаешь, важность! Главное, жизнь — она продолжалась!
* * *
Прошло несколько дней. Дважды Ковалев собирался поехать к Ирке и не мог решиться. После лекций он выбегал из учебного корпуса в синие вечера, вглядывался в пустые белые аллеи, и каждый раз обманывался: нет, она его не ждала.
Он брел домой. Не хотелось ему заниматься тем, чем занималось большинство — имитировать жизнь. Не хотелось ни с кем говорить, он даже прохожих стал сторониться.
Все отдалилось, поскучнело. Вот снег идет — ну и что? Вот солнце проглянуло — эка невидаль.
Трамваи дребезжат день-деньской как полоумные. Везут кого-то куда-то. Выполняют план. «Согласно графика». Хотя это бессмысленно. Совершенно бессмысленно: потому, что здесь человеку не нужен человек.
Ковалев полюбил вспоминать. Каждую встречу с ней — а было их так мало — он помнил от начала до конца; помнил, что она сказала, как посмотрела, как повела плечами, как отвернулась. Каждый взгляд ее помнил, каждый вздох.
Он разговаривал с ней, он рассказывал ей о своих делах так, будто писал дневник:
«Сегодня 15 ноября. Лекций было всего две, потом комсомольское собрание. Принимали какие-то дурацкие комплексные обязательства. Я сказал, что обязуюсь прочитать «Капитал» Карла Маркса, а комсорг Телепников не согласился: это, дескать, не может быть повышенным обязательством, это входит в учебную программу по политэкономии. Ну и что, говорю, что входит — но ты же его не прочитал? И никто не прочитал. А я прочитаю. «Врешь, не прочитаешь!», — сказал наш отличник-медалист Матюшко. «Это почему?» — говорю. А он: «Потому, что это невозможно. Я пробовал несколько раз — и не смог».
В общем, собрание, как собрание. После него Телепников сказал, что в универсаме дают портвейн и они с Витюковым побежали в универсам. А Березкина смотрела на меня все собрание с соболезнующим видом…»
«Должно же все это как-нибудь кончиться?» — подумал он однажды.
* * *
День был тусклым, серым. Он приехал к дому Алексеевой и долго бродил между одинаковыми домами, зная, что приехал рано, что ее еще нет.
Дверь открыл незнакомый мужчина — невысокий, чернявый, в футболке и старом трико. Под ногами у него крутилась маленькая черная собачонка.
— Кого надо? — спросил чернявый.
— Хозяйку.
Чернявый подумал, потом сказал:
— Нету ее.
— А когда будет?
— Не знаю, — он пожал плечами и хотел закрыть дверь, но Ковалев не дал.
— А что, если я у нее в комнате подожду?
Чернявый опять подумал и ответил миролюбиво:
— Слушай, я ж не знаю, кого можно пускать, кого нет. А?
— Ну, меня-то можно, — соврал Ковалев.
Тогда чернявый снова пожал плечами, сказал «Ну, входи», — и пошел, и вместе с собачонкой, визгливо залаявшей, скрылся за дверью своей комнаты.
Ковалев разделся в прихожей, прошел в комнату хозяйки. Здесь все было по-прежнему. Вещи, мебель, запах. Ковалеву стало неловко: ну вот, влез без спросу, а теперь что?..
Он сел у окна, покурил. Пришли сумерки, в комнате потемнело. Он все сидел, не шевелясь, боясь потревожить что-то, что ему не принадлежало.
Здесь она живет, эти стены знают о ней все, они видели кошмары, которые к ней приходят по ночам, которые живут здесь вместе с нею.
Тени, которые живут вместе с ней.
Серые, пыльные, ветхие, как чучела в зоологическом музее, — вот бродит по комнате, натыкаясь на мебель, какая-то женщина с серыми волосами, с серым лицом, слепая, немая; вот другая — неповоротливая, толстая, с гребнем в волосах; а между ними двумя — две девочки-подростка: то возьмутся за руки, сойдутся, то разойдутся, будто ищут кого-то, еще одну, пропавшую.
Внезапно открылась дверь — Ковалев чуть не упал с табуретки. В дверном проеме стоял чернявый.
— Ты где тут? — спросил он, вглядываясь в темноту.
Ковалев поднялся с табуретки:
— Здесь.
— А-а… Слушай, иди на кухню. Приглашаю.
Ковалев вышел в коридор. Чернявый сделал приглашающий жест рукой. На кухонном столе Ковалев увидел коньяк, хрустальные рюмки, колбасный фарш на тарелке, шпроты.
— Проходи, проходи, — говорил чернявый. — Садись, пожалуйста, не стесняйся. Ты же гость. Тебя никто не обидит.
Ковалев сел.
— Праздник у меня сегодня. Вот, праздную, хорошо, что гость пришел.
Чернявый налил в рюмки коньяку.
— Какой праздник?
— Подожди. Сейчас скажу… — Он вытер руку о штаны. — Моей собачке, крошке моей, два годика исполнилось.
— Что? — не понял Ковалев.
— День рождения у нее, говорю, два года ей, понимаешь?
Как бы в подтверждение его слов именинница залилась визгливым лаем.
— Ну вот, нервничает… — чернявый с неудовольствием покачал головой. — Чужой в доме, понимаешь?
Ковалев поставил на стол рюмку:
— Извини. Я не могу…
— Как не можешь?
— Ну, не могу, и все.
Ковалев сделал шаг, чернявый схватил его за руку:
— Э, ты погоди! Ты куда? Я тебе от чистого сердца! День рождения — это раз в году бывает, понимаешь?
— Понимаю, понимаю… — Ковалев вырвал руку.
— Нет, ты постой. Как это так…
— Так. Не буду я праздновать. Собачий этот праздник.
Чернявый насупился.
— Вот ты, значит, какой… — Он нагнул голову. — Тебя, значит, как человека, а ты, значит, так вот, да?
Ковалев молча ждал, что будет дальше. Но дальше случилось неожиданное: налетела собака и цапнула его сзади за ногу. Ковалев развернулся и наподдал ей под брюхо, несильно, но собачка отлетела к дверям и оглушительно завизжала.
— Ты что? Ты что делаешь, совести нет, да?? — закричал чернявый и бросился на Ковалева. Ковалев хотел отступить, но сзади снова атаковала собака, и пока он отпихивал ее ногой, хозяин вцепился ему в горло.
От удивления Ковалев отреагировал не сразу. Почувствовав, однако, что чернявый душит не шутя, дал ему коленом между ног. Чернявый разжал руки и согнулся, Ковалев рванулся в комнату Ирки, захлопнул за собой дверь и остановился в темноте, не зная, как быть дальше.
Истошный лай через некоторое время затих. Ковалев пощупал укушенную ногу, обнаружил на штанине следы зубов, ругнулся. «Ну, бывает же такое. Во жизнь, гадство. Дикий бред какой-то. Фарс…»
Он закурил. Руки ходили ходуном, он с трудом прикурил, хотел сунуть горелую спичку в коробок — не попал, бросил на пол.
Прошло, наверное, около часа, когда во входной двери повернулся ключ. Ковалев услышал собачий визг и голос хозяина:
— Ага, пришла! Хорошо. Он там сидит. Но предупреждаю: пусть только выйдет!
— Кто сидит? — спросила Ирка.
— А кто тут к тебе ходит? Сама не знаешь, да?
Ковалев открыл дверь.
— Ира. Ты извини… Это я… Я не виноват…
— Не надо объяснять, — сказала она, сбрасывая с ноги сапог. — Посиди пока там.
— Но я же…
— Помолчи — я тебя прошу. — С этими словами она вошла в комнату чернявого. Собачий визг стих, и голоса зазвучали тихо-тихо.
Ковалев стоял в дверях, соображая: остаться ему или уйти. Решил остаться — из упрямства.
Она вошла в комнату — он посторонился — закрыла дверь, включила свет.
Взглянула на него:
— Ты здесь давно?
— Давно.
Она взяла сигарету.
— Ты извини, — опять сказал он.
— Ничего. Это ерунда…
— Понимаешь, эта тварь меня цапнула, я ее пнул. А квартирант психованный какой-то, душить меня стал…
Она молча курила. Потом сказала:
— Ладно.
У него пересохло во рту, он тоже закурил.
— Кто он, квартирант твой? Деньги платит, да?
— Да, — кивнула она.
Потом он сказал:
— Ну вот, познакомились… Наверное, мне надо уйти.
Она вздохнула.
Он закусил губу.
— Дура ты, Ирка! — И отвернулся.
Она вздохнула, рассеянно повертела сигарету в длинных пальцах.
— Конечно, дура, — согласилась она. — Я же тебе говорила… Сама дура и нужен мне, понимаешь ли, дурак. С дураком-то мы обязательно поладим.
— Сомневаюсь, — буркнул Ковалев.
— Что?.. А, ну да: ты ведь умный. Умные всегда во всем сомневаются.
— Ну, — кивнул Ковалев.
Она опять вздохнула:
— Значит, тебе умная нужна, не я.
— Эх ты… — Он поднялся, у дверей остановился, постоял и сказал упавшим голосом: — Совсем уходить, да?
— Ну, можешь ботинки оставить. Чтобы в следующий раз причина вернуться была: я тут у вас, мол, случайно ботинки оставил.
— Что ты говоришь?
— То и говорю — уходи.
— Что ты говоришь? — с отчаянием повторил он. — Разве так можно говорить живым людям, а? Разве ты не понимаешь? Может же что угодно случиться… А вдруг тебя больше никто никогда не полюбит?
— Ну и пусть, — угрюмо сказала она и смяла сигарету.
Он махнул рукой, в коридоре стал натягивать пальто, путаясь в рукавах. Она стояла в дверях и молчала.
— Ирина! — донеслось из комнаты квартиранта.
— Что?
— Он ушел?
— Да, ушел! — ответила она, глядя Ковалеву в глаза.
Залаяла собака. Ковалев захлопнул за собой дверь и внезапно осознал, что этого порога ему уже никогда не переступить. Прислонился спиной к двери, постоял, слушая, как затихают всхлипывания собачонки.
Быстро шагал к остановке. Мысли были почему-то хорошие, спасительные: «Ничего же не случилось. Ну, бывает, поссорятся люди, и что? Мирятся же потом. Тут еще собака эта… Укусила, дрянь, до крови… Бешенством, что ли, заболеть? Вот будет номер!.. Ну ничего, ничего. Переживем. Всякое бывает — и ничего, живут люди, с мостов, как безработные у Маяковского, не бросаются…». И тут же вспомнил: нет, бросаются. Еще как бросаются.
* * *
На троллейбусной остановке было людно. За остановкой чернело угасшее небо и выл в пустоте ветер. Казалось, там, за остановкой, уже нет земли: бросишься вниз — и полетишь. И будешь лететь долго-долго. Пока не умрешь.
Ковалев прошел мимо остановки. Люди, как по команде, повернулись к нему, но никто из них не удивился, не крикнул предостерегающе. Он прошел мимо них быстро, как только мог, будто торопясь по неотложному делу. Еще два-три шага — и он провалился бы во тьму, подступившую к самой кромке обрыва. Но оказалось, что обрыв вблизи оказался не таким уж крутым. Ковалев разглядел занесенный снегом склон, а внизу — черные коробки гаражей с петлявшей между ними белой дорогой, а дальше — фонари, дома, и чем дальше — тем больше фонарей и домов, до самого горизонта.
Ковалев остановился, бессмысленно глядя вниз. Те, на остановке, молчали, повернув к нему белые лица. Подъехал троллейбус, люди тут же отвернулись, полезли в освещенные двери…
Ковалев подождал, пока троллейбус скроется за поворотом, и пошел по обочине. Он шел быстро, и слева к нему медленно поворачивались другими боками серые дома, похожие на стадо уснувших слонов.
Спустился с горы, перешел трамвайные рельсы, вышел на проспект. Здесь было оживленно, горели желтые фонари, трепался на ветру транспарант, призывавший граждан заботиться об экономии электроэнергии.
Ковалев шел, глядя прямо перед собой, не замечая прохожих, не видя ничего вокруг.
На пути попался телефон-автомат. Он нащупал в кармане монетку, набрал номер. Автомат благополучно проглотил монетку и ни с кем не соединил.
Ему стало зябко, и еще он чувствовал легкую печаль оттого, что приходится вот так буднично прощаться: не с миром, нет — с собой, уходящим.
Он брел, бормоча себе под нос, продолжая незаконченный, как ему казалось, разговор.
— Ты не только меня — ты себя не любишь.
— Не люблю.
— Ну и плохо.
— А не за что мне себя любить. И вас всех — тоже.
— А любят не за что-то. Любят так просто. Ни за что.
— Слышала. И ненавидят так просто. Ни за что.
— Нет. Ненавидят за что-то конкретное. За плохое. А любить можно за что угодно. За силу и за слабость, за пользу и за вред. Как животных любят. Кошек. Зверюшек разных никчемных…
— Вот я и ненавижу за конкретное. За плохое. Отстань!
— И меня — за плохое?
— А тебя мне за что ненавидеть? Тебя я просто не люблю.
— Это еще хуже.
— Может быть. Зато в душу тебе лезть не буду. Живи спокойно.
— А я не могу без тебя жить спокойно. Я не хочу без тебя жить спокойно. Не могу!
Он задохнулся, приостановившись на мгновение и почувствовав: что-то внутри него, наконец, оборвалось. Какая-то струна, соединявшая его душу с богом, вселенной, — со светом. Струна лопнула и закачалась во тьме с пронзительным, постепенно гаснущим звуком.
3. Ибо крепка, как смерть, любовь
Ковалев вышел на площадь. Протолкался сквозь толпу, сгрудившуюся на остановке, прошел мимо театра и громадного здания обкома, и остановился на мосту. Внизу в бело-серых берегах клокотала черная незамерзающая речка.
Уткнулся носом в перчатки. Закрыл глаза. Голоса всё ещё звучали, — хотя и немного глуше.
— Я знаю, почему ты вспоминаешь свой интернат. Потому, что вас там жалели.
— Детей и так жалеют…
— Нет, не жалеют. Их редко жалеют, «нормальных». Тебя вот пожалели?.. А там, в интернате, вас по-настоящему жалели. Бедных. Убогих… Даже пословица есть такая: дурака всегда жальче…
— Жальче… да не всегда, — сказала она.
— Это тебе повезло просто, интернат такой хороший. Сама же говорила — в Октябрьском настоящий дурдом был. Били.
— Нас тоже били. Не учителя, не воспитатели, а местные. Ребята, да и мужики, бывало. Бабы. Бабы — они ведь злее мужиков бывают, особенно, когда пьяные. Где какая пропажа, хулиганство — кто виноват? Интернатские. У нас девочка была, Валерия — ее женщины смертным боем били, она у них бутылку водки стащила. Да баловалась она, не понимала, она и пить-то еще не умела. А они — всерьез. Доярки. Затащили за коровник — и ну молотить. Сапогами даже. Мужики оттаскивали… А ты говоришь — «жалели»…
Ковалев глядел в черную воду: некому нас, убогих, жалеть. Мы ни себе, ни другим не нужны. Меньше народу — больше кислороду…
Рядом остановились две девицы. У них были слишком громкие голоса.
— …Ну, а он?
— А он — иди ты на х…, корова!
— А ты?
— А я ему как уе… сапогом по яйцам!
Ковалев отвернулся, зажмурился. Бедные, бедные.
* * *
Минут через двадцать он подошел к общежитию, призывно сиявшему всеми окнами на всех пяти этажах.
Во дворе общаги было темно, мягко сиял синий снег, по запорошенным снегом гигантским кучам мусора с визгом носились общежитские дети.
Этих детей называли «детьми подземелья». Весь «аппендикс» первого этажа был заставлен детскими колясками: в «аппендиксе» жили матери-одиночки, хотя было и несколько семейных пар. Дети — бледные, вечно сопливые, больные, неухоженные, — бегали по коридорам и лестницам общаги, играя в свои никому не известные общажные игры. В этом нелепом общажном мире они родились и росли. В узком грязном коридоре, заставленном колясками и велосипедиками, загроможденном ванночками и тазами, а еще — во дворе, на помойке — проходило их счастливое детство. Очень может быть, думал Ковалев, что для них оно и было счастливым.
Он пошел на черную лестницу. Сел на широкий подоконник, расстегнул пальто, закурил. Между пролетами лестницы свисали какие-то веревки — их развесила секция альпинистов для тренировок. Вот сверху показались ноги в горных ботинках. Потом — вылинявшее трико, потом — штормовка. Спускался скалолаз. Молча, сопя, он (или она?) миновал лестничную площадку и скрылся внизу. Через минуту появился новый. Потом еще один. То вверх, то вниз. Молча.
Где-то внизу хлопнула дверь. Показался огонек сигареты и Ковалев узнал Жаркова.
— Во, привет, — сказал Жарков таким тоном, будто они только что расстались. — А я гуляю. Праздник отмечаю: десять лет в универе.
— Абсолютный рекорд? — спросил Ковалев, освобождая место на подоконнике.
— Не… Этот, как его, Сивый — тот двенадцать лет учился. У него же голова — во! Как у Ленина. Знаешь Сивого? Его вся общага знает. В умывалке, бывало, напьется, и спит…
В лестничном пролете показались горные ботинки.
— Во, — сказал Жарков. — Завидую. Вот же люди! Гвозди из них делать. Кругом бардак, а они знай себе по веревкам лазят.
Альпинист скрылся.
Жарков докурил.
— Пойдем, что ли?
— Пойдем, — согласился Ковалев.
Они спустились на первый этаж, в «аппендикс», вошли в разбитую дверь.
В комнатке оказалось уютно. Шкаф перегораживал ее пополам, в одной половине были прихожая и кухня, в другой — спальня и гостиная. Ковалев прошел за хозяином на вторую половину. На столе горела настольная лампа, освещая полки с книгами, детскую кроватку, диван, магнитофон.
— А твои где? — спросил Ковалев.
— В больницу поехали. У Ксюшки, понимаешь, что-то с рукой.
Он включил магнитофон, достал второй стакан и налил Ковалеву из трехлитровой банки.
— Это что?
— Вино самодельное… Ты попробуй, попробуй!
Вино было кислым. Ковалев закусил баклажанной икрой.
— Тут на третьем этаже аспирантка живет, Машка — знаешь, нет? Полгода просила меня розетку ей починить. Руки не доходили, сам знаешь. А сегодня тоска взяла, и делать нечего было… Ну, пошел, посмотрел — там проводка сгнила совсем. А я сдуру-то полез — кэ-эк даст! Я аж с табуретки слетел! Весь этаж вырубился… Ну, времянку прокинул. А ей говорю: нет, Машка, света, и не будет. А она: ах, как же я в темноте буду? А я, с понтом: а так — разденешься и спать ляжешь. Как все. А она: так мне готовиться ж надо! Сэссия ж скоро! Ты прикинь!.. В общем, раскрутил я ее на банку эту. Говорит, у родителей на праздники гостила, они дали… Хорошая баба, — заключил Жарков. Подумал, и добавил: — Жалко, что страшная.
— А свет?
— Что — свет?
— Ну свет-то ей сделал?
— Свет-то? Свет сделал… Лампочку, в смысле. Розетку на потом оставил… На другую банку…
Он включил магнитофон.
— Это кто поет? — спросил Ковалев.
— А хрен их знает… Парнишка дал знакомый. Эмигранты, что ли… Тут одна забойная есть. Если морда, говорит, не разбита, то не можешь быть бандитом…
— Выруби ты их, — попросил Ковалев.
— А чего?.. Пускай. Чего без музыки-то сидеть.
Хриплый цыганский баритон плыл по комнате. Ковалев встряхнул головой.
— Надоело. Пойдем, покурим.
— Сейчас. Еще по одной — и пойдем.
На черной лестнице стало оживленней. На площадках курили, разговаривали, смеялись. Во мраке вспыхивали красные точки сигарет, взвивались и падали, как светлячки.
Жарков с Ковалевым поднялись на площадку второго этажа.
— Э, подвинься, — бесцеремонно сказал кому-то Жарков и сел на подоконник.
— Жарков, не борзей, — басом сказала женщина.
— Танька, это ты, что ли? — удивился Жарков. — Сто лет не видел…
Ковалев присел на корточки.
— Ты опять веселенький, да? — говорила Танька. Ее необъятная фигура закрывала едва ли не все окно. — Ты когда пить бросишь, а?
— А никогда, — лениво отвечал Жарков.
— Еще вон и молодого человека спаиваешь, — кивнула Танька на Ковалева.
— Это Танька, с пятого курса, — пояснил Жарков Ковалеву. И, как ни в чем ни бывало — Таньке: — Главное — не тебя, да, Таньк?
Он толкнул ее локтем, она загоготала.
Покурив, спустились вниз, и только выпили еще по стакану, как пришла жена Жаркова.
— Ну и как, Лен? — спросил Жарков.
— Да никак. Нашей врачихи нет, а та, с семнадцатого участка, только глазами хлопает: к хирургу, к хирургу…
Ковалев вежливо поздоровался. Жена сказала Жаркову:
— Хоть бы поели чего… — Ушла за шкаф, загремела посудой.
Жарков схватил на руки дочку. Полная, бледная, с жидкими волосиками на розовой макушке, она серьезно смотрела на Ковалева.
— Что, Ксюша, ручка ва-ва? — спросил Жарков.
Ксюша показала на Ковалева пальцем, произнесла что — то непонятное. Скосила глаза и сморщилась.
Жарков посадил Ксюшу на колени.
— Наливай.
Ковалеву стало муторно. Он сказал:
— Ты извини. Я пойду.
— Куда? — удивился Жарков. — Еще на два раза хватит.
Лена вышла из-за шкафа, поставила на стол тарелку с хлебом, еще одну — с нарезанным салом и третью — с солеными помидорами.
— Ребенка не урони, — сказала она.
— Ну, чего ж я!.. — ответил Жарков. — Не пьяный же.
— Сколько ей лет? — спросил Ковалев, чтобы не молчать.
Лена быстро взглянула на Ковалева, на мужа и сказала:
— Много.
Отняла ребенка у Жаркова.
— Много нам, да, Ксюша?
Потом пошла к дверям:
— Мы пойдем в коридор, погуляем…
Выпили еще. Ковалев пожевал безвкусное пресное сало.
— Эх, — вздохнул Жарков. — Надо бы добавить, да нечего… А?
— Угу, — согласился Ковалев.
— Эх! — еще горше вздохнул Жарков и уронил голову на руки.
— Ты чего?
— Сейчас, сейчас… — ответил Жарков.
Ковалев поднялся, взял пальто и шапку.
— Три года ей, — сказал Жарков, подняв голову.
— Кому? — не понял Ковалев.
— Ксюше…
Ковалев все не понимал.
— Три года. А она еще не говорит… — Глаза у Жаркова были совсем пьяные, и язык уже заплетался. Он снова уронил голову, а Ковалев выскочил за дверь.
На площадке черной лестницы по-прежнему курила Танька.
— Привет, — сказала она. — А где Жаркова забыл?
— Дома.
— А-а… Уже нажрался, поди? Ему много не надо.
— Ну.
Молча покурили, посидели. От окна дуло и Ковалев подложил под спину пальто.
— Выпить хочешь? — спросила вдруг Танька.
— Угу.
Танька слезла с подоконника и растворилась во тьме. Минуту спустя появилась, сунула в руку Ковалеву стакан. Ковалев нюхнул.
— Пей-пей. Это водка.
— Угу. Спасибо.
Ковалев выпил, оставил Таньке. Она проглотила ее как воду, поставила стакан на подоконник.
— А я тебя знаю. Ты на втором курсе учишься, да?
— Угу.
— Н-да… Разговорчивый ты, ничего не скажешь. У вас там, на втором, все такие?
Этажом выше внезапно зазвенела гитара. Противный мужской голос завыл:
— Не бради-ить, не мять в кустах багр-ря-аных лебеды и не искать следа-а-а, со снопом волос твоих овся-аных отоснилась ты мне навсегда!..
— Это Боба, — сказала Танька. — Знаешь Бобу?
— Нет. Он кто?
— Козел.
— А-а…
В голове уже пошумливало, плескались волны и мозги качало килевой качкой.
— Скучно с тобой, — сказала Танька. — Хоть бы анекдот, что ли, рассказал.
— Угу, — согласился Ковалев.
Сверху донеслись яростный мат и треск, будто рвали одежду. Потом — вопль и снова мат.
— Ишь… — начала было Танька, но не договорила: кто-то большой и тяжелый скатился по лестнице. Из тьмы показалась широкая бледная рожа со свернутым набок носом.
— Хто? — заорала рожа страшным голосом. — Хто тут??
— Это мы, Боба, — сказала Танька.
Боба бессмысленно покачался, подумал и вдруг с криком: «А чо ты, мальчик?!» — ринулся наверх.
— Свинья, — сказала Танька. — Вечно он вот так: первым выступит, а потом кричит, что зарежет.
Ковалев кивнул.
Танька вздохнула.
— Ну ладно. Пойду. Знаешь, где моя комната? В конце коридора налево. Так что заходи.
— Угу, — сказал Ковалев.
Когда она ушла, он прижался щекой к оконному стеклу. Отсюда открывался вид на темную дымящуюся помойку. Подслеповато светил одинокий фонарь. В общежитии напротив горели все окна. «Народу-то сколько, — подумал Ковалев. — И всем, наверное, тоскливо и тошно…».
Ему захотелось обнять весь мир, приласкать, успокоить. Но — руки коротки, подумал он.
Наверху Боба опять завыл про любовь. Ковалев сполз с подоконника и отправился гулять по общежитию.
В одной из комнат шибко кричал ставший вдруг очень модным Макаревич. Ковалев открыл дверь. В комнате было темно, на кроватях тесно-тесно сидели люди. Посреди комнаты моргал красным глазом магнитофон.
— Дураки какие-то, — громко сказал Ковалев, зная, что все равно никто не услышит. — Ну, чокнутые.
Он нащупал ближайшую голову, наклонившись, крикнул в ухо:
— Подвинься!
И втиснулся между невидимым слушателем и железной спинкой кровати.
— И я хотел идти куда попало! — гундосо кричал Макаревич. — Закрыть свой дом и не найти ключа! Но верил я — не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча!..
Глаза привыкли к темноте, стали видны лица слушателей с закрытыми глазами, направленные к магнитофону.
— Эх вы! — крикнул Ковалев в то же ухо. — Друг друга слушать надо, друг друга, понимаешь, а не Макаревича!
Он махнул рукой, поднялся и вышел. Прислонился к стене, глядя себе под ноги, на драный линолеумный пол. Ничего ему уже не хотелось. Только думалось, что все не так. Все вокруг не так.
Когда он поднял голову, перед ним стояла Березкина. Она смотрела прямо на него, один глаз слегка косил и кровь то приливала, то отливала от щек. Щеки были нежные-нежные, почти прозрачные, и прозрачные же волосы выбивались из-под вязаной шапочки.
— Тамарка?.. Ты откуда и куда? — спросил Ковалев.
— Я? Из библиотеки. Домой…
— А ты в какой комнате живешь?
— В четыреста второй.
— Хорошо. Можно к тебе в гости прийти?
— Можно, — сказала она и щеки запылали, и глаз стал косить еще больше.
Ковалев вздохнул, оторвался от стенки и побрел в конец коридора, где была умывалка. В умывалке перед зеркалом торчал прыщавый полуголый первокурсник и картинно пружинил мускулы.
«Эфиоп, — подумал Ковалев. — Леонид Жаботинский…» Он положил шапку на подоконник и сполоснул под краном лицо. Прыщавый покосился на него, повернулся к зеркалу спиной и стал выворачивать шею, разглядывая спину. Ковалев вынул платок и стал вытираться, и в этот момент в умывалку ввалился Боба.
Глаза у Бобы блуждали, половину лица разнесло, седоватые волосы стояли торчком. Возле Бобы суетился чернявый старшекурсник Марков.
— Эта хто? — спросил Боба и показал пальцем на прыщавого.
— Это? Это свой парень, хороший мужик, я его знаю, — скороговоркой отвечал Марков. — Во парень, первый сорт. Ты иди, иди давай отсюда, пока ещё живой, — ласково сказал он прыщавому.
Прыщавый даже не удивился. Обмотал полотенце вокруг пояса и пошел, расставляя руки, будто ему мешало их опустить изобилие мускулатуры.
— А эт-та? — вопросил Боба, указывая на Ковалева.
— И это отличный мужик, мы его тоже знаем, и он нас знает… Ты умойся, Боба, умойся, — легче станет.
Боба угрюмо склонился над раковиной, сунул голову в струю холодной воды.
— Вот так, вот так… Охладись маленько, — приговаривал Марков.
— Не-е, ты постой… — Боба хотел разогнуться и врезался затылком в кран.
Застонал.
— Ну чего ты дергаешься-то? — плачущим голосом закричал Марков. — Ну вот и кровь пошла! Ну заколебал уже, придурок ты чертов!
Марков стал плескать водой Бобе на затылок. Бобы рычал и отплевывался.
Наконец ему полегчало. Он отвалился от крана, постоял, разглядывая себя в зеркало.
— Вот же сука, а… Ну, я его еще встречу… Я его, гада, зарежу… Куда он, сука, денется…
Потом он вдруг развернулся к Ковалеву и сказал сорванным голосом:
— Ты меня не знаешь! Но ты меня скоро узнаешь!..
Марков попытался перехватить руку Бобы, но не успел: Боба заехал кулаком в окно. Со страшным звоном посыпалось стекло, захлопали в коридоре двери.
— Ну, Боба, говорил же я тебе… — с этими словами Марков исчез.
— Ну… вот же сука… — Боба в удивлении поглядел на окровавленный кулак.
В дверях показались встревоженные лица. Боба повернулся к ним и страшно прорычал:
— Идите вы все на х…, поняли?!
Лица пропали.
В разбитое окно сильно дуло. Ковалев отодвинулся.
— Ладно, — сказал Боба, опуская кулак. — Пошли.
И отправился из умывалки. Ковалев поплелся следом.
Они поднялись на пятый этаж, вошли в какую-то комнату. Здесь было дымно и шумно. Трое-четверо незнакомых Ковалеву людей повернули головы.
— Толян! — сказал Боба. — Обслужи.
Мрачный парень в разбитых очках сунул руку под кровать, достал бутылку.
— Самогонку пьешь?
— Угу, — сказал Ковалев.
Ему сунули в руку кружку, в другую — кусок хлеба. Ковалев выпил, занюхал.
Через некоторое время он сидел на кровати, а Толян обнимал его и говорил:
— Ты нас уважаешь?
— Вам нет альтернативы, — кивал Ковалев.
— Во! Умный. И откуда ты такой?
— Оттуда, — Ковалев показывал пальцем вниз. Толян тоже глядел вниз.
— Оттуда — это откуда?
— С того этажа.
— А… А мы — с этого. Выпьем?
— Угу.
Боба на другой кровати яростно спорил с кем-то, орал, что «на зоне таких пидаров на пинках носят». Хорохорился, понял Ковалев. Комната гудела, ее все больше заволакивало табачным дымом и сивушным чадом.
Внезапно в дверях появился Марков и закричал:
— Тихо! Гасим свет — проверка!
Свет погас и во тьме раздался рык Бобы:
— Да плевать мне на твою проверку, понял-нет?..
— Тише, Боба! Выгонят же мужиков! — крикнул Марков.
Толян снова стал «обслуживать». В темноте выпивать оказалось интереснее. Ковалев выпил, не видя кружки, закусил, не видя хлеба. Все мешалось в голове, в глазах плыли разноцветные пятна, путались, их никак не удавалось рассмотреть. «Где это я? — мучительно пытался припомнить Ковалев. — Темно. Люди какие-то черные… Может быть, я уже в аду?»
Потом он вспомнил, что должен куда-то идти. Стал вспоминать, куда — и не смог.
— А я сейчас буду петь! — громко объявил вдруг Боба. На него зашипели со всех сторон, но он заревел во всю глотку:
— Не бра-ади-ить, не мять в кустах багря-а-аных!..
И тут в комнату стали стучаться. На Бобу навалились, послышалась возня. Потом загорелся свет. Марков стоял у двери и пытался ее открыть. Замок никак не открывался. А из коридора слышались шум, беготня, доносились визгливые голоса активисток студсовета.
Толян лег на койку, задрав ботинки выше головы и заявил:
— А мне по хер. Я не местный, понял…
Боба держался за голову. А те двое, что были еще в комнате, куда-то исчезли. «Под кровать залезли», — подумал Ковалев. Он пошел к двери, дверь сразу же открылась, и он оказался нос к носу с разгневанной активисткой, — краснолицей, в очках, с кудряшками на голове, которые тряслись от злобы.
Активистка стала наскакивать на Ковалева:
— Вы кто такой? Вы почему здесь?
— Я — никто, — честно признался Ковалев, но от этих слов активистка почему-то взвилась еще пуще.
— Я тебе покажу «никто»! Я сейчас милицию вызову!
Она схватила Ковалева за руку. «Бешеная, что ли? Укусит ещё!» — Ковалев вырвался и побежал по коридору.
На площадке черной лестницы, окруженный зрителями, вприсядку плясал Жарков и выкрикивал:
— Вот как надо танцевать! Вот как! Так у нас на флоте танцевали!..
Ковалев пошел ниже. Здесь у окна стояли двое и страстно целовались, — слышалось чмоканье, похожее на чавканье. Наверное, они не целуются, а просто поедают друг друга, — подумал Ковалев мимолетом.
Ковалев спустился еще на этаж. Загораживая окно, здесь мрачно курила Танька.
Ковалев молча встал рядом и тоже закурил.
— Свинья он, твой Жарков, — сказала она.
— Разве?..
Она шумно выдохнула дым.
— И ты свинья.
— Согласен.
— Ну и вали.
— Сейчас… Только шапку найду.
Ковалев стал искать шапку.
— Вот черт… Куда она делась? Оставил где-то… То ли в умывалке, то ли у Бобы…
Танька молчала. Ковалев хотел было идти, но она вдруг сказала:
— Тебя тут искала ненормальная эта… Из четыреста второй.
— Березкина?
— Вот-вот.
— А почему она ненормальная?
— Так монашенка же, — объяснила Танька.
Ковалев бросил окурок в банку.
— Ну, пойду, раз искала…
Танька вдруг обняла Ковалева и стала целовать, — даже в голове зазвенело. В темноте сверху вниз мимо них зашуршал альпинист.
— Ползают тут всякие…
Танька схватила Ковалева за руку, потащила куда-то.
— Пойдем… У меня сейчас никого… Наши в ресторан упёрлись… А то тут альпинисты всякие да Бобы…
Ковалев не сопротивлялся. Вошли в комнату. Танька скомандовала: «Раздевайся!» — и тут же начала жарко обнимать Ковалева. Он послушно снял пальто, ботинки, начал стаскивать штаны. В дверь постучали.
— Танюха! Открывай!
— Вернулись! — испугалась Танька. — Давай одевайся быстрее!
Не дожидаясь, когда Ковалев застегнет все пуговицы, открыла дверь. В комнату ввалились две старшекурсницы.
— Привет!
— Привет, — отозвался Ковалев, завязывая шнурки. Завязал, разогнулся, посмотрел на Таньку и сказал:
— Что-то мне петь захотелось.
Махнул рукой и вышел.
* * *
В четыреста второй было по-домашнему уютно и чисто. Березкина сидела у стола и читала.
— А подруги где? — спросил Ковалев.
— Ушли… В кино.
Ковалев снял пальто, сел к столу.
— Чаю хочешь?
— Можно и чаю. Но лучше бы водки.
— Водки нет, — она залилась румянцем.
Ковалев посмотрел на стену: там висела картинка, изображавшая корабль в невероятно синем море под алыми парусами.
— Это ты рисовала? — удивился он. — Ну, ты даешь. А я-то думал, ты — грымза сушеная. Только и умеешь, что конспекты писать…
Она краснела и молчала.
— Эх, Тамарка, вредно ведь это.
— Что?
— Ну, алые паруса. Плохо тебе будет в жизни.
— Ну и пусть.
— Да это конечно…
— А тебе разве хорошо?
— И мне плохо. Нет, сейчас-то хорошо. Сейчас я пьяный уже. Это завтра плохо будет.
— Так ты из-за этого напился? Из-за того, что тебе плохо, да?
— Ну… А тебе разве хорошо? С алыми-то парусами?
Она промолчала.
— Не люблю я эти паруса, — сказал Ковалев. — Один вред от них. Девушки принцев ждут, для них себя берегут. И ошибаются, потому что принцев нету. Вот и топятся, и травятся…
— Да, — согласилась она. — Прошлой осенью Катя Кашкина, из четыреста одиннадцатой, снотворного напилась. Хотела с собой покончить.
— И что? — заинтересовался Ковалев.
— Ничего. «Скорую» вызвали, откачали… А знаешь, — вдруг сказала она, — у нас тут бутылка вина есть. У девочек. Хочешь?
— Они же тебя заругают.
— Нет, не заругают. Они хорошие… Они же специально в кино ушли…
Ковалев вытаращил глаза:
— Так ты их из-за меня отправила?.. Ну, Тамарка, ты даешь. Бедная ты, бедная…
Она покраснела до слез. А он обхватил голову руками, пытаясь протрезветь, но голова плыла и комната покачивалась.
Потом вздохнул и сказал:
— Ну, давай свою бутылку…
Она открыла холодильник, достала бутылку. Ковалев стал ковыряться с пробкой — руки плохо слушались.
Березкина поставила на стол фужеры, какие-то подвявшие салаты, уставшие ждать.
Ковалев наконец справился с пробкой, расковыряв её вилкой и просунув остатки внутрь с помощью той же вилки, только тупым концом вниз. Разлил вино, поднял полный фужер и выпил. Вино было холодным и терпким. «Пожалуй, сейчас надерётся, как свинья», — подумал он о себе как о постороннем.
— Ну и пусть, — сказал он вслух.
— Что — пусть?
— Я же пьяный, Тамарка.
— Да. Я вижу.
— Хм. И как зрелище?
— Ну, как… У меня отец тоже часто пьяный бывает.
— А-а… — Ковалев почем-то почувствовал досаду. — Ты, значит, привыкла уже.
— Нет, не привыкла.
— Нет?.. Ну, тем хуже. Значит, уже не привыкнешь. А жить тогда как?
— О чем ты говоришь? — робко спросила она.
— Привыкать надо, говорю. К примеру: отец алкоголик, и муж будет, значит, алкоголиком. И сын. И внук. И так оно и тянется. Сто лет одиночества. Среди пьяных похабных рыл…
Она посмотрела на него широко распахнутыми ясными глазами и вдруг из этих глаз горохом посыпались слезы. Ковалев даже испугался и прикусил язык. «Зря я так… Черт…».
Он сидел и ждал, а слезы все сыпались и сыпались. А потом Березкина вскочила и выбежала из комнаты.
— Ну вот тебе и здрасьте… — Ковалев выпил второй фужер и стал натягивать пальто. Руки никак не попадали в рукава и Ковалев ругался сквозь зубы.
— Сказать ничего нельзя… Что за жизнь, черт бы ее побрал… А все паруса эти алые…
Он с ненавистью посмотрел на картинку.
Пальто наконец наделось, он вышел в коридор и услышал музыку. Внизу, в столовой, начались танцы.
* * *
Ковалев закурил и отправился вниз.
Грохотала музыка, студенты кучками толклись в полутьме, толпились у входа. Появился Жарков и закричал Ковалеву:
— Привет! Ты чего в пальто?
— А я только в пальто танцевать умею, — ответил Ковалев. — Вот еще шапку надену…
Жарков ввинтился в толпу танцующих, в музыку, в перемигивание цветных огней.
Ковалев вспомнил про шапку и пошел искать на черную лестницу.
На черной лестнице все подоконники были заняты и Ковалев сел прямо на ступеньки. В голове стучало, он плохо понимал, что происходит вокруг. Где-то рядом, у него над головой, пели, кричали, смеялись. Вверх-вниз по лестнице, задевая Ковалева, ходили люди. Пахло грязной душевой, которая была в подвале, мокрыми мочалками и бельем. Ковалев закрыл глаза. Его слегка тошнило и покачивало, как лодку на волнах. А потом кто-то окликнул его, — голос прозвучал над самым ухом. Он открыл глаза, осмотрелся. И тут же, что-то внезапно вспомнив, устремился вверх по лестнице.
Пробежал по коридору, рывком открыл дверь. В комнате было шумно, кто-то взвизгнул, прикрываясь халатом. Ковалев увидел Березкину, подошел к ней — у нее выпала из рук книжка, она встала с кровати. Он упал на колени и стал целовать ее руки, пахнущие земляничным мылом.
— Ты меня прости, Березкина, а? Прости. Не обижайся, я не хотел тебя обидеть. Так, сболтнул лишнего. Пьяный же, а?
Руки у Березкиной были маленькие, нежные. Она вырвала их. Он встал на ноги и вышел в коридор. Поднялся на этаж выше. Ткнулся в дверь. На кровати, открыв рот, спал Толян. Ковалев отпихнул его, заглянул под кровать, нашел шапку, нахлобучил, и вышел.
* * *
Потом он оказался на улице. Он сел прямо в снег, повесив голову, в которой со звоном метался какой-то зверек и что-то опрокидывалось, лопалось и вспыхивало. Ковалев вытирал снегом лицо, но это не помогало, он попытался заплакать, но и этого сделать не смог.
Рядом вдруг оказалась Березкина в своем стареньком пальто. Она тянула его за руку, уговаривала:
— Пойдем, пойдем. Замерзнешь же!
Он отмахивался и бормотал:
— Уйди пожалуйста, Тамарка. Не надо мне тебя, и никого не надо во всем этом мире, и ее не надо, и любви не надо, и счастья не надо. Потому, что нету их — ни счастья, ни любви.
Она снова тянула, он упирался и едва не падал набок.
В какой-то момент он очнулся и увидел и снег и фонари, и облупленный угол здания общаги, и перепуганное бледное лицо Березкиной. Тогда он вырвал руку и твердым трезвым голосом сказал:
— Я пойду. Не беспокойся. Завтра увидимся.
Она отпустила его и он твердыми шагами устремился к остановке. Метров через сто оглянулся: Березкина стояла под фонарем и махала рукой. Он тоже махнул и подумал: «Хоть бы ты ушла поскорее, что ли!»
* * *
Он вышел на дорогу и стал ловить машину. Две или три машины увильнули от его растопыренных рук, взвизгнув колесами.
Потом он долго ехал в темной теплой машине. Задремал. Водитель его растолкал. Ковалев вытащил мятые рубли, горсть мелочи — все, что у него было, — и вылез.
Серые дома с мертвыми окнами окружали его. «Где это я?» — с тоской подумал он. Постоял, размышляя. А когда поднял голову — понял. Вот ее дом, Ирки Алексеевой. Вон ее темные окна. Ничего ему уже не надо, окончательно понял он. И некуда больше идти. И, главное, незачем.
Он зашел в подъезд — не Иркин, другой, соседний, — сел на ступеньки и задремал.
Очнулся, поглядел на часы — четыре утра. Голова была ясной, и мысли тоже ясные: «Стыдно мне. Стыдно и больно жить».
Он представил себе, как мать проснулась сейчас (она часто просыпалась под утро, включала приемник и слушала «Маяк», слушала, пока не наступал рассвет, пока не оживал мир за окном и голос приемника уже становился не нужным. Она говорила: услышу, как первый трамвай простучал, — и успокоюсь. Значит, еще одна ночь пережита). Вышла из спальни, увидела, что его все еще нет. Переваливаясь с ноги на ногу, что-то бормоча себе под нос, сходила в туалет. Охая, зевая, снова легла. Включила радио. «Маяк» на средних волнах слышно хорошо, но как будто издалека. И старший научный сотрудник Гидрометцентра СССР Михаил Аркадьевич Мастерских начал рассказывать о погоде.
* * *
Ковалев подошел к радиатору, прижался к нему спиной. Сунул руки в карманы пальто. В кармане лежало что-то длинное, твердое — он вытащил, посмотрел. Это был большой ржавый гвоздь, тот самый, которым он выцарапал на стене про любовь, что сильнее смерти.
«Глупо как все, безнадежно глупо, — подумал он. — Безумно глупо. Скорее бы это кончилось…»
Он вытащил руку из рукава пальто, закатал пиджак и рубашку. Сжал кулак, — синие вены набрякли на сгибе.
«Надо бы побыстрее, пока люди не проснулись», — подумал он. Приставил гвоздь острием к синему набухшему жгуту вены и нажал. И еще раз — сильнее.
Было совсем не больно.
4. Вспоминай о судьбе моей, потому, что она и твоя: мне — вчера, а тебе — сегодня…
Под окном с горки на своей нелепой коляске катался инвалид. Между темными домами гулко отдавался скрип коляски и надтреснутый, егозливый голос:
— Все могут короли, все могут короли!.. И судьбы всей земли вершат они порой!..
Человек не понимал смысла этих слов и выкрикивал их просто от избытка чувств.
— Ненормальный, наверное. Психованный, — сказала она, поглядев в синее окно. — Их тут таких, психованных, много.
— А ты — нормальная? — спросил он.
Она подумала и пожала плечами.
— …Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король!..
— Нет, ты — нормальная, — проговорил он. — Ты не умственно, ты сердечно отсталая. А я — я просто ненормальный.
Она заплакала.
Пение за окном оборвалось: коляска опрокинулась, налетев на бордюр. Инвалид беспомощно тянул к ней руки из сугроба.
— Ну, конечно, а ты сердечно развитый, — сказала она. — И с тобой нам, отсталым, очень легко.
Инвалид дотянулся до коляски.
— Трудно, — согласился он, не отрывая взгляда от темной фигуры на синем снегу.
А потом он оказался на улице, на синей дороге. Ему навстречу шла старушка с плетеной котомкой в руках.
— Баба Аня? Разве ты не умерла?
— Мы не умираем, внучек. Мы просто переезжаем в другое место. Мы здесь остаемся, рядом. Мир-то всё тот же, только мы — уже другие.
— Я к тебе в гости приду. Можно?
— Можно. Только рано-то не приходи. Зачем тебе? Вот состаришься, тогда и приходи.
Ковалев пошел дальше по синей снежной дороге. Он сел в пустой темный автобус, который помчался по снежному полю. Остановился возле покосившихся, заметенных до крыш домишек. Ковалев увидел старика с рюкзаком за плечами — лицо у него было совсем белым, а руки — темными-темными. Старик вошел в салон, сел. От него пахло нехорошо, как от мертвого.
Потом деревни стали попадаться чаще, в каждой из них автобус делал остановку и подбирал пассажиров. Среди них были старики и старухи, но молодых было больше. Парень с залитым кровью лицом, с выпученными глазами. Женщина в телогрейке, с мертвым ребенком на руках. Школьница-первоклашка с букетом черных засохших цветов. Жених и невеста в обгоревшей одежде.
Когда подъехали к городу, автобус был уже полон, но на первой же городской остановке в автобус полезла целая толпа — молча, сосредоточенно. Лезли убитые, умершие в больницах — голые, в пижамах, — и задохнувшиеся в дыму, и погибшие под колесами.
Все влезли, все уместились. И автобус помчался дальше. И останавливался часто-часто. И снова входили в салон мертвые.
Потом автобус остановился и заглох; все стали выходить. Мертвые выходили из автобуса и сразу же исчезали. Ковалев двинулся следом, и оказался перед неприметной дверью, почему-то обитой войлоком. Он вошел и очутился в коридоре, заставленном обувью, заваленном одеждой — будто множество гостей пришло на вечеринку. Ковалев снял пальто, бросил в общую кучу, прошел по коридору и увидел огромную дымную комнату, в которой за столами сидели люди.
Он узнавал этих людей. Все они умерли. Некоторых он знал лишь по фотографиям, с другими был знаком, встречался где-то.
— Садись, — сказали ему.
Он сел на краешек длинной скамьи, за стол, накрытый белой скатертью.
* * *
И вдруг он увидел человека, которого он хотел видеть больше всех на свете, и человек этот поднялся из-за стола и пошел в дальний конец комнаты. «Отец!» — хотел крикнуть Ковалев, но не смог, и вскочил, и побежал за ним. Сидевшие за столами отодвигались, пропуская его; он увидел вход в темную комнату, вбежал — и остановился. В полутьме стояли ряды железных кроватей, на которых лежали люди, покрытые драными казенными простынями. Ковалев успел заметить: тот, кого он искал, быстро подошел к одной из кроватей, лег, натянул на голову простыню — и потерялся, исчез. Ковалев подбежал к одной кровати, сдернул простынь — на него строго глянула старуха в белом платочке. Она выпростала из-под простыни сухонькую руку и погрозила пальцем.
— Ты чего, бабушка? — одними губами спросил Ковалев.
— А ты чего? Грех ведь! — старушка подмигнула ему и захихикала.
Ковалев вскрикнул, отшатнулся, подбежал к другой кровати — из-под белого высунулась темная рука и поманила его. Он нагнулся — рука тут же впилась ему в горло.
— Отпусти! — прохрипел Ковалев.
— Ляжешь на мое место, — тогда отпущу, — ответил лежащий.
Простыня слетела и Ковалев увидел почерневшее, раздувшееся лицо с вывалившимся языком.
Ковалев стал отрывать руку от горла. Рука была холодной, как лед. И даже холоднее.
— Лягу, отпусти…
И тут же оказался в кровати, а кто-то с раздувшимся, как мяч, лицом, захохотал над ним.
«Обманули… И тут обманывают…» — подумал Ковалев, чувствуя, что уже не в силах пошевелиться, придавленный простыней, как надгробной плитой.
В комнату вошли санитары и стали выкатывать кровати. С лязгом открывалась и закрывалась железная дверь, показывались на миг черное небо и неистово метавшаяся снежная вьюга. Вот в комнате уже никого не осталось и санитары взялись за кровать Ковалева. Заскрипели колесики, но тут кто-то сказал:
— Стоп. Этот, кажется, ещё живой…
Кровать со скрипом откатилась к стене, стало темно и тихо, и Ковалев увидел себя как бы со стороны: его тело бьется, вытягивается, выгибается, силясь сбросить с себя простыню, а простыня постепенно окрашивается кровью, намокает и становится все тяжелей, все неподъемнее…
* * *
— Парень! Эй, слышь? Как тебя… Это что тут у тебя, а? — настойчивый испуганный голос, настырные толчки дотянулись, пробились к Ковалеву сквозь немоту и тьму, и Ковалев стал выплывать, возвращаться к себе, в свое измученное больное тело.
Обыкновенный подъезд. Совсем чужой. Лестница с грязными ступеньками. Шершавая стена, истыканная окурками, с дурацкой надписью шариковой ручкой: «Мне нужен труп — я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас».
Над ним стоял человек в очках, с седой щетиной на щеках, с бугристым носом в красных прожилках.
— Что? — переспросил Ковалев.
— Кровь-то, говорю, откуда? Твоя, что ли? — человек склонялся ниже, показывал рукой.
Ковалев тоже глянул, увидел темные пятна у себя под ногами.
— Ну, видишь? Сидит, понимаешь, а тут же кровь… Люди же ходят, а никто ничего… С тебя ведь кровь-то, говорю, а?
— С меня.
— Порезался, что ли? А? Или, может, ножом какой гад? А?
— Нет… Сам.
— Сам? Как это — сам? Вот же несчастье, господи боже мой!
— Подождите, не трясите меня, — попросил Ковалев. Он посмотрел на свои руки, потрогал набрякший, тяжелый рукав пальто. Всюду кровь, кровь, кровь… Сверху она уже свернулась, порыжела, и сочилась капля за каплей откуда-то из рукава.
— Э, парень, парень… — вдруг испугался мужчина. — Ты погоди, раз так… Это еще что такое? Ты сам, что ли?.. Ну погоди, погоди… Ты не уходи только, ладно? Ты посиди тут. Я, значит, это, мухой… Вот горе-то, телефонов в доме нет, новый дом-то, не провели еще телефоны…
Он сбежал вниз по лестнице. Бухнула дверь, на мгновение впустив в подъезд дневной свет.
«Разве уже день? — удивился Ковалев. — Чепуха какая-то. Это ж сколько времени я здесь просидел?»
Он попробовал вытащить из рукава руку — стало больно.
— Что же это такое?.. — вслух с тоской спросил он, беспомощно оглядываясь вокруг. Увидел гвоздь, увидел кровь и почувствовал, что не хочет, не может сюда возвращаться.
Он попробовал встать. Ноги затекли, голова кружилась, но все же он выпрямился, прижимаясь к стене. «Эх, покурить бы…»
Снова хлопнула дверь, появился знакомый мужик и сказал, переведя дух:
— Это… Я «скорую» вызвал. А?
— Зря, — сказал Ковалев.
— Не, не зря… Ты как, нормально, да?
— Нормально. Спасибо. Пойду я…
— Э, нет уж, брат. «Пойду»… Ты уж погоди теперь. Они обещали быстро… Подъедут — а ты где? Тебе, может, лечение требуется.
— Ничего мне не требуется… А, стой. Закурить есть?
— Не курю. Третий год не курю — бросил, — радостно сообщил он. — Жена запилила, да и врачи… Вот и не курю.
Ковалев вздохнул и начал медленно спускаться по ступенькам.
— Ты куда? — насторожился мужчина.
— На улицу. Воздухом подышу…
Он вышел — и сейчас же зажмурился от яркого солнца. Нестерпимо сияло солнце и нестерпимо блестел снег, и ослепительным было прозрачное синее небо. Возле подъезда с криком суетились воробьи.
Ковалев сел на скамейку. Голова кружилась, а казалось, будто кружится, искрясь, снег, и темные ветви деревьев ходили над ним хороводом.
Ему вдруг стало хорошо и спокойно. Он вспомнил, что здесь, рядом, в соседнем подъезде живет Ирина, которую он любил, и перед которой будет теперь виноват вечно. И это хорошо: лучше жить с ощущением вины, чем с желанием судить и наказывать. А она — добрая. Она уже все ему простила.
И мир вокруг — он тоже добрый. Ведь мир живой.
А почему он живой — этот мир? Вот эти деревья? Этот дом? Скамейка? Она ведь тоже живая.
Все, что уходит, все, что стареет, что со временем истирается, исчезает — все это живое. Вещи вокруг человека — живые. И вещи любят его, человека, любят, — и поэтому умирают.
* * *
Потом он подумал: все, что тратит себя — все живет. Я трачу себя — значит, я существую. Наша гибель — внутри нас. Не вне нас, — а внутри, внутри. Мы живы, пока умираем.
А мертвый мир, подумал он после — он какой?
Почудилось, как из-под скамейки появляются, вытаивая из снега, темные скрюченные фигуры, чьи-то руки. Темные, беззащитные, ушедшие люди. И голоса их почудились:
— Нет нас. Нет уже нас.
Они не кричали — пели тонкими детскими голосами:
— Здесь мы, здесь мы!..
И совсем уже тихо:
— Забыли нас, забыли нас…
Ковалев сидел молча, слушал. Голова кружилась, сердце билось едва-едва, боли не было, но радость от солнца, от неба, от снега стала таять, улетучиваться.
Заскрипел снег под колесами — во двор въезжала «скорая». Молодой парень в мятом халате — фельдшер, а может, медбрат из студентов — выскочил из кабины.
— Здравствуйте, — сказал Ковалев.
— Здравствуйте… Кто «скорую» вызывал?
— Я вызывал.
— Вы?.. — фельдшер замялся, покосился по сторонам. — А больной кто?
— Ну, говорю же — я.
Фельдшер опять покосился, — видно, никак не хотел поверить.
Ковалев поднялся со скамейки и показал на рукав. Кровь подсохла, рукав схватился коркой. Фельдшер кивнул.
— Сюда, — сказал он, подсаживая Ковалева в машину.
— Поедем куда-то? — спросил Ковалев.
— Поедем… — фельдшер сел к водителю, отодвинул матовое стекло, заглянул в салон, к Ковалеву:
— Ну как, нормально? Ну, в травмпункт прокатимся, значит.
Мчались по микрорайону. Выехали на проспект и погнали по разделительной полосе. Водитель раз или два включал сирену, распугивая с дороги легковушки.
— Вот как вы меня… Как генерала, — сказал Ковалев в окошко.
Фельдшер не ответил.
Ковалев стал смотреть в окно. День был ослепительным, редким для ноября, и Ковалев с трудом узнавал знакомые улицы и дома.
Перед одним из светофоров остановились, и фельдшер обернулся, спросил:
— Ну, и зачем вы это сделали, а?
Ковалев вздохнул. Он не знал ответа.
Водитель — пожилой, в шапке набекрень, — сказал:
— Студент, поди?
— Студент, — подтвердил Ковалев.
— Эх, не тому вас, видно, учат!.. — вздохнул водитель. — Ведь жизнь-то такая хорошая!..
Ковалев готов был согласиться, но сквозь туман в голове рассмотрел вытаявшую из-под снега и льда беззащитную детскую руку, расслышал тонкий голос: «Нет нас! Нет нас!.. Здесь мы, здесь мы!.. Забыли нас, забыли нас!..» — и промолчал.
Проехали через весь город, к новой горбольнице, с корпусами, соединенными стеклянными переходами.
Фельдшер взял Ковалева под руку, провел через пустой вестибюль, в белой комнате усадил на стул. Появилась медсестра, сказала:
— Раздевайтесь.
— Совсем? — спросил Ковалев.
— Ну, где у вас рана-то? Вот до нее и раздевайтесь.
Ковалев покряхтел, сдирая с себя пальто и пиджак, рукав рубашки, ломавшийся под пальцами, закатал повыше. Сестра посмотрела, покачала головой, намазала руку мазью, забинтовала.
Потом пришел врач в очках и мятой шапочке, стал выспрашивать. Он тоже качал головой, потом ушел за ширму и оттуда послышались голоса вполголоса. Ковалев расслышал только одну фразу: «По глупости гвоздем не бывает». Потом хлопнула дверь, стало тихо, только где-то вдали негромко бубнило радио.
Ковалев вышел из-за ширмы. Врач сидел за столом, писал. Медсестра красила губы.
— Мне можно идти? — спросил Ковалев.
— А? — врач поднял голову. — Нет-нет, подождите… Сейчас за вами приедут.
Ковалев пожал плечами, попросил закурить — врач не курил.
— Я на улицу выйду — стрельну, — сказал Ковалев.
Врач кивнул.
На улице было по-прежнему солнечно, весь мир светился, горел каким-то прямо невозможным огнем. Ковалев дошел до больничной ограды, попросил закурить у прохожего. Закурил.
Сзади хлопнула дверь: с порога на Ковалева подозрительно посмотрела медсестра и тут же упорхнула обратно, только вспыхнул розовый халатик.
Когда Ковалев вернулся, сестра сказала:
— Вам полежать бы надо. Вон, на кушетке.
Ковалев лег на оранжевую резину, закрыл глаза, в голове зазвенело противно и тонко, и все закачалось, поплыло, и он стал падать в пугающую тошнотворную бездну, а из бездны тянулись к нему иссохшие руки и плакали, жалуясь, тонкие голоса: «Здесь мы! Здесь мы! Забыли нас, забыли нас!..»
* * *
Потом, сквозь сон — зеленый «уазик» с красным крестом, и двое здоровенных, в халатах, и скрип тормозов.
Мало мог разглядеть Ковалев, а еще меньше — понять.
Белая дорога. Сосны. Одноэтажные домишки.
Железные ворота. Красная кирпичная стена — старинная, толстенная, будто пропитанная кровью. Дверь из пластика. Грохочут замки. Снова дверь. Ковер на полу. Плакат на стене: буквы знакомые, а слов не понять.
Коридор. Стол. Грязная старуха отбирает вещи, одну за другой — пальто, пиджак, брюки. Ничего не осталось?
Огромная ванна. Господи, какая же грязная. Кафельный пол. Холодный, как лед, под которым бьются голоса мертвых.
Старуха возвращает вещи. Мордастый санитар тащит куда-то. А! Здесь опять записывают.
Имя-отчество-фамилия-год-рождения-родственники-страдающие-психическими-заболеваниями. Есть такие? А как же, думает Ковалев, конечно, есть! Вся родня такая. Феврали. Потому, что у них не хватает. Но отвечает: нет, конечно, нет. Он видит типографский бланк, на котором вверху напечатано: «Дата поступления», «Диагноз», «Лечение». А внизу: «Дата смерти», «Причины», «Окончательный диагноз».
И опять коридор. Двери на замках. Какие-то люди с длинными головами, с одутловатыми лицами, с отсутствующими взглядами стоят у стен, бродят кругами. Одни улыбаются, другие бормочут что-то.
Снова двери. И коридор. Снова толкутся вокруг длинноголовые в пижамах, с мертвыми глазами, стриженные «под ноль». Бормочут, просят что-то у себя самих.
Снова двери… Господи, сколько же их! Всюду двери с замками, ковровые дорожки, фикусы в бочках, стриженые головы, пустые глаза, деревянные лица. Один из длинноголовых побежал на Ковалева — скривил губы, что-то вот-вот скажет. Нет. Те, что идут за Ковалевым, начеку. Хватают, отводят в сторону.
В какой-то момент Ковалев вдруг осознает, что это вовсе не больница — это что-то совсем другое. Он хочет остановиться, подумать, рассмотреть, понять — что же это? Но его тычут в спину, берут под локти и снова ведут по коридорам, открывая и запирая за собой замки.
* * *
Мерещится Ковалеву: это — ад. Нет, преддверие ада, чистилище. Здесь его взвесят, оценят, отсортируют. Здесь станет ясно, что и сколько он сделал плохого, кого обидел, кому не простил. Все эти сведения будут занесены в дело, и — с папкой подмышкой — вперед, в геенну, в пламень вечный, в серный чад.
Наконец, пришли. Медсестра не смотрит на Ковалева — осматривает повязку, намокшую там, в ванне. Что-то спрашивает и записывает. Сыплет в ладонь горсть разноцветных таблеток, сует под нос пластмассовый стаканчик с чем-то вязким, полусладким, бесцветным — кисель, что ли? — и заставляет все это проглотить.
И вот еще одна дверь. За ней — комнатка. Кровати. Шкаф. Вещи можно сюда. Пальто и шапку. Зачем? А на прогулки ходить как же?
Спиной к Ковалеву сидит на кровати огромный мужчина. К отопительной трубе привязаны нити, он что-то вяжет, сплетает из них. Спокойный — не повернулся даже.
Другой лежит, глядит в потолок, зевает.
Тусклый — сквозь лед на стекле — свет. Закат. Кровавый свет. Солнце остается там, за толстыми стенами, за глухими заборами, за тысячью одинаковых крепких дверей на запорах.
Ковалев стаскивает с себя пиджак (как во сне), ботинки (как во сне, как во сне. Проснется сейчас — и нет ничего, только тьма и сплетение мертвых рук, и запоет вместе со всеми: «Нету нас, нету нас… Здесь мы, здесь мы… Оставили нас, забыли нас…»). Ложится.
И тут же всё завертелось, с ветром и воем, с метелью и солнцем, с перевернутым небом и черным песком, и кануло в глухую вечную тьму.
* * *
— Забыли нас, забыли нас… — бормочет Ковалев. Напротив него за столом, заставленным домиками и теремами из спичек — молодой, симпатичный, в чистейшем халате.
— Что вы сказали? — ласково спрашивает он.
Ковалев на мгновение просыпается, смотрит вокруг, и мысленно машет рукой: нет, он не в силах понять, что происходит, он не может понять этот мир.
— Как себя чувствуете? — спрашивает тот, симпатичный.
— Я устал, — говорит Ковалев. — Ничего не понимаю…
— Это пройдет, — сочувственно говорит симпатичный. — Мы вам поможем. Мы ведь хотим вам помочь.
— А… Да, я знаю. Вы добрый. Это та, с волосатыми руками, не пускала меня к телефону вчера. Отругала меня.
— К сожалению, у нас такие правила. Пациенты к телефону не допускаются. А кому вы хотели позвонить? Если, конечно, это не секрет.
Ковалев смотрит на него непонимающе. Разыгрывает он его, что ли?
— Соседке, — наконец говорит он. — Должна же моя мать узнать, что со мной все в порядке.
— Не беспокойтесь. Она уже знает.
— Да?.. Спасибо.
— У вас есть просьбы?
— Да. Закурить бы…
— Ну, я скажу. Не волнуйтесь, вам принесут.
Ковалев повторяет свое «спасибо» несколько раз, выходит из светлого большого кабинета. С сожалением выходит: в кабинете так тихо, хорошо, спокойно.
Дальше по коридору — просторный холл. Цветы в кадках и по стенам. Аквариум. Пианино. Цветной телевизор. Газеты на столике — старые, правда, месячной давности.
За пианино сидит тот, темноволосый, очкастый. Он хорошо играет, но очень уж страшно. Он вчера в курилке сказал Ковалеву, что прячется здесь от суда. Еще бы, говорит, месяца два здесь прокантоваться. Иначе — в камеру. Он убийца. Он девушку убил. И теперь здесь вот косит по шизе.
Ах, как она кричала. Он душил ее, душил, вот этими самыми пальцами — длинными, музыкальными. Ах, как она сладко, призывно кричала! А он давил коленом ей на живот. Сладкая девушка. Распущенными волосами. Светлыми, да. Щекотала. Лицо.
Надо было подняться с корточек, вцепиться ему в горло и пальцами — длинными, музыкальными — задушить его самого, задушить. И коснуться своими волосами его омертвевшей кожи. Но не было сил. Голову клонили вниз шестиразовые порции таблеток, от которых тело делалось ватным, а мозги — как выкрученное белье.
* * *
И вот теперь этот пианист — живой, не придушенный — играет на пианино какие-то обрывки, что-то нескладное и страшное.
А богатырь в палате все плетет и плетет свою бесконечную сеть. Обернется изредка, глянет по-совиному:
— Врач велел. Такое лечение. Успокаивает.
И опять прядет, ткет — паук пауком.
Другой все лежит. Книжку возьмет (Ковалев ее уже прочитал — дурацкая история уголовника, который «встал на путь», выучился, сделался академиком), полистает, зевнет и бросит. Книжку ему дочка принесла. Он так говорит.
По вечерам он раскладывает прямо на постели многочисленные гостинцы и ест. Борщ в литровой банке, со сметаной. Пирожки домашние, с ливером. С капустой. С луком и яйцами.
Отрыгнет, в зубах поковыряет — и опять ест. Чавкает. Потом пьет компот. Отдувается, отрыгивает, запускает пальцы в рот и выковыривает застрявшую капусту. Ложится и — глаза в потолок.
В палате есть еще один. Он совсем психованный. Ночью сядет на постели и плачет, скулит, как собака. В первый день Ковалев с ним разговорился. Психованный был грамотным, складно толковал про политику. А потом у него в голове вдруг что — то щелкнуло и он, как ребенок скривив губы, залепетал:
— Нам надо с Индией объединяться! Я Брежневу писал, Гречке писал! В Китае — миллиард. А у нас с Индией — тоже почти миллиард. И вот бы тогда мы им показали. Понимаешь ты, нет? Понимаешь? — и он, отвесив мокрую губу, вытаращив глаза, стал трясти Ковалева за лацканы пиджака.
— Понимаю, да понимаю я, хватит! — сказал Ковалев. Голова его моталась взад-вперед, но не это его волновало. Индия его волновала, волновало это гениальное прозрение безумца.
Но договорить им не дали. В палату вбежали белые халаты, навалились на психованного, оторвали от Ковалева и, рыдающего, увели. Спустя полчаса он, прежний, бродил по коридору, от стены к стене и бормотал что-то себе под нос — быстро, с жаром, очень важное.
* * *
Однажды, когда все больные ушли вниз, в подвал, на трудотерапию, а Ковалев расположился в холле с журналом в руках, перед ним остановилась медсестра.
— Почему не на работе?
— Рука болит, — сказал Ковалев и привычно оттянул рукав, показывая повязку.
Она промолчала. Работа внизу была такая: клеить коробочки для лекарств. Если захочешь кого-нибудь свести с ума — заставь его клеить коробочки. Верный способ. Поверьте на слово.
Но сестра нашла-таки ему работу — помогать на кухне дежурным мыть посуду. Полоскать миски и кружки. Полоскать, мол, и одной рукой можно.
И теперь трижды в день, по часу-полтора в низкой сырой келье со стенами, покрытыми слизью, Ковалев полоскал в ванне грязные миски. Никто не мешал. Можно было отключиться и подумать о тех, кто корчился под каменным полом — о тех самых, не узнанных, преданных живыми.
— Здесь мы, здесь мы. Забыли нас, забыли нас!..
Тряс головой. Голоса пропадали под плеск вонючей воды.
* * *
Сигареты ему принес мужчина в чистой новой пижаме. Взял деньги и вскоре принес. Он же сопровождал тех, кому надо было идти на процедуры в другие корпуса больницы. Ковалева он водил к психологу.
Психологом была симпатичная девушка с распущенными волосами. На вопросы она не отвечала. Ковалев смотрел на нее и думал, что она — та самая задушенная, о которой рассказывал пианист.
Она давала Ковалеву листы с бесчисленными вопросами. Ковалев добросовестно отвечал на них. Только жаловался, что мозги не те, память отшибло, голова кружится. Задушенная молчала. Ей было все равно.
Вопросы были разные, но чаще — глупые. Иногда — хитрые, с двойным дном.
Ковалеву нравились другие тесты. Например, психолог просила его объяснить пословицу «шила в мешке не утаишь». Отвечать надо было письменно, но места на бланке отводилось мало, и Ковалев дополнял устно:
— Шила в мешке не утаишь — значит, тайну не спрячешь. Темные дела вылезут наружу, как шило. Острием вперед.
Психолог поднимала на него зеленые глаза, смотрела непонимающе.
— Ну, например, — охотно пояснял Ковалев. — Лечат здорового и думают, что никто ничего не узнает. А все равно ведь узнают, верно?
Психолог хлопала перламутровыми веками и молчала. Ковалев знал, что она — не настоящий психолог. Училась в пединституте или в универе на филфаке. А сюда устроилась по блату. После каких-нибудь двухмесячных курсов. Не в школе же ей простой учительницей мытариться, правда?
— Конечно, можно сделать вид, будто ничего не происходит такого, — объяснял ей Ковалев. — Спрятать шило в мешок. Вот вам, например, как психологу, за эти мешки и платят. И работа вредная. И платят, наверное, хорошо. Правда же? Вредно же — шила утаивать. Пальцы исколоть можно.
Обхватив голову руками, он старался говорить медленно и доходчиво, но мысли путались и сбивались, и уже спустя минуту он не мог вспомнить, о чем говорил. Переживал, что не может все объяснить как надо.
* * *
В курилке к Ковалеву подошел деревенского вида парень.
— Я тебя знаю, — сказал он.
— Хорошо, — кивнул Ковалев. — А откуда?
— А ты в ансамбле играл. На гитаре. Да?
— Нет. Не играл. Ну, разве только по пьяне.
— Врешь, — задумчиво сказал парень и отошел.
Тут все всегда врали.
Ковалев поглядел на себя в зеркало, что висело в коридоре. У него отросла борода, волосы доставали плечи. «Ну, натуральный хиппи. Точно, на Джона Леннона стал похож».
Снова вызывал доктор. Сидел среди кукольных теремов из спичек и ласково улыбался. Ковалев в такой обстановке терял бдительность.
— Как наши дела? — целебным голосом спрашивал доктор.
— Худо, — ответствовал Ковалев. — Шизеть начинаю. Кормят парашей. Ложки грязные полоскать надоело…
— Гм-да… — кивал доктор. — Вы, как я слышал, стихи пишете?
«Это откуда он слышал? — удивлялся Ковалев. — С мамочкой, что ли, пообщался?».
— Угу. Писал. В далекой юности.
— Может быть, прочтете что-нибудь?
Ковалев с готовностью соглашался и читал заунывным голосом стихи про покойников, могилы и разбитое сердце.
В кабинет неслышно вполз другой врач — с бородкой, в очках, припадающий на одну ногу. Подсел к первому и заслушался.
— «За рекой собака воет — будет, знать, покойник. С похмелюги тычусь молча мордой в подоконник»…
Тот, с бородкой, глядел бирюком.
— И давно пьете? — спрашивал отрывисто.
— Давно… Лет в двенадцать, помнится, в первый раз нарезался. Дома. Когда гости ушли, а на столах недопитое оставили.
— Гм-гм… И часто?
— Да не то чтобы… Но бывает.
— Гм-гм… — мычал очкастый. — Ну, а учеба вам нравится?
— Да ну ее, — махал рукой Ковалев.
— Ну, а с преподавателями как отношения? С сокурсниками? — не отставал доктор, посверкивая очками.
— Нормальные, чего там…
— Не обижают вас, нет?.. — Голос доктора становился предательски вкрадчивым.
— Это как?
— Ну, не знаю. Козни, может, какие-нибудь строят за спиной, смеются вслед…
«Ну, ты даешь, кувшиное рыло, — не к месту подумал Ковалев. — Вот как они тут, черти, диагнозы ставят!».
— Насчет козней не знаю. Но на первом курсе одному в ухо заехал. Ну, и он мне, конечно…
Доктора переглядывались.
— А бывает так, — делал очкастый последний заход, — что вот вдруг ярость охватит, злоба, и кого-нибудь стукнуть хочется?
— А как же, — соглашался Ковалев, начиная злиться. — Иногда прямо убить охота!
— Кого же? — оживлялся доктор.
— Да хоть вас, например, — ответил Ковалев, глядя в потолок.
Хромоногий торжествующе глянул на коллегу, сказал победно: «Вот!» — и вышел.
Ковалев с облегчением перевел дух.
Доктор сочувственно посмотрел на него, покопался в бумагах на столе.
— Ну, ладно. Тут к вам на свидание особа одна просится… Не знаю даже, как ей и ответить.
Ковалев молчал, ждал.
— Как вы на это смотрите? — доктору мешало что-то, он мялся, недоговаривал, и вроде что-то другое было у него на уме.
— Ну, как смотрю… Разрешите — спасибо, нет — тоже ладно.
— Гм!.. — доктор опять покопался в бумагах. — Хорошо. Я, правда, уже разрешил…
«Во! Вот это человек! Не то что тот, хромой…» — думал Ковалев, выходя из кабинета.
* * *
Когда уже смеркалось, перед ужином, Ковалева позвали. Он надел пальто, сестра провела его к выходу через несколько дверей. Выпустила на улицу, сказав:
— Запущу, когда позвонишь, — и показала на кнопку звонка у двери.
Ковалев увидел Ирку. Она стояла на дорожке, боком к нему, черная на фоне красной, залитой закатным светом, стены. Глядела искоса.
Он удивился. Надо же, нашла. Как обещала…
Она все стояла, ждала; может быть, думала, что он кинется к ней навстречу, или скажет что-то, или заплачет, на худой конец, — мало ли, псих же. Но он молчал, оглядывал маленький дворик, со всех сторон окруженный высокой — до неба — красной кирпичной стеной. Деревья, кусты в снегу, дорожка к железным воротам.
— Ну, здравствуй, — сказала она наконец.
— Здравствуй, Ира.
И опять замолчали. Она ждала чего-то, а он глядел вокруг, топтался на крылечке, вдыхая свежий воздух.
— Что с тобой? — спросила она.
— А?.. — он посмотрел на нее внимательней. — Ты все такая же. Красивая. Знаешь, я никогда тебя не забуду. Никогда.
— Я же тебя просила, — вздохнула она. — Подождать просила. А ты?
Ковалеву было стыдно. Он знал, что поступил подло и глупо, но он не хотел об этом думать, он устал.
Она заплакала. Он подошел к ней, погладил по мокрой щеке: слезы были темными, тушь потекла с ресниц.
— Ну, что ты молчишь?
Он сказал:
— Не плачь, пожалуйста. Тушь растеклась вот.
Она с надеждой заглянула ему в лицо, подождала, но он опять замолчал.
— Зачем ты в мою жизнь влез? Я ведь просила тебя, просила… Что ты наделал? Зачем?
Он отвернулся. Она перестала плакать, достала зеркальце, стала вытирать глаза.
— Затем, что просто любил.
Она ждала продолжения, но он присел на ступеньку, на одну ногу. И начал прислушивался к чему-то, потом сказал:
— Слышишь?
— Что?
— Кричат.
— Где?
Он махнул рукой:
— Там.
Они прислушались. Действительно, из-за глухих стен, из-за окон с решетками доносился долгий жуткий вой. Здесь, во дворике, среди сугробов и запорошенных снегом деревьев, вой казался не человеческим — волчьим.
Она поежилась.
— Это кто?
— Не знаю.
Вой прекратился. Потом коротко, раза два-три, крикнул кто-то, и все стихло.
— Это у вас? — шепотом спросила она.
— Наверное… Я не знаю.
И вдруг она оттолкнула его:
— А что ты знаешь, псих ты несчастный?
Тогда он сел на ступеньку крыльца, нагнулся, поскреб пальцами лед и сказал:
— Там тоже кричат. Слышишь?
— Нет, — ответила она и отвернулась.
Быстро темнело. Было холодно. Цвет стен стал черным. Ковалев уже доскребся почти до самой земли и в этот глазок заглянул туда, откуда ночью и днем доносились до него слабые, замирающие голоса.
— Псих несчастный, — повторила она. — И всегда психом был.
— Это наследственное. Мне тут всё хорошо объяснили, — ответил Ковалев.
Потом вздохнул.
— Тревожно мне. Никто их не слышит. Даже ты.
И снова вздохнул:
— Ты меня прости, а? Прости, пожалуйста.
— Псих несчастный…
Он поднялся на ступеньки, ему надо было сказать что-нибудь такое, чтобы она точно его простила, раз и навсегда. Но он понимал, что нет таких слов, и прощения ему не заслужить. Теперь — нет. Никогда.
— А когда мы умрем — и нас никто не услышит, — печально сообщил он.
— Тебе, точно, лечиться надо, — она поежилась, уже еле различимая в затопившей мир синеве. — Ну, звони в свой звонок.
— Мы не увидимся больше? — спросил он, хотя и так уже знал ответ.
Она помотала головой. Это уже, конечно, ничего не значило.
— Ну, прощай тогда, что ли…
Она ткнулась мягкими губами в его заросшую щеку. Отвернулась.
Когда дверь открылась, он шагнул, не оглядываясь.
— Я тоже тебя никогда не забуду, психа такого, — никогда!.. — почти зло крикнула она в уже закрывающуюся обитую железом дверь.
* * *
В больничном коридоре бродили потерянные люди, натыкаясь на стены и друг на друга. Потерянные. Забытые. Он, Ковалев, теперь тоже был потерянным и забытым. Ирка забудет его. Ну, настоящего. И будущему мужу, если успеет выйти замуж, однажды расскажет: был, дескать, в годы её молодости псих… И чего это ей с детства одни психи попадаются? И бросит её, наверное, муж.
Ковалев заплакал. К нему подошел санитар, глянул недоверчиво. Ковалев отмахнулся, вытер рукавом глаза: да всё нормально, отстань…
Но ведь он не один. И она не одна. Их много тут. Их много на свете — потерянных. Слава Богу — пока еще много.
* * *
Ковалев вернулся в палату.
— Ну, что? — повернулся к нему тот, что с сетью: глянул поверх очков.
— Поговорили, — сказал Ковалев.
— А кто приходил-то?
— Подруга.
— А-а-а… — он подумал и что-то вспомнил. — Тут меня друзья с работы навестили. Про цех рассказывали, про работу. Начальника нашего съели-таки.
— Бывает, — сказал Ковалев.
— А жаль. Хороший был парень. Молодой, вроде тебя.
— Понятно.
— Ты вот что… — тихо сказал собеседник (в палате они были одни), — эпилепсия у меня. Мне-то точно лечиться надо. А тебе ни к чему это. Только мозги зря попортишь… Ты, знаешь, ты таблетки-то не пей.
— Это как? — удивился Ковалев. — Сестра же в рот глядит, стаканчиком с киселем в нос тычет, пока не проглотишь — не отстанет.
— А ты их — под язык. Кисель выпей, а таблетки потом — в унитаз. Только в бумажку заверни сначала, чтоб санитар не выследил… Тут многие так делают.
— Ладно, — сказал Ковалев, — я попробую.
Сверкнув лысиной, собеседник отвернулся и снова начал плести свой бесконечный невод, в который никогда не поймается золотая рыбка.
* * *
После приема лекарств Ковалев не сразу пошел в туалет — решил схитрить. Побродил по коридору, заученно улыбаясь всем подряд. В туалете спрятался за перегородку, достал из кармана припасенный кусок газеты, выплюнул таблетки, сосчитал: их было шесть. Кажется, вчера давали больше. Старательно завернул, бросил в унитаз и спустил воду.
Перед сном вся процедура повторилась. В курилке, правда, кто-то стоял, но Ковалев все сделал быстро и незаметно. Когда он после этого снова появился в курилке, его встретили неожиданным вопросом:
— Что, все выплюнул?
На Ковалева сквозь сизый дым глядел мрачного вида мужчина.
— Да… Все…
— Ну и зря, — лениво сказал мужчина. — Надо было хоть две проглотить.
— Зачем?
— Ну, зачем… Во-первых, чтобы врач не заметил. Он же не дурак, поймет, что ты не под балдой ходишь. А во-вторых — спать перестанешь.
— Ну да?
— Ну. Думаешь, ты первый?
Ковалев закурил, встал у стенки.
— Вызовет тебя завтра врач, глянет — и просечет. И, значит, что?
— Что? — спросил Ковалев.
Мужчина качнул головой.
— Уколы пропишет, вот что. От них уже не отвертишься.
— Ладно, — сказал Ковалев. — Завтра видно будет.
* * *
Ночью он, действительно, долго лежал без сна. Густо храпел сосед слева. Жалобно постанывал доцент, свихнувшийся на советско-индийской дружбе навек. Только лысый эпилептик, до утра расставшийся со своей бесконечной паутиной, лежал тихо-тихо. Когда в коридоре уже пригасили свет, эпилептик вдруг отчетливо сказал:
— Ты-то еще молодой, вся жизнь впереди… А мне вот… Никакого выхода. Раньше бы попробовал — может, и вышло бы.
— Что — вышло бы? — спросил Ковалев вполголоса.
— Человеком стать. Не куклой.
— Да, — зашептал вдруг Ковалев. — Я тоже думал об этом. Все мы куклы, клоуны. А кто-то смеется над нами. Понимаете? Маски на нас насильно надели. А нас не спросили.
— Да, человеку надо человеком быть, — согласился лысый.
— Вот, скажем, возмутился кто-то, — продолжал Ковалев, — стал маску с лица сдирать, и что? Кидаются к нему сразу. Одни — воспитывать, другие лечить. Маску же обратно прилепить надо. Пришить насмерть, чтоб не отодрал. Раз, мол, все мы такие, так и ты должен…
— Да, — сказал лысый. — Вот здесь маску к морде и пришивают. Белыми нитками. Мне, считай, уже пришили. А тебя — жалко. Вдруг получится?
— Нет, не получится. Притворяться ведь надо, что маска на тебе. А они хитрые. Быстро догадаются.
Сосед шумно вздохнул:
— Ладно… Спать надо. Завтра жена придет.
Он отвернулся к стене и засопел.
И Ковалев, закрыв глаза, увидел его сон: в большой белой комнате он плел паутину, и сваривал узлы электросваркой, и в полыхании мертвенного света паутина то натягивалась, то опадала, содрогаясь, и затягивала всю комнату, пока не померк свет в окне.
Из этого сна Ковалев шагнул в другой. Здесь было шумно, катастрофы сотрясали землю, миллионные людские волны — от горизонта до горизонта — устремились друг на друга, сошлись, вскипели. Ни лиц, ни отдельных фигур; два моря. Гул стоял над землей, черное небо ослепло от дыма. Потом стало темно и тихо и во тьме раздался жалобный вой идиота, скулёж — в пустоте.
В третьем сне Ковалев увидел голого, без перьев, петуха, клекотавшего среди пустой комнаты. Петух стал наливаться кровью, пупырышки пухли, увеличиваясь в размерах, свесился набок багровый гребень, — и вдруг лопнул, брызнув фиолетовой кровью.
«Что же это такое, господи? — обрывочно думалось Ковалеву. — Есть ли Бог? И зачем молиться ему, если он не может помочь?»
Нет, подумал он потом, — надо молиться для себя, для своей души, чтобы она не потерялась в космосе, не потерялась в пустоте и мраке.
Из-под пола протянулись бледные руки — много рук, как картофельные ростки в погребе на исходе зимы, — и послышались знакомые голоса: «Нету нас, нету нас. Предали нас, предали нас…»
Ковалев открыл глаза. Душная бессмыслица наполняла палату. Он вскочил, нашел в кармане сигарету и спички, выскользнул за дверь в пустынный полутемный коридор.
В курилке было холодно, дуло от окна, белая изморось лохмотьями свисала с оконных стекол, забранных решеткой.
Покурил и успокоился. Остаток ночи он провел без сна, лишь временами погружаясь в полудрему, но кошмары отпустили его.
* * *
Ковалев мыл посуду, согнувшись над ванной, когда его позвали.
— Ковалев? Там к тебе пришли.
Он вытер руки, вышел из подвала, поднялся по лестнице. Здесь, в закуточке, на скамеечке, сидела мать, скорбно повесив голову. Взглянула на него.
— Здравствуй, сынок.
Заплакала.
— Вот не думала, что на старости лет сынок родной так порадует… Доигрался.
— Мама, все нормально, — сказал Ковалев.
— Нормально, — повторила она и глянула по сторонам враждебным и слегка испуганным взглядом. — Чего ж тут нормального? Одна я и есть нормальная.
Ковалеву стало смешно. У матери иногда получались классные шутки.
Она передвинула вывернутые, больные ноги.
— Вот, папирос тебе привезла. Травись. Да ехать такую даль, с пересадками… И не пускали еще. Спасибо, заведующий на месте был — разрешил. Профессор.
— И что он сказал про меня?
— Что… Лечить тебя надо, вот что… Обрадовал, говорю, сынок на старости лет. Вот спасибо, дожила.
— Да не переживай. Чего там…
— «Не переживай»… Легко сказать… Я уж и так стараюсь, знаю, что сынок у меня непутевый. Сам на свою голову приключения ищет. Помнишь, голову разбили тебе? В больнице очнулся… Я тогда изревелась вся. Ну, думала, ладно — зато урок на всю жизнь. Запомнишь. Нет, опять все в свой нос делаешь.
Ковалев вздохнул, посмотрел на свои руки — в грязном жире — как следует не вытер, да и негде там их как следует вытереть.
— Кормят тут хоть тебя? — спросила она, взглянув исподлобья. — Ишь, почернел как… Бороду отпустил. Бродяга бродягой.
— Бороду сбрить можно.
Она длинно вздохнула.
— Да, это ты правильно сказал. Бороду сбрить можно, а вот ума прибавить — нет.
Помолчала, поджав губы.
— Ну, на папиросы-то… Тут вот изюм еще. На базар ездила специально.
— Да зачем? Обойдусь и без изюма…
— Бери уж. Ты ведь любил изюм маленьким.
«Не любил я изюма, мама. Все ты путаешь, все забыла…» — подумал он с тоской. Взял сверток — сразу видна рука матери, сверток небрежный, будто заворачивали с ненавистью и отвращением. Да так оно и было. Она и живет всю жизнь с ненавистью и отвращением. Ко всему и ко всем. Кроме себя.
Посидели еще, помолчали.
— Алька письмо прислал.
— И как он там?
— Да как… Известно уж. Все про жену да про тещу. О матери родной и не вспомнит. Будто я его для тещи учила да рОстила…
Ковалев промолчал.
— Сыновья — они все такие, — убежденно подытожила мать. — Так ведь я дочку хотела, так хотела! Было бы кому ухаживать за мной на старости лет.
— Да чего за тобой ухаживать, мам? — тоскливо отозвался Ковалев. — Ходишь ведь, сама все делаешь…
— Во-во! — подхватила она. — Все «сама»! Всю жизнь сама. Уже шестьдесят лет — сама и сама. Это вы умные, грамотные. А я только и видела, что работу до седьмого поту. Себя не помнила от работы этой — когда мне было рассуждать!
— Ну, мам, не заводись. Чего ты? Все будет нормально. Полежу вот, отдохну… Ну?
— А!.. — она махнула рукой, поднялась. — Страшно тут у вас.
Покосилась по сторонам.
— Пойду. Может, тебе надо чего?
— Нет, ничего не надо. Врач не сказал, когда выписывать меня думает?
— Не сказал… — она помолчала и неожиданно добавила: — Это я ему сказала. Лечите, говорю, пока не выздоровеет. Чтоб дурь, говорю, вылечили. Пусть вот мозги-то вправят тебе.
Ковалев ошеломленно уставился на нее.
— Мама, ты что? Я ведь нормальный, мама!
Она метнула на него неодобрительный взор, крепче поджала губы:
— А вот то. То самое и есть… Да. Плохая у тебя матка, плохая. Слышала уже от тебя. Все у ней не так. Вот пусть тебя подлечат — может, человеком сделают. Уважать научат родную матку-то.
И, ничего больше не сказав, повернулась, тяжко переставляя ноги, двинулась к выходу. Санитар загремел замком, двери открылись, впустив в коридор ослепительный солнечный луч.
* * *
В одном из маленьких двориков (в каждом отделении огромной психбольницы был свой дворик) дети чистили снег. Маленькие дети, в длиннополых казенных бушлатах, с бессмысленными лицами, с огромными головами. Скребли фанерными лопатами, мели куцыми метлами. Механически, как автоматы. Мешая друг другу, изредка по-совиному гукая и пуская слюни. Сбоку, у оградки, стояли две санитарки — одна в пальто, другая в шубе — и оживленно беседовали. Ковалев остановился. Женщины перебивали друг друга, торопясь высказаться. Стояли утренние сумерки, уже погасли фонари и снег из синего прямо на глазах делался розовым.
— Пойдем-пойдем, — поторопил Ковалева санитар.
Ковалев и еще двое больных тащили огромные тюки с бельем в прачечную. Ковалев сам напросился — уж очень захотелось подышать свежим воздухом, взглянуть на божий мир.
Теперь он уже жалел об этом. В божьем мире к лучшему ничего не изменилось.
Маленький олигофрен лопатой доскребся уже до мерзлой земли и продолжал скрести — вот-вот искрошит лопату в щепы. Ковалев замер, глядя на санитарок: да посмотрите же, помогите ему! Разве вы не видите?..
Одна — та, что помоложе, — будто услышала, повернулась.
— …Ну, и легче стало, что ли? — продолжая разговор, она подошла к мальчику, привычно взяла за руку и показала: теперь здесь надо, теперь здесь скреби. — Корреспондентов на «Волге» катает.
— Про корреспондентов не знаю, — ответила другая, — А вот что скажу: можно и покатать. Для дела же.
Ковалев недослушал — санитар его подтолкнул.
Когда они шли обратно, в маленьком дворике уже никого не было. Санитарка оббивала валенки на больничном крыльце, звенела ключами.
* * *
А ближе к обеду Ковалева вдруг выписали.
— Ну и характер у вашей мамы! — заметил симпатичный доктор.
— А что?
— Тяжеловатый.
— Ничего, я привык.
— Ну, куда ж деваться, — согласился врач. — В общем, я вам вот что скажу. Я вас выписываю без постановки на учет. Это значит, что никто никогда не узнает, что вы тут были. Ну, ошибка молодости, — с кем не бывает… В общем, нет смысла вас здесь держать, вы нормальный человек. В понедельник приезжайте часов в одиннадцать, справку вам оформлю. А сейчас — домой. Ну, всего доброго. Учитесь на здоровье.
— Спасибо. Спасибо… — растерянно сказал Ковалев. Особой радости он, правда, не испытывал, даже наоборот — слегка испугался: как же ему там, в миру-то, жить дальше? Без таблеток, без распорядка, без докторов?
А день был солнечным. Редким для этого времени года. Почти таким же солнечным, как тогда.
Он сел в автобус и поехал мимо красных кирпичных строений, мимо одноэтажных домиков, мимо соснового бора.
Автобус спустился с горки, свернул — и оказался в городе, помчался мимо девятиэтажек.
Теперь надо было снова жить.
Ковалев закрыл глаза, заставляя себя отключиться от шума, от красок и запахов, от всего того, что вновь подчиняло его себе, приказывало двигаться, говорить, стремиться к чему-то, тратя свои драгоценные, невозвратимые дни на бессмысленную суету в безнадежной надежде на лучшее. Именно так: в безнадежной. Надежде. Он заставил себя вспомнить, услышать далекие, угасающие голоса: «Здесь мы, здесь мы, рядом мы, рядом… Но забыли вы нас, потеряли нас…» Но голоса быстро таяли, пропадали, их заглушал мощный шум жизни. Я ухожу от вас, подумал Ковалев, ухожу — но не навсегда, я вернусь к вам и стану петь вместе с вами. Одним голосом станет больше и, как знать, может быть, тогда нас услышат эти безнадежно больные жизнью. Услышат, узнают, и что-то поймут.
А пока нужно было жить.
Зачем — кто знает?
Просто нужно — и все.
5. Ангелы уходят незаметно
Декабрь 1979 года. Томск
Странно. Дверь была вроде та же — и в то же время совсем не та. Сначала, не поверив глазам, Ковалев вышел из подъезда, огляделся — нет, дом тот же, и двор. Обошел вокруг дома. Нет, ошибиться было невозможно — здесь она жила, здесь.
Он снова вернулся в подъезд. Осмотрел покрытую дерматином дверь, позолоченные шляпки обойных гвоздей, кнопку звонка. Позвонил.
Долго-долго не отпирали.
Потом раздался детский голос:
— Кто?
И сразу же:
— Мамы нет дома!
Ковалев постоял, подумал. Опершись о перила лестницы, стал ждать.
Выходил из подъезда, курил. Темнело. Люди шли от автобусной остановки, в окнах вспыхивал свет.
Какой-то мужчина стал отпирать соседнюю дверь.
— Извините, — сказал Ковалев. — Я хотел спросить… В этой квартире кто живет?
Он кивнул на обитую кожей дверь.
— А вам чего? — хмуро спросил мужчина.
— Здесь моя знакомая жила. Женщина одна.
— Ну, есть здесь женщина, — неохотно ответил тот.
— А фамилия? Алексеева?
— Не… Нефедовы тут живут. А вы, случайно, не из райисполкома?
— Нет, я просто, прохожий… А Алексеева тут жила, не знаете?
— Не… Как Нефедовы заселились, так и живут. Уже пять лет. Юрка токарем работает на ГПЗ…
У Ковалева было такое выражение лица, что мужчина спросил:
— Чего надо-то?
— Алексеева тут жила. Ирка. Ирина Владимировна. Ну, как же — здесь, точно здесь. Квартира двухкомнатная…
— Квартира у них трехкомнатная. Двухкомнатные — они по этой стороне. А Алексеевой я не знаю. Мы тут все в один год заселились, как дом сдали. Ошиблись вы, выходит.
— Не мог я ошибиться. Вот и лестница та же… И стена. Вот видите — тут надпись была, гвоздем. Ее забелили.
— Ну, надписи — это мальчишки безобразят… Не знаю, как это вы… Хотя, бывает. Тут много домов одинаковых. Может, вы в подпитии были, или как…
— Подождите, — Ковалеву пришла в голову новая мысль. — А собака у них, у Нефедовых, была? Черная такая?..
— Собака-то? Собака была. Черная. Делась куда-то… А может, и сейчас есть, черт ее знает…
— Злющая такая, маленькая, да? Стойте! А Юрка этот, Нефедов — он какой? Невысокий такой, чернявый?
Ковалев даже за руку мужчину схватил, но тот руку с возмущением выдернул:
— Ты не хватай, не хватай!.. «Чернявый»!.. Никакой он не чернявый. Русский он, чего ты?..
— Ну, что русский — понятно. Но брюнет?
— Никакой не брунет. Обыкновенный… Чего тебе, вообще, надо-то?
— Вы не обижайтесь, — сказал Ковалев. — Понимаете, не может быть такого, чтоб вот так: был человек — и не стало. Я про Алексееву Ирку говорю. Ну, может, она здесь комнату снимала?
Мужчина слегка ошалел.
— Когда?
— Ну, полгода назад, год?
— Да какую комнату! Говорю же — у них всего две комнаты, а самих — четверо, Юрка с Танькой и двое ребятишек.
— Ну, может, они уезжали куда?
— Кто?
— Да Нефедовы же!
— Откуда я знаю?.. Слушай, я с работы иду, устал, а ты тут с расспросами. Шел бы ты, а?
Мужчина с яростью захлопнул дверь, и Ковалев остался на площадке в одиночестве.
Постоял, ничего не понимая. Потом, вздрогнув, вспомнил. Выскочил из подъезда, забежал в другой. Лампочка тут еле тлела, трудно было рассмотреть что-нибудь на грязных ступеньках. Ковалев наклонился, вглядываясь. Ничего не было видно — если и были следы крови, так их замыли давно, подумал он. И вдруг в глаза бросилась знакомая надпись на стене: «Мне нужен труп — я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас».
Какое-то время он, оглушенный, не мог собраться с мыслями. Только тупо глядел на надпись.
Вышел на улицу, сел на скамейку. Вот сюда подъезжала «скорая», чтобы забрать его. Забрать, увезти из этого одичавшего мира, отвечающего на любовь равнодушием.
* * *
Он глядел на снег, вслушивался, и наконец услышал: «Здесь мы! Здесь мы! Нету нас, нету нас! Забыли нас, предали нас!..».
Вскочил. Бросился к подъезду, требовательно нажал кнопку звонка у дерматиновой двери.
Дверь открыла полная женщина, в кудряшках. Из-за ее спины выглядывал мальчуган — тоже в кудряшках.
— Здравствуйте, — сказал Ковалев, стараясь говорить спокойно и отчетливо. — Здесь живет Алексеева Ирина Владимировна?
— Нет. Нету такой, — испуганно ответила женщина и попыталась закрыть дверь.
— Минутку… Вы мне только скажите, где она сейчас. Как ее найти?
— Не знаю! Не знаю ничего!
— Мама! — сказал мальчуган. — Это кто?
— Дед Пихто и бабка с пистолетом, — ответила женщина и закрыла дверь. Но напоследок посмотрела на Ковалева так, что он сразу же понял: она знала, она все знала…
Щелкнул замок.
Ковалев вышел из подъезда, в сумерках прошел через двор, по тропинке обогнул один дом и второй, спустился на дорогу. На той стороне была остановка, и на ней стояли люди, а за остановкой был обрыв, наполненный тьмой.
«Нет, ничего я в этом мире не понимаю, ничего…» — он стоял и смотрел на пробегающие мимо машины, на отражения фонарей в обледеневшем асфальте и думал о том, что вот всё и закончилось, теперь уже точно — всё. Тот, прежний мир исчез, а здесь теперь — другие дома, другие люди, и даже звезды совсем другие.
И он сам стал другим. И надо было начинать жить сначала.
Как начинать? Зачем? Он не знал.
И все-таки начал.
Но это уже совсем другая история.
* * *
Октябрь 1990 года. Томск
Мясоедов крепко спал, положив голову на кухонный стол. Выпустил толстые губы и сладко чмокал: доедал во сне свое коронное блюдо, свою вкуснейшую курицу.
Ковалев и Вова сидели в другой комнате, в темноте, у окна, на полу. Между ними стояла пустая бутылка и две стопки.
— И что было потом? — спросил Вова.
— Ничего не было, — ответил Ковалев. — Ирка уехала, или просто исчезла. Через несколько лет я в газете вычитал про случаи нарушения жилищного законодательства. И там, в газете, было написано про Нефедовых. Они, мол, незаконно прописались в квартире бывшего главного инженера стройтреста Вэ-Вэ Алексеева.
— Ну, так за бабки же, понятно, — мотнул головой Вова.
— Так что меня тогда обманули. Сговорились, значит. Она, Ирка, эту квартиру Нефедовым оставила. Продала. Газета у меня хранится до сих пор. И всё. Больше от неё ничего не осталось. Будто и не было человека. Ч ведь даже подруг её потом искал, — а нету и подруг! Ну, словно приснился, привиделся человек. Явился с того света. Ангел-хранитель.
Вова хрюкнул, но усилием воли преодолел скептический настрой:
— И вы больше так никогда и не виделись?
— Кажется, виделись. Но, может, это и не она была, может, я обознался… На вокзале. С ней парни какие-то сидели, пьяные. Один морячок на балалайке играл. И плясал. Маленький такой. Она в ладоши прихлопывала. Я остановился — там автоматы газетные, — вот стою за автоматами и смотрю. Парень играет, а кругом сутолока, узлы, чемоданы, диктор по радио что-то гнусавит. Я все жду. Вот, наконец, она голову подняла. Она? Вроде, она. А вроде и нет. Гляжу — она, точно она. А потом раз: нет, не она. Ну, она один раз мимо меня посмотрела, другой. На третий раз я её взгляд поймал. Ну, и всё. Меня будто током ударило. А она голову повесила. Я стою столб столбом. А тут как раз электричка подошла, народ вскинулся, побежал, повалил. Она и парни эти — тоже. Я было за ними, к выходу, да куда там: двери узкие, пока протолкался, на перрон выскочил — их нет нигде. Я вдоль вагонов пошел. Иду, в окна гляжу. Народ лезет, толкается. Ругань. Я отошел в сторонку. Стою, курю. И вот в одном окне вдруг вижу — она. Стоит, молча на меня смотрит. Но стекла грязные, видно плохо. Я подбежал к окошку, рукой давай махать — и тут электричка тронулась. Я бегу. Ирка стоит, смотрит. Я ей машу, кричу что-то. Перрон, гляжу, кончается — сейчас кувырком полечу, там колдобины и туннель еще, водосток. И вот, только я от окна отстал, — она мне вдруг руку подняла. Попрощалась, вроде.
И все. Я упал, ногу сильно расшиб. А поднялся — только два красных огонька вдали.
— Так это она была, или, обратно, ангел-хранитель с бесом пополам? — спросил Вова и икнул.
— Не знаю.
Вова посопел, повозился на полу.
— Вот же гадство, — сказал. — Самогонка кончилась. И утро уже. Скоро на смену собираться. Гаврилов опять запил. Вот же жизнь собачья.
Оба вздохнули и замолчали. Было тихо, только из кухни доносились причмокивания Мясоедова.
— Да самогонка — хрен с ней. Юрка же еще обещал принести.
— Так кто же она была? — поднял голову Вова. — И откуда? И делась куда, а?
Ковалев не ответил. Но он знал, кто она, откуда пришла, и почему исчезла. Он-то точно это знал…
* * *
— Ну ладно… — Вова поднялся. — Пойду генерала разбужу. Чего он? В гостинице, гад, что ли? Разлекся, соб-сно, сопли по чистому столу распустил. Пускай к жене идет.
Он пошел на кухню. Стал толкать Мясоедова, тот не просыпался. Толкнул сильнее — Мясоедов мягко съехал со стула и кулем опустился на пол. И заурчал, поудобнее сворачиваясь у холодильника.
— Спит! — изумлённо подытожил Вова и даже руками развел. — Вот же скот, а? Собс-но.
Огляделся, увидел тарелку с остатками курицы. Взял кусок, сунул в рот. Пожевал с закрытыми глазами. И вдруг осел на пол, рядом с генералом.
Ковалев вошел, посмотрел на них. Стал было складывать в раковину грязную посуду, потом махнул рукой. Вышел из кухни и до рассвета бродил по комнате, натыкаясь на разнокалиберную, оставшуюся от разных жен, мебель.
«Был человек — и не стало. Был — и нету. И трудно успеть разглядеть его, запомнить. Родился вот с человеческим лицом, а потом в жизнь пошел, и смотришь, — рожа вылезла. Нет того, прежнего, и не будет уже. Умер. Кто вспомнит?..
Нет. О чем это я? Голова раскалывается, не соображает. Нет, я не о смерти думал, о другом… Мертвых не воскресить — они существуют. Это Яннис Рицос так написал. Мертвые — они здесь, рядом с нами. Всегда. Можно о них не думать, не помнить, — они все равно рядом, возле тебя, нет, в тебе. Каждый твой шаг — это и их шаг тоже. Тогда выходит, что человек бессмертен? Ведь вот этой руке — моей руке — ей же миллион лет! И никто не пропадает насовсем, никто и не может пропасть. Даже в ребенке, больном ДЦП, в его уродстве — тоже они, мертвые. Это их грехи, это их месть. Но ребенок не знает о чьей-то вине и чьей- то мести. Он живет наперекор всему — своему уродству, своему телу, даже смерти наперекор. И в этом — тоже они. Те, что ушли. Да нет, не ушли. Остались…
И так — каждый. И столько — за каждым из нас. Все равноценны. И никто не виновен.
Мы — только часть. Та, что еще на свету. Нить остальная — во тьме.
Куда она тянется, эта нить, и откуда — мы не знаем. Конечно, многое можно объяснить, но вот это, самое главное — темное. Все объяснения бесполезны, бессмысленны. Все теории рассыпаются. Тут, может быть, только Бог… Только Бог… Только Бог».
Ковалев посмотрел на поверженные тела Вовы и генерала и стал тормошить то того, то другого.
Генерал был совсем не вменяем. Тогда Ковалев вцепился в Вову и тряс его, раскачивал, расталкивал, покуда Вова, наконец, не открыл бессмысленные глаза.
— Вова! Володя! Михалыч!
— По… го… ди… — Вова закрыл глаза, помотал головой, снова открыл. — Ну?
— Тебе ж на смену идти! Гаврилыч же снова запил!
— А? Нет, ты опять ошибся, собс-но. Это я запил, а Гаврилыч пусть хоть ползком к проходной ползет…
Неожиданно проявив это чудо недюженного логического склада ума, Вова снова уронил голову.
— Вова! — тормошил его Ковалев. — Причем здесь смена, Гаврилыч? Абсолютный нуль! Главное — не так мы живем, понимаешь? Надо — в согласии с ними, надо прислушиваться к ним! Понимаешь? Они же здесь, внутри нас!
— Кто?
— Мертвые! И живые. Ангелы, в общем. Смерть-то внутри нас, понимаешь?
— Нет, — ответил Вова.
— Чего — нет? — опешил Ковалев.
Вова сосредоточенно поглядел прямо в стену под умывальником.
— Ничего нет.
— Постой… Ты, гад, пьяный просто — не соображаешь. А это же главное. Надо, в общем, любить. Любить их всех. Жалеть! Понимаешь? Всех-всех! Любить и жалеть, главное, — жалеть!
— Всех?
— Да-да, всех!
— И Гаврилыча?
— И Гаврилыча!
— Во! — Вова показал Ковалеву фигу.
— Ну, ты и гад, — огорчился Ковалев. — Ни черта ты не понял. Гад ты, Щепочкин.
— Это в каком… как его… аксепте?
— Ну, не вообще. А вот сейчас ты гад. Здесь и сейчас. На кухне.
— Гы-ым… — глубокомысленно промычал Вова. — Тут, это, надо подумать. Не с наскоку же решать. Не с плеча рубить же…
И внезапно закрыл глаза и повалился на пол, головой — под залитое помоями чугунное колено.
Ковалев разогнулся. Ему было жалко Вову, жалко генерала, и всех, всех людей вообще. Навернулась пьяная слеза и Ковалев вытер ее одним пальцем.
— Нельзя же так жить, боже мой, нельзя… Мы же здесь все душевнобольные. Все…
Он подошел к окну, сел на подоконник.
Уже светало. Зажигались окна. Люди выходили из подъездов, торопились. Некоторые тащили за собой детей. Все — не выспавшиеся, темные, с замороченными головами, больные.
— Эх, люди-люди… ангелы и бесы…
Бежали к трамвайной остановке.
В воздухе висела морось, предметы казались слегка размытыми. Сыро, холодно и паскудно.
— Эх, жизнь собачья…
Божий мир, для чего же ты создан? Не для того же, чтобы детей обижать?
Прижавшись щекой к стеклу, Ковалев глядел в окно, и было ему печально и хорошо, безумно печально, невыразимо хорошо. Еще немного, чуть-чуть — и страх окончательно исчезнет, растворится в любви и печали.
Никто не может уйти по своей воле. Никто не может вернуться. Не вырваться нам из бесконечности. Не разорвать цепи».
* * *
Слова, нацарапанные кем-то в подъезде, где когда-то жила Ирина Владимировна Алексеева:
Не откроет время истины:
Прошлое — как темный лес.
Нас земля возьмет нечистыми,
И очистит — для Небес.
Томск, 2004










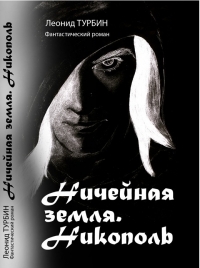

Комментарии к книге «Ангелы приходят и уходят», Сергей Борисович Смирнов
Всего 0 комментариев