Самотарж Петр Петрович Несовершенное
1. Тень времени
Сознательная жизнь мелкого борзописца Николая Игоревича Самсонова оказалась недостаточно долгой и мучительной, но он уверенно ждал смерти в том же доме, в котором родился. По миновании сорокового дня рождения журналист вдруг забыл свою жизнь и с первобытно наивной страстью погрузился в мысли о вечном и непреложном. Думал Николай Игоревич тяжко и пришел в результате своих гнетущих усилий к фразе, давно избитой до полусмерти другими растерянными людьми: человеческое бытие должно представлять собой жизнь, а не вереницу бесцветных дней.
Ощущения репортера с годами огрубели, движения потеряли легкость, шея хрустела и отзывалась болью при каждой попытке повернуть голову. По утрам, садясь в прихожей на галошницу и нагибаясь завязать шнурки, он всякий раз упирался животом в собственные колени и чувствовал, как завтрак выдавливается из желудка обратно на свежий воздух. Перебегая улицу в неположенном месте, Самсонов странно подпрыгивал и раскачивался на ходу, осязая свое тело бесформенным мешком картошки, и ненавидел его всеми силами изболевшейся усталой души. Одной из долгих темных и холодных зим в его левом ухе раздался звон, который продолжался без всяких видимых причин, то громче, то тише, но постоянно. Днем он почти не замечал этого шума, временами переходившего в визг огромного комара. Вечером и ночью, оставаясь один на один с немой темнотой и пытаясь уснуть, он вдруг осознавал себя совершенно одиноким среди наполненного воем мира и испытывал прилив мертвящего ужаса. Незримое привидение дышало вечным холодом ему в затылок и обещало продление концерта для обозленной флейты до скончания его короткого века, а бедный больной сжимался под одеялом в бессильный потный комок. Свои страхи Самсонов таил ото всех, ибо не желал выказать свою старость.
Жена Самсонова Лиза, плотно сбитая молчаливая брюнетка, оказалась с ним в одной постели исключительно по глубокой привязанности; она всегда оставалась там покорной и бессловесной, даже беззвучной. Супруги имели дочку с затейливым именем Серафима, незаметно для них обоих выросшую до пятилетнего возраста и удивлявшую всех родных и близких неутомимым рвением к жизни. Она страшно ненавидела дневной сон, всегда отвечала согласием на каждое предложение поесть и плакала, только встретив со стороны окружающих холодный лед невнимания. Лиза с равным усердием и радостью обнимала своими заботами дочку и мужа, не оставляя им ни малейшей возможности узнать неудобства или пренебрежение. Супруги жили тихо и бесшумно, не ходили по вечерам ни в гости, ни в кино, а других мест, куда можно было бы ходить, в городе не имелось. Войдя в означенный выше период своей жизни, Самсонов купил и принялся тщательно изучать довольно свежий немецкий каталог одежды с благородным намерением обновить облик всей семьи, хотя возможность заказать товар отсутствовала начисто. Занятная пухлая книга в мягком переплете обнаружила в себе цветные фотографии моделей в нижнем белье, мало похожих на спутницу жизни заинтересованного читателя. На улице он также время от времени встречал женщин, в глазах которых светился праздник, и все дольше и дольше стал задумываться над причиной скучной обыденности в лице, жестах и словах его жены. Он обнаружил у нее лучики морщинок возле глаз, привычку улыбаться в моменты, которые казались ему неподходящими, и манеру раздеваться ко сну так, словно она хотела обезопасить себя на ночь от его притязаний.
Одним словом, жена расстроила Николая Игоревича длительностью их совместного бытия, поэтому он нашел женщину на стороне, которая почему-то оказалась очень похожей на жену. Сходство усугублялось тем обстоятельством, что Самсонов скрыл от наложницы факт существования жены, поскольку не питал уверенности в своей привлекательности и готовности его новой избранницы войти в двусмысленное положение. Город был пыльный, маленький и плотно набитый слухами от подвалов до чердаков своих старых домов, вследствие чего жизнь Самсонова стала невыносимой вдвойне – он лишился обоих жилищ и в итоге ютился попеременно то в редакции своей газеты, то в предоставленной ему по знакомству чужой комнате в коммуналке.
В новом положении дважды изгнанного Самсонова не устроило только исчезновение из его жизни дочери. В бытность свою семейным человеком он привык слышать каждый вечер истошный визг и вопль "Папа пришел!", громкий и преисполненный беспредельного восторга, словно разлука длилась никак не менее года. Девочка усердно познавала жизнь, приставая с вопросами без разбора ко всем, кто был выше ростом, то есть к каждому, кто оказывался в ее поле зрения. В ответ Самсонов чаще всего нес околесицу, чем вызывал безграничное возмущение Лизы, начинавшей с ним спорить и вселявшей тем самым в душу маленькой дочки уверенность в отсутствии абсолютных истин. Девочка смотрела на огромный мир широко открытыми глазами, в которых совсем не было страха, а только безграничная вера во всеобщность окружающего ее счастья. Серафима, Сима, Фимка казалась теперь журналисту единственным его достижением, и он все чаще вспоминал тот тоскливый вечер, когда он методично и многословно объяснял жене, почему ей придется избавить себя от нового бремени во имя благополучия всей семьи. Самсонов нашел тогда много доводов, на их изложение ему понадобился не один час, и ему самому стало скучно, поскольку ни одного из своих аргументов он не смог выдумать сам. В продолжение всей бесконечной речи несостоятельного мужа Лиза ничего не говорила и сидела, потупив взор. Теперь, проводя длинные вечера в одиночестве и без телевизора, репортер много думал, еще больше вспоминал и не хотел простить ей этого молчания.
Лишившись единственной своей гордости – дочери, Самсонов набросился, не преследуя ни системы, ни определенной цели, на труды всех профессиональных экспертов в деле поиска смысла жизни, которые попались ему на глаза в районной библиотеке. Репортер появлялся там в удобное для себя время, с гордо поднятой головой проходил мимо собственной жены, сидящей на абонементе, и молча пробирался к интересующим его стеллажам. Не спеша подобрав несколько томиков, он подходил к стойке и неизменно обнаруживал там другую сотрудницу – жена демонстративно удалялась из зала на период существования там постылого мужа. Тот с великолепным равнодушием проходил формальности, уходил из библиотеки в свою берлогу и погружался в чтение, получая удовольствие от процесса приобщения к высокой истине, недоступной для ограниченных умов. Он мысленно, а иногда и вслух, соглашался с каждым новым автором, но ни за какие деньги не смог бы изложить постороннему человеку систему взглядов того или другого любомудра. У Соловьева и Гегеля он не понял ничего, из прочитанного у Ницше запомнил только несколько афоризмов, в основном следующий: "У злых людей нет песен… А почему же у русских есть песни?" Осталась только смутная досада от осознания собственной интеллектуальной импотенции.
2. Мрамор памяти
Жизненный надлом объясняет и даже в некоторой степени оправдывает радость, мгновенно овладевшую Самсоновым, когда главред однажды вечером хмуро встретил его прямо в двери своего кабинета известием об исчезновении Ногинского.
– Сволочь, – не преминул заметить главный, обычно весьма добродушный толстяк, а теперь злющий боров с мокрыми редкими прядками волос, прилипшими к сияющей лысине. – Собственный материал бросил, не пожалел. Он подтолкнул по столу в сторону Самсонова потертую коричневую папку. – Возьми это и добей. Черт знает что, позора не оберемся. Газета, конечно, не телевидение, но должна же быть какая-то мера, черт побери. В пятницу к трем часам дня, как штык, сдай полторы тысячи слов. Семен приличную подборку снимков уже отщелкал, дело только за тобой.
Ногинский числился местной звездой. Он имел поэтическую седую шевелюру и дружелюбный взгляд завзятого алкоголика, повергающего всех его новых знакомых в убеждение, что они провели рядом с ним всю свою жизнь. Бездетный холостяк, Ногинский сохранил до своего изрядного возраста веру в человечество и заражал ею людей, от которых ждал информации. Кажущийся наивный оптимизм опытного душеведа пробуждал в людях неведомые им самим добрые чувства и открывал негодяю безграничные возможности в получении ценных сведений. Самсонов же, благодаря несчастной способности к работе на компьютере, чаще выступал в качестве машинистки или верстальщика, чем автора, и несколько принадлежащих его перу заметок, увидевших свет в течение пяти лет, уже давно не только не тешили его самолюбие, а напротив, свидетельствовали о провале профессиональной карьеры. Сделав равнодушное лицо и пробормотав пару невразумительных слов о своей обязательности и ответственности перед родной редакцией, он дрожащими руками сгреб с начальственного стола заветную папку и удалился из кабинета чуть не вприпрыжку.
Лицо Самсонова, очевидно, несло на себе несмываемую печать только что пережитого, поскольку молоденькая секретарша и одновременно корректорша Даша, едва увидев его, безразлично спросила:
– Что, получил материал Ногинского?
Самсонов деревянно кивнул. Даша не могла и не пыталась постичь его переживания, а просто сказала с прежней беззаботностью:
– Посмотри там у него в столе – он на днях какую-то кассету принес с телевидения, целый день ругался. Не знаешь, что с ним стряслось такое? Жил себе и жил человек, работал и работал, вдруг сорвался и, как ненормальный, ни с того, ни с сего, умчался за горизонт.
– Не знаю. А почему за горизонт? Он что, уехал?
– Еще как уехал! Никто не знает, где его искать.
– Даже так?
– Именно так. Ты ведь знаешь, старик обожал поболтать, но я не помню, чтобы он хоть раз упоминал о своих родных и близких. Все его истории были о друзьях, и все они живут где-то здесь, но их адресов никто не знает.
Даша, кажется, искренне переживала за судьбу исчезнувшего Ногинского, хотя, кроме регулярных совместных чаепитий в компании с остальными сотрудниками редакции, никаких отношений с ним не поддерживала. Самсонов, горящий желанием открыть папку, попытался молча пройти к своему столу, но неприятное предчувствие его остановило.
– А ты не знаешь, что за материал он готовил?
– Так вот же, папка у тебя в руках, – удивилась Даша.
– Папка папкой, а что он тебе рассказывал? Зачем ходил на телевидение за кассетой?
– Да ну тебя, – пожала плечиками Даша, отвернулась и вновь озабоченно погрузилась в ворох испещренных разноцветными пометками листов компьютерных распечаток. – Могла ведь вообще ничего тебе не сказать, так бы и ушел без всяких вопросов.
Самсонов приблизился к ней сзади с повадкой тайного эротомана во вкрадчивых движениях, осторожно положил руки на узкие покатые плечики и склонился над жертвой своей лысеющей, но коротко стриженной и поэтому не курчавой головой. Даша была выше него ростом, узенькая не только в плечах, но и в груди, в талии и бедрах, золотистые волосы рассыпались волнистым водопадом по спине, поперек которой проступали сквозь тонкую ткань блузки очертания изящного лифчика, и возбуждение стареющего неудачливого женатика и ходока с каждой секундой становилось все менее наигранным.
– Даша, – произнес он коротко и увесисто, словно собирался дать ей смертельно опасное задание. – Ногинский ведь мне дела сдавать не собирался. Он понакатал там заметок для своего внутреннего потребления, в которых мне минимум сутки разбираться, а у меня их всего ничего в распоряжении, чтобы вынырнуть на поверхность. Ты ведь не хочешь, чтобы я захлебнулся в омуте, как сом под корягой?
– Сом не может захлебнуться, пусть даже и под корягой.
– Да, действительно. Тогда ты ведь не хочешь, чтобы главный высосал из меня жизненные соки, как сом из утопленника?
– А что, сомы высасывают жизненные соки из утопленников? – оживилась Даша, бросив на короткое время свои неотложные бумаги и обернувшись к нахлебнику заинтересованной мордашкой.
– Возможно. К слову пришлось. Фраза показалось эффектной. Не все ли тебе равно, в самом деле? Ты лучше не увиливай от творения блага ближнему своему.
– На кассете запись их программы об открытии этой доски, – сдалась информированная не по годам девушка, вновь погружаясь в мир русской орфографии и стилистики.
– Какой доски?
– Господи, Самсонов, да разберись ты сам в этих бумагах, с какой стати я должна вводить тебя в курс? Ты, кстати, тоже здесь работаешь, почему же ничего об этом не знаешь?
– Хотел бы я знать, почему. Так что за доска?
– Да мемориальная доска на школе, в память о выпускнике, который погиб в Афгане. На этой неделе открыли, кажется. Сюжет по телевидению уже прошел, а главный вознамерился дать очерк в возвышенных тонах с широкими обобщениями и поручил Ногинскому. Тот немного побегал-побегал, а потом выругался, пообещал в стиле Кармазинова положить перо и исчез.
– Если ты так много знаешь о проблеме, – вкрадчиво нажимал Самсонов, – то не могла не разобрать хотя бы нескольких слов старика о теме. Наверняка, он тебе душу излил, чтобы ты его пожалела.
Даша хмыкнула неопределенно, передернула плечиками и рассеянно, отсутствуя мыслями, проговорила:
– Кажется, обещал разнести журналистский цех по кирпичику и что-то городил о нежелании вить из себя веревки. Ничего определенного.
Источник окончательно иссяк, Самсонов некоторое время упорно смотрел ей в затылок, затем коротко вздохнул, деловым несуетливым шагом подошел к столу пропавшего конкурента, пошарил в набитых бумажно-картонным хламом ящиках, выудил оттуда бытовую видеокассету без футляра и удалился из редакции с чувством страждущего в пустыне, уверившегося в нереальности миража.
В коммуналке из трех комнат не оказалось ни одного из жильцов, поэтому озадаченный журналист проследовал в свои апартаменты беспрепятственно, что можно было счесть добрым знаком, бросил кассету на раскладушку, а сам сел на пол, прислонившись спиной к стене, и раскрыл на коленях таинственную папку. Главным ее наполнением оказались листы чистой писчей бумаги.
Зато сверху лежали несколько страниц, вдоль и поперек исписанных крупным почерком мэтра районной журналистики. Все буквы русского алфавита под его рукой оказывались почему-то заостренными, словно утыканные пиками по макушкам, отчего текст воспринимался как острый и злободневный еще до прочтения. А прочесть его было нелегко. Собственно, записи и не представляли собой связного текста, а только разрозненные заметки, расположенные без всякого намека на систему. Ногинский, как человек старой формации, не располагающий, к тому же, излишками денежных средств, пользовался в работе банальным блокнотом, купленным в магазине по соседству, которого в папке не оказалось. В его глазах, очевидно, обнаруженные пытливым и нетерпеливым Самсоновым бумаги являлись черновым макетом будущего очерка. Вот только утомленный ум исследователя был бессилен объять представшие перед ним слова и фразы в целом.
Собственно, сие прискорбное обстоятельство нисколько не расстроило журналиста. Он ведь не считал себя плагиатором и не планировал им становиться. Он просто спасал редакцию от невольной демонстрации ее профнепригодности как уверенного в себе новостного коллектива, пусть и местного масштаба. На второй странице, уже после разбросанных в живописном беспорядке сведений о номере и адресе школы, дате открытия мемориальной доски, имени героя, а также о множестве обстоятельств, постичь смысл которых казалось в принципе невозможным, Самсонов вдруг обнаружил то, чего страждал – ключ к продолжению расследования. В нижнем углу столбиком значились явно номера телефонов с именами и отчествами пока не известных ему людей. Выше всех стоял некий "Петр Ник.", за ним следовали "Светл. Ив." и "Мар. Пав." Думать совершенно не приходилось – разумеется, нужно звонить Петру Николаевичу. Прежде, чем связываться с женщинами, нужно собрать о них максимум информации, дабы первым неловким словом не разрушить на веки вечные доверие к своей особе. Подобный алгоритм действий в отношении особ непредсказуемого пола Николай Игоревич выработал в период своих интриганских хитросплетений меж двух домов, но, главным образом, еще раньше. В те стародавние времена он, мучительно и бесконечное число раз ошибаясь, пытался найти слова и поступки, которые впервые проложили бы ему путь к лону беспредельного и неописуемого восторга, сбивчиво и нечленораздельно описанного ему старшими товарищами во дворе.
Летний вечер затягивался до бесконечности, за окном было все еще светло, но идти немедленно искать телефон Самсонов не хотел. Теперь он страстно желал отсмотреть кассету с видеосюжетом телестудии на интересующую его тему и в осуществление своего последнего желания стал терпеливо ждать возвращения одного из соседей, самого беспутного и безалаберного – Алешки, обладателя антикварного видеомагнитофона, используемого им исключительно для просмотра разнообразнейшей порнографии, доступной на полулегальном и чуть ли не подпольном рынке. Пристрастия не в меру сексуального соседа смущали, а иногда и пугали тихого журналиста, в своей интимной жизни не знавшего почти ничего, кроме миссионерской позы и поцелуя в пухлый женский сосок. Каждая его ночевка в злосчастной коммуналке сопровождалась длительным спором с Алешкой, настырно завлекавшим, а иногда и чуть ли не силой тащившим его в запретную комнату для совместного просмотра горячительного видео. Самсонова давно мучила жгучая потребность задать сластотерпцу язвительный вопрос о причинах непременного отсутствия в его комнате живых женщин из реальной жизни, но всякий раз смелости хватало только на безвольное и немое шлепанье губами.
Впервые за все время соседского существования журналисту понадобился непутевый Алешка, и его пришлось ждать несколько часов. Николай Игоревич провел их, глядя в окно и мечтая о светлом личном будущем овеянной славой районной знаменитости, творческом удовлетворении и раскаянии брошенной жены, осознавшей допущенную по отношению к талантливому мужу чрезмерную жестокость. Самсонов желал собственную жену, как никогда ранее, и именно теперь не мог даже посмотреть на нее, хотя бы издалека, словно жизнь накатила на него паровым катком античного рока в отместку за долгую беззаботность в прошлом. Во дворе копошились в песочнице дети, словно желая своим невинным обликом напомнить созерцателю о его моральной неполноценности. В конце концов, утомленный переживанием невыгодного сравнения, журналист замкнул область своего внимания более узким кругом, ограниченным расстоянием его вытянутой руки. Кроме безудержного мечтателя, в комнате находились древние, как сама ложь, гардероб и сервант из коричневого неполированного дерева, зато с резьбой на дверцах. Николай Игоревич уже давно знал это, хотя реликтовая мебель была плотно укутана пыльными полиэтиленовыми простынями для защиты от времени. Причина его всеведения была проста, как разгадка жизни – прежде он не раз забирался под мебельный саван, влекомый объяснимым человеческим любопытством. Комната не принадлежала ему, гардероб и сервант не принадлежали ему, даже полиэтилен не принадлежал ему – но он жил здесь, поэтому считал естественным и безобидным делом сунуть нос в чью-то память о прошлой жизни. Иногда Самсонову казалось, будто угрюмая мебель венчает собой могилу бывших хозяев, что до некоторой степени соответствовало истине – гардероб, казалось, еще хранил запах вещей своих владельцев, а в серванте даже пылилась никому уже не нужная щербатая дешевая посуда. Он толком не знал, кем были исчезнувшие из квартиры люди, и почему их владения оказались вдруг в его бесцеремонном пользовании. Возможно, они продолжали дышать полной грудью в более эстетичном месте, но Самсонову хотелось думать, что они мертвы, а он продолжает земной путь вместо них – тогда его существование само собой наполнялось глубоким смыслом без всяких дополнительных усилий. Мысли журналиста о вечном оборвались грохотом в коридоре – каждый день непутевый Алешка по несколько раз спотыкался о собственное старое корыто.
Выждав некоторое время для приличия, Самсонов пробрался сумрачным коридором к соседской двери и проник в нее, встреченный бурным изъявлением восторга со стороны хозяина. Тот выражал твердую уверенность в том, что его коллекция невообразимого порно нашла, наконец, нового почитателя. Коллекция действительно впечатляла – кассеты лежали на столе, под кроватью, рядом с электроплиткой на полу, а под столиком с телевизором их высилась целая груда.
Хозяин комнаты, в расстегнутой до пупка рубахе, давно не чесанный и не бритый, с расплывчатым взором не способных к фокусировке глаз, с широко распахнутыми руками, кричал долго и не слишком связно:
– А, Колян! Зашел! Я грю – зашел и… и не пожалеешь. Чстно слово, не пожалеешь! У меня тут такое! Такое! Такие групповухи – улёт! Такой трах, такой трах!
Алешкин восторг не знал рамок и пределов, поэтому Самсонов прямо с порога начал предпринимать попытки вставить хотя бы одно слово во встречный бурный поток, которое позволило бы ему выплыть к намеченной цели.
– А, ты свою принес! Новье? Чики-чики, щас позырим!
Истратив впустую несколько попыток, Алешка изловчился, наконец, задвинуть телевизионную кассету в видеомагнитофон и приготовился получать удовольствие от ни разу еще не жеваной продукции видеоподполья. Отчаявшись прояснить ситуацию устно, журналист решил действовать нахрапом, поставив видеомана перед фактом и отказав ему в праве самостоятельно определять репертуар домашнего видеотеатра. Алешка долго, нудно и весьма шумно не мог смириться с невинным содержанием запущенного сюжета, поэтому Самсонов пообещал ему впереди съемки скрытой камерой в женской раздевалке – тонкость замысла состояла в том, что измученный агрегат давно утратил способность к перемотке ленты, вследствие чего нетерпеливому эротоману пришлось стиснуть зубы и ждать.
На экране сначала всплыл общий вид школы, закадровый голос объяснил, что именно эту школу закончил в свое время молодой человек по имени Александр Первухин, которого одноклассники запомнили как скромного и доброго юношу, который всегда приходил на помощь, когда у его знакомых возникали проблемы. После школы Александра призвали в армию, где он и погиб ровно двадцать лет тому назад. В кадре возникла пожилая полная женщина, оказавшаяся матерью главного героя. Она перебирала письма сына и рассказывала о том, с каким нетерпением она их ждала, а всеведущий бестелесный голос зачитывал их, и казалось, будто письма написаны Тургеневым. В них звучали подлинные сыновние чувства, забота, желание успокоить, и текст лился ровно и величаво, подобно сибирской реке. Далее снова возникло здание школы, теперь уже крупно – часть стены с мемориальной доской, с которой прямо в кадре сдернули покрывало, обнажив серый прямоугольник со светлыми буквами:
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПЕРВУХИН
выпускник 1980 года
пал смертью храбрых в 1984 году
при исполнении интернационального долга в Афганистане.
Камера "отъехала", на экране появились люди, присутствовавшие на церемонии, но ни один из них не произнес для телезрителей ни единого слова, за всех продолжал говорить только голос невидимки. До самого финала сюжета голос не сказал больше ничего нового.
– А раздевалка где? – обиделся Алешка, глядя на серый снег, сменивший изображение.
– Наверно, кассету перепутал, – задумчиво ответил Самсонов, разрядил видеомагнитофон и удалился в свою комнату, не слушая возмущенного бормотания обманутого соседа.
Сюжет показался ему бесконечно обычным, сотым или тысячным в длинном ряду прежде уже виденных. И что же здесь могло так взъярить Ногинского? Почему столь невинный репортаж повлек за собой исчезновение человека, без которого казалось сомнительным само дальнейшее существование целой газеты? Уединившись в одном помещении с похороненной мебелью, Николай с разбегу плюхнулся на раскладушку и понял, что не поужинает сегодня даже плавленым сырком. Холостяцкий ужин выглядел теперь неуместимым в потоке наполнившейся таинственным смыслом жизни. Журналист впервые в жизни обнаружил перед собой необходимость провести расследование, причем никто не собирался ему препятствовать.
Комната неуклонно наливалась сумерками, как "Титаник" холодной арктической водой. Журналистский опыт, хотя и скудный, подсказывал Самсонову, что реальная история наверное имела мало общего с рассказанной, но старый зубр не вчера ступил на газетную стезю прямиком со школьной скамьи, и ромашка не торчала у него за ухом. Не мог же парень двадцати лет от роду оказаться настолько отталкивающим типом, чтобы вывести из душевного равновесия человека, проведшего жизнь в приноравливании своего языка к искусству не спешить за мыслями и достигшего на сем поприще заметных успехов! Не может рыба захлебнуться, не может птица упасть на грешную землю из разочарования в тяжелом осеннем небе, не может навозный жук возжелать нектар – зачем изобретать себе незаживающие душевные раны? Неугомонный Алешка снова врубил у себя в комнате на полную мощь очередное видеосвидетельство чужой половой страсти, чтобы поделиться своим купленным по сходной цене счастьем с соседями. Безудержные вопли и прочие ритмичные звуки сквозь две двери и темный коридор добрались до журналистской кельи и подсказали скромному слушателю обыденную мысль о сермяжной простоте земного существования человека. Успокоившись ею, Самсонов тихо утонул в безмятежном сне, и до самого утра мозг ни разу не обеспокоил его никакими призрачными видениями.
3. Преступления страсти
Утром Николай Игоревич уже ощущал себя Колькой, чего с ним не случалось несколько последних лет. Бодрый и свежий, полный светлых надежд, он позавтракал сворованным на общей кухне чаем в сопровождении чего-то сухого и безвкусного, дошел за четверть часа до редакции и в мгновение ока, как и полагалось ему в его новом состоянии, созвонился с намеченным для первого интервью Петром Николаевичем. Тот, правда, оказался в действительности обладателем дивного отчества "Никанорыч", которое, видимо, служило ему бесплатной кличкой в детские годы. Тем не менее, телефонный разговор задался с самого начала, а закончился договоренностью о личной встрече в кафе "Лунная дорожка". Оно представляло собой маленький одноэтажный домик, облицованный оранжевым кирпичом и укрытый пластиковой черепицей, к которому на уровне земли был пристроен деревянный настил с поручнями под тентом с рекламой пива, где горожане сполна наслаждались возможностью живого общения под струями свежего летнего бриза. Кафе помещалось на берегу затерянного среди пятиэтажек пожарного пруда, как оазис в безводной пустыне, всего в паре кварталов от редакции, как и много других примечательных объектов города, никогда не отличавшегося великими размерами.
Журналист пришел первым, сидел на открытой террасе при кафе и видел, как приехал на тюнингованной "Ладе-112" его гость. Машина цвета "красный металлик" катилась на колесах с восхитительными биметаллическими дисками на манер монет девяносто третьего года: никелированные блестящие спицы и золотистые сияющие обода. Сам персонаж оказался высоким, плечистым и солидным малым, одетым в костюм при галстуке в косую полоску и обутый в сияющие зеркальной чернотой штиблеты с узкими квадратными носами. Он вышел из машины неторопливо, с вескостью в каждом движении, оглядел немногочисленную в утренний час публику, желая опознать Самсонова по его словесному автопортрету, увидел выжидательно привставшего и поднявшего руку журналиста, подошел к нему, поздоровался и присел за столик с уверенностью завсегдатая. Петр Никанорыч нисколько не удивился повторному визиту журналиста по одному и тому же поводу, но мнение его о причинах оного оказалось в корне ошибочным. Он с ходу, уже через мгновение после рукопожатия, начал в постепенно нарастающем темпе возмущенно рассказывать об ошибке, вкравшейся в текст на мемориальной доске – Первухин вовсе не являлся выпускником 1980 года. В восьмидесятом году в школе вообще не было выпуска, поскольку она открылась лишь в январе – все окрестные школы сбросили в нее по разнарядке роно свой "балласт", но десятые классы за две четверти до экзаменов с места, разумеется, никто не трогал.
– Простите, Петр Никанорыч, – со всей возможной вежливостью и даже нежностью вставил свое слово Самсонов. – Возможно, ситуация покажется вам странной, но у нас в редакции обнаружились некоторые проблемы. Журналист, с которым вы беседовали в прошлый раз, к сожалению, отказался от сюжета и, в сущности, не оставил никаких собранных им материалов. Честно говоря, мне нужно для начала просто войти в тему. Я выудил ваш телефон из черновиков, но практически ничего другого в них разобрать не успел.
Журналист быстро понял, что неприлично много говорит о себе, и постарался срочно перевести стрелки на интервьюируемого. Тот с неожиданным пониманием отнесся к странным методам работы местной печати и начал с ленцой, но без видимого раздражения отвечать на тихие вопросы Самсонова.
Никанорыч оказался бывшим одноклассником Первухина, проучившимся с ним в одном классе полтора последних школьных года. Они не были особыми друзьями, просто приятелями, пили иногда вместе пиво, а то и что-нибудь посущественнее – и не только в гостях друг у друга. В этот момент и началось постепенное преображение мраморного героя в когда-то живого человека. Самсонов ждал его, знал о его неизбежности, но все равно не оказался готовым.
Сашка Первухин учебным процессом себя не изнурял, о необходимости и неизбежности окончания школы совсем не думал и больше всего на свете предпочитал изумлять приятелей необыкновенным количеством известных ему анекдотов, которые всегда оказывались абсолютно свежими и никем еще не слышанными. Некоторые на полном серьезе утверждали, что он сам их и выдумывает, запуская свои шальные произведения в мир, словно бестолковые разноцветные шарики в чистое голубое небо. Разболтанной жизнью своей он мог бы удивить кого угодно, кроме тогдашнего юного Никанорыча – тот и сам шел к взрослению дорогой ухабистой и запутанной. Летом между девятым и десятым классом Сашка в ночной драке в парке у залитой светом танцплощадки получил удар отверткой под ребра. Враг, всадив длинное узкое жало в податливое тело, изо всех сил рванул рукоятку, чтобы отломить ее и осложнить задачу врачам, но подлой цели своей не достиг – оружие лишь согнулось, но не затерялось в юной плоти и кровь из рваной раны не выпустило. Никанорыч сидел тогда рядом с Сашкой в ожидании "скорой помощи" и не видел в тени развесистой черемухи лица раненого, лишь слышал трудное дыхание сквозь отдаленную музыку, словно смотрел кино, только оно казалось ему слишком страшным и ненужным.
– Я тогда впервые замочил руки чужой кровью, признался рассказчик, машинально помешивая ложечкой свой кофе, – потом дома отмывал и чуть сознание не потерял – в раковине будто свинью зарезали. Даже странно – что за штука такая – кровь? Подумаешь, на руках осталась – всего ничего! А вот водой разбавилась – и здрасьте, пожалуйста. Сразу так много ее стало. Ты, журналист, что о крови знаешь?
– Не больше других, – признался Самсонов, мысленному взору которого картина представилась весьма явственно. Кровь всегда ему казалась чем-то из разряда физиологического, и ничего поэтического он в ней не замечал с самого детства, когда мама дула на его смазанные зеленкой ободранные коленки. – А девушка у него тогда была? – выдал вдруг журналист свой потаенный интерес к душевному, без которого никакой персонаж ни за что не оживет в очерке, сколько его не раскрашивай.
– Была, конечно, – твердо заявил Никанорыч, – Светка. Только он обиделся на нее в тот раз, потому что она в больницу не приехала. Хотя обижаться ему стоило на самого себя – отвертку-то он заполучил из-за другой. Начал зачем-то обхаживать чужую телку, наверное, и сам не знал, зачем. Просто так. Потому что на глаза попалась.
– А со Светланой у него серьезно было?
– В десятом-то классе? Думаю, настолько серьезно, насколько случается в телячьем возрасте.
Сашке сделали операцию под общим наркозом, зашили распоротые внутренние органы, утром он очнулся среди чужих людей и разозлился отсутствием знакомых лиц. Дело не в том, что ему хотелось бы видеть вокруг суматошную толпу близких, озабоченных желанием помочь ему. Он просто сделал спокойно обдуманный вывод: моя жизнь не нужна никому, в том числе и мне самому. Возможно, только врачам, не желающим портить статистику своей больницы. В палате лежала дюжина мужиков разного возраста, которых он совсем не интересовал, санитарки оказались сплошь толстыми и старыми, сухой, как Каракумы, врач заходил изредка убедиться в его неминуемом выздоровлении. А Сашка смотрел в потолок и не знал, зачем ему, собственно, выздоравливать.
– Светлана совсем не пришла? – уточнил Самсонов.
– Совсем, – кивнул утвердительно Никанорыч.
– Но мать-то пришла, я думаю?
– Пришла. Через три дня – ее не было в городе, она уезжала к родне. Следователь к нему приходил, но никого не арестовали, и, соответственно, суда не было. Да Сашка, если бы и хотел, ничего бы не рассказал – парни незнакомые, все изрядно на взводе.
А он и не хотел ничего никому рассказывать. Тосковал только по блаженной прошлой жизни, когда наивно казался самому себе едва ли не центром Вселенной.
– А вы хорошо знали Светлану?
– Совсем не знал, – безразлично пожал плечами Никанорыч. – Видел только. Выжженная блондинка, как и все. Ничего не могу о ней сказать, ни хорошего, ни плохого.
– Так она не с вами училась?
– Нет, это у Сашки осталась память от старой школы.
Первухин о ней совсем ничего никому не рассказывал. Он вел вольготную жизнь, дома появлялся не каждую ночь, а в светлое время суток вовсе никогда. Школа долго казалась ему досадной помехой, неизвестно кем изобретенной для порчи личной жизни свободных духом людей. Такие же вольные, как и он, девчонки роились вокруг него непрестанно, и каждая могла бы при необходимости часами рассказывать, чем он ее манит, не подозревая о занятной странности – каждую из роя своих поклонниц юный Сашка очаровывал совсем не тем же, чем остальных. Каждая из соблазненных им имела своего персонального Первухина, и они не ревновали его друг к другу, даже будучи осведомлены о его неверности. Он казался созданным для плотского греха, как дамасский клинок для своих золотых ножен. Но Светка оставалась в этой разнузданной жизни белой фигурой умолчания – толком ее никто и не видел, отчего она представала взору окружающих Сашку людей нереальным воздушным видением, весьма нелепым в антураже античного разврата.
– А как вы считаете, они сохранили отношения после школы?
– Насколько я могу судить, да. Это, кстати, приводило всех в крайнее изумление. Она ведь школу закончила с золотой медалью, поступила в университет и уехала учиться, а он получил свою справку и устроился работать грузчиком в магазине, потому что из ненависти к учебе любого рода не пожелал идти в ПТУ или учеником на производство. Решил, что хоть на грузчика учиться не придется. Кстати, не совсем прав оказался – там ведь тоже свои секреты ремесла имеются, просто осваиваются они на практике, а не в теории.
Самсонов слушал все внимательней, словно вчитывался в новый роман, но имел преимущество перед читателем – он мог уточнить интересующие его детали непосредственно у рассказчика. Безалаберность принесла Сашке свои горькие плоды на ржавом подносе. При всем желании школьной администрации сохранить чистоту благоприятной статистики, упорное нежелание Первухина вступить во взрослую жизнь с гордо поднятой головой закончилось тем, что на выпускном балу он, одетый не в костюм, а в обычные джинсы и футболку, угрюмо возникал то в одном углу, то в другом, нигде не оказываясь в компании. Время от времени с ним заговаривали классная или завуч, а он стоял перед ними, глядя по сторонам или в пол, и, кажется, ничего не отвечал. Юный Никанорыч развлекался всеми силами своей тогда еще неискушенной души и к Первухину не подходил, да тот и исчез из школы рано, еще ночью, не дождавшись утра и встречи рассвета, который не обещал ему ничего приятного.
– А подробности его жизни перед уходом в армию вам известны?
Никанорыч неопределенно пожал плечами:
– Ну какие подробности в жизни магазинного грузчика, порабощенного студенткой? Хорошо уже, что ничего не слышал, а то ведь в таких случаях можно услышать и такое, чего слушать не хотелось бы. Подробности появились после армии. Я в девяностом от нечего делать пошел на празднование десятилетия школы и обнаружил в кабинете физики на стене целый стенд в его память. Фотография, биография, все дела. Мол, класс имени Александра Первухина, героя войны. Сразу вспомнил свое детство, Александра Матросова, Гастелло и Талалихина – жутковато стало. Выходит, я уже выходец из поколения ветеранов? Хорошо хоть, на пионерские сборы сейчас ходить не надо. Мне, правда, в любом случае не грозило бы – я ведь служил в тихой глуши, мирно, без всякой стрельбы и подвигов.
Никанорыч и Самсонов замолчали, бесцельно глядя через перила террасы на пруд. Беременная мамаша с любопытным карапузом не более двух лет от роду, одетым в синие джинсики на помочах с бабочкой на груди, подошли к самому краю отлогого травянистого берега и крошили хлеб уткам. Расфуфыренные селезни, сверкая на солнце синим отливом своих затылков, наперегонки со скромными серыми уточками хватали с зеленой воды куски небесного дара, но не обращали на людей ровным счетом никакого внимания. Они просто знали, что здесь можно подкормиться, и не желали упускать сиюминутной выгоды.
– А что вам известно о его гибели?
– В общем, тоже ничего. За пару недель до увольнения погиб, вот и все. Хоронили в закрытом гробу. Я же сам тогда еще дослуживал и всю эту историю знаю по рассказам. Девчонки наши должны знать подробности – в те поры только они здесь и обретались.
Собеседники снова тяжко замолчали, словно нашли мертвую птицу на пустынной дороге.
– Так вы не поддерживали связи ни со Светланой, ни с матерью Первухина?
– Нет. Говорю же, я и с ним самим особых связей не поддерживал. У него своя компания была. Та еще компания! Я краем уха слышал – кого посадили, кто укатил куда-то безвестно и безвозвратно на какие-то темные заработки.
Никанорыч говорил безразлично и скучно на исчерпанную тему и ждал от журналиста новых посылов, а тот и сам не желал сдвигать с места упавшую на разговор могильную плиту. Как часто в его жизни случалось, дорога к женщинам оказалась туманной и извилистой, а легкий путь – кажущимся. Самсонов мучительно искал фразу для внятного подведения итога и произнес неожиданно для самого себя:
– Вам его жалко? Я хочу сказать: вы жалеете о его смерти? Я все понимаю, полтора года проучились в одном классе, с тех пор никогда не виделись, а последние двадцать лет знаете, что он мертв. Но все-таки – вы же с ним разговаривали, пиво пили, вы его помните до сих пор, так что же он для вас значит?
Оказавшийся неожиданно для самого себя разговорчивым, интервьюер испугался вдруг вырвавшихся на свободу слов и уже почти ждал в ответ резкую фразу или чего-нибудь похуже, но ошибся. Никанорыч не взрывался, а мирно продолжал помешивать ложечкой давно остывший кофе.
– Не могу сказать, что я по нему скучаю, – сказал он тихо и настойчиво. – Просто есть какое-то невнятное чувство, словно прошел мимо нищего… Черт его знает.
– Я понимаю, – вставил к месту обнаглевший Самсонов, – нищих вообще нужно уничтожить – воистину, они раздражают, и когда подаешь им, и когда не подаешь, как говаривал Ницше.
Никанорыч встрепенулся, посмотрел на журналиста с некоторым оторопением, затем вновь обратил внимание на свой кофе и через бесконечно долгое время согласился:
– Наверно, так и есть. Хотя, если нищий – не твой родственник или благодетель, пройти мимо него – не преступление.
– Бесспорно, – согласился Самсонов, который за всю жизнь не подал ни копейки, а только злился на попрошаек, считая настоящими моральными вымогателями тех из них, которые обращались за милостыней непосредственно к нему, вместо того, чтобы смирно стоять и ждать проявления благотворительных чувств со стороны прохожих доброжелателей.
– Ну что ж, – сказал он, осторожно хлопнув ладонями по столу, – спасибо, Петр Никанорыч, вы очень помогли не только мне, но и всей нашей несчастной газете в трудной ситуации. Простите за повторное беспокойство – надеюсь, я не слишком нарушил ваши планы на утро.
Никанорыч безразлично махнул рукой и распрощался с Самсоновым без сожаления и торопливости, как совершал он и все остальные поступки в своей жизни, наполненной решениями, важными не только лично для него, но и для множества других людей, от него зависящих и ему доверившихся.
Журналист вернулся в редакцию в неопределенно подпорченном настроении. Стройный план очерка, начерно сформировавшийся в голове его будущего автора, понемногу запутывался. С другой стороны, непреодолимой сенсации тоже не случилось – Николай Игоревич ожидал, что герой при ближайшем рассмотрении не окажется подобием ангела. На текущий момент расследования никаких преступлений с его стороны на поверхность не всплыло, нужно поговорить со Светланой и Марией Павловной, заскочить в школу, в районную администрацию за подробностями истории с текстом мемориальной доски. Может, проявится со временем необходимость в совершении еще пары манипуляций.
В редакции, как всегда, ничего не менялось – звенели мухи, биясь о немытые стекла окон, чахлые почерневшие тюльпаны в вазе со старой желтой водой тихо осыпали лепестками подоконник, а люди безнадежно отсутствовали – возможно, пытались доказать самим себе оправданность их появления в не самом лучшем из миров.
Вызвонить Светлану Ивановну оказалось сложнее, чем Петра Никанорыча – в трубке долго и однообразно мычали короткие гудки, а через час они еще и стали безнадежно длинными. Занятая, как обычно, корректированием, Даша не сразу обратила внимание на служебную активность Самсонова. Она снизошла до его усилий только тогда, когда ей самой понадобился телефон. Снизошла случайно, непроизвольно и между делом – подошла к аппарату, бросила блуждающий женский взгляд на мятую бумажку в руках стоящего на грани самоуничижения связиста и, снимая трубку, небрежно заметила, что в ней значится телефон местного, почти самодеятельного, театрика. Районный храм Мельпомены славился в узком кругу ценителей изящных искусств оригинальностью постановок, устроенных по принципу "голь на выдумки хитра", но не раздражавших поклонников классики излишним авангардизмом в манере актерской игры. Самсонов время от времени разными путями получал напоминания о его существовании в городе, но никогда его не посещал – смущало несоответствие понятий "театр" и "райцентр".
– Хочешь сказать, ты и адрес знаешь? – совсем не удивился, а тихо обрадовался Самсонов.
– Разумеется, знаю, – небрежно обронила властительница офиса, но сообщила его спустя четверть часа, завершив свои неотложные переговоры. При этом она не преминула заметить, что без ее участия жизнь в редакции окончательно замрет, и город потеряет свой единственный, хоть и еженедельный, источник локальной истины.
– Обязательно, – подтвердил свою уверенность в том же ее осчастливленный собеседник и сорвался с места в карьер по новому адресу.
Театр "Балаган" располагался в месте, совершенно неожиданном для заведения такого почтенного сорта: вместилищем храма искусств служил подвал бывшего детского сада. Здание насчитывало два этажа и было построено из железобетонных блоков, усыпанных снаружи мелким гравием. Выглядело оно мрачно, но ни его обитатели, ни его клиенты не видели в сем печальном обстоятельстве проблемы. Населяли детсад многочисленные фиктивные и подлинные компании, фирмочки, конторы, магазинчики, парикмахерские, фотоателье и мастерские по ремонту всякой всячины.
Неподалеку, в силу необъяснимых причуд судьбы, стоял унылый старенький КрАЗ с налепленным на лобовое стекло рабским клеймом бумажного объявления: "ПРОДАЕТСЯ". Пешеходы шли мимо него, не обращая ни малейшего внимания на происходящее предпринимательское бездействие. Самсонов тоже прошел мимо самосвала, не удостоив его даже взглядом, остановился в нерешительности, затем неторопливо обошел вокруг здания, разглядывая разнообразные вывески, которыми оно было увешано со всех сторон. Среди них нашелся и путеводный вензель "Балагана" со стрелой, смело указующей страждущим путь в подземелье. Незваный посетитель последовал указанию, миновал узкую лестницу, несколько узких полутемных помещений с низкими потолками, пока не оказался в бывшем тире. Прежнее назначение легко угадывалось по наличию старых мишеней, развешанных вдоль дальней стены. Помещение оказалось сильно вытянутым в длину, тоже полутемным, как и все помещения этого творческого подвала, и к тому же заставленным некоторым количеством разнокалиберных стульев. Люди не показывались.
Самсонов начал осторожно искать путь к своему очередному источнику информации, но не успел толком ничего произнести, как на него откуда-то спикировала маленькая голубая молния. Он испуганно вздрогнул, но через секунду распознал у себя на плече бело-голубого волнистого попугайчика, который короткое время рассматривал его в упор, склонив на бок головку, а затем произнес, на удивление отчетливо: "Погулять не хочешь?" Попугайчик повторил свой настойчивый вопрос неоднократно, а затем распустился до того, что начал бесцеремонно выдергивать волоски из журналистского виска. Появившаяся из боковой двери женщина спасла Самсонова, сняв с его плеча наглую птицу, и вежливо пояснила визитеру в ответ на его поспешный вопрос, что Светлану Ивановну можно найти в ее гримерной, и даже проводила до обыкновеннейшей металлической двери бомбоубежища, которую при желании можно было намертво задраить посредством круглого ворота.
За дверью обнаружилось очередное помещение с низким потолком, освещенное лучше прежних, и неуместная в нем элегантная дама в строгих, но изящных очках, общение с которой с самого начала развивалось далеко не так успешно, как с Никанорычем. Во время разговора Самсонов невольно косился на зеркало с обоймой ламп по всему периметру, не в силах поверить в реальность происходящего.
– Я уже общалась на эту тему с господином Ногинским, – сухо произнесла хозяйка египетским, как Нил, голосом, явно ожидая от незваного посетителя извинений и исчезновения. Видимо, жизнь не обучила ее общению с журналистской братией.
Самсонов пустился в объяснение создавшейся, не без активного участия (или не менее активного безучастия) того самого господина Ногинского, в маленькой, но добросовестно подходящей к исполнению профессионального долга редакции. Длинные его речи не встретили сочувствия у слушательницы, неизменно смотревшей на него сквозь равнодушные очки нетерпеливыми глазами случайной знакомой. Она совершенно не понимала смысла происходящего и желала остановить время хотя бы в том месте, куда оно уже докатилось, раз не удалось сделать этого раньше.
– Простите, – перебила она, наконец, словесный поток непрошеного оратора, – я не понимаю, что происходит. Меня совершенно не волнуют беспорядки в вашей редакции, и я не хочу заново возвращаться к теме. Мне это просто тяжело – говорю вам напрямую, если вы сами не способны понять…
Светлана Ивановна начинала волноваться и терять слова на еле заметной тропе общения с незнакомым человеком, видеться с которым она не собиралась. Но Самсонов утвердился на позиции жертвы обстоятельств с независимым видом вершителя рока. Он очень подробно извинялся, долго описывал свои безуспешные попытки дозвониться, объяснял стесненность во времени и свою полную невиновность в создании нынешней неприятной для всех действующих лиц ситуации. Но больше всего он напирал на необходимость для Светланы Ивановны заново выдержать тяжелое испытание больной памятью, поскольку в противном случае Самсонов, будучи добросовестным журналистом, просто не найдет возможным опубликовать куцый очерк, лишенный ценных свидетельств о безусловно важной стороне жизни главного героя.
Велеречивость Николая Игоревича не знала пределов, он то вздымался своей творческой мыслью до облаков духовной поэтики, то повергался в глубокие пропасти практического смысла. Актриса районного театра слушала его растерянно и бессильно, как кобра своего заклинателя, и, надо полагать, послушно сопровождала оратора в его незримых эскападах. Затмить Ногинского никогда и никому не удавалось, а если и находились такие сверхчеловеки, то могучие силы уносили их далеко от тихого районного центра, и спустя короткое время они обнаруживались на областной и чуть ли не федеральной высоте. Возможно, Самсонов смог сделать сказку былью, убедив Светлану Ивановну, что даже по стопам великого предшественника он пройдет нехоженой тропинкой и обязательно оставит в памяти читателей зарубку с именем Александра Первухина. Женщина уступила понятному желанию автора запомниться читателям, хотя бы и за чужой счет.
Актриса велела кому-то за дверью не беспокоить ее до тех пор, пока она сама не переменит поведение, предложила настырному посетителю сесть на покосившийся скрипучий стул и заговорила с покорностью и гордостью львицы, отдающейся новому хозяину гарема, который убил ее детей от прежнего властителя и планирует завести от нее своих собственных.
Сашка Первухин не мог принять жизнь в сермяжной простоте и всеми силами день ото дня стремился ее усложнить, чтобы получить из тусклого тела живой сок праздника. В середине семидесятых он в своем нежном возрасте умудрялся носить расклешенные джинсы с желтой бахромой и с кожаным ремнем при огромной бляхе. Его тропические батники в обтяжку и косматые волосы, по возможности до плеч, которые по суровому настоянию завуча он мог не состричь, а только обрить наголо, чем производил каждый раз новый фурор, мозолили глаза всем знакомым и незнакомым, а также проходящим мимо, год за годом с неизбежностью круговорота воды в природе.
Хулиганство его носило характер постоянный и несносный, но из разряда дурацких детских шалостей. Мог, например, во время уроков метнуть в класс из коридора "дымовуху", изготовленную из пластмассовой расчески в бумажке. Бил стекла, и не только в школе, дрался – иногда серьезно, но без поножовщины.
Школа стояла на самой окраине города, из ее окон открывался пленительный вид на старую березовую рощу, вокруг которой царила свобода и вседозволенность, выгодно отличающие ее от серых учебных будней. Иногда по утрам, и осенью, и зимой, и весной, Первухин в компании таких же неуправляемых соратников, мечтающих о славе, шел по росе или сугробам через эту рощу в недальний колхоз. Там бандиты задобряли конюха бутылкой водки и прямо во время уроков появлялись у школы в вязаных шапках, натянутых на лицо, и верхом на неоседланных лошадях, чем вызывали общий восторг тоскующих школяров. Занятия срывались, самые суровые учителя теряли власть над классом, ученики толпами бросались к окнам и любовались гарцующими всадниками, в которых явно было что-то от Зорро.
Одноклассницы долго не баловали его вниманием, но к восьмому классу оказалось, что он располагает кое-какими деньжатами, умеет танцевать, даже вальс (чуть ли не один из всего мужского населения города), и, по слухам, вызывает у своих избранниц волшебное головокружение поцелуями. Все эти обстоятельства выдвинули его в ряд первых парней, но он стоял там без видимой маски довольства, присущей многим его товарищам по занятой позиции, а напротив, почти стесненно, что вздымало его славу на новые небывалые высоты. Девушки вечно мнили себя первыми, к кому он прикасается, и никакая слава донжуана не мешала им обманывать себя.
Юная и невинная Света жила в ту пору грезами о Пер Гюнте и Сольвейг, и в ее мире не было места прыщавым одноклассникам, испускавшим после перемен тяжелый аромат дешевых сигарет. Она долго пожимала плечами в ответ на сдавленный шепот с подробностями очередного приступа головокружения у очередной жертвы школьного ловеласа. Она смотрела на Сашку и решительно не видела в нем никого, кроме глуповатого мальчишки, не имеющего за душой ничего, кроме некоторых навыков оболванивания особо недоразвитых дурочек.
Так продолжалось некоторое время, начала которого никто не помнил, а затем пришла осень семьдесят девятого года, а с ней очередная страда. Как обычно, средние и старшие классы в сентябре, при наличии хорошей погоды, облачались дома по утрам в рабочую одежду, брали бутерброды, приходили к школе, грузились в автобусы и ехали в совхоз собирать морковь, счастливые сознанием свободы от уроков, успевавших им надоесть за первые несколько дней после летних каникул. Девчонки хором горланили в автобусах песни, мальчишки слушали их, обменивались язвительными шуточками и удивлялись необъяснимой традиции. Совхоз заранее подпахивал тракторами плантации, предназначенные для уборки школьниками, тем оставалось только выбирать из рыхлой земли морковь, отрезать ножами хвосты (оставляя не меньше полутора сантиметров) и рассовывать ее по мешкам, сортируя в соответствии с качеством (разветвленная и маленькая считалась кормовой, что не мешало опытным детям впоследствии с искренним изумлением встречать в магазинах именно такой нестандарт).
Вот так, одним славным солнечным деньком, Света и Сашка оказались в паре на одной грядке. Сашка подошел к делу хозяйственно, запасся мешками и развил такой бурный темп, что Светлане выполнение их общей нормы в итоге показалось как никогда легкой задачей. Напарник с ней почти не разговаривал, а просто, без вопросов, шуток и разговоров сделал невозможное – девочка грезила зимними розами и ночным бризом, колеблющим легкие занавески на открытом окне, а обратила внимание на чумазого одноклассника в кедах и в старых брюках с пузырями на коленях. Тот за ней не ухаживал, но заботился, словно они половину своей короткой жизни провели в браке.
Странный выдался день – в памяти Светланы осталось яркое солнце, смех и крики, пот на лице, руки в грязных нитяных перчатках и Сашка, протягивающий ей собственный бутерброд с таким видом, словно она пришла к нему в гости, и он ухаживает за ней, строго выдерживая манеры лондонского денди.
Потом потянулись непонятные и обманчивые дни, недели, месяцы, когда Первухин загадочным образом оказывался рядом со Светланой в самые неожиданные моменты. Света продолжала краем уха подслушивать свежие истории о его похождениях, даже дискуссии о беременности по его вине какой-то девчонки из параллельного класса, а потом говорила с ним усмехаясь, чтобы самой не попасть в последние школьные новости, тем более без реальных причин.
Она всегда смотрела на фривольных девчонок со стороны, не испытывая к ним ни брезгливости, ни иных сильных чувств, а просто воспринимая как отдельный подвид. Они вечно болтались по улицам в компании мальчишек и неизвестно чем занимались в общественных и приватных местах, оставаясь при этом для Светланы другим миром. Внимание Первухина и смутный интерес к нему делал неопытную девушку причастной к вселенной вседозволенности. Она не вошла в компанию, так и оставшись инопланетянкой, но все участники оной компании знали, что Первухин все больше времени проводит с ней, и ощущали ее похитительницей. Прошел год, разгильдяя Сашку перевели в новую школу, отличницу Светлану оставили в старой.
Однажды вечером, в августе, Света, забравшись с ногами в огромное кресло, читала Жорж Санд, когда в дверь позвонили. Трезвонили протяжно и бесцеремонно. Мать открыла и впустила в квартиру маленького веснушчатого посыльного, из числа сашкиных поклонников. Он задыхался от долгого бега, но нагло вбежал в комнату, ловко обойдя без объяснений хозяйку, и стал возбужденно кричать на Свету, что Сашку порезали на танцах, и сейчас он в районной больнице на операции. Веснушчатый курьер искренне ожидал, что она вспрянет в ужасе и опрометью бросится к одру раненого разделить его боль, но увидел только недоумение в поднятых на него глазах. Мальчишка продолжал вопить, желая честно исполнить свою комиссию до конца, и замолчал, только увидев жестокую девицу вновь склонившейся над книгой. В детском сознании посланца сложилась картина предательства, никогда прежде им не виданная. Он задохнулся от гнева, не по возрасту умело обматерил Светку и ринулся прочь, огибая встретившиеся на его пути препятствия. Тем вечером мать долго разговаривала с дочерью, вымогая у нее подробности отношений с неизвестным, но убедилась только в полном отсутствии оных и успокоилась.
Осень выдалась долгой, холодной и дождливой. Светка усиленно вгрызалась в гранит науки выпускного класса, занималась помимо школы с репетиторами и моталась по воскресеньям в Москву на курсы абитуриентов университета. Свободного времени не оставалось, она изнемогала, но по-прежнему не теряла решительного победного настроя. Выздоровевший после ранения Первухин всеми силами мешал ей учиться. Иногда приходил в ее школу во время уроков, иногда встречал ее на улице по их окончании, и каждый раз пытался что-нибудь подарить, куда-нибудь пригласить, что-то объяснить, а она отмахивалась от него нетерпеливо и раздраженно, всякий раз торопясь по своим учебным делам. Утром в свой день рождения усердная ученица обнаружила на тротуаре перед подъездом огромную надпись белой краской: "С днем рождения, недотрога!" с пририсованными цветами. В подъезде некоторые знали, когда у нее день рождения, и очень скоро все соседки были осведомлены, кто именно удостоился публичного поздравления. Виновница разозлилась всерьез и при следующей встрече накричала на Сашку громко и прилюдно, чем изрядно усугубила раздражавшую ее неприятность.
Дождливым ноябрьским вечером, вернувшись домой от репетитора и собираясь после ужина заняться еще уроками, Света не обратила внимания на звонок дверь. Открыла снова мать, но через пару минут она позвала дочь в прихожую. Там обнаружился мокрый до нитки Первухин с огромным букетом влажных роз. Матери ситуация казалась забавной, она помогла гостю снять куртку и пыталась пристроить ее в ванной, чтобы на пол в передней не натекла лужа. Сашка искренне пытался одеться поприличней, даже галстук как-то накрутил – наверное, впервые в его грешной жизни. Он уже снял ботинки, но еще не надел домашние тапки, когда перед ним возникла Света. Поэтому решительно сделал несколько шагов в носках навстречу избраннице, оставляя за собой четкие влажные следы, и молча протянул ей букет.
Желая убить нахала на месте, Светка проигнорировала розы и язвительно спросила, какие цветы гость подарил маме. Тот замер в растерянности с протянутой рукой, не понимая происходящего.
– Ты ведь воспитанный человек? – не унималась возмущенная дочь. – Что же ты явился к двум женщинам с одним букетом?
– Света, прекрати, – пыталась утихомирить ее мать, которая совершенно не собиралась устраивать резню, а только желала повеселиться.
Первухин продолжал стоять на месте со своим букетом, не зная, как поступить. С головы его непрерывно стекала вода, и он то и дело вытирал лицо, чтобы видеть окружающий его ужас. Перо отказывается описывать душевное состояние человека шестнадцати лет, который впервые в жизни решил рассказать о своих чувствах, но подвергся издевательствам. Возможно, его посещала мысль разделить букет надвое или отдать его целиком матери невесты. Только кто знает, что придумает в ответ жестокосердная, оказавшая ему ледяной прием? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться – поиск повода для унижения ближнего своего есть самое простое из человеческих дел. Люди не могут предвидеть все на свете, не все могут мгновенно реагировать на изменившиеся обстоятельства, а если ты несколько месяцев набирался решимости сделать красивый глупый поступок, но, сделав его, оказался в дурацком положении, то отсюда и вовсе почти никто не выберется с прежним лицом.
Сашка придумал только демонстрацию. Он положил мокрые розы на пол, развернулся и неожиданно для своих мучительниц вышел в подъезд. В чем был. Светкина мама побежала за ним, забыв сразу захватить куртку и ботинки незадачливого жениха, догнала его, но не смогла ни остановить, ни передать отсутствующие в ее руках вещи. Она стремглав вернулась домой, схватила в охапку чужое добро и вновь бросилась вдогонку за его обладателем. На улице лежала темнота, шел холодный дождь, и никого не было видно. Герой успел в носках ушлепать по ледяным лужам за близкий городской горизонт, не оставив признаков своего присутствия или свидетелей.
– Вы виделись с ним потом? – спросил интервьюер.
– Нет, – коротко ответила актриса, не посчитав нужным снабдить свой ответ подробностями. Впрочем, какие могут быть подробности у отрицательного ответа? Только мотивировочные, а здесь как раз все было совершенно ясно.
– Как вы думаете, почему у людей, с которыми я разговаривал до вас, сложилось впечатление, будто вы общались с Александром и в школе, и даже по ее окончании?
– Потому что наш так называемый город в сущности – деревня, – раздраженно выпалила Светлана Ивановна. – Или ваш Первухин умел красиво врать. Впрочем, врать красиво ему бы и не понадобилось – в такие вещи у нас верят с особой готовностью.
Самсонов выслушал собеседницу молча, делая конспективные заметки в своем блокноте и не задавая вопросов. После разговора с Ногинским та сама построила свой рассказ в нужном любому журналюге русле. Только Светлана Ивановна ошиблась в главном: ее визави оказался неординарным представителем своего славного цеха.
– Вы жалеете его? – спросил он с бесцеремонностью распорядителя дома терпимости.
– Что вы имеете в виду? – гордо вскинула голову актриса.
– То самое, что спрашиваю, – пожал плечами Самсонов. – Вам его жалко теперь?
– Нет, – резко выпалила Светлана Ивановна, на сей раз без паузы. Она не смотрела на интервьюера, а принялась сосредоточенно перебирать свои гримерные принадлежности.
– Ну что ж, – хлопнул себя по коленям Николай Игоревич и встал со стула. – Спасибо за беседу. Вы мне очень помогли.
– Зачем вы вообще приплели меня к этой истории? – недовольно вскинулась женщина. – Я ему не жена, не невеста. Так, бывшая одноклассница. Я ведь не единственной девчонкой была в нашем классе. Вы что, всех обходите?
– Да нет. Я, видите ли, действую в ситуации жесткого цейтнота и к вам пришел исключительно по наводке своего предшественника. Не имел о вас ни малейшего представления.
– А что вы собираетесь обо мне написать?
Самсонов задумался на короткое время, затем в нерешительности пожал плечами:
– Видимо, ничего. Я ведь пишу о Первухине, а не о вас. До свидания.
Журналист с чувством собственного достоинства в каждом движении коротко поклонился и вышел прочь – сначала из гримерной, потом из тира, затем из "Балагана".
Недоумение его росло с каждым часом работы над роковым очерком. Осудить взрослую женщину, без малого четверть века назад отшившую какого-то двоечника, бабника и хулигана, он не мог, но свежим воздухом после подвала дышал с большим удовольствием. Самсонова занимали некоторое время размышления о путях, приведших выпускницу МГУ в подвал бывшего детского сада, но эпоха дала много примеров неизмеримо более драматичных судеб. Николай Игоревич не стал тратить себя по пустякам, а просто вернулся в редакцию. Последний телефон в списке Ногинского определенно принадлежал матери покойного. Разговор с ней заранее вызывал тягостное ощущение под ложечкой, поэтому даже звонить ей Самсонов не хотел, отложив до вечера. Наскоро перекусив чужой едой из общественного холодильника, он поспешил в школу, с которой и закрутилась вся история.
Уроки уже закончились, детей в здании оставалось немного, шум не давил на барабанные перепонки, весеннее солнце лилось через окна, то есть обстановка для посещения сложилась самая благоприятная. Поблуждав немного по коридорам и задав несколько вопросов, незваный визитер нашел пустой кабинет директора. Потоптавшись перед дверью, он отправился в новое блуждание, задал встречным еще пару вопросов и нашел учительскую. Представившись с чувством профессиональной гордости в голосе, журналист в течение нескольких минут установил отсутствие в данный момент в данной комнате учителей, работавших в данной школе двадцать лет назад. Тогда Самсонов попросил показать ему мемориальный класс Первухина и впервые за время своего визита добился положительного результата. Его даже проводили до места и открыли запертую дверь.
Класс не выделялся ничем примечательным среди других классов этой средней во всех смыслах школы. Разглядывать доску и парты Николай Игоревич не стал, а сразу направился к стенду, посвященному его герою. На фотографии тот оказался совсем юным, еще школьником. Организаторы стенда не могли преодолеть непреодолимого – Первухин в своей сознательной жизни успел побывать только школьником и солдатом. На листах бумаги вокруг снимка значилась недолгая биография героя, воспоминания о нем учителей и одноклассников, другие фотографии, поменьше, на которых покойный был запечатлен с разными людьми, имелись даже воспоминания о нем сослуживцев с описанием последнего боя Первухина. Последним документом Самсонов заинтересовался и прочел его внимательно. Солдат погиб при исполнении задания по охране трубопровода, в ходе боя с бандой душманов, пытавшейся этот трубопровод подорвать, под минометным огнем, на своей позиции, которую живым так и не оставил.
Николай Игоревич, давно мучимый мыслями о целесообразности своего жития, уже не делал попыток проникнуть во внутренний мир людей, рискующих жизнью ради целей, более высоких, чем собственная выгода. Он пытался строить догадки о своей способности броситься под огнем противника в атаку или сидеть в окопе среди разрывов и не прятаться на его дне, а стрелять в ответ или ждать атаки противника. Может, вообще не бывает в нынешних войнах киношных атак, а только необъяснимые со стороны и даже с солдатской точки зрения перебежки с места на место под звуки неизвестно откуда доносящихся выстрелов? Война обошла стороной Самсонова, он видел ее только по телевизору, читал о ней в книгах, газетах и журналах, пытался выискивать философские обобщения, но не имел достаточно материала для суждения о самом себе. С одной стороны, такой недочет в биографии теперь ему досаждал, с другой – он понимал, что мог не пережить личного военного опыта физически или морально. Возможность любого из неприятных ему исходов вынуждала журналиста в целом хранить удовлетворение фактом отсутствия в его жизни опасной страницы.
Размышления Николая Игоревича у стенда прервались новостью о возвращении директора, к которому он проследовал послушно в сопровождении милой девушки, осиянной не идущим к ней званием учителя. Директор тоже оказался женского пола – маленькая седенькая бодрая женщина встретила посетителя за столом кабинета официальным тоном. Вновь потребовались объяснения и комментарии на предмет загадочных методов работы районной газеты, но накопленный опыт позволил Самсонову преодолеть эту фазу разговора быстрее прежнего. В первую очередь выяснилось, что хозяйка кабинета в те давние времена директором не являлась и вообще с первухинским десятым классом не работала, но сделает все от нее зависящее для увековечения памяти о единственном выпускнике школы, погибшем в бою. Затем повисла короткая пауза.
Директриса не спешила продолжать разговор, и Николаю Игоревичу пришлось задавать вопросы. Их общее направление он представил заранее, поскольку накопил уже достаточно материала для фантазии. Хозяйку кабинета предложенное направление не устроило.
– Я не понимаю, чего вы добиваетесь? – сухо спросила она. – Вы намерены послужить делу патриотического воспитания молодежи или затеваете какое-то странное разоблачение?
Самсонов абсолютно не приготовился к подобным выпадам и от неожиданности принял вид разоблаченного хулигана, попавшего в кабинет директора на расправу.
– Извините, о патриотическом воспитании я вовсе не думал, – пожал он плечами.
– Да? Интересно! Откуда вы вообще явились? Вы представитель нашей районной газеты?
– Да… Послушайте, зачем же так агрессивно? По вашему, воспитать молодежь в патриотическом духе можно только ложью?
Директриса гулко хлопнула сухонькими ладонями по столу и резко поднялась.
– Вы меня не устраиваете в качестве автора такого важного очерка, поэтому я непременно свяжусь с вашей редакцией и выскажу свое мнение в самых решительных выражениях.
– Хорошо, связывайтесь, но нельзя ли мне переговорить с кем-нибудь из учителей Первухина?
– Нет, нельзя. Вам вообще нельзя работать над этой темой. Можете идти.
– Спасибо… До свидания.
Ошарашенный Самсонов вышел из ужасного кабинета с единственной мыслью в забубенной головушке: она действительно позвонит главному с протестом? Серьезная дама – вряд ли она просто пугала. В коридоре опозоренный профессионал понял, что минуту назад в нем убили репортера, и воскресить его можно только проявлением самой беспардонной наглости, которую только может вообразить цивилизованный человек.
Деловым шагом, сохраняя невинную внешность, провинившийся вернулся в учительскую и беззаботно попросил указаний о местонахождении бывшего классного руководителя Первухина. Способности проходимца пригодились: он получил интересующие его сведения и нашел учительницу средних лет в ее волшебном химическом кабинете сидящей за солидной кафедрой в окружении великого множества никому, кроме нее, не понятных вещей, таблиц, графиков и прочего имущества. Она удивилась визиту журналиста.
– Вы разве не беседовали с директором? – спросила классная дама. – Этими вопросами она занимается сама.
Самсонов сделал стойку охотничьей собаки, почуявшей жертву.
– То есть… Вы хотите сказать, что не беседовали до сих пор с представителем нашей редакции?
– Нет. А что? Вы были у директора?
– Был. Мы немного поговорили, а затем она рекомендовала мне вас.
Нерешительность химички следовало преодолеть как можно скорее самыми решительными мерами, дабы не заронить в ее душу никаких дополнительных подозрений о природе происходящего. Самсонов в нескольких словах беззаботно обрисовал основное содержание якобы милой беседы с директрисой и отвлекших последнюю от интервью внезапных школьных делах. Глаза его светились простодушием и искренним желанием нести добро людям, поэтому учительница уступила давлению. Только обмолвилась о предпочтительности для автора очерка беседы с преподавателями из прежней школы Первухина, в которой тот отучился восемь с половиной лет, а не полтора. "Та школа не имеет никакого отношения к сюжету", – подумал журналист, но вслух не сказал ничего, кроме пары комплиментов этой школе и конкретно учительнице химии, чем окончательно склонил собеседницу на свою сторону.
Сашкина классная руководительница была юной учителькой, только из института, попавшей в новую школу с ее неописуемым контингентом, как кур в ощип. Инструкции принуждают классных руководителей регулярно посещать учеников на дому ради контроля условий жизни и учебы, а также семейной обстановки в целом, но никто из них этого не делает, дабы не изумлять родителей учеников. Могут ведь возомнить невесть что. Тем не менее, Первухина она посещала, поскольку в школе видела его реже, чем всех остальных, а вызывать к себе родителей не хотела, да и не могла. Записки хулиган, видимо, выбрасывал, а телефона у них тогда не было. Впрочем, во время этих визитов виновника не оказалось дома ни разу. Она разговаривала с родителями; отец не проявлял к беседам ни малейшего интереса, мать постоянно сокрушалась и обещала принять меры семейного воздействия к бездельнику, беспрестанно взывая к мужу в попытке отвлечь его от телевизора.
– Она вам подыгрывала, или искренне переживала? – спросил Самсонов, держа в мыслях будущий нерадостный визит.
– Да я же девчонка была совсем. Казалась искренней.
– А насколько серьезным было положение? Имелась ли возможность все же избежать окончания школы со справкой?
– Трудно сказать задним числом. Если бы у меня был опыт и больше времени, кто знает… Понимаете, практически сразу после института получить в классное руководство десятый класс, да еще такой трудный. От меня никто и не ждал никаких чудес.
– А что вы можете рассказать о его девушке?
– О девушке? Вы Светлану имеете в виду?
– Ее. А что, были другие?
– Почему вас интересует именно эта тема?
– А почему вы не хотите ее поддерживать? Я просто хочу написать о живом человеке. Поймите, меня не интересуют интимные подробности, но если очерк о молодом парне, который из своих двадцати лет полтора года воевал, окажется повествованием исключительно об учебе и друзьях, читатели либо просто мне не поверят, либо заподозрят в сокрытии какой-то страшной тайны. Например, почему вы знали тогда и до сих пор помните имя его девушки? Она ведь не училась в вашей школе?
Учительница несколько минут колебалась в нерешительности под натиском журналиста и в итоге не сочла нужным вставать на его пути к истине.
– Шумная история тогда случилась, поэтому и помню до сих пор. Милицию ее родители вовлекли, требовали покончить с преследованием.
– А она сама?
– А она плакала в разных кабинетах при разборе происшествия.
– Происшествие – это визит к ней домой с букетом роз?
– Что? Какой визит? О визите я ничего не знаю. Происшествие – это попытка изнасилования.
Самсонов даже вздрогнул от неожиданности. Степень его готовности услышать всякое оказалась недостаточно высокой для восприятия правды жизни.
– Попытка изнасилования кого кем? – глупо спросил он, не успев задуматься над более высокоумной формулировкой вопроса.
– Разумеется, обвиняли Первухина. Все случилось в ее школе, то есть в прежней его. Он оказался там на танцах весной восьмидесятого, еще в девятом классе. Каким-то образом миновал дежурного учителя на входе, иначе он фэйс-контроль бы не прошел. Танцы были в актовом зале, в какой-то момент люди услышали шум совершенно в другом крыле, на втором этаже, который стоял пустым. Сбежались и обнаружили Светлану в разорванном платье, избитую, и Первухина рядом. На вопросы она не отвечала, только плакала, ну и завертелась история. Она в течение всего расследования плакала и не сказала ни слова, а Александра поставили на учет и строго предупредили.
– И каково же ваше личное мнение об этом деле?
– Причем здесь мое личное мнение? Никто не доказал ничего, ни положительного, ни противного. То ли случилось что-то, то ли не случилось, то ли случилось совсем не то, о чем все подумали, туман так и остался.
– И все-таки? Мы ведь с вами не в суде, Первухин давно мертв, вы ему ничем не навредите. Обвинение казалось вам правдоподобным?
Учительница замолчала, рассеянно перекладывая с одного места на другое какие-то книжки и тетрадки.
– Мне тогда казались одинаково правдоподобными любые предположения.
– Как объяснял случившееся Первухин?
– Разумеется, тоже молчал. Точнее, дерзил и всячески ухудшал впечатление о себе, но ни в чем не признавался и ничего не отрицал.
Убедившись в нежелании жертвы добавить новые подробности к уже сказанному, интервьюер принялся въедливо выяснять причины появления ошибки в тексте на мемориальной доске. После нескольких безуспешных отсылок вопроса к директрисе, учительница заговорила о непричастности школы к случившемуся, поскольку она представила правильные сведения, и незадача произошла по вине других инстанций.
– Зачем вообще касаться этой темы? – искренне удивлялась женщина. – Смысл мероприятия не в распространении фактов биографии Александра, а увековечение его памяти.
– В том-то и дело, – удивился в свою очередь Самсонов. – Именно память и страдает, если прямо на мемориальной доске зафиксировано безразличие и невнимание к человеку, память о котором предполагается хранить.
– Ну что за нелепость! Вы ведете себя просто неприлично. Причем здесь безразличие? Зачем досадную техническую ошибку раздувать до размера политической проблемы?
Ничего не ответив и выдержав драматическую паузу, журналист задал свой коронный вопрос:
– Вам жалко его теперь?
Химичка растерялась перед фактом внезапного хамства, несколько минут обдумывала ответ с расстроенным лицом, потом произнесла очень медленно:
– Я ничего не могла в нем изменить.
– И все-таки? Вы не удивляйтесь, я всем задаю этот вопрос. Хочу измерить неосязаемое.
– Я нахожу ваш вопрос странным. Что значит "жалко"? Наверное, можно было дотащить его до аттестата, но в шестнадцать лет человек и сам должен понимать, где кончается детство с его шутками. Он не сделал со своей стороны ни единого шага, вот и вышло ничего.
– Мне следует принять ваш ответ за отрицательный? – напирал Самсонов.
– Нет! – выпалила химичка с энергией Светланы Ивановны и всем своим видом показала, что считает интервью законченным.
Самсонов узнал подробности, неизвестные, возможно, самому Ногинскому, отчего его распирало нетерпение заявить о своем знании во всеуслышание, пока конкурент не всплыл на поверхность так же внезапно, как исчез. Быстро переварив новое знание, он заторопился, принялся поспешно прощаться с источником, пустился напропалую в рассуждения о неотложных делах и покинул школу почти бегом.
Посетить старую школу Первухина, оказавшуюся неизмеримо более важной вехой в его жизни, чем казалось прежде, стоило, но хотелось еще установить контакт с матерью покойного и с районной администрацией, после чего требовалось время на творчество, поэтому Николай Игоревич решил отложить визит на попозже, если останется время от всех прочих дел. А пока он вновь ринулся в редакцию, теперь дозваниваться до Марии Павловны. Время настало послеобеденное, тихое, не сулящее шумных перемен, но застать очередную фигурантку оказалось сложно. Длинные гудки излучали безнадежность с неумолимостью черной дыры.
Тогда Самсонов, отмахиваясь от недовольной Даши, стал одновременно дозваниваться и во второе место – в районную администрацию. Здесь он достиг определенного успеха, его несколько раз перебросили с одного телефона на другой, пока он не добрался до нужного секретаря, с которым и обговорил визит на следующий день. Связь с Марией Павловной упорно отсутствовала.
Даша всем своим видом являла негодование. Трубку она схватила, словно частную собственность, возвращенную ей после наглой и незаконной конфискации.
– Совсем совесть потерял, – бормотала она с обидой в голосе, торопливо набирая срочно нужный номер. – Один он во всей редакции работает.
Обычная текучка поглотила остаток рабочего дня, редакция постепенно опустела, Самсонов остался один и уже в сумерках дозвонился до Марии Павловны. Она имела низкий, но уже несколько старческий голос. Необходимость вторично рассказать о сыне ее обрадовала, но встречу она назначила лишь на следующий вечер, чем несколько огорчила журналиста. Он побоялся давить, чтобы не лишиться благорасположения, поблагодарил и повесил трубку.
Редакция стояла пустой, охранник запер вход, тишина окутала безлюдные помещения. Николай Игоревич вытащил из чулана свою раскладушку, улегся на нее одетым и задумался над творческими планами.
Образ Первухина в воображении журналиста вырисовывался уже вполне отчетливо. Понятно, что мать завтра расскажет о нем много хорошего, но все равно понятно – записным преступником и мерзавцем он не был. Подросток, возможно с серьезными психологическими проблемами, но без особо отталкивающих черт личности. Подобные вещи легко описываются понятиями ранимости, непримиримости, романтизма, юношеского максимализма и так далее. История на школьных танцах виделась здесь нелогичным пятном. Никогда в глаза не видевший Сашку, Николай Игоревич не представлял натуру, способную совместить подлое нападение и идиотский цветочный визит с не менее эффектным его прерыванием. Нужно быть величайшим нарциссом всех времен и народов, чтобы так дорого себя ценить и презирать предмет своего вожделения. Да и молчание Светланы говорило о многом: она скрывала правду и жертвовала ради нее Первухиным. А тот, в свою очередь, не очень-то и сопротивлялся перед лицом едва ли не уголовной ответственности.
В общем, нервная реакция Ногинского по-прежнему казалась Самсонову необъяснимой. Означает ли такая немотивированность, что он так и не открыл неких ужасных подробностей, обнаруженных мэтром? Если нет, то Николай Игоревич смотрит другими глазами на обстоятельства, поразившие старика до нервного срыва. Вопросы роились в голове журналиста, заставляя его сомневаться то в собственной нравственности, то в прозорливости, то в способности ощущать чужое мировосприятие, без чего журналист не напишет ничего, кроме пустых сентенций.
Для развлечения на сон грядущий Самсонов нашел прошлогоднюю подшивку родной газеты и принялся ее подробно перечитывать, постепенно удаляясь все дальше и дальше от темы очерка. Исписанный заметками блокнот лежал на его столе, идеи потихоньку утрамбовывались, обретая читаемый облик, а в руках творец держал старую пропыленную стопку бумаги, испещренную семантическими символами и потому несущую в себе образ ушедшего времени. Образ, созданный искусственно и отражающий время не вживе, но как личину.
Через некоторое время Николай Игоревич отложил подшивку, поднялся с раскладушки, уселся за стол, которым владел в складчину с журналистом отдела экономики, включил компьютер и, словно вдохновленный чтением старых газет, принялся творить. Действуя в своей индивидуальной манере, он для начала быстро набросал скелет будущего очерка, выглядевший со стороны планом. Затем, сверяясь с блокнотом, принялся наполнять конкретным содержанием отдельные пункты, постепенно превращая план уже в сырую "рыбу". Не имея большого опыта такой серьезной работы, Самсонов не испытывал большой веры в существование его собственного творческого метода, но поступал по велению инстинкта, подобно животному на незнакомой территории. Занятие увлекло журналиста до поздней ночи, но, даже прервав творческий процесс, он еще долго лежал одетым на раскладушке в полной темноте и не мог заснуть, терзаемый новыми планами.
Утром Самсонова с трудом растолкал охранник, и тот проснулся с гудящей головой, недовольный своей жизнью до последней степени. Во-первых, он не выспался, во-вторых, ночью его мучил эротический сон с участием жены, неосуществимость которого наяву злила изменщика неизмеримо больше, чем больная голова и слипающиеся глаза.
Тем не менее, уже к приходу уборщицы Николай Игоревич приобрел вполне благопристойный вид, пошарил в карманах, нашел там несколько денег и сбегал в магазин за искусственным завтраком со вкусом мяса, а также за настоящим хлебом, после чего окончательно пришел в боевую готовность. Время, назначенное для визита в районную администрацию, настало скоро, хотя ждал он его с нетерпением.
Двухэтажная кирпичная резиденция районных властей не впервые попадалась на жизненном путем журналиста. Он посещал это здание еще школьником, когда оно вмещало городские и районные советы с их исполкомами, а также комитеты единственной партии и такого же молодежного союза. В те поры юного Колю вызывали в райком комсомола на предмет недостатков в работе школьной комсомольской организации, в коей он занимал кресло замсекретаря по идеологической работе. Соответственно, и недостатки, послужившие причиной вызова, также носили идеологический характер. Подробности он давно забыл, но теперь удивлялся, что спустя четверть века явился по тому же адресу по тому же, в сущности, вопросу, только теперь с намерением получить ответ, а не дать его.
Здание администрации стояло на главной площади города, с елками, доской почета и памятником Ленина. Памятник не был гипсовым и не был раскрашен серебрянкой, а был изготовлен из настоящего камня, поскольку в городе имелся заводик, занимающийся как раз художественными работами по камню. Доска почета содержала теперь застекленные фотографии о жизни района, но в ее конструкцию по-прежнему поддерживал в качестве одной из опор гигантский серп и молот.
Приняли Самсонова в бюро по связям с общественностью, хотя он пытался пробиться в тот конкретный отдел, который занимался установкой мемориальной доски. Миловидная девушка по имени Марина Игнатьевна принялась объяснять беспокойному посетителю, что контакты с прессой входят именно в ее круг обязанностей, в противном случае их вообще следовало бы сократить. У Николая Игоревича возникли свои красочные мысли на тему ликвидации бюро по связям с общественностью, но озвучивать он их не стал, поскольку рассчитывал все же в дальнейшем продолжать работу в отделе новостей родной редакции.
Беседа принесла ему некоторые новости. Установкой мемориальной доски занимались во взаимодействии управление образования и управление культуры. Об ошибке в тексте Марина Игнатьевна услышала впервые и пока не может сказать по этому поводу ничего определенного, но сегодня обязательно наведет справки и свяжется с редакцией.
– Скажите, вы сами присутствовали на церемонии открытия? – спросил Самсонов, приступивший к выработке очередного нахального плана.
– Да, разумеется, – профессионально улыбнулась Марина Игнатьевна. – Мы придаем большое значение этому мероприятию. Там присутствовала съемочная группа нашего телевидения. Правда, ваших, кажется, не было. А мы ведь всех поставили в известность.
Девушка озвучила свой упрек таким ласковым голосом, что у Самсонова язык не повернулся ответить хоть в малой степени неуважительно. Он принялся вдохновенно врать на ходу, доказывая, что редакция именно в тот момент предавалась трудам крайне срочного характера, имеющим не меньшее значение для района. Речевая эскапада привела своего необузданного автора к заключению о необходимости создать у читателя эффект присутствия на открытии мемориальной доски, что произошло едва ли не впервые в истории города. Для создания упомянутого эффекта автор очерка должен собрать впечатления всех участников церемонии, видевших ее по-своему и запомнивших немного по-разному. Искусством лить воду Самсонов владел в достаточной степени со времен обучения наукам и сохранил его в течение долгих лет взрослой жизни, хоть и пользовался им изредка, а не из профессионального долга.
– Простите, у меня есть странный вопрос, – вспомнил журналист о своих последних достижениях на корреспондентском поприще. – Не удивляйтесь, пожалуйста, но я хочу спросить: беседовал ли с вами на наши сегодняшние темы Ногинский?
– Вопрос действительно странный, – приподняла узкие бровки Марина Игнатьевна. – Вы работаете над очерком вдвоем?
– Можно и так сказать. То ли вдвоем, то ли по очереди… В общем, я принимаю ваш ответ за отрицательный. Правильно?
– Правильно, – пожала плечами девушка, так и не разобравшись в хитросплетениях редакционной политики.
Она стремилась закончить общение, но Самсонов терзал ее минута за минутой, демонстрируя бульдожью хватку в целях психологического давления на жертву. Марина Игнатьевна должна внутренне смириться с мыслью о неизбежности проникновения ушлого журналиста за барьер, возведенный ею с усердием вечной отличницы. Он не собирался, конечно, сбивать собеседницу с ног и прорываться к цели грубой силой. Журналист рассчитывал на самую малость: когда его поймают и примутся выдворять из здания, пресс-девушка не должна удивиться новости. Сомнения не оставляли Николая Игоревича: скандал неизбежно повредит его будущей журналистской карьере, поэтому его нужно избежать, но лишать свой очерк важной детали – личной беседы с человеком, причастным к принятию решения о водружении доски, он тоже не мог.
– Вы можете передать мне свои вопросы, и на следующей неделе получите ответы господина Полуярцева, – прежним ласковым тоном разъяснила политику администрации Марина Игнатьевна.
– Замглавы? Он курировал эту тему? – оживился Самсонов.
– Да, он курировал эту тему, – терпеливо выносила настойчивость информационного агрессора его визави.
– Скажите, а личная встреча для интервью с ним сегодня совсем невозможна?
– Совсем. Вы же должны понимать, он очень занятой человек.
– Должен. Но о следующей неделе не может быть и речи, завтра мне очерк сдавать.
– Что ж, вам следовало раньше обратиться со своей просьбой.
– Я только вчера получил задание.
– Извините, ничего не могу для вас сделать. Порядок есть порядок, ваша редакция прекрасно о нем осведомлена.
Марина Игнатьевна переполнилась сарказмом, как зрелый виноград – соком. Отвергнутый журналист не видел в ее глазах льда, только отсутствие интереса. Поставив себе целью остаться в здании администрации после расставания с пресс-бюро, он поспешил как можно вежливее распрощаться, а затем спустился на первый этаж. Только не направился к выходу, а отправился искать кабинет замглавы Полуярцева.
Нашелся тот быстро, поскольку архитектура здания районной администрации не отличалась избытком фантазии: прямой коридор с дверьми по обе стороны. В приемной он представился секретарше ходатаем по школьным проблемам, якобы имеющим личную договоренность с хозяином. Отмазка самому лгуну казалась слабой и чреватой неприятностями при разоблачении, но поступить иначе он не мог. Журналиста отправили бы прямым ходом в пресс-бюро, а так можно несколько минут давить на персональное знакомство и плохую память Полуярцева. Сверхзадачей стало выпутаться из истории без тяжких последствий для газеты и него лично, но на такие стратегические высоты мышление Самсонова заранее не взлетало, а только по мере надобности. Да и для газеты угрозы не просматривалось: она одна, издается самой же администрацией, ничего с ней не случится.
В приемной сидели два человека, опередить их Николай Игоревич и не пытался, но свою живую очередь постарался нахрапом занять. За время его сидения в предбаннике секретарша несколько раз заходила в кабинет и, скорее всего, успела известить его обитателя о незваном посетителе. Ее молчание красноречиво показало журналисту реальную перспективу приема. Радио в предбаннике если и имелось, то упорно молчало, только гудел компьютер секретарши и клацали клавиши под ее тонкими пальчиками. На окне стояли два горшка с неизвестными цветами, за стеклом Самсонов ничего не мог разглядеть, как ни старался, заняться было совершенно нечем, и он отчаянно заскучал.
Партнеры по ожиданию обошлись с журналистом вежливо, не задержав зама на неприлично долгое время, и через вполне приемлемый промежуток оного Николай Игоревич почти законно вошел в кабинет. Наступил самый сложный момент – объяснить реальную причину своего появления.
Еще в период выдержки в предбаннике интервьюер успел твердо усвоить информацию на бронзовой табличке: Полуярцев Андрей Владимирович. Входя внутрь, он приготовился встретить солидного человечка с пухлым животиком, чем-то напоминающим родного главреда, но столкнулся с совершенно иной реальностью. За столом сидел светловолосый молодой человек, не старше тридцати, в безукоризненном костюме, при галстуке и ослепительной сорочке. "Неужели он каждый день так ходит?" – с ужасом подумал Самсонов, сразу вспомнив о своей клетчатой рубашке и растянутых джинсах с пузырями на коленях. Замглавы районной администрации во времена учебы Первухина еще и в школу не ходил, чем несказанно расстроил своего посетителя. Одним только внешним видом Полуярцев демонстрировал никчемность жизни, прожитой бездомным дважды неудачником. Свою перспективность в качестве журналиста Николай Игоревич желал защитить немедленно, не сходя с места у двери в кабинет юного районного начальника.
– Здравствуйте, Андрей Владимирович.
– Здравствуйте. Я могу уделить вам минут пять-десять. Извините, не припоминаю никакой договоренности…
– Самсонов Николай Игоревич, – произнес с достоинством журналист и уселся на ближайший к хозяину кабинета стул. – Корреспондент газеты "Еженедельный курьер". Простите за обман, не нашел другого способа обойти вашу пресс-службу.
– Вот как? – Полуярцев озадаченно откинулся на спинку своего кожаного кресла. – Вы что же, занимаетесь скандальным расследованием злоупотреблений в моем ведомстве?
– Да нет, что вы! Так широко я не замахиваюсь. Вопрос не политический, а человеческий. Я имею в виду недавнее открытие мемориальной доски на школе. Пишу очерк на эту тему, намереваюсь воспитать у молодежи патриотические чувства. Хоть и не уверен, что молодежь читает нашу газету.
– Неужели откопали в этой связи скандал?
– Я бы не назвал ситуацию скандальной, просто обнаружилось неприятное обстоятельство. Вам известно о фактической ошибке в тексте?
– В тексте на мемориальной доске?
– Именно.
– Что за ошибка?
– В восьмидесятом году выпуска не было, а Александр Первухин окончил школу в восемьдесят первом.
Полуярцев несколько секунд задумчиво смотрел в глаза журналисту.
– Да, неприятно. И на старуху бывает проруха.
– Значит, вы не знали об ошибке прежде?
– Нет, не знал. Что вы хотите от меня услышать по этому поводу? Раскаиваюсь ли я в содеянном?
– Нет, зачем же. Вы не содеяли ничего ужасного, просто организовали установку мемориальной доски. Проявили внимание и участие. Но вот этот ничтожный штришок выворачивает ситуацию наизнанку. Получается, нет внимания, а значит, и участия. В школе меня заверили, что предоставили вам точные данные о Первухине. На каком же этапе случился сбой?
– Они лично мне предоставили точные данные?
– Нет, конечно. Вашим сотрудникам. Но вы же несете за них ответственность?
– Да, несу. Чего вы добиваетесь? Под покровом ночной темноты тихо заменить нынешнюю доску другой? Уволить пару человек, способных на своих рабочих местах принести немало пользы?
– А вам самому не интересно?
– Что?
– Вы не хотите выяснить, кто и в какой момент проявил невнимание или безответственность, не знаю. Вас вообще взволновала хоть сколько-нибудь история о парне, погибшем где-то в тьмутаракани во исполнение гражданского долга? Ведь мы с вами представляем то самое общество, ради которого он отдал жизнь. А мы вот живем, шевелимся, как можем, решаем проблемы.
Полуярцев помолчал немного, удерживая тяжелый взгляд на своем визави. Тот выдержал испытание и смотрел в ответ светло и нагло.
– Николай Игоревич, вы всерьез собираетесь меня убедить, будто лично вас эта история глубоко тронула?
– Насчет глубины уверять не стану, – слегка пожал плечами Самсонов, – но совсем безразличным я не остался, это точно. Я поговорил с людьми, которые его помнят, сегодня увижусь с его матерью. Для меня он уже не просто имя и фамилия, а живой человек.
– Замечательно. Восхищен вашей душевностью. Теперь объясните, зачем вы проникли в мой кабинет. Я разговаривал с матерью Первухина на церемонии открытия, она была счастлива и благодарна. Мне придти к ней, извиниться, рассказать о допущенной ошибке и нанести душевную травму? И вообще, какое отношение имеет наш разговор к вашему очерку? Вы собираетесь использовать мои слова?
– В моих черновых наметках о вас нет ни слова, и у меня нет планов упоминать вас в каком-либо контексте. Я только хочу понять, как работает ваша голова. Видимо, вы дали команду организовать мероприятие, затем посетили церемонию открытия и сочли свою роль исполненной. У вас тоже в плане работы стоял пункт о патриотическом воспитании молодого поколения?
– Вы слишком много себе позволяете, господин Самсонов. Ворвались в служебный кабинет и изображаете здесь радетеля за народное благо перед лицом вампира-чинуши. Вы о существовании этого солдата узнали только благодаря истории с мемориальной доской, иначе и не услышали бы о нем никогда.
– Не спорю. Что, по вашему, хуже: вовсе не проявить внимания или проявить его формально, для видимости, так и не заметив человека? Стоит ли напоминать человеку лишний раз о том, что власть смотрит сквозь него на свои высокие цели?
– Вы пришли сюда философствовать? Заниматься политикой?
– Я пришел сюда поразмышлять вслух в надежде добиться от вас понимания.
– Что я должен понять? Что вы лучше всех на свете, а все остальные – дерьмо собачье?
Полуярцев всерьез закипел, Самсонов наслаждался каждой минутой осмысленного существования. На вопрос замглавы он не отвечал, поскольку ответа не знал. Вставлять чиновника в очерк он не планировал, так как оставался реалистом. Оскорблять никого не собирался, добиваться извинений считал бессмысленным, спор самому зачинщику стал казаться беспредметным. Но из кабинета он не выходил, поскольку испытывал блаженство от осознания собственной значимости. На прошлой неделе Самсонова даже в редакции не все замечали, сегодня он навсегда врезается в память районного политического деятеля.
– Мне вызвать охрану, или обойдемся без грубости?
Журналист услышал последний вопрос Андрея Владимировича, коротко выдохнул с оттенком облегчения и не счел возможным затягивать визит. Зачем выпускать из-под контроля такую замечательную ситуацию? Он поднялся и чинно откланялся с видом разорившегося, но сохранившего фамильную честь дворянина.
– Ждите приятных новостей о вашей карьере! – услышал он крик себе в спину и вышел в приемную с новым чувством. Если его еще и уволят, жизнь вообще переполнится смыслом через край. Правда, новой работы по специальности он здесь не найдет, а в Москве его никто не заждался, но дело в другом. О семье думать не приходится – зачем страдать без всякой надежды на счастливый исход? Собственная его жизнь никого не интересует, включая его самого. Здесь открывается море возможностей – вплоть до голодовки на главной площади. Разумеется, минут через несколько его оттуда уберут, но затем последует участок и небо в клеточку. Настоящая биография серьезного человека! Даже если отметелят – не насмерть же. А на свободу выйдет с имиджем серьезного человека, в одиночку противостоящего молоху! Мечты о бурном будущем на некоторое время затмили мысли о необходимости иметь хлеб насущный, который нужен и самому борцу, а не только его близким.
В состоянии волнения и творческого возбуждения Самсонов покинул здание районной администрации и в очередной раз вернулся в редакцию. Поиск истины увлек его настолько, что этим днем он не стал обедать. Засел за компьютер и принялся шлифовать заготовленный ночью текст, наслаждаясь каждой минутой гораздо сильнее, чем в кабинете замглавы. Теперь он гордился манией совершенства, заставлявшей его по десять раз кряду перекраивать одну и ту же фразу или перебирать один за другим синонимы, выискивая лучший. Заранее известных критериев отбора лучших не существовало – автор выбирал вариант, привлекательно звучащий фонетически или вызывающий дополнительные смысловые ассоциации.
Стуча по клавиатуре компьютера и обдумывая стилистические приемы, краем уха Самсонов беспрестанно выслушивал тишину за дверью, ожидая приближения разъяренного редактора. Неизбежность административного нападения вынуждала журналиста наращивать темп работы, все более и более уподобляясь печатающему автомату. Он спешил, словно не понимал всю бессмысленность сочинения текста, который не выйдет к публике. Трагичность творческого плена также служила вдохновляющим мотивом бескомпромиссного автора. Он всеми силами стремился вылить на жесткий диск весь запас желчи, скопившийся в нем за время корпения над очерком.
Топот и рык редактора за дверью никак не раздавался, и постепенно Самсонов стал сбавлять темп. Возможно, административные пружины райцентровского масштаба раскручиваются не так быстро, как ему подумалось сгоряча. В какой-то момент он даже покинул свое прибежище, вознамерившись испить общественного чайку. На кухоньке собралось несколько сотрудников, Николай Игоревич немного поболтал с ними по пустякам. Сначала в голове его мелькала мысль: эти люди через короткое время узнают, что Самсонов оказался вовсе не тем человеком, каким всем виделся в течение многих лет. К концу чаепития эта мысль уступила место другим, менее величавым. Вернувшись к компьютеру и попытавшись возобновить творческие поиски, он остановился. Снова прислушался и опять не услышал за дверью никаких угрожающих звуков. Занес пальцы над клавиатурой и сжал их в кулаки, а затем спрятал руки под стол. Если звонка из администрации не случится, и редактор не ворвется к нему в комнату, желая убить изменника, то его очерк станет началом скандала, а не завершением оного. Что значит "если"? Разве может не раздаться звонок из администрации, после всего случившегося там сегодня?
Шло время, звонок не раздавался, у Самсонова появились сомнения насчет важности разоблачительного материала, собранного им в последние дни. Что за разоблачение такое, какой скандал? Существует много тем, волнующих людей по-настоящему, служащих причиной социального недовольства. На их фоне история с ошибкой на мемориальной доске – совершенный пустяк, никто на нее внимания не обратит. Даже Полуярцев, судя по всему, не обратил. Да и в чем можно обвинить зама? Даже в неудачном подборе кадров нельзя, потому что от досадных ошибок не застрахован никто, и делать из единичного случая далеко идущие выводы нельзя. Разоблачать надо систему, сети, структуры и схемы. А здесь просто разовая техническая ошибка. К вечеру Самсонов, так и не дождавшись скандала, полностью лишился веры в свою значимость и на свидание с Марией Павловной отправился в подавленном настроении.
Город имел автобусный маршрут, пронизывающий его насквозь и насчитывающий несколько остановок. Одним концом он упирался в вокзал, другим – в конечную остановку на окраине, на границе с окрестными полями и лесами. Тем не менее, Самсонов автобусом почти никогда не пользовался, а ходил пешком. Не из экономии, а по внутренней склонности. Ходьба его умиротворяла и делала свободным. Около сорока минут требовалось на преодоление пешком автобусной линии, но, поскольку город был вытянут вдоль, поперек его можно было пересечь минут за десять. По глубокому убеждению журналиста, пользоваться общественным или, тем паче, личным транспортом при таких обстоятельствах значило демонстрировать обыкновенную человеческую глупость. Зачем усложнять себе жизнь и ставить себя в зависимость от других людей, если никакой насущной необходимости делать это не существовало?
Мария Павловна жила в четырехэтажном блочном доме, построенном в семидесятые годы в самом центре города. Чужой подъезд, как обычно, обдал Самсонова незнакомым и неприятным запахом, стены были расписаны и разрисованы черным маркером. Мат, нелицеприятные высказывания о некоторых жильцах и даже местные вариации порнографической продукции покрывали стены сплошь, и журналист машинально просматривал их, поднимаясь на третий этаж. Он уже представлял слезы, причитания, стакан воды для успокоения безутешной матери. Идти ему не хотелось, но долг звал.
Дверь открыла полная аккуратно одетая женщина, видимо, в праздничном наряде, смутно знакомая Самсонову по записи на видеокассете Ногинского.
– Здравствуйте! – радостно сказала она, открыв дверь на короткий вежливый звонок. – Пожалуйста, проходите. Нет-нет, не разувайтесь! Пожалуйста, пожалуйста.
Николай Игоревич терпеть не мог хозяев, уговаривающих гостей не разуваться. Ему казалось, что они после ухода гостей ругают их на чем свет стоит. Поэтому он всегда решительно скидывал в прихожей ботинки и шагал в комнату босиком.
– Ну зачем же! Я ведь говорила, не надо! Хоть тапочки наденьте! – заволновалась хозяйка при виде разоблачающегося гостя.
Журналист вбил ступни в какие-то женские шлепанцы, короткие задники которых больно врезались ему в пятки. Вслед за хозяйкой он прошел в гостиную, где обнаружился накрытый праздничный стол. Следов существования мужа в квартире не наблюдалось.
– Вы ждете кого-то? Я не вовремя?
– Да что вы! Вас и жду, кого же еще.
– Неудобно как-то, – растерялся Николай Игоревич. – Может быть, даже неэтично с профессиональной точки зрения.
– Скажете тоже, Николай Игоревич! Чего же здесь неэтичного! Как же еще гостей принимать – на лестнице, что ли?
– Я ведь не гость, – осторожно попытался Самсонов расставить точки над i. – Я на работе, и к вам пришел в качестве журналиста, для интервью, а не время провести.
– Вот за столом и возьмете свое интервью! В кои-то веки ко мне человек зашел, а я его по-походному буду принимать?
Мария Павловна явно собиралась обидеться, и Самсонов сдался. Какой же журналист перед интервью натягивает отношения со своим героем? Они уселись за стол и на первых порах приступили к разведывательному общению. Николай Игоревич в меру сил принялся поддерживать разговор на общие темы, обдумывая способ перехода к настоящей причине его визита. Затем извлек свой блокнот и ручку, задумался. Первая фраза строилась долго и утомительно, а получилась все равно корявая:
– Мария Павловна, я знаю, вы недавно участвовали в церемонии открытия мемориальной доски… Я хотел бы поговорить об этом.
– Я понимаю, – вздохнула женщина и осторожно расправила складки на платье.
Самсонов несколько секунд собирался с мыслями, потом заговорил:
– Наверное, тяжело возвращаться в прошлое? Я бы хотел задать только несколько вопросов.
– Да ничего, задавайте.
– Я за время работы над очерком выяснил некоторые обстоятельства из жизни Александра… Вы помните Светлану?
– Конечно, помню. Хорошая девочка. Саша души в ней не чаял.
– А при каких обстоятельствах вы с ней познакомились? – старательно проявил осторожность интервьюер.
– Да Сашенька ее приводил к нам домой, знакомиться.
– Все было так серьезно?
– Очень даже серьезно. Они потом, после школы уже, хотели пожениться. Перед самой армией, за несколько недель. Но Саша решил жениться потом, после службы. Говорил, мол, перед армией женятся, когда невесте не верят.
– Это сын вам говорил?
– Конечно.
– А прежде вы о ней никогда не слышали? – с прежней осторожностью продвигался вперед Самсонов.
– Так они же в одном классе учились, дружили уже тогда. Я часто о ней слышала.
– Вы виделись со Светланой… позднее?
– После гибели Сашеньки? Нет.
– Она приходила на похороны?
– Нет. Но я ее не осуждаю. Не все могут вынести такое. Я-то мать, мне на роду написано, – Мария Павловна опустила голову и судорожно вздохнула.
– Александр знакомил вас прежде с другими своими девушками?
– Нет, что вы, только со Светланой. Что бы это такое было, если то одна, то другая! Нет, только раз, со Светланой. То есть, девушки к нам в гости заходили, конечно, знаете, с компанией. На день рождения там, или еще как. Но как невеста – только Светлана.
Самсонов замялся, но затем мобилизовал весь свой профессионализм для продолжения допроса:
– Вы не помните, что за история была со Светланой?
– Какая история?
– В девятом классе, когда до уголовного расследования дошло. Александру, наверное, шестнадцать только исполнилось.
– Ах, вы об этом, – махнула рукой Мария Павловна. – Помню, конечно. Глупость совершенная. Света Сашеньку ни в чем не обвиняла, это ее родители крик подняли, брезговали нами.
– Но почему же и Светлана, и Александр молчали? Они ведь оба никак не объясняли случившееся?
– Да, оба. Сашенька и мне ничего не сказал. Не знаю, что там было, но он ее не трогал. – Мария Павловна понизила голос и наклонилась к Самсонову. – Ее родители ведь и медицинского осмотра тогда добились. Все со Светой было в порядке.
– А следы избиения?
– Так они оба были избиты. Сашеньке зуб выбили, и глаз пришибли. Разве может девушка зуб выбить! Даже следователь не поверил. Да что же мы за столом сидим, а вы к угощению так и не притронулись! Вы угощайтесь, угощайтесь! Давайте я вам салатика положу, – засуетилась хозяйка.
Самсонов принял предложение ввиду безвыходности ситуации, но нетерпение исследователя по-прежнему бередило его и не позволяло попусту тратить время.
– Мария Павловна, вам понравилась церемония открытия мемориальной доски?
– Да, очень. По-моему, замечательно все было организовано, я очень благодарна.
– Вас там обидело и расстроило что-нибудь?
– Господи, нет конечно! Чем же там обижаться? Замечательно все было.
– Саму доску вы видели, читали текст?
– Видела, конечно, и читала. А что вы такое спрашиваете? Почему я, по-вашему, должна была обидеться?
– Да нет, я просто так, на всякий случай. Мало ли что.
Журналист суетливо заметал малейшие намеки на свое запретное знание, испугавшись тяжелой сцены. Может быть, зря? Может, и не будет никакой тяжелой сцены? Какой пустяк – год окончания школы.
– Простите меня еще раз, я боюсь показаться бестактным… Вы бы не могли показать мне письма Александра? Я понимаю, лезть в чужую жизнь неприлично, но я ведь не из голого любопытства. Мне нужно составить цельный образ его личности, иначе очерк выйдет казенным, официозным, так сказать. Письма лучше всего открывают внутренний мир человека. Вы меня понимаете?
– Понимаю. Только вы здесь их читайте, с собой не уносите!
– Что вы, что вы! Конечно, здесь.
Мария Павловна удалилась и вернулась через минуту с двумя стопками писем, перевязанных красными тесемками. Бумага пожелтела, синие чернила выцвели – письма выглядели настоящим историческим источником. Журналист прикоснулся к ним с легким волнением в груди.
Письма, оглашенные в телевизионной программе, прошли редактирование – Самсонов убедился в этом совершенно, но не удивился и не разочаровался. Он счел поведение телередакторов естественным. Они ведь отвечают за тексты программ, имеют определенные критерии качества, и нельзя простому человеку обижаться на профессионалов, исполняющих свою работу. Журналиста озадачило иное: в письмах не упоминалась Светлана. Первухин проявлял сыновние чувства, не пугал мать военными приключениями, а описывал только прекрасную кормежку и хороших друзей во взводе. Он не интересовался жизнью Светланы, не выяснял, видится ли она с Марией Павловной, не передавал ей приветов. Если верить истории с помолвкой, следует предположить факт отдельной переписки Первухина со Светланой, факт каковой делал ненужным вовлечение матери в отношения обрученных. Обрученных ли? Темная история на танцах в девятом классе немало занимала Самсонова – он видел в ней невнятный силуэт третьего персонажа, который приложил руку к обоим фигурантам громкого школьного дела.
"Нужно бы повидаться с матерью Светланы Ивановны, – подумал журналист. – Она может вспомнить какого-нибудь давнего ухажера, который вовсе не являлся Сашкой Первухиным". Время сжимало исследовательский порыв автора неумолимой дланью крайнего срока, наступающего завтра. А ведь телефон матери нужно еще узнать, успеть с ней договориться о встрече, а затем и встретиться, и при этом в конечном итоге уложиться с готовым очерком до трех. Мысли о подготовке задуманного и уже начатого очерка постепенно стали смешиваться с мыслями о полной невозможности текста в заготовленном варианте. Минут через пятнадцать-двадцать он отложил стопки писем в сторону.
– Мария Павловна, – продолжил Самсонов вслепую, – вы не расскажете мне побольше об Александре? Знаете, с кем дружил, чем увлекался.
– Друзей-то у него много было, – чуть растерялась женщина, – и к нам часто приходили, и Сашенька то и дело пропадал где-то по гостям. Всех и не упомню. А чем увлекался… С магнитофоном он все возился. И друзья его тоже. Вечно ходили друг к другу, то переписывали записи, то что-то ремонтировали. И разговоров у них много было о том, где достать записи, где какие-то детали, где новый магнитофон. Он ведь до сих пор у нас сохранился.
– Магнитофон?
– Конечно. Мишка его бережет.
– Кто?
– Мишка, сын мой. Последыш, – беззащитно улыбнулась Мария Павловна. – Семнадцать ему.
– Простите, а можно взглянуть?
– Пожалуйста, пойдемте.
Хозяйка провела гостя в смежную комнату, тот вошел и остановился ошарашенный. В маленькой комнатке, помимо диванчика, гардероба и письменного стола имелось много книг, разбросанных повсюду в беспорядке, а на стене висел красный флаг с недвусмысленной символикой. В сознании репортера возникли сюжеты теленовостей с клубами слезоточивого газа и прорывами сквозь ряды ОМОНа.
– Это ваш сын увлекается? – осторожно поинтересовался Самсонов.
– Вы о чем? – удивилась Мария Павловна.
– Да вот, о флаге хотя бы, – журналист взял наугад книжку из стопки и прочел заголовок на обложке: "Катехизис революционера". – И о книжках тоже.
– Мишка, конечно. Много стал читать, такой серьезный. В Москву все время ездит по каким-то делам. Нужно, говорит, мать. Через недельку, говорит, вернусь.
– И вы не волнуетесь?
– Да чего мне волноваться? Он же не один ездит, с друзьями. Что с ними случится? Чай, не дети. Ему в армию скоро, пусть погуляет.
Мария Павловна тяжело вздохнула.
– И давно он увлекается?
– Да нет, пару месяцев только. Вот вам магнитофон.
Мать двоих сыновей вытащила тяжелый катушечный аппарат из-за письменного стола, и журналист поспешил его принять. Зачем ему понадобился этот музейный экспонат, Самсонов и сам не знал. Это же не DVD, список записей здесь не просмотришь. Нужно сейчас его включать и слушать все подряд, чтобы услышать популярную подростковую музыку рубежа семидесятых и восьмидесятых. "Машина времени", "Пинк Флойд" и так далее.
– Вы позволите его включить? Кажется, я еще не забыл, как это делается.
– Пожалуйста, только не сломайте, ради бога.
– Нет-нет, что вы.
Николай Игоревич принялся неторопливо оживлять магнитофон. Получил от Марии Павловны стопку катушек в старых картонных упаковках, установил первую попавшуюся, нашел пустую, тоже установил. Память детства возвращалась к нему медленно, но уверенно, в процессе работы. Отмотал немного пленки, вставил в прорезь, намотал свободный конец на пустую катушку и зафиксировал его. Кажется, все точно. Символы на кнопках управления не изменились за минувшие десятилетия, что позволило Самсонову с чувством полной уверенности нажать нужную для воспроизведения. Память не подвела журналиста: магнитофон издал звук. Николай Игоревич удивленно приподнял брови: "Битлз" играли She's Leaving Home. В музыкальном отношении Первухин оказался выше средней массы десятиклассников восьмидесятого-восемьдесят первого годов.
– Мария Павловна, кроме Александра у вас никто не коллекционировал записи?
– Да нет, кто же еще? Только Сашенька.
– Скажите, а остались у вас фотографии? Можно посмотреть?
– Конечно, пожалуйста.
Хозяйка засуетилась, усадила гостя на диван и принесла пару пухлых альбомов, из которых во все стороны выбивались снимки, вложенные между страницами. Журналист сполна использовал женскую страсть рассказывать о прошлом, запечатленном на бумаге. Он слушал подробные объяснения о том, кто изображен здесь, а кто там, в каком месте и когда сделан снимок, иногда даже – кто фотографировал, с прибавлением кратких биографических справок обо всех упоминающихся лицах.
Самсонов слушал ее невнимательно, только всматривался в разнообразные изображения Первухина. Метаморфоза от голенького младенца до хулиганистого подростка прошла через много ступеней, но, как обычно в таких случаях, зритель не мог понять ее причин, только удивлялся обыденной человеческой жизни, одной из миллионов. Дома у Самсонова можно найти похожие альбомы с похожими фотографиями, на которых он тоже сначала грудничок, потом воспитанник детского сада, потом школьник, октябренок, пионер, комсомолец, выпускник, призывник, солдат, студент, жених, муж и отец, журналист-неудачник. Нет только фотографий, на которых он изменяет жене. И точно так же, как с Первухиным, никто не сможет понять, разглядывая эти картинки, почему именно этим путем прошел изображенный на них тип. Правда, Сашкин путь прервался раньше – уже на солдате. Была даже пара его фотографий в Афгане, верхом на БТР и у палатки.
– А откуда у вас афганские снимки? – спросил Николай Игоревич. – Разве можно было оттуда присылать?
– Нет, Сашенька ничего не присылал. Это прапорщик отдал, который его привез.
Мария Павловна осторожно поправила одну из военных фотографий, чтобы краешек не высовывался наружу и не мялся. В альбоме нашлось множество снимков, любой из которых оживил бы очерк, но для публикации нужно их забрать отсюда и отсканировать, а Самсонову совершенно не хотелось уговаривать мать дать ему на время несколько карточек убитого сына. К тому же, потом пришлось бы сюда вернуться и принести их обратно, да еще отвечать за сохранность.
– Мария Павловна, а как вы сейчас живете? – неожиданно для себя спросил Самсонов.
– Да живу себе и живу, – пожала плечами Мария Павловна. – Пенсию получаю, на картонажке работаю.
– А с личной жизнью как?
– Да что вы, Николай Игоревич, – смутилась хозяйка маленького дома. – Какая в моем возрасте личная жизнь! Мишку подняла – вот и вся личная жизнь.
– Вы хотите в вашей жизни чего-нибудь?
– Да чего уж теперь хотеть? Пожила – и слава богу.
– Значит, можно сказать, вы счастливы?
Мария Павловна помедлила.
– Что же такое "счастлива"? Никого не убила, не ограбила, не обворовала. Не скажу, что никого не обманывала, но только по мелочи – кто тут без греха. Живу спокойно, червь душу не гложет. Как скажете – счастлива?
Самсонов задумался в свою очередь.
– Хорошо, если начать жизнь заново, вы сделали бы что-нибудь иначе?
– Мужика бы получше нашла, это точно, – почти без паузы ответила неудачливая жена. – Замуж-то мы дурами выходим, а когда умнеем – уж замуж никто не берет.
– А как Александр?
– А что ж Александр? Как тут изменить? Забрали – и забрали. Это уж не мне менять надо.
– Отмазать можно от армии.
– Ну да! Это сейчас можно, если деньги есть.
Доказывать матери ее вину в смерти сына – не самое возвышенное занятие на земле. Самсонов развивал тему в исследовательском нетерпении и в желании поскорее закруглить визит, не думая о благовидности собственного поведения. С каждой минутой ему становилось все тягостней.
– Что вы сейчас думаете о той войне, и что думали тогда?
– Не думаю я войне. Я вообще не понимаю, зачем войны нужны.
– Но существуют же справедливые войны?
– Наверно. Если на родину напали, как же не воевать.
– А если твоя страна напала на другую, надо воевать?
– Как же не воевать, посадят ведь.
– Ну а добровольцем надо идти?
– Кто его знает. Так не скажешь, это надо смотреть. Лучше не воевать, конечно, и не нападать ни на кого, я так думаю.
Из магнитофона звучал уже "Пинк Флойд", The Wall. Привыкший в последние годы время от времени слышать одну-единственную композицию оттуда, про несовершенство системы народного образования, Самсонов развлекся полузабытыми пассажами и задумался о своем никому не интересном прошлом.
– А вот я думаю – если война началась, нужно ее выигрывать, иначе будет еще хуже.
– Да как же выигрывать? А если не выигрывается?
– Костьми надо ложиться. В случае поражения все равно придется, только в больших масштабах. По крайней мере, с Россией всегда так получается. Мы проиграли три войны, в которых общество не желало победы: Русско-Японскую, Первую мировую и Афганскую. Да, еще Чеченскую в девяносто шестом. И что? Потом десятилетиями большой кровью в новых войнах восполняли понесенный ущерб, да так и не восполнили. Вы не согласны?
– Не знаю… Что я вам, президент какой, вы меня спрашиваете?
Своим выступлением Самсонов безжалостно растоптал фундаментальные принципы журналистской этики, и нисколько не сокрушался по поводу содеянного. В своих теоретических умопостроениях об основах профессии он давно вывел постулат хамской провокации на первое место среди всех прочих. Теперь настало время претворять идеи в жизнь.
– Когда пишут, что Афганская война – ошибка или преступление, тем самым утверждают, что смерть вашего сына не имела смысла. Не будет ли вам легче примириться с мыслью об утрате ребенка с сознанием, что его гибель не была напрасной? Мы ведь, в сущности, выиграли ту войну. Войска ушли, а дружественное нам правительство осталось у власти и прекрасно справлялось с ситуацией собственными силами. Пока мы же сами не прекратили военную помощь, хотя их и нашим общим врагам поставки оружия извне продолжались. Победа превратилась в поражение, гибель тысяч солдат утратила смысл.
Мария Павловна оторопела под натиском интервьюера и пыталась обрести душевное равновесие через спокойствие и рассудительность.
– Что такое "примириться"? Конечно, понимаю, что не вернется Сашенька никогда, а так… Лучше вообще не воевать. Вы вот говорите: "костьми надо ложиться". А своего сына допустите? Чтобы он полег?
– У меня нет сына, – просто и без затей, совершенно честно ответил журналист. – Но в войнах торжествуют страны, готовые жертвовать своими сыновьями. Ладно, Мария Павловна, извините. Увлекся я несколько дурацкими рассуждениями. Наверное, мне пора.
Самсонов поднялся, спрятал блокнот внутренний карман, выключил магнитофон, потихоньку добравшийся уже до "Машины времени" и окинул прощальным взором комнату младшего Первухина.
– Как, уже уходите? – воскликнула без подлинного чувства в голосе Мария Павловна. – Ведь так и не поели!
– Что ж, работа такая, – скорбно и скучно ответил журналист.
– Да как же так! – продолжала отрабатывать долг гостеприимства хозяйка. – Даже неудобно. Вроде как я вас голодным из дома выгоняю.
– Не беспокойтесь, Мария Павловна, я не голоден, – в прежнем тоне продолжал наигрывать Николай Игоревич, – и не переживайте так. У вас же здесь не столовая, и я не ужинать к вам приходил. Приходил я поговорить, и мы поговорили, спасибо вам за прием.
За разговорами Самсонов постепенно продвигался к выходу, но на полпути остановился, осененный новым вопросом.
– Мария Павловна, вы религиозны? Извините, я все в своем хамском ключе. Все извиняюсь и извиняюсь, но все равно спрашиваю.
– То есть, верую ли во Всевышнего?
– Ну да, веруете ли?
– Верую. Батюшка у нас очень хороший, в храме Рождества Христова. Знаете, старая церковь в центре города? Отец Серафим. Такой замечательный батюшка! После службы домой возвращаюсь – будто помолодела. И строгий какой! Казалось бы, ну что он мне сделает? А к исповеди иду – аж дрожь бьет.
– Что же он, ругает вас?
– Да нет, что вы. Наверное, печалится больше. Иногда кажется – лучше бы отругал! А он только сокрушается, почти без слов, только взглядом и голосом. Епитимью суровую наложит – так прямо с облегчением от него ухожу.
– Да что же за грехи у вас? – с обычной бесцеремонностью продолжал допрос Самсонов. – За что же вас еще наказать можно?
– Да как же? Что ж я, праведница? Смертных грехов на мне нет, слава Богу, но в суетной жизни своей грешна. То позавидую кому, то зла пожелаю. Мало ли что.
– И давно вы крестились?
– Да вот, как храм восстановили, в нем и крестилась, у отца Серафима. Когда же это было?
– В прошлом тысячелетии, – кисло сострил журналист.
– Как так? Ну да, в девяностые, – махнула рукой и улыбнулась Мария Павловна.
Самсонов несколько секунд стоял на месте, как бы не зная, куда идти, потом двинулся снова к выходу, выговаривая официальной скороговоркой ритуальные прощальные фразы:
– Спасибо вам за угощение, до свидания. Читайте очерк в следующем номере.
– Вам спасибо, что зашли! А газету обязательно куплю и почитаю.
Оказавшись на улице, журналист, вновь поколебавшись, как в квартире, отправился не в редакцию, а вновь в чужую коммуналку, в лапы сладострастного Алешки. Ему удалось просочиться к своему жилью, не будучи обнаруженным, и он обосновался там, тихий и голодный, скрываясь от слежки, словно подпольщик.
Какое-то время Самсонов, внешне бесцельно, валялся на раскладушке и смотрел в потолок. В действительности он думал. В голове клубились доводы и контрдоводы относительно разных планов очерка, ни один из которых не мог перевесить другие. Возможно, звонок из администрации уже состоялся, и главред ждет его смерти. В таком случае вообще об очерке можно забыть, по какому бы плану его не сотворить. Если звонка не было и не будет до трех часов дня завтра, можно сунуться со скандальным вариантом. Чтобы получить втык от главного и остаться в исходной точке карьерного роста? Возможно, о карьерном росте тоже можно будет забыть. Сенсация не обнаружена, причина истерики Ногинского не установлена, повод для скандала незначительный. Кому он понадобится со своими чахлыми обличениями? С течением времени Николай Игоревич все более склонялся к компромиссному плану, и в той же мере с той же скоростью портилось настроение. Невозможность уложить в полторы тысячи слов историю жизни Первухина лишала Самсонова права браться за нее.
Голодный и терзаемый сомнениями, журналист отошел к беспокойному сну. Утром он проснулся от шума дождя за окном. Сквозь окно лился мутный свет, капли бежали по стеклам и натекали лужицами на подоконнике. Самсонов с ужасом посмотрел на пустую мокрую улицу и твердо решил на работу не идти. Закончив в меру возможностей утренний туалет и не позавтракав, он вернулся в комнату и сел на пол, опершись спиной на стену. Взял валявшуюся рядом папку Ногинского, достал из нее листы чистой бумаги, из своих карманов – ручку и блокнот, и провалился в творческий процесс. Блокнот ему не очень-то и пригодился, поскольку повествовал он об отличном парне, которого ценили друзья, который осыпал розами единственную для него девушку, ушел на войну и погиб, но которого по-прежнему помнят. По именам автор назвал только Марию Павловну и Петра Никаноровича, а также учительницу химии. В заданном объеме текст разместился с полным комфортом, без растяжек и сжатия. По мнению Самсонова, в основных позициях очерк соответствовал истине.
Труд был набело завершен к часу дня, черновые листки остались на полу, окончательный вариант лег в папку, та разместилась под мышкой у Самсонова, а сам он вышел в коридор и столкнулся с Алешкой. Тот стоял прямо за дверью и, видимо, смотрел на нее, потому что Самсонов, открыв эту дверь, сразу уткнулся взглядом в бессмысленные глаза печального соседа. Журналист молчал ошарашенно, Алешка – собираясь с мыслями. Наконец, последний сказал:
– Ты че у меня кассету-то крутил?
Николай Игоревич рассвирепел, выматерился в сердцах, после чего в самой нелицеприятной форме предложил извращенцу найти работу и не пугать людей.
– Нашел дурака – на дядю горбатиться. Я че пришел-то: ты ведь в газету пишешь?
– Пишут в газету читатели, а я там работаю.
– И че, про Первухина пишешь?
Самсонов второй раз за утро вздрогнул от неожиданности.
– Ты был с ним знаком?
– А то! Я морду ему бил.
– За что?
– За дело.
– То есть, за девчонку?
– Точно, за бабу. А че ты про него пишешь-то? Написал бы лучше про меня.
– Когда тебе мемориальную доску откроют, обязательно напишу. Если тоже мне поручат. Стану главным городским специалистам по местным мемориальным доскам.
– Не дождешься.
– Так когда ты его бил?
– А я помню, что ли? Я день не записывал.
– Ну, в школе еще?
– Конечно! После школы я его и не видел.
– На танцах?
– Да вроде.
– И как все вышло?
– Да друган у меня был, телку свою хотел поучить, а этот козел влез.
– За что поучить?
– А чтобы не динамила. Сучка такая, сказала ему, что, пока от нас не отстанет, ему ни хрена не обломится.
– От кого "от вас"?
– Ну, компания у нас была. Она с ним гуляла, гуляла, но не давала ни в какую, а потом выступила с такими заявочками!
– А что у вас за компания такая была? В ментовке часто ночевали?
– Да ты че? Какая ментовка? Ты на меня не смотри, это я сейчас бичую. А тогда рассекал с пацанами по Бродвею в полном прикиде, телок пользовал направо и налево.
Бродвеем в начале восьмидесятых на молодежном жаргоне называлась, разумеется, главная улица города, Самсонов и сам так называл ее в пору своей юности. Теперь он смотрел на Алешку и думал о невозможности случившегося. Надоедливый скудный умом сосед как бы случайно оказался причастен к сюжету порученного незадачливому журналисту очерка. Подобный авторский прием в литературном произведении Николай Игоревич без тени сомнения счел бы чрезмерной натяжкой. В происшествии ему увиделась и другая сторона: в последний вариант очерка новая история не помещалась никоим образом. С одной стороны, она укладывалась в рыцарский образ, с другой -объяснение сложного устройства личной жизни юной Светланы Ивановны займет недопустимо много места. Можно применить прием упрощенчества: пусть она станет жертвой нападения неизвестных хулиганов. Сроки поджимают, но можно попробовать втиснуть абзац-другой уже в редакции, на компьютере.
– Ну так че, ты о нем из-за этой доски пишешь? – напомнил о своем существовании Алешка.
– Написал уже, – бодро ответил ему Самсонов. – Извини, мне давно на работу пора. Кстати, а как его звали?
– Кого?
– Того другана, который телку хотел поучить.
– А зачем тебе?
– Подумал – может пригодиться.
– Перебьешься.
– Чего ты? Срок давности истек давным-давно, да и не напишет сейчас никто никакой заявы.
– Ну и что, причем здесь заява.
– Что, до сих пор его боишься?
– Кого это я боюсь?
– Другана своего. Сколько вас было-то там?
– А тебе какое дело?
– Я же о нем очерк пишу. Ты вот подкинул новенькую информацийку, надо ее вставить.
– Щас, вставил один такой.
Алешка перешел на обсценную лексику и проявил признаки агрессии, надвинувшись на Самсонова и отбросив его предупредительно вытянутую вперед свободную от рукописи руку.
– Рехнулся, что ли? – возмутился журналист, но в ту же секунду случилось непонятное. Он словно потерял равновесие, а также ориентацию в пространстве вообще, сделал несколько шагов в сторону по коридору и присел на корточки. В голове звенело, нижнюю челюсть с левой стороны пекло жарким пламенем, мысли спутались.
– Что, не нравится? – поинтересовался Алешка.
Самсонов вернулся в себя, поднялся на ноги, и не глядя на врага, молча поспешил к выходу, оставив свою чужую комнату распахнутой настежь.
На улице по сравнению с утром все изменилось. Дождь закончился, солнце слепило глаза и серебрило усыпанные капельками листья кустов, журналист излучал мужество и решимость, поскольку никто не видел его позора.
В редакции первой встретила Николая Игоревича Даша. Она улыбнулась ему, сидя на своем месте и продолжая печатать вслепую:
– Пришел? У нас тут прошел слух, что и ты исчез.
– Как видишь, нет. Мне еще минут двадцать надо, настучать текст на компе.
– Ничего не выйдет, у вас там Козлов трудится с самого утра, аж пар валит.
– И что, я во всей редакции свободного агрегата не найду? Смерти моей хотите?
– Не переживай так, не нужен тебе компьютер.
– Как это? Предлагаешь подождать, пока чудесным образом само не напечатается?
– Не надо, чудо уже свершилось. Ногинский приходил, текст оставил и уволился. Но очерк пошел в набор.
Самсонов стоял перед Дашей и молчал, переживая богатую гамму чувств внутри и ничем не проявляя их внешне. В собственном самообладании ему виделось нечто самурайское.
– Уволился? – выдавил, наконец из себя одно слово раздавленный обстоятельствами журналист, сжав пальцами с побелевшими суставами злосчастную папку.
– Уволился.
Николай Игоревич не мог понять причин, понудивших конкурента сделать гадость за пять минут до удаления с поля журналистики. Он несколько минут продолжал стоять перед беззаботной Дашей и тихо удивлялся полному исчезновению любых мыслей и эмоций из его никому не нужной головы.
Затем он без стука ворвался в кабинет главного, полный благородного гнева и желания выместить на ком-нибудь свою беспомощность. Тот встретил бунтаря весело и хладнокровно, довольный произведенным эффектом. Поинтересовался успехами, снисходительно улыбнулся на рассказ об успешно преодоленных препятствиях и объяснил, что первым задание все же получил Ногинский, он же первым его и исполнил, хоть и с опозданием.
– Ты на подстраховке неплохо выступил, – неуклюже попытался одобрить неудачника главред.
– Могли бы мне сказать насчет подстраховки, – дрожащим от возбуждения голосом ответил тот.
– И тогда ты бы проявил то же самое рвение? В любом случае, ты и сам не маленький. Мог догадаться, что при прочих равных условиях я отдам предпочтение Ногинскому. Не переживай, ничего страшного не случилось. У тебя еще все впереди.
– Слишком долго у меня все впереди, пора бы чему-нибудь оказаться и позади.
– Позади у тебя тоже хватает всякого, – рассмеялся главный. – Ладно, не маленький, хорош плакаться. Утешать мне тебя, что ли?
"Ты утешишь, как же", – подумал Самсонов, выйдя из кабинета на вольный воздух. Он вытребовал у Даши распечатку опуса Ногинского и тут же, не сходя с места, погрузился в чтение. Очерк повествовал о славном парне Александре Первухине, который имел много друзей, ушел на войну, оставив дома свою юную избранницу, и погиб, но которого по-прежнему помнят оставленные им в одиночестве люди.
Рабочий день продолжался, редакция бурлила обыденной жизнью, изредка сотрудники проходили мимо Самсонова, задевая его плечами. Журналист стоял, не обращая ни на кого внимания, и постепенно начинал думать.
4. Прошлый человек
Лиза проснулась среди ночи, как от толчка, и села на постели. В темноте просматривались силуэты знакомых предметов и старой мебели, тускло поблескивал на тумбочке полупустой стакан воды. Окно уже обозначилось светлым прямоугольником сквозь занавески, тишина разливалась повсюду. Затем раздался короткий звонок в дверь. Страшный сон какой-то. Кто мог к ней придти среди ночи? Ладно, на рассвете. Стало тревожно. Женщина спустила ноги с полупустого супружеского ложа, надела тапки, взяла мобильный телефон и осторожно пошла посмотреть на ночного гостя.
Она неслышно подкралась к двери и, не включая свет в прихожей, посмотрела в глазок. Ей открылась непроглядная темнота. Света на лестничной клетке снова не было. Лиза попыталась вспомнить, было ли освещение в порядке сегодня вечером или на днях, и не смогла. Забрав после работы Фимку от матери, она приходила домой и уже не выходила на улицу. Снова раздался короткий звонок. Если вызвать милицию прямо сейчас, можно попасть впросак.
– Кто там? – задала Лиза сакраментальный вопрос человека, находящегося в выгодном положении. Голос ее прозвучал тихо и со сна немного хрипло.
– Это я, Сергей, – громко произнес человек в темноте за дверью, словно из потустороннего мира.
– Какой Сергей? – громче и уверенней спросила хозяйка, ободренная тем обстоятельством, что незнакомец – всего лишь какой-то Сергей. Казалось, за таким именем не может скрываться ничего ужасного.
– Ломакин, какой же еще! – недовольно выкрикнул гость.
– Ну и что, что Ломакин! Что тебе нужно среди ночи?
Лиза вспомнила Ломакина сразу. Трудно забыть одноклассника, устроившего грандиозный скандал на выпускном вечере. Она встречалась с ним, невинно и беззаботно, но он счел возможным приревновать ее к партнеру по танцам, которого она сейчас и вспомнить не могла. Растолкал всех и молча ударил воображаемого соперника в скулу. Тот с размаху сел на пол, Лиза завизжала, к ним бросились друзья поверженного, затем друзья Ломакина пришли ему на помощь, завизжали другие девчонки, в гущу дерущихся кинулись учителя, свалка произошла грандиозная. Потом Лиза видела Сергея в разорванной до пупа и залитой кровью рубахе, его держали за руки несколько человек, а он матерился, пытался вырваться или на худой конец лягнуть врага ногой.
– Открывай! – гаркнул Ломакин и тяжко саданул по двери, отчего та содрогнулась.
– Ты что с ума сошел? – крикнула Лиза. – Убирайся отсюда! Дочку мне напугаешь!
– Какую еще дочку! – орал пришелец. – Открывай, тебе говорят!
– Я милицию вызову, идиот!
– Сама ты сука! Открывай!
– Ты пьяный, что ли?
– Трезвый я, трезвый! Хорош дурью маяться!
С минуты на минуту могла проснуться Фимка, соседи могли позвонить куда следует, новый скандал курьерским поездом надвигался на Лизину жизнь, и снова – по милости полоумного Ломакина.
Воспоминания о школьном ухажерстве Сергея всегда доставляли ей удовольствие. Мальчик высокий, приятной наружности, балагур, играет на гитаре и поет – что еще нужно десятикласснице, чтобы задирать носик перед подружками! В кино они ходили по всем правилам – целовались в полупустом зале на последнем ряду, и она не сразу стряхивала его нетерпеливую ищущую руку. Волнение подкатывало от груди к вискам, голова слегка кружилась, и Лиза не запомнила ни одного фильма из тех, что они посмотрели вместе.
После драки на выпускном она испугалась. Тогда глаза их встретились, и Лиза не узнала взгляд Ломакина: в нем не светилось ни грана разума. Он смотрел на нее исподлобья, так, словно она отняла у него самое дорогое в жизни, и он готов ее убить за предательство. Дело обошлось без милиции, но Ломакину предложили удалиться с торжества. Жертву его нападения, с набухшей кровью шишкой под глазом, увели домой, а Лиза долго сидела одна в темном пустом коридоре, куда почти не доносилась музыка из актового зала. С тех пор они ни разу не виделись.
Ломакин теперь трезвонил в дверь требовательно и непрерывно, время от времени усиливая эффект сокрушительными ударами. Фимка заплакала в своей комнате, Лиза кинулась к ней. Дочка сидела в своей кроватке с распущенными волосами, подсвеченная маленьким ночником, словно большая дорогая кукла в витрине магазина.
– Мама! – закричала она испуганно.
– Я здесь, здесь, маленькая, – приговаривала Лиза, села рядом с ревущей Серафимой и устроила ее у себя на коленях. Та сразу прильнула к матери, всхлипывая:
– Мама, это лазбойники?
– Нет, нет, что ты. Это один глупый дядя, я его хорошо знаю, он не страшный. Я сейчас вызову дяденьку милиционера, и он его уведет.
Лиза лихорадочно набрала номер на мобильном и пустилась в объяснения с ответившим голосом, прижимая к себе дочку и время от времени целуя ее в волосики. Ломакин продолжал ломиться в дверь, но внимания больше не удостаивался. Лиза качала Фимку на коленях, пела ей песенки, заставляла рассказывать по очереди все известные маленькому человечку стихи, и стала уже подумывать, не взяться ли сейчас за изучение новых, когда из-за двери донеслись новые звуки. Видимо, следовало открыть дверь и предстать перед толпой мужиков в темном подъезде. Уговоры на девочку не действовали, как только мама пересадила ее с коленей на кроватку, она снова заплакала. Тащить ее с собой не хотелось, поэтому Лиза, в ужасе от сложившейся ситуации, поспешила накинуть халат, запахнулась как следует, и вновь бросилась к двери, одновременно прислушиваясь к воплям из детской.
Звонки и ожесточенный стук в дверь прекратились, теперь из-за нее доносились нескольких громких голосов. Вычленить из криков отдельные слова казалось невозможным, и Лиза не понимала, как следует поступить.
– Кто там? – снова крикнула она, прильнув к дверному глазку, который по-прежнему скрывал от нее реальность.
– Милицию вызывали? – раздался в ответ незнакомый голос.
За дверью определенно скандалили несколько мужиков, и Лизе оставалось только поверить на слово очередному незнакомцу. Мысль, что Ломакин привлек соучастников и разыгрывает теперь целый спектакль, показалась ей противоестественной.
– Вызывала, – крикнула она в закрытую дверь.
– Откройте, пожалуйста.
"И этот туда же", – с досадой подумала Лиза.
– Зачем? Забирайте его, и все.
– Так дела не делаются, девушка. Надо оформить ваше заявление.
– Что здесь оформлять? Разве что-то не ясно? – с нарастающим раздражением кричала Лиза на дверь.
– Не ясно. Стучать в дверь не запрещается, даже ночью. Вы должны письменно подтвердить, что не приглашали этого человека и предлагали ему уйти. Вы его вообще знаете?
Из детской вновь донесся отчаянный вопль Фимки.
– Поймите, я одна дома, у меня ребенок плачет. Просто сделайте так, чтобы этот дурак больше в дверь не ломился, и все.
Она опять убежала к дочке в твердой решимости к двери больше не подходить. Почему целая толпа мужиков создает проблемы, которые ей, видите ли, надо решать! В подъезде развивались события, которые пока никак не сказывались внутри квартиры – в дверь не звонили, не барабанили.
– Сима, ты почему капризничаешь? – перешла в наступление на ребенка опытная мамаша.
– Я не капизничаю, я испугалась, – обиженно пробормотала та ей в халат.
– Что, и баиньки боишься?
– Боюсь. А вдлуг опять дядя плидет?
– Да пускай приходит, а мы его не пустим.
– Мама, а пускай папа его плогонит.
– Конечно, обязательно прогонит, – сказала Лиза вслух, а про себя подумала: "Ломакин этого пентюха пинком в окно выбросит".
– Мама, спой песенку, – потребовала Серафима.
– Хорошо, спою, только ты в кроватку ложись и глазки закрывай.
На журнальном столике ночник в виде кувшинки излучал смешанный желто-белый свет, тот ложился на обои причудливыми переливами, девочка лежала на правом боку, примерно подложив ручки под щечку, а мать тихо напевала ей:
Баю-баюшки, баю
Мою милую лю-лю
В няньки я к себе взяла
Ветра, солнце и орла.
Улетел орел домой
Солнце скрылось под горой,
После ветер трех ночей
Вернулся к матушке своей.
Ветра спрашивала мать
Где изволил пропадать?
Волны на море гонял,
Золоты звезды считал?
Я на море волн не гонял,
Золотых звезд не считал
Малых деточек убаюкивал!
Фимка сонно что-то бормотала – видимо, требовала продолжения. Шум в подъезде прекратился, молчание укутало маленькую квартиру мягким пологом. Лиза погасила ночник, вышла из детской и открыла дверь на балкон в своей комнате. Рассвет вставал над миром, странные невидимые птицы наполнили город своим пением, словно земной рай на время, на час-другой, возродился именно здесь, а не где-то за тридевять земель. Лиза обожала такие городские рассветы, хоть и не часто доводилось их встречать. Она зябко куталась в халат, смотрела на безлюдные улицы и думала о своих мужчинах. Снова о них, даже в такой волшебный момент!
Вздремнув полчасика, Лиза проснулась и погрузилась в обычные утренние хлопоты, разрываясь между собой и дочкой, которая, не выспавшись ночью, начала кукситься, не хотела завтракать, отказывалась идти к бабушке и вообще объявила совершенный бойкот всем усилиям матери включить ее в обыденный ритм рабочего дня. Посреди всего этого утреннего бедлама вновь раздался дверной звонок. Осмелев в светлое время суток и узрев в глазок вроде бы настоящего милиционера в форме, Лиза открыла дверь и пообщалась через порог с хмурым участковым, который первым делом сурово отчитал ее за нежелание сотрудничать с правоохранительными органами, к помощи которых она сама же и воззвала. Далее он вкратце рассказал о задержании ночного дебошира, которое стало возможным не благодаря гражданской сознательности гражданки Самсоновой, а исключительно ввиду обнаружения при задержанном справки об освобождении из мест заключения вместо паспорта или другого благонамеренного документа. Пока он обвиняется в нарушении общественного порядка, но гражданке Самсоновой следует посетить ОВД, написать заявление и дать свидетельские показания, что позволит оставить гражданина Ломакина в заключении на пятнадцать суток. Лиза клятвенно пообещала забежать в указанное присутственное место в обеденный перерыв у себя в библиотеке, после чего благополучно выпроводила участкового и вернулась к домашним заботам. Новость о тюремном сроке бывшего одноклассника нисколько ее не озаботила и не озадачила. Подумаешь, паренек оказался еще и с придурью.
На работе ее вновь озаботила повседневность, теперь уже рабочая, библиотечная. Заведующая сразу выказала необычайную суровость, отчитав за не подложенные вчера книги, словно свет клином сошелся на них, и Лиза обязалась с утра до вечера рассовывать по полкам книги, которые ненасытные читатели приносят непрерывно. Велика беда – расставить их по местам сегодня утром, а не вчера вечером! Тем не менее, про томящегося в заключении Ломакина она вспомнила и на всякий случай отпросилась у заведующей, поскольку не надеялась уложить в перерыв и обед, и визит в милицию.
Районный отдел внутренних дел размещался в стороне от улицы, в тихих дворах, среди деревьев, в недавно покрашенном двухэтажном домике, с оружейным магазином в подвале. Лиза впервые в жизни вошла туда через главный вход, до сих пор ей доводилось бывать только в паспортном столе, с отдельным входом сбоку. Дежурному на входе она объяснила причину своего явления, дала ему паспорт, он куда-то позвонил, с кем-то переговорил, что-то записал, вернул Лизе паспорт, и скоро она уже в неком помещении сама что-то подписывала и описывала в письменной форме свое ночное приключение. В этот момент она и заметила в первый раз странность: человек в комнате смотрел на нее с загадочной улыбкой. Он определенно не пытался заигрывать с заявительницей, просто смотрел с таким видом, будто знает о ней какой-то жуткий компромат. Лиза покончила с формальностями, вышла из ОВД, но продолжала время от времени вспоминать загадочную улыбку сотрудника органов внутренних дел.
В тот день она работала в первую смену, ушла домой из работающей библиотеки, зашла по пути в магазин, забрала Фимку, подошла к родному подъезду, встретила у двери соседок и неожиданно обнаружила на некоторых лицах улыбку давешнего милиционера, а на других – строгие осуждающие мины. Последние сомнения отпали. Как никогда прежде, Лиза поняла Кафку, пустившегося без оглядки на борьбу с судом общественного мнения, только не смогла ничего поделать немедленно, а молча прошла мимо судей, удивляясь только готовности людей думать о ней плохо. В милиции ее вообще никто не знал, соседки за десять лет не могли выведать ничего предосудительного.
Далее время припустило стремглав, через день Лиза явилась в суд свидетельствовать против злодея, посмевшего нарушить ее сон. В качестве потерпевшей она долга сидела в коридоре на банкетке, утомилась, еще больше разозлилась, пробовала читать журнал, но не получилось: она долго смотрела на одну и ту же страницу, думая о своем. Наконец, вызванная для дачи показаний, она вошла в зал и впервые за много лет увидела Ломакина.
Он сидел на скорбной скамье и заранее смотрел на дверь, в которую она вошла – дожидался появления предмета своих несчастий. Лиза бросила на страстотерпца мимолетный взгляд, проследовала к указанному ей месту и долго в ответ на задаваемые судьей вопросы о Ломакине рассказывала об их общем школьном детстве, не скрыла факт платонического романа, пару раз деликатно упомянула о своем замужестве, ребенке и полном отсутствии не только отношений, но и встреч с подсудимым за все годы после школы. Про события бурной ночи она честно поведала только известные ей мелочи: среди ночи в дверь начал звонить и колотить человек, назвавшийся Сергеем Ломакиным. Поскольку дома она находилась одна и дверь не открывала, то может подтвердить только, что подсудимый действительно является ее бывшим одноклассником Ломакиным, но ломился ли к ней в дверь он, либо кто-нибудь еще, сказать не может, поскольку по голосу да через дверь спустя столько лет узнать человека трудно.
Затем Лиза закончила свое честное выступление и по внезапному велению души заняла место в зале, вместо того, чтобы сразу уйти. Здесь она снова посмотрела на Сергея и встретила его упрямый пристальный взгляд. Неужели он так смотрит на нее все время ее присутствия на судилище? Кроме нее, в зале сидели еще два человека – то ли зеваки с извращенным чувством любопытства, то ли желающие подготовить себя морально к возможной судимости, то ли родные и близкие сегодняшних подсудимых. Лиза не отличалась от них ни изысканностью гардероба, ни гордостью взгляда, просто она оказалась единственным человеком среди всех присутствующих, на которого кто-то обращал внимание. Процесс судопроизводства мирно тек в повседневном русле, судья скороговоркой задавал вопросы, свидетели отвечали, с трудом подбирая слова, солнце лилось в помещение сквозь окна, муха зудела и стучалась глупым телом о стекло, все присутствующие занимались дремотным делом, только Ломакин переживал угрюмые эмоции мужчины, встретившего после долгой разлуки холодную к нему женщину.
По истечении десяти или пятнадцати минут судья обратился непосредственно к узнику, но все равно не смог отвлечь на себя его внимание. Тот продолжал пялиться на свою жертву. На вопрос о причине своего появления в неурочный час в чужом подъезде, Ломакин все же повернулся к любопытному служителю закона и нагло ответил:
– А что, нельзя?
– Ночью и без приглашения нельзя.
– А где это написано, что нельзя ночью в чужой подъезд зайти?
– Здесь вопросы задаю я, – сурово сдвинул брови вершитель правосудия. – Зайти можно, нельзя среди ночи ломиться в дверь квартиры, куда вас никто не приглашал.
– А что такого? Мы ведь знакомы.
– Прекратите задавать вопросы, подсудимый. Повторяю, здесь спрашиваю я, вы должны только отвечать на поставленные вопросы. Когда вы в последний раз встречались с гражданкой Самсоновой?
– Это кто такая?
– Это потерпевшая, подсудимый. А говорите – знакомы!
– Конечно, знакомы. Только она никакая не Самсонова, а Корнева.
Занятное упрямство Ломакина развеселило нескольких очевидцев, но раздражило судью.
– Возможно, в пору вашего знакомства потерпевшая действительно была Корнева, но теперь она Самсонова. И, поскольку это обстоятельство вам не известно, суд заключает, что вы не являетесь близким знакомым потерпевшей.
– Лиза, ты замуж вышла? – с детским удивлением повернулся вдруг Ломакин к рабе страстей, чем еще больше рассмешил очевидцев. Лиза вопросительно посмотрела на судью, приняв вид возмущенной невинности.
– Подсудимый, соблюдайте порядок, – сурово потребовал вершитель судеб от заблудившегося в собственных чувствах правонарушителя.
– Лиза, ты вышла замуж? – повторил вопрос несчастный, встав с места и забыв про роковое стечение обстоятельств собственной жизни. – Зачем?
– Подсудимый, возьмите себя в руки, – сурово настаивал судья.
– Сука! – перешел вдруг к умозаключениям беспокойный Ломакин.
Он начал кричать Лизе нечто оскорбительное, но не слишком членораздельное. Наверное, в суде для квалификации характера лихорадочных воплей бывшего одноклассника потребовалась бы экспертиза. Зависимость от женщины переросла из стадии привязанности к стадии ненависти, и Ломакин исторгал ее из себя, подобно рвоте, совершенно не думая о публичности своего выступления.
В финале печальной истории он получил свои пятнадцать суток и удалился под конвоем нести кару за слабину души. Пока конвой волок его к выходу, отверженный старательно выворачивал шею, пытаясь как можно дольше не терять Лизу из виду. Она ответила неприступным выражением глаз, но продолжала смотреть ему вслед, пока преступник вместе с конвоем не исчез в темном зеве судьбы.
Прошли дни, честная мать и прилежная работница продолжала заботиться о дочке и безукоризненно выполнять служебные обязанности, часто вспоминая пережитые приключения. Жизнь в районном центре не часто расцвечивается яркими событиями, и нашествие Ломакина оказалось едва ли не единственным за все время после свадьбы.
Лиза думала о Сергее гораздо чаще, чем об отце собственного ребенка. Пускай преступник продемонстрировал прежнюю неуправляемость, но муж-то являл собой просто образец подонка! Для женщины выбор между мужчиной, не видевшим ее целую вечность и сохранившим страсть, и мужчиной, прожившим годы под одной крышей и вдруг пустившимся в сексуальные похождения по маленькому городку, совершенно очевиден.
Ломакин, конечно, имел других женщин за время после школы (не маньяк же он!), но окончательный выбор он все же сделал в пользу первого пристрастия. Отец для Фимки из него – никакой. Добытчик для семьи – видимо, тоже. О чем вообще можно говорить – уголовник, отбывший заключение и вернувшийся в родные места. Но при этом смотрит на нее жадными глазами даже во время судилища, словно не имеет более важных занятий.
Одно воспоминание не давало Лизе покоя. Недавно на улице она встретила мимоходом неверного мужа и даже машинально поздоровалась с ним, словно он вышел утром из ванной у них дома. Только целоваться не стали. Она не собиралась точить с изменщиком лясы, но он остановил ее и посмотрел прямо в глаза, словно надеясь разглядеть там скрытую от него тайну.
– Чего тебе? – недовольно спросила Лиза.
– Вопрос есть, – глухо произнес Самсонов, не отводя взгляда.
– Какой еще вопрос? Отстань, не до тебя! На работу опаздываю.
– Ничего с твоей работой не случится. Всего один маленький вопрос: о ком ты забыла?
– Что? Отстань ты со своими детскими загадками! Руку отпусти.
– Загадка вовсе не детская. Ты можешь вспомнить людей, которых забыла в своей жизни?
– Самсонов, ты уже по утрам начал пить? – выкрикнула Лиза, выдернула свою руку из мужниной и с сердитой миной зашагала прочь, не попрощавшись и не оглядываясь.
Теперь приключение с Ломакиным навело ее на коварную мысль. Самсонов во время той встречи действительно вел себя загадочно, и причины возникновения у него дурацкого вопроса она так и не увидела. Но ведь Ломакин – как раз из тех, забытых ею людей. Она не думала о нем никогда, хотя он не был просто одним из соучеников. Он не оставил следа в ее памяти. Почему? Почему не приходили на память неловкие полудетские поцелуи в осеннем парке, пока весомо, грубо, зримо не вернулся в ее жизнь заклейменный прошлым Сергей? Причина в нем или в ней?
В подобных размышлениях проводила Лиза день за днем, когда однажды после обеда в библиотеке появился сам Сергей. Мрачный, молчаливый и серьезный вошел в абонемент и остановился, глядя на нее. Они оказались с глазу на глаз, только книжные стеллажи заслоняли им свет и создавали романтичный полумрак.
– Отсидел? – скупо поинтересовалась Лиза, перебирая карточки каталога с таким видом, будто выполняла самую важную в мире работу.
– Отсидел, – ответил дебошир, прислонился к дверному косяку и засунул руки в карманы джинсов.
– Не надоело тебе на меня смотреть?
– Никогда не надоест.
– Фу ты, ну ты! Весь из себя страдающий, что ли?
– А тебе какое дело?
– Ничего себе разговорчики! Проходу мне не дает, и мне же никакого дела!
– Какая тебе разница? Вышла замуж – ну и радуйся!
– Ты ненормальный? Дался тебе мой замуж! Ты ко мне сватался, я тебе обещала?
– Не обещала.
– Ну и что тебе от меня нужно?
– Я тебе тоже не обещал, но ведь не женился.
– С ума сойти! На ком бы ты женился, интересно, в тюрьме?
– Да уж нашел бы, на ком. Что ты думаешь, я все это время сидел? Если хочешь знать, вокруг меня такие бабы увивались! А я, дурак, о тебе все думал.
– Ну конечно! Если так много думал, куда же пропал на целую вечность? Я ведь здесь рядом была. Зачем обо мне мечтать, если можно просто подойти? Я ведь тебя не прогоняла.
– Прогнала. Малого того, что прогнала, еще и забыла! Совсем за таракана меня держишь?
Лиза возмутилась не на шутку и даже с грохотом отодвинула от себя каталожный ящик, который в свою очередь столкнул со стола несколько ручек и карандашей, глухо застучавших по линолеумному полу.
– Ну, просвети меня, когда это я тебя прогнала?
Сергей оторвался от косяка, словно убедившись в его прочности и желая продолжить экспертизу в других местах помещения. Неторопливо миновав местную царицу, он стал безразлично прохаживаться вдоль стеллажей с книгами, внимательно разглядывая корешки.
– Что, знакомые буквы ищешь? – не смогла не съехидничать Лиза. – Так когда же я тебя прогнала?
– А вот тогда и прогнала.
– Когда тогда?
– На выпускном. Что я тебе, дебил какой? Я же видел, как ты смотришь.
– А сейчас ты прячешься, потому что снова боишься, как бы я на тебя плохо не посмотрела?
– Да нет, просто интересно здесь у вас, – донесся издалека приглушенный голос любознательного узника страсти.
– Ну так как же это я на тебя посмотрела, что ты с перепугу на полжизни исчез?
Луконин появился из-за стеллажей в противоположном углу помещения. В тот же момент вошла стайка аккуратненьких круглолицых юных девушек и направилась к Лизе с книжками в руках. Обличитель женской жестокости вновь исчез между стеллажами и не показывался оттуда долго, потому что появились новые читатели, которые текли тонким, но непрерывным ручейком, заменяя своих товарищей, удаляющихся из сокровищницы знаний с новым их запасом в руках. Лиза время от времени бросала нетерпеливые взгляды в направлении растворившегося в воздухе Сергея, но тот не подавал признаков присутствия.
Он вышел едва ли не через час, улучив безлюдную минуту, и быстро сказал:
– Если сегодня приду, опять ментов вызовешь?
– Если придешь часов в восемь, часок-другой можно будет посидеть, – ответила Лиза, не думая ни секунды, и через мгновение удивилась собственной наглости. Тут же вспомнились непонятные лица соседок на следующий день после бурной ночи, но еще через мгновение возобладала злость. Пускай приходит, пускай на нее показывают пальцем, пускай Самсонов узнает и покусает себе локти. Затем вспомнились родители, которые тоже узнают, но им она просто расскажет про одноклассника Сережку. Пока все эти мысли последовательно вытесняли друг друга из головы Лизы, Ломакин бесследно исчез, на сей раз безвозвратно.
Вечером Лиза оставила Фимку у мамы, а сама пришла домой раньше обычного с естественной целью приготовить какой-никакой ужин и привести себя в порядок. Работа спорилась, поскольку хозяйка не стала мучить себя сложными рецептами, а решительно обошлась скоростными. Времени на себя оставалось достаточно, она приготовила ванну с карловарской солью, разделась и собралась погрузиться в теплую воду, но задумалась. Вышла в коридор к большому зеркалу и включила свет, чтобы получше себя обозреть. Голову после душа можно облагородить и без салона красоты, Ломакин после тюрьмы все равно будет доволен. Грудь такая, какая должна быть у матери, выкормившей ребенка, а не бросившей его в омут искусственного кормления, и стесняться ее она не намерена. Тем более, с размером все в порядке, и соски не расплылись: четкими коричневыми кругами выделяются на фоне белого тела. Да, тело… Вес не бывает лишним, пусть катятся куда подальше авторы бесчисленных книг и статей, оплаченных разработчиками диет и мошеннических чудодейственных средств! Если никакими усилиями не получается уменьшить объем бедер на несколько сантиметров, значит, у нее тот вес, который соответствует ее личному обмену веществ, и точка! Самое главное, складок на боках нет, а живот у нормальных женщин всегда выпуклый. Пускай накачивают пресс ненормальные, которые не собираются рожать, а надеются обогнать мужчин в тяжелой атлетике. Лиза обольстительно покачнула тяжелыми бедрами, приняв игривую позу, и улыбнулась. Нет, не видать больше Самсонову этой красоты, пусть не мечтает!
Ломакин, так ярко зарекомендовав себя сторонником экстраординарных способов ухаживания, вдруг решил прийти в норму и явился ровно в назначенный час с банальным тортом и шампанским. Лиза встретила его сером платье с серебряным отливом и глубоким декольте, доставлявшим когда-то большое удовольствие Самсонову. Непутевый муж обожал откровенные наряды жены, полагая, что внимание к ней со стороны других самцов добавляет авторитета ему самому как обладателю всей демонстрируемой роскоши. Роскошь была исключительно телесной, а китайское платье просто выглядело раз в десять дороже своей цены.
– Ну, Ломакин, зачем же ты сходу все испортил! Неужели не мог придумать чего-нибудь пооригинальней?
– Чего? Ты что, шампанское не уважаешь?
– Уважаю, уважаю.
– Сладкого не ешь?
– Ем, успокойся. Ладно, не обращай внимания, проходи.
Гость, наряженный в костюм с галстуком, чинно проследовал на кухню со своей скучной ношей, плюхнул ее на стол и повернулся к хозяйке:
– Муж где?
– А ты рассчитывал ему морду набить? Не надейся, мужа не будет. И подробности тебя не касаются. Бросай здесь свое имущество и катись в комнату, я сейчас выйду.
Лиза заранее уставила парой тарелочек и рюмочек крохотный сервировочный столик в гостиной, чтобы очередной претендент на ее тело правильно расценил свои скромные шансы на сегодняшний вечер. Ломакин смиренно проследовал к указанному ему месту и напряженно уселся на краешек дивана, опершись на него руками и скрестив ноги. В такой позе его голова ушла в поднятые плечи, и он походил на нахохлившуюся птицу.
Лиза вышла к нему через несколько минут без шампанского, но с полной салатницей и тарелочкой бутербродов.
– Я надеюсь, ты поел, прежде чем ко мне идти? – бесцеремонно спросила она. – Ты ведь понимаешь – если женщина приглашает тебя в рабочий день к восьми вечера, значит разносолов не ожидается.
– Ничего, – рассеянно ответил Сергей. – Я о еде совсем не думал.
– О чем же ты думал, милый? Неужели все обо мне мечтал?
Гость молча выхватил из салатницы раздаточную ложку и принялся накладывать к себе в тарелку ее содержимое, словно желал продемонстрировать хозяйке одновременно хорошее отношение к ее кулинарным способностям и нежелание отвечать на глупые вопросы с заранее известными ответами. Салат с палочками самодельных ржаных сухарей, куриным филе и фасолью Лиза приготовила для демонстрации своих способностей сделать нечто практически из ничего.
– Хорошо, не хочешь рассказать о своих мыслях, расскажи, как докатился до жизни такой. Зачем сидел, зачем ко мне среди ночи явился.
– Зачем… Посадили, вот и сидел.
– За что посадили-то?
– По хулиганке.
– Опять кому-то морду набил?
– Не кому-то, а подонку одному.
– Ну кончено, он подонок, а ты – рыцарь без страха и упрека. Один бил-то, или с помощниками?
– Мне помощники ни к чему, – угрюмо заявил Ломакин, глядя в свою тарелку.
– А ко мне почему ночью явился? Пьяный, что ли?
– Трезвый. Я прямо с электрички.
– Не ври, у нас последняя электричка из Москвы во втором часу приходит.
– Ну и что? Я даже не на последней приехал.
– Значит, часов несколько где-то болтался. Дожидался удобного момента и решил, что три утра – лучше всего?
– Нет.
– Тогда давай подробности. Если ты ко мне прямо с электрички, куда девал… сколько часов ты до меня со станции добирался?
Ломакин ожесточенно употреблял салат, закусывая бутербродами. Когда пауза затянулась уже до совершенного безобразия, буркнул недовольно и честно:
– Четыре.
– По-пластунски полз?
– Нет.
– Тогда что же?
– Думал.
– До чего же ты задумчивый! Беспрестанно думаешь! Лучше бы ты так хорошо подумал, прежде чем в тюрьму садиться.
– Далась тебе эта тюрьма. Теперь до смерти попрекать будешь?
– До чьей смерти? Ты меня надеешься извести, или сам на тот свет засобирался?
Ломакин, набычившись, внимательно изучал свою опустевшую тарелку.
– Все издеваешься? Сука ты.
– Так! Приехали. – Лиза разозлилась от всей души и вскочила на ноги, задев столик. – Мне тебя на улицу вытолкать, или сам уберешься?
– Вытолкала одна такая, – усмехнулся наглый гость, продолжая сидеть и изучать тарелку. – Думаешь, с мужем справилась, так тебе все мужики ни по чем? Ошибаешься. Когда захочу, тогда и уйду.
– А если я уйду, вызову милицию и скажу, что ты ворвался в мою квартиру?
– Не скажешь.
– Почему это?
– Потому что тогда меня снова посадят, и уже по-настоящему, а не на пятнадцать суток.
– Ну и пускай сажают, мне-то что!
– Тебе все равно?
– Конечно, все равно! Подумаешь, его посадят! Как я испугалась!
– Ну хорошо, звони.
– Куда?
– В милицию. Сама ведь собиралась. Я никуда не уйду, звони и сдавай меня.
Лиза замялась, пытаясь заглянуть в лицо визави, но тот упрямо не смотрел на нее, и лица не было видно.
– Не уйдешь?
– Не уйду.
– Я действительно позвоню!
– Звони, звони.
Ломакин резким движением отодвинул от себя столик, вольготно откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу, всем своим видом демонстрируя безразличие к собственной печальной судьбе.
– Я звоню!
– Сказал же, звони.
Лиза взяла мобильный, медленно набрала бессмысленный короткий набор цифр и сделала вид, что слушает гудки в ожидании ответа. Сергей продолжал изображать постороннего, разглядывая комнату.
– Что, не отвечают? Попросили перезвонить попозже?
Лиза подумала, не вызвать ли в самом деле милицию, но перспектива прославиться в местном отделении милиции ее не устроила. Общение с глазу на глаз с отсидевшим уголовником ее не пугало, поскольку она видела в нем только непутевого одноклассника и бывшего ухажера, не сделавшего ей ничего плохого. Поэтому она закончила неудавшийся спектакль и села напротив своего вернувшегося прошлого.
– Ладно, живи. Но если не ответишь, почему пришел ко мне прямо с электрички и почему добирался от станции четыре часа, говорить нам станет не о чем.
Ломакин теперь еще и руки на груди скрестил, и смотрел уже вовсе не в тарелку, а прямо в лицо Лизе, тем же голодным взглядом, что и в суде. Она выдержала игру в гляделки и не отвела глаз.
– Почему, почему… Все вам, бабам, знать надо. Сама не догадываешься?
– Зачем же мне догадываться, если ты сам здесь сидишь и на меня пялишься. Раз уж дорвался, скажи, чего хочешь. По-моему, тебе самому это еще нужнее, чем мне. Разве нет? Ты ведь уже в кутузке отсидел из-за желания со мной встретиться, а теперь сидишь здесь статуей.
– Памятником я сижу, а не статуей.
– Хочешь сказать, что умер, и ты – это не ты, а твой призрак?
– Хочу сказать, что… что… – Ломакин снова стушевался и утратил самоуверенность. – Да ну тебя. Хотел посмотреть на тебя, вот и пришел. Что ты, как маленькая.
– А почему четыре часа шел?
– Потому что боялся! На станции сидел, в буфете все деньги просадил. У меня здесь не осталось никого, к тебе только и приехал. Думал – приду, а ты там уже не живешь, и ищи ветра в поле. Или мужик откроет. Я бы его убил, наверное. Помнишь, как мы в парке целовались?
Бодрый переход от убийства к романтическим воспоминаниям Лизу немного испугал. Как это у него все на одной полочке умещается – и желание укокошить Самсонова, и воспоминания о Сокольниках?
– Приехал бы на несколько недель пораньше – прикончил бы этого паразита.
– Понятно. Значит, хочешь мной ему отомстить. А все-таки, помнишь, как мы с тобой целовались?
Лиза помнила эти поцелуи взахлеб, до головокружения и чуть ли не до потери сознания. С Сергеем она впервые в жизни целовалась всерьез, а не в тренировочных целях и не потому, что подружки уже все целовались, а она все еще ни разу. Они гуляли в голом мокром черном осеннем парке без дорожек и тропинок, по мокрой слежавшейся листве, среди кустов, невидимые для редких посетителей и служителей. Впрочем, последних, кажется, не существовало вовсе. Когда начинался дождь, они просто накидывали на головы капюшоны, потому что в шестнадцать лет люди не носят зонтиков, а ходят в болоньевых куртках, готовые к любым погодным невзгодам и не боящиеся их. Лиза бегала на эти свидания в нетерпении, плакала вечерами от счастья, утром мечтала о скорейшем окончании учебного дня. Завидев издали темную фигуру промокшего на дожде Ломакина, который верно ждал ее в условленном месте, несмотря на часовое опоздание, она бежала к нему и никогда не извинялась, уверенная в его необидчивости.
– Помню, – просто ответила она теперь на вопрос своего неприличного гостя, о котором, возможно, уже судачат соседки. – Ты не был тогда злым, твои руки всегда были теплыми, и ты каждый день смотрел на меня, словно впервые или в последний раз. Теперь у тебя татуировки на пальцах, а тогда, на выпускном, ты меня люто ненавидел.
Ломакин неловким быстрым движением спрятал руки и снова стал смотреть на столик, отодвинутый им же самим далеко в сторону.
– Может, ты стихи научился ценить за эти годы? – спросила вдруг Лиза и села на диван рядом с вожделеющим. Она силой повернула к себе его лицо, пытаясь найти в нем черты мальчика, с которым целовалась в безлюдном осеннем парке, и не могла их найти. В памяти раненой птицей бились ахматовские стихи, а она все пыталась, но не могла отогнать их, как сумасшедший не может отогнать свои бредовые видения.
– И с тех пор все как будто больна, – произнесла Лиза вслух.
– Что? – повернулся к ней Сергей. – А, стихи. Нет, я не хочу стихов, не рассчитывай. Я стал еще хуже, чем был раньше. Университеты прошел не те, которые тебе бы хотелось.
– Сочинил же какой-то бездельник, – улыбнулась Лиза и провела рукой по ежику коротких волос на голове своего прошлого избранника.
– Это тоже стихи? – спросил тот. – Или ты хочешь меня разозлить?
– Зачем ты пришел ко мне, Серенький? – задумчиво спросила развратница и легонько провела пальцем по лицу испытуемого. – Чего ждал, на что надеялся? Думаешь, я принадлежу тебе по праву?
– Да, – угрюмо буркнул Ломакин.
– Так чего же ты ждешь?
Сначала он искренне не поверил в услышанное, потом взглянул на обольстительницу и убедился в ее искренности.
– Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина… – тихо сказал Лиза, – я на это наткнулась случайно…
– Опять стихи? – глупо сказал обольщенный, торопливо наваливаясь на нее.
– Хорошо, что ты не знаешь стихов, мой хороший.
Акт измены получился поспешным, воровским. Лиза получила удовольствие от сознания осуществленной мести и немного раздражилась от чужого мужского запаха. Ломакин сполз на пол с узкого дивана, на котором невозможно было лежать рядом, и тяжело дышал, держа ее за руку.
– А где вы с мужем спали? – вдруг спросил он.
– Какая тебе разница? – искренне удивилась она.
– И все-таки?
– Здесь спали. И что дальше?
– Что, на диване?
– На диване.
– Понятно. И как же вы спали, он ведь узкий?
– Ты в своей тюрьме совсем поглупел. Он раскладывается.
– А почему ты его не разложила?
– Может, спросишь еще, почему я постель не постелила?
– Спрошу. Почему не постелила?
– Потому что тебе пора. Или ты рассчитывал здесь поселиться?
– Понятно, – повторил Ломакин, который все никак не хотел верить, что с самого начала правильно понимал намерения бесчестной женщины. – За фуфло меня держишь? Пинком под зад выгоняешь? А если я не уйду? Опять милицию вызовешь?
– Вызову и напишу заявлю об изнасиловании. Хочешь убедиться?
Сергей бросил ее руку и встал во внезапном порыве ненависти.
– Значит, так?
– Именно так, и никак иначе. Знаешь, сейчас ведь век информации. Книги разные издаются, есть Интернет, многое можно узнать, даже случайно. Даже то, что вроде бы тебе и не нужно. Вот и я периодически узнаю всякую ерунду, которую не собиралась узнавать. А она еще и запоминается зачем-то.
– Ты о чем? – осторожно поинтересовался Ломакин.
– О тебе и о твоих татуировках, мой милый, – Лиза сладко потянулась на диване, всем видом демонстрируя безобидность. – По странному стечению обстоятельств я знаю, что означает розочка у тебя на ягодице. Ты сам был женщиной в этой своей тюрьме, правда?
– В колонии, – машинально пробормотал опозоренный, словно ничего более важного не мог заявить в связи с услышанным.
– Ну хорошо, в колонии. Целуешься ты по-прежнему хорошо, хотя теперь мне есть с чем сравнивать. А как женщину тебя целовали?
– Нет, – с нарастающей угрюмостью в голосе буркнул Ломакин.
Лиза игнорировала изменения в настроении собеседника и продолжала болтать в том же духе еще некоторое время, совершенно не опасаясь агрессии с его стороны.
– Значит, так? – тихо и угрожающе произнес тот.
– Что "так"? Я тебя не понимаю. У тебя там был муж, или ты распутничал?
Ломакин недопустимо долго стоял без единого слова и смотрел на свою мучительницу с лицом раненого животного, а потом по-прежнему молча вышел из комнаты. Лиза стала неторопливо одеваться, уверенная в скором окончании нового этапа своей жизни. Затем откуда-то донесся короткий стон. Лиза торопливо натянула платье и побежала на звук.
Она нашла страдальца на кухне. На плите горела одна конфорка, обманутый мужчина прикладывал кухонный нож плашмя к ягодице. Лиза почувствовала запах паленого мяса, взвизгнула и кинулась к членовредителю:
– Отдай нож, псих!
В борьбе она успела заметить его бледное лицо в каплях пота и больные глаза, кажущиеся черными из-за расширившихся зрачков. Ломакин сопротивлялся не слишком активно, и очень скоро в руках у Лизы оказался раскаленный нож с прикипевшими к лезвию ошметками обугленной кожи. Она хотела метнуть его в мусор, но испугалась пожара и побежала к аптечке с ножом. Возле аптечки она вспомнила, что свежие ожоги смазывать или заклеивать ничем нельзя, запнулась на несколько секунд, выхватила с полки бинт и бросилась назад на кухню, по-прежнему с ножом.
Ломакин стоял с глупым видом и странной позе, изогнувшись, словно пытаясь взглянуть на собственные ягодицы. Лиза отмотала бинт, смочила его холодной водой из чайника и приложила к ожогу, вновь преодолев слабое сопротивление несчастного.
– Я вызову "скорую", – сказала она, – подержи сам бинт.
– Не надо никого вызывать, – прохрипел Сергей.
– Как это не надо? Такую дырку в заднице прожег, ненормальный! Инфекцию занесешь!
– Сказал, не вызывай. Обойдется. Заживет, как на собаке.
– Дурак, ну какой же дурак!
– Да уж каким родился.
– Ну зачем, зачем ты это сделал?
– А ты не понимаешь?
– Что? Ты после своей тюрьмы стал таким чувствительным? Всерьез воспринимаешь слова обозленной женщины? До состояния полной истерики? Ты хоть понимаешь, что это чисто женская реакция?
– Ты опять за свое?
– Ладно, ладно, не буду больше. Что теперь делать? Компресс надо сменить, похолоднее сделать.
– Да ладно, успокойся. Подожди, говорю.
Лиза настойчиво занималась сменой компресса, Ломакин остановил ее, сжав горячими пальцами мокрую руку.
– Сказал ведь, подожди. Я должен тебе сказать… – он замялся и опустил взгляд в поиске непослушной блуждающей мысли, единственной из всех способной убедить высокомерную собеседницу в существовании тарус на колесах. – Я не был женщиной. Я всегда думал о тебе.
5. Эвридика
Утром Самсонов вышел из кабинета главного редактора после летучки и увидел на столе у Даши роскошный букет; судя по виду и оформлению, тот стоил несколько тысяч рублей.
– Даша, милая моя! – с деланным восторгом воскликнул прохиндей. – Кому это в нашем богоспасаемом учреждении досталась такая красота?
– А ты подумай как следует, – скромно улыбнулась девушка.
– Ума не приложу! А почему его тебе на стол поставили? Неужели сама счастливица не желает принимать этакое великолепие? Это как же мужик проштрафился, что ничего не помогает?
– И вовсе никто не проштрафился. Хватит дурака валять. – Даша обиделась без шуток со всей эмоциональной энергией впечатлительного сердечка. – Мне его подарили, понятно?
– Тебе? Не может быть!
– Почему это не может быть? Хочешь сказать, мне только три гвоздички полагаются?
– Нет, я хочу сказать, что этот букет предназначен для женщины возрастом никак не меньше сорока, а то и пятидесяти лет.
– С чего ты взял такую глупость?
– Это не глупость, милая Даша. Юным девушкам положено дарить букеты мягких пастельных тонов, оттеняющих прелесть их невинного возраста. Ну, а такое буйное разноцветье дарят солидным дамам, чтобы хоть слегка заретушировать следы времени на их изможденных лицах.
– Ты что, посещаешь курсы икебаны?
– Боюсь, икебана к теме нашего разговора ни малейшего отношения не имеет. Мы сейчас беззаботно болтаем об искусстве составления букетов, предназначенных соблазнять женщин. Возможно, это искусство моложе икебаны, но уж точно от него больше пользы, в том числе и в демографическом плане.
– Иди отсюда, Самсонов, не мешай работать. Совсем разболтался.
– Я-то пойду, Дашенька, а ты здесь об осторожности не забывай.
– О чем ты, какая осторожность?
– Да мало ли. Страсти – штука опасная. Вот, ты, например.
– Что я?
– Вот если ты как следует задумаешься, то сможешь вспомнить, каких людей ты забыла?
– Что значит забыла? Каких людей?
– Обыкновенных людей. Ты идешь по жизни, хоть и не долго, на твоем пути встречаются разные люди. Некоторые мимоходом, некоторые – основательно. Одних ты запоминаешь на всю оставшуюся жизнь, других – забываешь на следующий день после встречи. Так вот, ты помнишь хоть кого-нибудь из тех, забытых?
Даша пожала плечами:
– Нет, наверное. Если я их забыла, значит, я их не помню.
– В логике тебе не откажешь. Я имею в виду – если ты сейчас как следует задумаешься, то сможешь вспомнить, кого ты забыла и почему?
– Понятия не имею. Никогда не пробовала заняться такой ерундой.
– Вот видишь! Был человек, и не стало его, словно и не было никогда. А он, возможно, жив еще, нуждается в помощи или хотя бы сочувствии. А для тебя он умер.
– Кто он?
– Может, и они. Все, кого ты забыла.
– Катись, катись Самсонов, иди работать.
– Иду, иду, родная, по зову совести, но не по твоему злорадному рыку.
Даша досадливо махнула рукой вслед удаляющемуся журналисту, а тот изящно сделал ей ручкой и ушел работать, как обещал. После демарша Ногинского работа у него в самом деле появилась, и он не лгал, упоминая о совести. Он решил стать честным.
Оставшаяся во временном одиночестве редакционная девственница занялась своими делами, непрестанно вдыхая аромат поднесенного ей букета и время от времени украдкой бросая на него задумчивые взгляды. Подарок ей страшно нравился. Впервые в жизни она получила в знак внимания со стороны молодого человека не просто цветы, а богато орнаментированный ансамбль сказочных растений из райских кущ с неизвестными названиями, и теперь млела. К запаху она быстро привыкала, поэтому специально, по делу и без дела, отходила от своего рабочего места и возвращалась в сладостном предвкушении волшебного аромата амброзии. Вдохнув же его, обессилевшая от радостного состояния духа девушка иногда осторожно стирала слезинку в уголке глаза, пока тушь не потекла.
Рабочий день кончился, как неизменно и случалось всякий раз, хотя утром не всем сотрудникам редакции верилось в такой исход. Даша вытащила букет из воды, аккуратно отряхнула его, дождалась над раковиной окончания водопада, завернула в полиэтилен и нетерпеливо выскочила на улицу.
Коля дожидался ее возле своей серебристой машины – стоял, облокотившись на спиной на дверцу и скрестив руки на груди, похожий на Тома Круза, только высокий.
– Привет, – многозначительно произнес он, не меняя позы.
– Привет, – ответила с оттенком вопросительности в голосе Даша. – Спасибо за цветы.
– Да пожалуйста, я очень рад, если угодил. Действительно угодил, или ты просто вежливая девушка?
– Нет, что ты! Замечательный букет. Я даже никогда не видела таких. – Даша заботливо поправила несколько стебельков. – Видишь, домой несу. А ты меня ждешь?
– Кого же еще? Ты меня уличила в ухаживании еще за кем-то в вашей конторе?
– Нет, – смутилась Даша и неловко посмотрела по сторонам. – А что, ты за мной ухаживаешь?
– А ты об этом еще не догадалась? Давай сюда цветы и садись в машину.
Коля пришел в движение, завладел букетом, открыл заднюю дверцу и бросил его на сиденье, а потом распахнул переднюю и вновь застыл в предупредительной позе кавалера, ожидающего свою даму.
– И куда ты собираешься? – стеснительно спросила та.
– Не "ты", а "мы". Поедем в одно место, отдохнем как следует. Сегодня ведь пятница, завтра тебе на работу не вставать.
– Да, завтра не вставать, но я сегодня устала. Давай лучше завтра или в воскресенье?
– Дашунь, я бы с радостью, но именно сегодня там интересное мероприятие, которого не будет ни завтра, ни позднее. Если устала, так там и отдохнешь, для того туда и едем.
– Да куда "туда"?
– Секрет. Все тебе знать надо. Садись в машину и узнаешь.
– Ну вот, мероприятие… Куда-то в общественное место везешь?
– Можно и так сказать.
– Ну конечно, а я прямо с работы, в чем была! Спасибо тебе большое! И что значит "завтра не вставать"? На ночь что ли?
– Не совсем на ночь, но допоздна. Мы ведь на машине, это не проблема. Хорошо, заедем к тебе домой, переоденешься и наведешь марафет, договорились?
– Что, все равно успеем?
– Успеем, это тебе не на работу.
– Но у меня дома родители, тебе знакомиться придется.
– Ну и познакомлюсь, подумаешь. Ты таким тоном говоришь, словно я должен испугаться ужасной перспективы. Твоих родителей нужно бояться?
– Нет, но парни обычно не торопятся делать такие вещи. Только если имеют серьезные намерения, тогда идут, поскольку уже не отвертеться.
– Намекаешь на обширный опыт знакомств? Хочешь меня запугать? А вот не боюсь! По дороге купим цветы маме, водку папе, и познакомлюсь. А потом оставлю им расписку с обязательством вернуть тебя в целости и сохранности.
Широкая дверца машины в открытом положении перегораживала изрядную часть тротуара, и скоро на нем по обе стороны от мило беседующей пары собралась небольшая пробка из пешеходов, некоторые из них бросали на обнаглевшую молодежь гневные взгляды.
– Мы тут людям мешаем, – сказал Коля и положил руку Даше на талию, незаметно подталкивая ее вперед. – Садись скорее, хватит разговоры разговаривать.
Она подчинилась требованию, мысленно уверив себя, что исчерпала все аргументы. Дверцы захлопнулись, машина тронулась с места и скоро исчезла в перспективе улицы.
Тем временем совершенно другой молодой человек, студент одного из московских пединститутов по имени Саша Колокольцев, сидел у себя дома в собственной комнате и думал о Даше. Она даже не догадывалась о его существовании, каковое обстоятельство просто убивало юношу, при этом он еще и не знал ее имени. Саше и прежде доводилось питать тайную страсть, но тех девушек он по крайней мере знал в реальной жизни, а они – его. Разговаривали, смеялись, некоторые курили, строили глазки другим парням, пока секретный воздыхатель, сидя в одиночестве в своей келье, хватал себя зубами за руку, чтобы заглушить другую, более сильную боль. Девушки не обращали на него внимания по вполне понятным причинам. Колокольцев вечно что-то мямлил, обращаясь вроде бы к кому-нибудь из окружающих, но на него всегда не обращали внимания. Так получалось, потому что мямлил он неизвестно что, неизвестно зачем, еще и сам себе не мог объяснить, почему он постоянно лезет со своими разговорами к людям, которые не желают его слышать, ввиду никчемности его самого и его бессмысленных речей.
Саша много читал, много мечтал, еще больше воображал свою альтернативную жизнь, в которой он царил над миром, в силу своего ума и привлекательности. Девушки притягивали его внимание неотступно, он никак не мог преодолеть пагубное влечение, хоть и пытался время от времени. Но всякий раз появлялась в кругу его знакомых очередная пленительная особа восхитительно округлых очертаний, и он вновь начинал думать день и ночь только о ней, забывая о занятиях и иногда даже о книжках. Мысленно он ее раздевал, занимался с ней сексом, восхищал ее своим телом, манерами, искусством интимных удовольствий, властью и деньгами. Казанова в теории, Саша представлял избранницу необыкновенно возвышенным, нереальным, неземным существом, которое питается исключительно нектаром, а пьет утреннюю росу. Он был готов ходить по утрам в лес и отрясать для нее влагу с кустов, собирая ее в ладони. Фантастические мысли настолько занимали Колокольцева, что не каждый раз хватало времени подойти к предмету вожделения и для начала просто перекинуться парой фраз. Он и боялся подойти, потому что заранее был уверен, что начнет мямлить и наскучит девушке за пять секунд, после чего о ней и помечтать-то будет невозможно. Как можно воображать секс с девицей, которая тебя в лучшем случае тебя презирает, а в худшем – почитает за пустое место? Кончались такие мысленные привязанности скоро. В большинстве случаев после того, как Саша с печалью убеждался – и эта тоже пользуется туалетом, наравне с самыми обыкновенными, скучными людьми, грязными и суетными по природе своей.
В случае с Дашей Колокольцев давно осознавал необходимость познакомиться с предметом своих тайных мечтаний. Долго и упорно, дни и ночи напролет обдумывал возможные сценарии сближения, но ничего не мог придумать. Просто подойти на улице и представиться? Дикость какая-то. Разумеется, нужны цветы. Но даже с цветами можно запросто сойти за маньяка. Лучше всего было бы встретиться случайно и по какому-нибудь благородному поводу разговориться. О стихах, например, или о живописи. Только вот каким образом при первой, да еще случайной, встрече перевести беседу на столь отвлеченные темы? Сначала нужно привлечь ее внимание к себе. Получается, встреча должна быть случайной, но при этом он должен обратить на себя ее внимание, то есть чем-то выделиться из массы прохожих. Первое, что приходит в голову, защитить девушку от хулиганов. Но где взять хулиганов, а если они найдутся сами, как защитить от них Дашу? Кто бы его защитил в такой ситуации! Саша в раздражении вскочил со стула и энергично сделал несколько шагов по комнате. Второй возможный вариант знакомства – проникновение в ее компанию. Пускай никто не догадывается, с какой целью он это делает – а там он получит возможность говорить в ее присутствии, не обращаясь персонально к ней. Но как проникнуть в компанию? И где эта ее компания, из кого состоит? Саша не выслеживал Дашу по всем правилам конспиративного искусства, только видел ее иногда на улице, временами она шла не одна, но тех людей Саша тоже не знал. Скрывать правду от самого себя глупо, и тайный воздыхатель признавал, что иногда видит предмет своей запретной страсти исключительно вследствие длительного дежурства на маршруте повседневных перемещений ничего не подозревающей девушки. Он увидел ее случайно прошлым летом, подойти постеснялся, слежку считал постыдной, поэтому, когда становилось невмоготу, шел на место первой встречи утром или вечером и просто ждал. Он мог только предполагать, что она ходит там с работы и на работу.
Самому себе Колокольцев изредка признавался в ненормальности такого странного поведения. Тогда и наступала на него тяжкая пора раздумий над жизненными планами. Девственность в студенческие годы по нынешним временам – жестокая аномалия. Она могла означать самые пренеприятные обстоятельства, вплоть до психической патологии. На мужчин Сашу в общем не тянуло, исключая несколько единичных случаев приступов эротической фантазии. Тем не менее, сам факт существования таковых случаев, крепко засевших в памяти незадачливого эротического фантазера, заставляли его активизировать усилия на личном фронте в отношении девушек. Названные усилия казались тем проще, что эротические фантазии с участием однокурсниц и нескольких молоденьких аспиранток одолевали его ежедневно с угрюмым постоянством. С одной стороны Саша успокаивался нормальностью своей ориентации, с другой – приходил отчаяние от провалов всех попыток продвинуться хоть на шаг. Студентки его демонстративно не замечали и начинали отчаянно скучать буквально с первых слов, если Колокольцев с ними заговаривал. Не сумев преодолеть первый барьер, он никак не мог продвинуться дальше, а с каждой неудачей уверенности и апломба, которых изначально почти не было, становилось все меньше, пока они не исчезли совершенно. В пятницу вечером Саша дал себе слово в понедельник подойти к неизвестной и заговорить. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
В тот момент, когда девственник решился на свой отчаянный шаг, Даша вошла к себе домой и представила кавалера родителям. Те, ошарашенные внезапностью случившегося, растерянно приняли подарки и пригласили гостя пройти, а их бесцеремонная дочь бросилась готовиться к обещанному мероприятию.
Само собой, потребовался душ, где она и заперлась первым делом, пока отец заводил чинную беседу с Колей, пытаясь прояснить туманную личность неизвестно откуда взявшегося жениха. Именно жениха – иначе он не видел смысла тратить время на беспредметные разговоры.
Претендент на дочь понятия не имел, кем являются ее родители, иначе, возможно, изменил бы свои куртуазные намерения. Родители были учителями, и одним только этим своим качеством долго и эффективно распугивали дочкиных ухажеров. Отец-математик и мать-физичка наводили ужас на любого неопытного молодого человека своими менторскими поставленными голосами, строго поблескивающими очками и манерой брать быка за рога. Вот и теперь Коля сам не успел заметить, как поведал собеседнику всю свою подноготную до третьего колена, благо девушкам нужно много времени для подготовки к свиданиям. Суровый отец семейства узнал также о бизнесе Коли, наводнившего торговыми ларьками весь район.
– Вот как? Интересно! И чем же торгуете? – поинтересовался патриарх семейства у кандидата в зятья тоном, который не обещал ничего хорошего, но который умели определять в качестве угрожающего только близкие и ученики говорившего.
– Да всякой всячиной, – беззаботно поведал Коля. – Чем в ларьках торгуют? Всем, что в них влезет, и что можно продать.
– Рэкет не беспокоит?
– Нет, у меня милицейская крыша.
– То есть, милиция сама вас и рэкетирует?
– Да как вам сказать? У меня договор на вневедомственную охрану, причем здесь рэкет?
– Тогда зачем вы говорите о милицейской крыше?
– Потому что по договору МВД получает часть, а конкретные дяди в погонах черным налом – другую часть.
– И где же товар берете?
– В Москве, конечно.
– И почему же вы товар из Москвы возите?
– А откуда же его еще возить? Из-за границы привозят туда, а оттуда уже народ развозит по районам да по областям.
– Сами почему напрямую не закупаете?
– Да возни сколько с одной только растаможкой! У меня людей таких нет, чтобы со смыслом импортом заниматься.
– А как у вас с налогами?
– В каком смысле?
– Платите налоги?
– Плачу, – неуверенно пожал плечами Коля. – По мере возможности. Понимаете, если платить все положенное, себе ничего не останется.
– Все так говорят. Я думаю, это только оправдание.
– Это не оправдание, это суровая правда жизни. Надо столько рассовывать по всевозможным карманам, что на налоги никак не хватит.
– А на всевозможные карманы всегда хватает?
– На карманы – всегда. Там ведь люди о себе заботятся, а здесь – о государстве. За свое человек любому глотку перегрызет.
– Понятно, понятно, – побарабанил пальцами по столу математик.
В комнату вовремя вошла физичка с небогатыми чайными принадлежностями на подносе и пригласила гостя угощаться, пока дочь готовится к выходу в свет. Тот недолго отказывался, затем уступил. Получился хороший повод отвлечься от опасного разговора и обратиться к темам более вегетарианским.
Беседа о погоде, большой политике, состоянии городского хозяйства, о современных автомобилях и полезных продуктах питания длилась не менее часа, вновь с глазу на глаз между женихом и математиком, когда Даша наконец возникла перед своими мужчинами в полной готовности к светской жизни. Математик посмотрел на нее с гордостью, Коля – с восхищением и с сильным желанием непременно одарить свою избранницу эксклюзивными туалетами, достойными ее бесподобной внешности.
– Так вы куда собираетесь? – поинтересовался родитель.
– В театр, – коротко и ясно ответил ухажер.
– В какой еще театр?
– В "Балаган". У нас в городе есть такой театр, вы не слышали?
– Самодеятельный, что ли?
– Да нет, насколько мне известно. В доме культуры, кажется, есть самодеятельная театральная секция. А это театр. Правда, сидят они в подвале.
– Ну-ну. И что же будете смотреть? Какой театр-то, кстати? Не оперный, надеюсь?
– Папа, – выразительно укорила математика дочь.
– Нет, конечно. Драматический. Сегодня "Пять вечеров" идут, премьера.
– "Пять вечеров"? По-моему, этой премьере уже несколько десятилетий. И что за странная премьера – в июне?
– Я имею в виду, премьера в "Балагане". У них все спектакли в таком роде – актеров-то мало. А в июне – потому что бенефис примадонны, к юбилею творческой деятельности приурочено. Конкретную цифру юбилея не называют из скромности.
– Понятно, понятно. Ну что ж, расскажете о впечатлениях. Домой часам к одиннадцати вернетесь?
– Папа, – повторила Даша с той многозначительностью, которая поражает отцов откровением о взрослении их маленьких дочурок.
– Что "папа"? Не утром же тебе возвращаться?
– Честно говоря, у меня еще приглашение на торжественный ужин с труппой, – заметил Коля.
– Воображаю этот ужин, – недовольно пробормотал математик.
– Ничего ужасного в ужине нет, – оборвала мужа физичка.
– Ладно, мы пойдем, – скороговоркой выпалила Даша, желая прекратить допрос и пораньше вырваться во взрослую жизнь.
– Счастливо, – сказала мама.
– Осторожнее за рулем, – заметил отец похитителю бесценной кровиночки. – И с ужином поосторожнее.
– Что вы, я никогда не пью за рулем, – заверил его Коля. – У меня запасной жизни нет.
– Ни у кого нет, а ведь пьют же.
– Прекрати, – взяла мужа за руку физичка.
Дети ушли, а она повернулась к математику.
– Ну что ты вытворяешь?
– Что я вытворяю? Ничего я не вытворяю! Отпускаешь дочь на ночь глядя с каким-то проходимцем, а я, видите ли, что-то вытворяю!
– Прекрати болтать ерунду.
– Почему ерунду? Ты его знаешь? Ты с ним знакома? Ты с его родителями знакома?
– Не все сразу. Сейчас не средние века, родители друг с другом знакомятся чаще всего перед свадьбой. Приятный вежливый мальчик, что тебя не устраивает?
– Приятный? Вежливый? Торгаш какой-то. Его посадят или убьют.
– Ну что ты снова мелешь! Почему посадят, почему убьют?
– Потому что их всех сажают или убивают. У всех рыло в пуху. Он ведь и не скрывает, что взятки дает и налоги не платит.
– Время такое. Потому и не скрывает, что в этом нет ничего особенного. Ты задумывался когда-нибудь, почему Чичиков не вызывает у сегодняшних людей, начиная еще с советских времен, отвращения? А ведь в девятнадцатом веке критики величали его чудовищем. Кто сейчас назовет его чудовищем?
– Почему же никто не назовет его чудовищем?
– Потому что он обманывает государство, издавшее дурные законы, а живым людям, терпевшим убытки от дурных законов, делает благо.
– Ты, как обычно, не рассчитала ситуацию до конца. Эти помещики, за которых ты так переживаешь, по тогдашним дурным законам не только платили налоги за умерших с момента последней переписи, но и не платили их за родившихся. Таким образом создавалась материальная заинтересованность помещиков в понижении смертности и повышении рождаемости среди их крепостных.
– Ты снова мелешь чепуху. Если помнишь, мы говорили о нашей дочери.
– Я-то помню, а вот о чем ты думаешь, это вопрос. Думаешь, если богатенький, значит, хорошая партия для Даши?
– Деньги лишними не бывают. В твоем возрасте ты должен понимать людей и не можешь не видеть, что Коля – не проходимец. Даша с ним знакома не первый день, они уже встречались, и пока она чего-то отталкивающего в нем не обнаружила. Конечно, она девушка неопытная, но и не дурочка, на одни только деньги не поведется. Она с ним много разговаривала, на разные темы – он вовсе не дурак, интересуется не одной только торговлей. Конечно, с Дашей у них может и не сложиться, этого заранее не предскажешь никогда. Нужно знакомиться дальше, приглядываться, присматриваться, проверять чувства. Если же сходу отвергать всех, кто при первой встрече не покажется тебе идеалом, наша дочь замуж не выйдет никогда. Станешь спорить?
Математик включил телевизор и стал смотреть трансляцию футбольного матча.
Молодая пара, покинувшая родительский очаг, за несколько минут добралась до цели своей поездки.
– Зачем тебе машина? – с искренним недоумением спросила Даша. – В нашем городе и автобус-то почти никогда не нужен.
– Машина у меня не для поездок, а для статуса, – солидно объяснил Коля. – Даже в кино об этом иногда говорят. Если я приеду заключать миллионную сделку на автобусе или приду пешком, у меня ничего не выйдет. Если же приеду на машине, которая сама по себе является достаточным залогом, у партнера возникнет острое желание отдать мне свои деньги.
– Но сейчас мы ведь едем не за деньгами.
– Сейчас – нет. Но в городе все должны быть уверены, что эта машина – моя, а не взята у кого-нибудь на время. Не могу же я ходить с техпаспортом наперевес.
Коля произносил слова увесисто и внушительно, с многозначительными паузами между ними, словно объяснял девушке устройство какого-нибудь всем известного механизма или раскрывал секрет Полишинеля.
– Понятно. Это удостоверение твоей личности, которое всегда у всех на виду.
Коля дернул рулем, объезжая припаркованный на обочине КрАЗ, который неожиданно показался из-за проехавшего мимо фургона.
– Я и говорю. Кстати, единственный "мерс" в городе. Меня за километр все видят. Приехали, между прочим.
– Ничего странного. Было бы удивительно, если бы все еще не приехали. Кстати, а у Касатонова разве нет "мерседеса"?
– Касатонов здесь не живет, он москвич.
– Но коттедж ведь есть, как это не живет?
– Это у него одна из дач. И я слышал, нет у него "мерсов" – он их не признает почему-то. Может, какое-нибудь неприятное воспоминание.
– Ты говоришь "мерс", а твою машину когда-нибудь обзывали "мерином"?
– Случается иногда. По-товарищески. Приятели много могут друг другу наговорить, за что другому морду набьют.
– Хочешь сказать, если его так обзовет посторонний, ты ему морду набьешь?
– Не болтай ерунды. Никто мою ласточку при мне не обзывал, никому я морду бить не собираюсь. И вообще, "меринами" обзываются те, которые хотели бы иметь "мерс", но не могут себе позволить по финансовым причинам.
– Ах, вот как?
– Именно так. Выходим. Можно было бы перед началом в кафе забежать, а теперь из-за твоих сборов нужно сразу в зал.
Даша знала о существовании театра "Балаган" и о его местонахождении, поэтому не испытала удивления Самсонова в аналогичном положении. Она уверенно прошествовала за кавалером в подвал, который за прошедшее после визита журналиста время претерпел заметные изменения. Появилось яркое освещение, эстампы на стенах, тележные колеса под потолком, и кирпичные стены в результате стали казаться архитектурным замыслом. В самом зале стены были бетонными, но теперь они оказались задрапированы фиолетовой тканью. Занавеса не наблюдалось, сцена представляла собой невысокий деревянный помост, на заднике по-прежнему виднелись пробитые пулями мишени, но кулисы имелись – обитые темно-бордовой тканью ширмы по обеим сторонам от сцены. Из скрытых динамиков доносилась музыка, люди ходили вокруг и беседовали друг с другом вполголоса. Некоторые – о высоком, некоторые – о повседневном.
– Ничего, оригинально, – с одобрением произнес Коля, оглядывая интерьер. – Голь на выдумки хитра. Фойе нет, занавеса нет, сцены почти нет.
– Место есть только для искусства, – высокомерно парировала Даша выпад против своего театра.
– Что это ты за них заступаешься? Ты здесь уже бывала?
– И не раз. Тебя это удивляет?
– Меня это разочаровывает. Я думал – открыл тебе новые горизонты.
– Ты открыл. На премьеры я ни разу не попадала. Они у них не по билетам, по приглашениям.
– Ты за билетами ночами в очереди не дежурила, случаем?
– Нет, не дежурила. У них европейская система: билет можно заказать на день, за который они еще не распроданы, хоть за несколько недель вперед. И пока есть заказы на билеты, они не снимают спектакли.
– Есть в этом семя здравого смысла, – вновь одобрил политику "Балагана" Коля. – Но вот почему у них зал не занят полностью стульями? Стены оформили, а на самом главном экономят?
– Нет, просто зал не приспособлен. И сейчас с заднего ряда почти ничего не видно и не слышно. У них режиссер считает, что зритель должен ясно видеть лица актеров без всяких биноклей, иначе невозможно оценить игру.
– Не дурак.
В противоположном от сцены конце подвала по случаю премьеры разместился импровизированный буфет. Коля за разговором подманил в ту сторону Дашу и вскоре они оказались в окружении нескольких пар, оказавшихся компанией самого инициатора сближения. Он принялся представлять девушке своих приятелей, их жен и подружек, столпившихся со всех сторон, она смущенно повторяла свое имя, не запоминая имен знакомящихся с ней. Потом Дашу угостили коктейлем с зонтиком и с соломинкой, какого ей никогда прежде не приходилось пробовать, забросали ее вопросами, на которые она отвечала невпопад, предлагали после спектакля заглянуть в какие-то совершенно не известные ей места. Она немного оторопела от полноты ощущений, никому так и не сказала ничего определенного и только обрадовалась, услышав первый звонок. В части торжественности подготовки к зрелищу "Балаган" при всей скудости возможностей не уступал московским театрам, и традиция звонков соблюдалась в нем свято. После третьего немногочисленные зрители заполнили до отказа зал, свет погас сразу, а не постепенно, освещенной осталась только пустая сцена с двумя стульями и столом.
По мнению режиссера, отсутствие занавеса приближало его театр к шекспировскому "Глобусу", но Шекспира ставили редко, а пьесы более поздних авторов не были рассчитаны на такую скудость выразительных средств, и их приходилось слегка подтачивать под предлагаемые обстоятельства.
Ильин и Зоя вышли на сцену, уже разговаривая, и деловито заняли свои места по разные стороны стола. Первый был без шляпы и плаща и ничем не напоминал Любшина. И не удивительно: полноватый, с бритой головой, но все же без очков. Даша подумала: "Каким же будет Тимофеев?" Внешность исполнителей казалась ей важной. Несоответствие внешности образу, заранее созданному в ее воображении, либо виденном в другой постановке той же пьесы или в ее экранизации, всегда ее раздражало, хотя она осознавала чудовищность требования подбирать исполнителей на роли в зависимости от внешних данных. Такое противоречие постоянно раздражало Дашу в театре, и больше всего она ценила спектакли по пьесам, прежде ею не читанным и не виданным.
В случае с театром "Балаган" все обстояло совсем плохо: актеры во всех спектаклях были бритоголовыми, одетыми в лимонные водолазки, такие же брюки и обувь. Актрисы всегда появлялись в белых трапециевидных платьях до колен с небольшими прямоугольными вырезами. Молоденьким девицам вырезы казались недостаточно соблазнительными, более серьезным дамам – чересчур откровенными, некоторые из них и шею хотели бы прикрыть. Режиссер жестоко проводил свою линию: на сцене не должно быть ничего, кроме актерской игры.
Свет на сцене полностью погас, некоторое время слышались шаги нескольких человек по дощатому помосту, затем вновь стало светло, и на сцене оказалась уже одна Тамара. Ильин стучался в ее комнату из-за кулис, затем и он вышел на сцену. Спектакль пошел своим чередом, а Даша, сидя в третьем ряду рядом с сосредоточенно молчащим Колей, следила за Светланой Овсиевской в роли Тамары. Ильин играл в общем неплохо, но временами срывался на речь с выражением и жестикулировал слишком истерично, не по-мужски. Овсиевская же завораживала преданную зрительницу своей обычной манерой ненавязчиво жить на сцене, как в подлинной коммунальной квартире. Временами Даше становилось неприятно от возникающего вдруг эффекта присутствия на реалити-шоу, и она в мыслях раздраженно отмахивалась от наваждения, мешавшего получать удовольствие.
Катя и Слава могли бы представить неплохую пару, но оба оказались староваты для своих ролей, и Даша отчетливо различала на них нарочитый грим, сильно ее раздражавший. В конце концов, режиссер мог бы пойти на провокацию и сделать молодежь старше Тамары и Ильина – пускай зрители и критика потом сами строят версии глубокого замысла постановщика, все лучше, чем старательное подражание людей прилично среднего возраста повадкам нового поколения. Текст пьесы слегка поправили: конкретные годы в нем и так не назывались ни разу, упоминающаяся в нем война казалась неизвестной, любой из прошедших за последние десятилетия – на выбор зрителей с позиций их личного жизненного опыта, единственное упоминание партбюро вырезали, в целом получился материал вне времени.
Тимофеев в спектакле оказался высоким и худым, чопорным, с Тамарой он разговаривал то высокомерно, то снисходительно, с Ильиным – безразлично. Дашу этот тип безмерно раздражал, и она злилась на него за достигнутый им жизненный успех. Она не раз читала пьесу, много раз видела фильм, пару раз видела спектакль в разных театрах (в Москве, разумеется). Она упорно пыталась понять, зачем Ильин уходит от Зои к Тамаре, а Тамара не прогоняет его прочь, особенно разоблачив жалкую беспомощную ложь человека, обменявшего жизнь на право называться честным. Она пыталась разглядеть в исполнении разных актеров и актрис разные трактовки ответа на ее главный вопрос: способна ли женщина простить мужчину, ушедшего на полжизни и вернувшегося лишь по чистой случайности. Положительного ответа Даша ни разу так и не увидела, ей все казалось – только мужчина мог написать такую женщину, потому что мужчинам лестно придумывать таких женщин.
В день премьеры Светлана Овсиевская с партнерами тоже не дала пытливой девушке такого ответа. Даша снова не поверила в Тамару, но следила за действом с затаенным дыханием и комком в горле, все ожидая откровения. Коля, не слишком пристально глядевший на сцену, с какого-то момента стал смотреть в основном на свою соседку, удивленный ее поглощенностью.
– Все в порядке? – осторожным шепотом спросил он в момент развития пятого вечера.
В низком гулком зале его шепот раздался оглушительно, и Даша вздрогнула. Затем посмотрела на него укоризненно и даже приложила пальчик к губам, как маленькому. Коля обиделся и сосредоточенно промолчал до самого конца, когда актеры перестали заслонять от зрителей простреленные мишени на заднике.
– Я вижу, тебе понравилось, – угрюмо произнес он под гул аплодисментов и криков.
– Наверное, – грустно ответила Даша. – А тебе?
– Ерунда, – решительно заявил Коля.
– Почему?
– Терпеть не могу стариковские эротические страсти, их пожилые писаки изобрели.
– Какие старики, где ты их увидел?
– Как где? Да во всей этой кутерьме, которую мы сейчас смотрели. Баловаться нужно в молодости, потом получается одно недоразумение. Ты можешь себе представить, как эта парочка занимается сексом? Представить страшно.
– Причем здесь секс, ты с ума сошел? У тебя, наверное, неизлечимый вывих мозгов.
– Секс всегда причем. Это ты с ума сошла, если не понимаешь основ человеческого общества. Фрейда читала когда-нибудь?
– Можно подумать, ты читал!
– Разумеется, читал. Очень познавательно и отрезвляюще. Тебе тоже полезно ознакомиться – розовые очки пора снимать, не ребенок уже.
– Что ты мелешь, дурак?
Даша возмутилась и рассердилась на спутника, посмевшего заговорить бесцеремонно. Она увидела в своем собеседнике циника, возможно начитанного, а желала видеть человека, хорошо умеющего дарить цветы. Правда, по утверждению Самсонова, букеты Коля составлял тоже не лучшим образом. Но зачем же верить Самсонову?
Торжественный ужин планировался прямо в зрительном зале и подготовительное движение масс началось, пока противоречивая парочка предавалась спорам. Из неизвестных пределов нахлынуло большое количество молодых людей в белых рубашках с черными "бабочками", которые вносили снаружи раскладные столы, накрывали их белоснежными скатертями и с поразительной скоростью расставляли блюда. По толпе приглашенных пронесся шепот: "Касатонов".
Даша невольно стала всматриваться в окружающих, желая обнаружить местного олигарха, фигуру почти легендарную. Он владел большинством еще работающих предприятий города и фамилия его всплывала в разговорах любого жителя ежедневно. Теперь он стоял в дверях рядом с Овсиевской, благосклонно улыбался и с кем-то разговаривал.
– Ужин-то он в Москве заказал, – некстати выдал ценную информацию Коля.
– Кто "он"?
– Касатонов, разумеется. Ты думаешь, в нашей дыре кто-то смог поднять такой заказик, да еще на вывоз?
– Если ты не смог, это еще не значит, что не смог кто-нибудь другой, – мстительно съязвила Даша.
– Причем здесь я? У меня ресторанов нет, – снисходительно разъяснил девушке ее ошибку Коля. – Похоже, шведский стол будет. Готовься к штурму.
– Вот еще! Пойдем отсюда, здесь больше делать нечего.
– Как же нечего! – искренне восхитился непонятливостью спутницы Коля. – Сейчас только дело и начинается! Нужно засветиться на высоком рауте, завязать знакомства с теми, с кем еще не знаком, покрутиться в финансовых сферах. Где же они еще вот так сразу соберутся все вместе!
– Но уже ночь почти! – удивилась Даша. – Какой ужин, какие знакомства, зачем? Пойдем лучше прогуляемся.
– Никакая не ночь, самое рабочее время. Нужно ковать железо, пока есть возможность и необходимость. Вот если вылечу в трубу – можно будет и погулять.
– Зачем же ты меня сюда вытащил? Чтобы своими делами заниматься или посмотреть спектакль и пообщаться?
– Для всего, родная, для всего. И для того, и для другого. Никуда не девайся, пойдем здороваться с Касатоновым.
– Зачем он тебе нужен?
– Самый странный из всех твоих вопросов, Даша! Зачем мне нужен самый нужный человек в здешнем тихом омуте! Скажешь тоже – до того смешно, что плакать хочется! Кстати, он ведь со своей актрисой под ручку – не хочешь с ним разговаривать, с ней поболтаешь.
Коля принялся энергично расталкивать толпу, пробиваясь в заданном направлении, но та не желала рассеиваться и пару раз даже ответила толчком на агрессию предпринимателя. Спустя пару минут пара находилась уже в совершенной близости от небожителя и его артистичной пассии. Хозяин города громко хвалил "Балаган" как один из немногих светочей высокой культуры в унылом районном центре, некоторые из толпы соглашались, другие молча внимали.
– Пустяки. Недоразумение, а не театр, – произнесла вдруг Овсиевская, держа оратора под руку и рассеянно глядя в сторону.
– Вы ошибаетесь, Светлана Ивановна, – настаивал олигарх. – Просто лицом к лицу лица не увидать. Если смотреть со стороны – то на общем печальном фоне ваш театр выглядит светлым пятном. Куда еще можно пойти вечером, если планируешь отдохнуть душой, а не напиться?
– Светлана Ивановна требовательна к себе и к коллективу, – вставил режиссер, толстенький лысый человечек, у которого пиджак не застегивался на животе. – Это понятно. Большая актриса не может не стремиться к совершенству.
– Все большие актрисы – в Москве и Питере. В областях – провинциальные примадонны, а в районах – вовсе не актрисы, а посмешище.
– Вы наговариваете на себя, – искренне возмутился человечек. Ваша градация – следствие игры случая, а мы все хором можем подтвердить: если вас не заметил какой-нибудь заезжий московский режиссер, это вовсе не означает, что вы – плохая актриса.
– Означает, – скучно настаивала на самоуничижении Овсиевская. – Профессия такая мерзкая. Учитель или врач работают в райцентре – это нормально, ведь они там живут. Актриса должна жить в Москве, играть в каком-нибудь из московских театров, сниматься в кино – иначе она неудачница.
– Полная ерунда, – категорически отрезал Касатонов и взял руку Светланы Ивановны в свои большие ладони. – Я вас не слушаю.
Даша слышала все слова дискуссии до единого и соглашалась с Овсиевской, но с поправкой на мнение остальных. Люди считают так, как говорила примадонна, но хорошая актриса может служить и в райцентре – действительно потому, что не попалась своевременно на глаза московскому режиссеру. Наверное, Светлана Ивановна и сама думала так же, только обостряла свою позицию.
– Я думаю, можно приступать к фуршету, – объявил Касатонов в ознаменование прекращения прений и первым направился к столам. Те неожиданно оказались накрытыми и готовыми к торжеству. Толпа двинулась вслед за предводителем. Коля, так и не успев обратить на себя внимание олигарха, был сметен вместе с Дашей со своего места, а затем и прижат к столам. Очень быстро оказалось, что ужин подготовлен не только с размахом, но и с расчетом: всем гостям хватило злачных мест, не понадобилось толкаться и проявлять сноровку. Даже фуршета не получилось, а вышел настоящий банкет: стулья зрителей теперь пригодились в качестве стульев ужинающих, и толпа расселась по ним чинно и с достоинством.
Первым взял слово Касатонов и начал длинный проникновенный тост за благоденствие театрального искусства, а тем временем Саша Колокольцев у себя дома все еще не спал, продолжая обдумывать способы знакомства с девушкой, не известной ему как Даша. Нужно выглядеть беззаботным и веселым, а встречу представить случайной. Возможно, такой вариант – действительно наилучший, но осуществить его тоже невозможно. Колокольцев не отличался ни легкостью характера, ни чувством юмора, веселые компании посещал редко, а если и посещал, то сидел в уголке скучный и одинокий. Не может прикинуться весельчаком человек, за всю жизнь ни разу не заставивший ни одну девушку улыбнуться. То есть, девушки улыбались в его сторону, иногда даже смеялись, но над ним самим, а не над его шутками. Удивительный дар попадать в глупейшие ситуации не оставлял Сашу в течение долгих лет, с самого раннего возраста. Некоторые из родных и близких стали уже раздражаться по поводу необходимости вытаскивать его из постоянных историй. Пару раз дело доходило до милиции.
Однажды он попытался заговорить с маленьким ребенком и увести его домой, потому что счел его потерявшимся, хотя мать стояла в нескольких метрах и болтала с подругами. Собственно, мамаша могла бы уделять своему отпрыску больше внимания, и не возник бы на ровном месте совершенно пустой конфликт. В другой раз он бросился задержать карманника, улепетывающего с места преступления под истошные вопли обездоленной женщины, но задержанный оказался мужем несчастной, преследующим злоумышленника. Немедленно последовало обвинение Колокольцева в соучастии, и единственным задержанным во всей катавасии оказался именно он. Самому себе он тогда признался, что действительно выступил соучастником, помешав изловить виновного, и несколько часов в участке с такой точки зрения казались ему тогда даже мягким наказанием за содеянное. Следствием таких печальных приключений стало решение Саши никогда не вмешиваться спонтанно в мало понятные со стороны ситуации, и он неуклонно придерживался этого правила.
Колокольцев лежал в своей комнате на диванчике, закинув руки за голову и глядя в потолок. Он упорно продолжал обдумывать сценарии грядущего подвига и по-прежнему не мог остановиться ни на одном из них. Влезть в компанию невозможно, рассмешить он не сможет, напасть открыто с цветами наперевес – значит загубить дело на корню. Если все эти варианты не проходят, остается немногое. Подавить интеллектом? Каким же образом продемонстрировать умственные способности незнакомому человеку на улице? Можно найти сообщника и заговорить с ним в радиусе слышимости от объекта преследования о философии Владимира Соловьева. Но разговор потребуется перевести в знакомство. В шутку обратиться к девушке с просьбой рассудить спор? Она может обидеться или убить его презрением, если докажет, что он плохо знает предмет. Скорее всего, просто отмахнется от уличных недоумков и поспешит дальше на работу.
А ведь попытка знакомства, кроме всего прочего, должна быть еще и единственной. Если в понедельник не выйдет, на следующий заход можно будет зайти через месяц-другой, а лучше через год – на случай, если у неизвестной окажется феноменальная память. Осознав вдруг жестокую подробность подлежащей решению задачи, Саша в отчаянии перевернулся на живот и расплющил нос о пыльное диванное покрывало.
Мысли Колокольцева двинулись уже в совершенно опасном направлении. Он стал склоняться к идее тщательной слежки за преследуемой девушкой с целью выяснить сферу ее жизненных интересов, установить круг знакомых и прочие детали, характеризующие личность с разных сторон. Новый аспект логического процесса сначала испугал самого автора. Тот сначала перевернулся снова на спину, затем сел и обхватил голову руками. Звуки работающего телевизора и голоса родителей из соседней комнаты мешали Саше сосредоточиться, поэтому он прикрыл уши ладонями, однако свежие идеи все равно не приходили.
Пока Колокольцев тратил личное время на бесплодные размышления, банкет в театре "Балаган" рос и ширился беспредельно. Торжественное однообразие и роскошь столов сменились форменным безобразием и хаосом, то и дело с разных концов доносились крики требующих что-то людей, но никто не обращал на них внимания. Коля не смог сесть ни рядом с Касатоновым, ни напротив него, и поэтому был собой недоволен. Даша не обращала на кавалера ни малейшего внимания, думала о своем и невпопад отвечала на беспредметные вопросы других гостей. Коля обсуждал с соседом перспективность рынка замороженных полуфабрикатов.
– Пойдем отсюда, – толкнула его в бок Даша.
– Рано еще, – ответил Коля и продолжил оживленную беседу, повернувшись вполоборота от своей спутницы.
– Тогда я одна пойду, – настаивала Даша с расчетом, что кавалер не допустит подобного развития событий.
– Даша, ну чего тебе загорелось? – недовольно бросил предприниматель, отвлекаясь от своей беседы. – Хочешь проверить, насколько высоко я тебя ценю? Но зачем искусственно противопоставлять непересекающиеся проблемы? Мне нужно зарабатывать на хлеб с маслом, я ведь не дурью маюсь. И тебя я не держу на привязи. Поболтай с кем-нибудь, поешь вкусненького.
– С кем-нибудь?
– Да, с кем-нибудь. Неужели не сможешь найти здесь интересного собеседника? Это ведь сливки нашего районного общества.
– Я понимаю, – задумчиво произнесла Даша и встала, с грохотом отодвинув стул.
Некоторые коротко посмотрели на нее и вновь обратились к прежним занятиям; большинство вовсе не заметило демарша бесцеремонной девушки. А та чеканным шагом, цокая каблучками, обошла вокруг стола и приблизилась к Касатонову и Овсиевской.
– Господин Касатонов, – громко и отчетливо произнесла хулиганка, – если вы так высоко цените этот театр, почему не арендуете для него более приличное помещение? А еще лучше – почему не купите и не освободите от арендной платы?
В импровизированном банкетном зале внезапно воцарилась тишина. Все участники пиршества оторвались от тарелок, бокалов, фужеров и разговоров, чтобы посмотреть на разгорающуюся драму. Касатонов и Овсиевская тоже удивленно оглянулись на Дашу.
– Девушка, вы кто? – спросил олигарх в мертвом безмолвии.
– Меня зовут Даша, а что?
Рядом со скандалисткой молча, неизвестно откуда, вырос бугай с бритым затылком.
– Не обращайте внимания, Сергей Николаевич, – поспешил вставить свое слово режиссер, сидевший рядом с меценатом, по другую сторону от Овсиевской.
– Трудно не обратить, – резонно заметил Касатонов, продолжая сидеть на своем месте и вывернув шею в сторону агрессивной девицы. Между делом он сделал глазами знак бритоголовому, и тот послушно замер в позе оловянного солдатика.
Коля растерянно привстал со своего стула, затем молча сел, пожирая глазами бурную сцену.
– Девушка, прекратите хулиганить, – встал со своего места режиссер. – Сергей Николаевич не обязан нас финансировать. Лучше сходите в администрацию и спросите там, почему они не дают нам вообще ни копейки.
– Так они и не поднимают тостов во славу искусства, – ехидно заметила Даша.
– Девушка, вы многого не понимаете, – произнесла Овсиевская голосом глубоким, как океан.
– Чего же тут понимать? Тоже мне, бином Ньютона!
– Вы не понимаете… Даша, кажется? – настаивала примадонна. – Сергей Николаевич дает нам столько денег, сколько мы соглашаемся взять.
Публика напряженно следила за развитием события, ожидая потери лица олигарха, но ничего похожего не произошло. Овсиевская встала, отодвинула стул и одной рукой приобняла Дашу за плечи.
– Пойдемте ко мне, поболтаем.
Актриса жестом отказалась от содействия Касатонова или людей из его команды и силой увлекла упирающуюся девушку из зала в боковую дверь. Там они попали в полутемный коридорчик, а затем вошли в очередную дверь оказались в довольно большой полупустой комнате. Хозяйка включила свет, и Даша решила, что это гримерная. Основным опознавательным знаком служил туалетный столик и большое зеркало с лампочками по периметру.
– Ну, Даша, рассказывайте, – распорядилась Овсиевская, когда обе собеседницы уселись на разнокалиберные стулья.
– Что рассказывать?
– Как вы дошли до жизни такой?
– До какой жизни я дошла?
– Извините, но я не думаю, будто вас настолько волнует судьба театрального искусства в нашем славном городе. И не пытайтесь уверить меня в обратном. Я могу категорически утверждать: вы поссорились со своим молодым человеком и решили сделать ему неприятность. Только вот Сергей Николаевич понятия не имеет ни о вас, ни о вашем спутнике, и все ваши старания пропали втуне.
– Никому я не мстила. И молодого человека у меня нет.
– После сегодняшнего вечера нет?
– Его и раньше толком не было.
– И вы действительно возмутились тем, что Касатонов дает нашему театрику мало денег?
– Насколько я могу судить, он дает их не столько театру, сколько лично вам.
Овсиевская поджала губы и посмотрела на Дашу изменившимся к худшему взглядом.
– Собираете сплетни в подворотнях, деточка?
– Ничего я не собираю, просто сейчас на вас посмотрела. Я думаю, любой из присутствующих, даже если не собирал сплетни в подворотнях, подумал тоже самое.
– Вы так хорошо разбираетесь в людях?
– А вы всегда отрицаете очевидное? Думаете, сможете меня убедить, будто этот Касатонов действительно озабочен поддержкой искусства?
– Почему же вы не допускаете такой возможности? По-вашему, богатые люди не могут ценить театр?
Диалог вопросов со стороны мог показаться странным, но его участницы не нуждались в ответах – они знали их заранее. Точнее, они полагали, что знают ответы, которые устроили бы собеседницу. Осознав это, обе замолчали. Потом заговорила Даша.
– Скажите, так всегда бывает?
– Как "так"?
– Ну вот так. Обязательно должен рядом стоять мужчина с деньгами и властью?
– Дорогая моя, рядом должен стоять мужчина, без которого вы не мыслите жизни, и от которого хотите детей. Все остальное – тошнотворная чепуха.
– А если нет такого мужчины?
– Вам пока рановато заканчивать поиски. Оглядитесь повнимательней вокруг – он вполне может оказаться у вас в поле зрения.
– Каждый день оглядываюсь, – недовольно буркнула Даша. – Не водится в природе мужчина, от которого я захотела бы детей.
– Неправда, так не бывает. Разумеется, при условии, что придуманный вами мужчина – не какой-нибудь киноидеал. В нашем женском деле нужно быть реалисткой. Вполне достаточно, если он порядочный, работящий, непьющий, конечно. Умный, способный защитить вас и детей.
– Всего-навсего.
– Всего-навсего. Многие женщины находят таких, чем вы хуже?
– А вы нашли?
– Я толком и не искала. Увлекалась более важными проблемами, как мне тогда казалось.
– Теперь те проблемы не кажутся вам более важными?
– Не знаю. Я о своей жизни не жалею и прожила бы ее заново, если бы выпала возможность.
– Вы у себя в ГИТИСе не смогли найти такого мужчину, про которого мне рассказали?
– Во-первых, к ГИТИСу я никогда близко не подходила. Во-вторых, такого мужчину, про которого я вам говорила, там найти в тысячу раз труднее, чем в наших тихих местах.
– Вы не учились в ГИТИСе?
– К счастью, нет.
– Почему "к счастью"?
– Если бы училась, то финал моей актерской карьеры точно можно было бы назвать позорным. А так – после филфака МГУ почему бы не поработать актрисой погорелого театра. Найдутся даже люди, которые сочтут, что в сравнении с карьерой учительницы русского языка и литературы это феноменальный успех.
– Но после МГУ можно ведь заниматься и высокой наукой.
– К высокой науке меня влекло еще меньше, чем к школе.
– А к семье и детям – меньше, чем к высокой науке?
– Именно. Вы схватываете на лету, Даша. Но вы на меня не смотрите, я ненормальная. С юных лет лелеяла дурацкие мечты, их и осуществила, как смогла.
– Разве это плохо?
– Если мечты дурацкие – очень плохо. Никому не нужна актриса Овсиевская, никому не нужен наш глупый "Балаган" районного масштаба, а ничего другого у меня нет.
– А Касатонов?
– Что Касатонов? Думаете, приятно в моем возрасте ходить в содержанках?
– Почему в содержанках? Просто он без вас жить не может.
– Может, он просто дает деньги за секс?
– Думаю, у него при желании может быть много женщин, которым он просто дает деньги за секс – и не только в Москве, но и где-нибудь по заграницам. И помоложе вас, и покрасивей. А он вот в ваш театр вкладывается, чтобы вам было где играть.
– Спасибо, девочка, за честную оценку моих актерских дарований. Играть я могу только в театре, за который платит мой покровитель.
– Ерунда, вы хорошо играете. Я все ваши спектакли видела, и не по одному разу.
– Просто я не попалась на глаза московскому режиссеру?
– Вот именно. Разве Касатонов не может вам устроить такую встречу?
– Чуть не каждый день предлагает. Но я ему пообещала, что никогда не пойду ни на какую встречу, а если он ее устроит без моего ведома, я его выгоню.
– И останетесь без "Балагана"?
– И останусь без "Балагана". Пойду куда-нибудь уборщицей работать.
– А если действительно попадетесь на глаза московскому режиссеру, без всякого участия Касатонова?
– Не попадусь. Так не бывает.
– Как не бывает? Все великие артисты приехали в Москву из провинции. По-моему, среди наших звезд кино урожденных москвичей нет вообще.
– Я уже не приехала. Наоборот, я из Москвы уехала, и этим все сказано. Даша, в моем возрасте человеку важно жить в мире с самим собой, и уже неважно, каких высот он при этом достиг. Главное – не глодать себя день и ночь из-за недостаточной престижности занятого положения.
– Вы говорите, как старушка.
– Я говорю так, потому что мне больше ничего не надо от жизни. У нас в "Балагане" ставят спектакли по моему выбору, и я играю в них те роли, которые хочу. Иногда вовсе не играю, если хочется отдохнуть. Я не сижу вечерами одна с котенком на коленях, а занимаюсь своим природным делом и не волнуюсь из-за размеров зала и количества зрителей. Какая разница? У нас не модно слыть театралом, и на меня ходят только по искреннему побуждению, чего мне вполне достаточно. И пусть я живу не на театральные доходы, а на деньги ухажера, меня и это вполне устраивает. В моем возрасте существование в жизни женщины богатого мужчины – уже успех.
– Он женат?
– Какая разница? Все равно положение невесты слишком нелепо в моем случае.
– А положение развратной женщины?
– Положение развратной женщины для провинциальной актрисы естественно. Хахаля ей припишут, даже при полном его отсутствии и наличии живого мужа. Так лучше уж соответствовать представлениям людей, чем безуспешно их оспаривать.
В дверь гримерки осторожно постучали, и Овсиевская нехотя отозвалась после неприлично долгой паузы. Дверь приоткрылась и в проеме показалась голова Касатонова.
– Светлана Ивановна, – вежливо произнес олигарх, – пора свертываться. Я вас жду.
– Хорошо, Сергей Николаевич, – сухо ответила примадонна. – Подождите пару минут, пожалуйста, мы сейчас выйдем.
Касатонов отступил наружу и закрыл за собой дверь.
– Знаете, в чем преимущество ухажера перед мужем? – спросила Овсиевская.
– Не знаю.
– Статус претендента устраивает мужчину больше, чем статус мужа. В своем подавляющем большинстве эти твари не хотят ответственности и моногамных отношений. В положении кавалера они свободны от того и другого, поэтому держатся за паспорт без штампа, как за святыню.
– Но женщине ведь нужен муж, стабильность и гарантии обеспечения, а не приходящий в гости мужчина.
– Брак вовсе не гарантирует стабильности. По крайней мере, с тех пор, как развод превратился в совершенно обычную вещь. Если бы брак оставался церковным, и заявление о разводе нужно было бы писать на имя патриарха (хорошо хоть, не Вселенского, как католики пишут на имя папы Римского), брак стал всего лишь символической бумажкой, которая ничего никому не гарантирует. Гарантия лежит в характере отношений. Сможете привязать к себе мужчину – он останется вашим без всяких штампов. Не сможете – отметка в паспорте его не удержит.
– А дети?
– Если мужчине важны дети, они будут его удерживать, независимо от регистрации отношений с их матерью. Даже наоборот, отсутствие официального статуса привяжет мужчину к детям в большей степени, поскольку после расставания с женщиной никакой суд их ему не вернет, и даже нерегулярные встречи будут зависеть только от благосклонности женщины.
– Вы меня пугаете, Светлана Ивановна. Вы действительно считаете, что замуж лучше не выходить?
– Я просто разъяснила вам свой взгляд на жизнь, позволяющий мне в моем двусмысленном положении жить в мире с собой. Если вам для аналогичного самоощущения нужен официальный муж – выходите замуж.
Даша давно не верила в возможность примирения с собой и промолчала. Она так и не поняла, где искать идеального мужчину, и не поняла даже самого простого – никто ей не поможет в таких поисках. Никто не объяснит, который из известных ей мужчин и есть тот самый идеал, даже при наличии такового.
– Как же узнать единственного? – машинально произнесла она.
– Не ломайте себе голову, – беззаботно заявила Овсиевская, поднимаясь со своего места. – Думать и выбирать бессмысленно, можно только почувствовать.
Даша тоже поднялась и вышла вслед за хозяйкой из гримерной. Касатонов ждал их в коридорчике, и все трое вместе вернулись зал, успевший за вечер побывать и зрительным, и банкетным. Люди уже вставали и гремели стульями, толкались в дверях. В сторонке стоял Коля и смотрел на троицу со странным выражением лица – силился прочесть ситуацию. Даша отвернулась от него.
– Где же ваш кавалер? – поинтересовалась Овсиевская.
– Не знаю. Испугался, наверное.
– Ладно, садитесь с нами.
– Нет, что вы. Я сама доберусь, мне близко.
– Вот еще! Мы вас подвезем до дома, девушек среди ночи на улицу не выгоняют. А ухажера своего при случае пошлите куда-нибудь очень далеко, можно в непечатных выражениях.
Даша села в большую черную машину Касатонова, на заднее сиденье, рядом, с примадонной. Олигарх сел впереди, рядом с водителем, они тронулись с места одновременно с другой машиной. "Охрана, наверное", – подумала Даша и увидела через стекло Колю, провожающего ее взглядом.
В понедельник она вышла на работу в обычное время и обнаружила у подъезда Колю с большущим букетом цветов, превосходящим предыдущий. Сначала она прошла мимо него, молча и не глядя, затем остановилась и оглянулась.
– Хочешь убить меня презрением? – горько спросил кавалер. – Хорошо, убивай. Я обыкновенный человек, скандалов на общественных мероприятиях не закатываю и вообще стараюсь не иметь к ним отношения.
– Ты не подумал, что меня похитили?
– Нет, я за вами проследил.
– И не побоялся, что тебя охрана пристрелит?
– Хватит тебе издеваться. Ты считаешь, я должен был драться за тебя с Касатоновым или с его охраной?
– Мог бы хоть голос подать.
– Легко сказать – голос. Мне ведь здесь дальше жить. А тебя никто не трогал, это ты вдруг хулиганить стала. Ты ведь не пила особо, что на тебя нашло?
– Ничего на меня не находило. Решила спросить, вот и все.
– Да с какой стати?
– Какая тебе разница? Спросила и спросила. Ты зачем пришел с цветами? Прощения хочешь просить? Значит, сам понимаешь, что нагадил?
– Почему нагадил? Положим, оказался не на высоте. Сама тоже хороша. Вот, бери.
Коля протянул букет Даше, честно глядя ей прямо в глаза. Он искренне полагал себя сделавшим все возможное в ситуации, созданной неразумной девицей. Он вынашивал планы деловых контактов с Касатоновым, и ассоциироваться со скандальным происшествием, направленным непосредственно против потенциального партнера, не желал.
– Хочешь загладить вину? – холодно произнесла Даша, не глядя на букет.
– Хочу перевернуть страницу. Садись в машину, я тебя подвезу.
– А вчера почему не подвез?
– Вчера тебя подвез Касатонов. И ты сама села к нему в машину, он тебя силой не тащил. А теперь ты же еще и делаешь из меня виноватого.
Даша молча выхватила букет из руки неблагородного ухажера и решительным шагом направилась к стоящему неподалеку серебристому "мерину". Коля поспешил вслед, успел захлопнуть за девушкой дверцу машины, сел за руль, тронулся с места и через пять минут подкатил к редакции "Еженедельного курьера". Даша молча вышла, Коля тоже выскочил наружу.
– Сходим вечерком в ресторан?
– Нет.
– В кино?
– Нет.
– А куда ты хочешь?
– С тобой – никуда. Я лучше с Касатоновым, – холодно отрезала Даша и отправилась на работу решительным целеустремленным шагом.
Коля проводил ее долгим взглядом, тихо выругался, сел в машину, в сердцах ударил ладонями по рулю, потом завел двигатель и отправился по своим коммерческим делам.
Саша Колокольцев пришел на традиционное место своего дежурства заранее и простоял на нем гораздо дольше обычного, промаячив на одном месте едва ли не три часа. Он явился с букетом роз, держал его сначала осторожно перед собой, оберегая от случайных повреждений со стороны неаккуратных прохожих, затем опустил цветы вниз головой и попытался принять вид беззаботности. В продолжение всей своей романтической вахты молодой человек вглядывался в перспективу улицы, ожидая появления знакомого силуэта, и лихорадочно перебирал в голове многочисленные варианты первой фразы. Все варианты казались неудачными, но более совершенные на ум не приходили, Саша жестоко страдал из-за собственной тупости и неприспособленности. В конце концов ему стало казаться, будто все люди вокруг смеются над ним, тайно или явно. Старательно придав лицу скучное выражение, Колокольцев неторопливо направился в сторону своего дома, по дороге сунув букет в урну. В этот момент он стал как будто глубже и вольготней дышать, освободившись от жестокого бремени, и даже легко улыбнулся.
6. Вольному – воля
– Что ты хочешь? – удивленно спросила Марина.
– Учредить в газете колонку политического анализа, – повторил Самсонов свою последнюю фразу. – То есть, сам-то я не могу ее учредить, хочу подъехать к редактору с предложением.
Летний дождь лениво стучал в окно, сизое небо низко опустилось на город, и через окно казалось, что весь мир утратил радость жизни. Они лежали в постели, еще не проснувшись окончательно, а Николай Игоревич вдруг вздумал развивать перед работницей администрации свои далеко идущие идеи.
– Какого анализа? Что ты собрался анализировать?
– Как что? Есть же у нас совет депутатов, он обсуждает какие-то никому не известные вопросы. Видимо, у депутатов есть какие-то мысли, побуждающие их голосовать так, а не иначе, есть возражения против предложений администрации. Можно брать интервью, давать обзоры дискуссий на пленарных заседаниях. Есть фракции разных партий, есть отделения разных партий в нашем районе. В конце концов, есть сенаторы от Московской области, есть депутаты Думы, избиравшиеся у нас. Можно разговаривать с ними, публиковать сведения об их голосовании в Думе по различным законопроектам.
– Можно подумать, сейчас интервью по различным проблемам не публикуются. Проблема в том, что их никто не читает.
– Вопрос в обсуждаемых проблемах. И в убежденности людей, что власть существует не отдельно от них и не над ними, а для решения их проблем.
– Ты собираешься доказать людям истинность ложного утверждения?
– Я собираюсь вынести на официальный уровень разговоры между собой. Люди ведь разговаривают между собой о разном, в том числе о власти. О передаче пашни под коттеджный поселок, о выделении средств на строительство и ремонт дорог, мало ли о чем.
– На эти темы у вас были публикации. Ты не читаешь собственную газету?
– Конечно, не читаю. Я туда пишу. Имелись всякие материальчики с изложением позиции администрации или просто с постановкой вопроса в целом. Так вот, по-настоящему следует провести расследование, назвать имена причастных к событиям лиц, сопоставить уже озвученные позиции, нащупать в них изъяны, предложить контраргументы, изучить документы, задать конкретные вопросы сведущим людям, составить цельную картинку.
– Так сведущие люди и побежали к тебе с правдивыми рассказами.
– Сначала не побегут. Пока не убедятся, что неприятный для администрации материал будет опубликован и останется без последствий для них лично.
– И что же изменится после этого?
– В таких делах вышестоящий всегда виноватей нижестоящего. Что создает для последних искушение оправдаться, указав пальцем на начальника.
– Так они тебе и указали. Им ведь дальше чем-то жить надо будет. Они ведь прекрасно знают – в случае примерного поведения им устроят синекурку в другом месте, а если они начнут тыкать пальцами куда попало – финал становится неопределенным.
– Ну, не все сразу. Возможно, альтернативный финал приобретет совершенно определенные тюремные очертания.
– Размечтался. Твоей газете функции прокуратуры и суда пока не доверили.
– Газета никого никуда не посадит. Она только сформирует общественное мнение, которое вынудит власти принять меры.
– Ты что, ненормальный? – искренне спросила Марина.
– Почему сразу ненормальный? Можно подумать, я предлагаю совершить государственный переворот. Нормальная работа прессы.
– Какие посадки? Какое общественное мнение? Какие дискуссии? Какие точки зрения? Какие фракции? Ты вчера родился?
– Что значит "какие"? Обыкновенные. Я не понимаю, почему ты пришла в такое возбуждение.
– Зачем тебе понадобился скандал? – не унималась Марина. – Один раз у тебя просвистело мимо виска, так ты решил все устроить так, чтобы наверняка?
– В прошлый раз, признаю, похулиганил. Но сейчас я не вижу ничего страшного.
– Газету свою сначала организуй, да найди средства и покровителя, который ее прикроет от милиции, налоговой инспекции, пожарных, энергетиков, типографии и прочих опасностей. Твою газету кто издает?
– Администрация. Ну и что? Самой же администрации выгодно обсудить имеющиеся возражения против принимаемых решений и доказать их необходимость. Если же таковое доказательство невозможно, то и решение лучше изменить или отменить.
– С кем обсуждать? Что обсуждать? – возмущалась Марина. – Ты ведь и меня под монастырь подведешь, если возьмешься осуществлять свои великие идеи. Главное, еще и сенаторов с думцами приплел!
– Приплел, ну и что? Сейчас как раз лето, сессий нет ни там, ни здесь. Можно через общественную приемную выйти на контакт и подсобрать необходимые сведения.
– Какой контакт? Ты думаешь, депутаты между сессиями только и делают, что общаются со своими избирателями? Они уже на Канарах давно, в отпусках. Тратят деньги того, кто провел их в Думу.
– Касатонова, что ли?
Марина изменилась в лице и села в постели, прикрывая одеялом грудь.
– Нет, ты скажи – ты действительно идиот, или тебя настолько серьезно купили, что ты уверен в своих силах?
Теперь пришло время удивляться уже Самсонову.
– Ну вот, приехали. Купили меня. Ты ведь сейчас не делаешь официальное заявление с выражением мнения администрации по поводу злопыхательских выступлений отдельных нечистоплотных элементов, подкупленных криминальными кругами, которых не устраивает плодотворная деятельность местных властей. Ты пока что со мной разговариваешь.
– Судя по всему, до официальных заявлений недолго осталось! Нет, ты скажи, с чего это ты жил себе спокойно, а теперь вдруг решил бороться за свободу слова?
– Не собираюсь я ни за что бороться! Я просто работаю журналистом. Чем же, по твоему, я должен заниматься на своей должности?
– Тем же, чем занимался до сих пор. Можно подумать, до тебя у нас журналистов не было! О действиях администрации ваша газета и сейчас рассказывает, в том числе под видом обсуждения, в этом духе и продолжай.
– До сих пор журналистом работал Ногинский, а я болтался где-то рядом.
– Ногинский работал тихо и мирно, заработал имя и на гребне карьеры ушел на пенсию. Тебе бы с него пример взять.
– Он ушел не на гребне. Психанул, когда надоело лепить горбатого.
– Откуда такие сведения? Ты его большой друг?
– Нет. Просто результат размышлений.
– Тебе больше думать не о чем? Жил бы себе и жил, как все люди живут.
– Марина, почему ты не хочешь понять элементарных вещей? Неужели работа в администрации так сильно сказывается на сообразительности?
– Так! Я не поняла, что ты сейчас сказал о моей сообразительности? Ну-ка, повтори!
– Я сказал только, что ты никогда не абстрагируешься от своей работы. Представь себе, что ты просто живешь в нашем городе и читаешь нашу газету. Тебя заинтересовала бы колонка, о которой я тебе рассказал?
– Я не просто живу в нашем городе, я здесь работаю. И твою газету я читаю исключительно по необходимости.
– Вот видишь! Если я добьюсь своего, ты получишь возможность зондажа общественного мнения в русле проводимой политики, обратную связь, так сказать. Вместо того, чтобы заинтересоваться новой возможностью повысить эффективность работы, ты возмущаешься!
Некоторое время Марина молча смотрела снизу вверх на Самсонова, силясь оценить степень его серьезности. Пауза растянулась до невозможности, заставив обоих молчащих посмотреть друг на друга, как на посторонних.
– Послушай, Самсонов, – тоном матери, успокаивающей ребенка, продолжила Марина, – умоляю тебя, не вздумай скандалить. Все можно согласовать, это моя работа, в конце концов. Какие мнения ты собираешься услышать от депутатов? Работают люди, никому не мешают, исполняют свои обязанности, голосуют. Зачем тебе знать, что они думают на самом деле? Есть моя контора, она для того и существует, чтобы формировать общественное мнение по поводу политики властей, работай с нами и живи спокойно, кому нужен конфликт? Можно и дискуссию организовать, но при нашем посредничестве. Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?
– Не вижу ничего простого в твоем предложении. Разумеется, я обращусь к тебе за содействием для выхода на конкретных депутатов, но мои вопросы и их ответы будут иметь смысл только в том случае, если будут исходить от нас самих.
Марина встала, закутавшись в одеяло, сердито схватила с кресла халат и с возмущенным выражением лица удалилась в другую комнату одеваться. Самсонов поплелся на кухню и уныло предался делу приготовления скудного завтрака, пока к нему не присоединилась сожительница.
– Я должна объяснять тебе очевидные вещи? Я должна объяснять, что за депутатами стоят другие люди, деньги, у них есть интересы, и они стоят за них насмерть, потому что это не идеи?
– Замечательно. Вот пусть на страницах газеты доказывают общественную пользу продвигаемых ими программ.
– Какую общественную пользу? Свои проблемы они решают, свои! В первую очередь свои, общественные – по необходимости. То есть, только для того, чтобы было откуда отщипывать кусочки лично для себя. Куда ты лезешь? Ведь головы не снесешь! Ты понимаешь, какие деньги крутятся вокруг районных общественных нужд?
– У денег не бывает своих проблем. Любые инвестиции предполагают прибыль. С одной стороны, это дело инвестора, с другой – дело общества, поскольку любое предприятие обязано платить налоги, которые нужно с толком тратить. Если эти твои люди хотят просто построить себе дома, но на общественной земле – порядок отчуждения такой земли касается всех. Даже если они строят дом на частной земле, продавец участка тоже должен заплатить налог, и покупатель впоследствии обязан платить за нее налог каждый год. А ты говоришь – свои проблемы. Кстати, почему ты при наличии циничного взгляда на моральные достоинства нашей власти подвизаешься в администрации? Я здесь вижу в некотором роде толстовское противоречие между убеждениями и образом жизни.
– Потому что платят хорошо, вот почему! Можно подумать, ты сам не знаешь, почему. Хочу свой кусок с маслом, и не хочу ездить за ним каждый день в Москву, чтобы боссы меня мимоходом лапали на рабочем месте.
– А твои нынешние боссы тебя не лапают?
– Представь себе, нет! Наверное, боятся друг друга. Слушай, по какому праву ты здесь изображаешь из себя моральный авторитет? Смешно слышать из твоих уст поучения, хоть бы постеснялся. Ты ведь самый беспринципный тип в городе.
– Мне положена беспринципность, я журналист нашего времени. Но теперь желаю перевести стрелки вперед.
Самсонов готовил глазунью – одно из немногих постигнутых им чудес мировой кулинарии – и говорил неспешно, в манере вдумчивого учителя. Марина смотрела на него неотрывно и все не могла понять, разыгрывают ее или нет.
– Ладно, что с тобой говорить, – сказала она наконец. – Все равно у тебя ничего не выйдет. Ваш главред не вчера родился и на твои глупости не поведется, переживать за тебя дальше мне не придется. Если ты, конечно, не объявишь голодовку протеста у памятника Ленину.
– Голодовку объявлять не стану. Люди у нас понимают голодающих, которые требуют денег, квартиры или еще чего-нибудь материального. А над требованием соблюдать закон у нас принято смеяться, тем более над голодающим с таким требованием. К твоему сведению, я ненавижу стоять в позе дурака на ярмарке, которому в рожу метают мячи.
– Ты слишком много читаешь. Нет у нас ярмарок с такими дураками, да и нигде их нет. Вот и весь твой пафос – вымышленная поза на несуществующей ярмарке.
– Ярмарки все же существуют.
– Ладно, надоело с тобой спорить. Делай, что хочешь. Хочется верить, ты все же понимаешь очевидные вещи. Например, такую прописную истину: мое руководство прекрасно осведомлено о наших с тобой отношениях. Пока они не мешают, а может и помогают моей работе, оно не против. Но если ты пойдешь вразнос, мне достанется раньше тебя.
Марина занялась приготовлением кофе для себя, поскольку партнер предпочитал чай. Кухня наполнилась пьянящим ароматом размолотых в ручной мельнице зерен, атмосфера стала совершенно нерабочей и разговор повелся о личном.
– Странно все-таки, – задумчиво продолжила мысль сладострастница. – Раз за разом ты обнаруживаешь все новые и новые свои стороны, всегда неожиданные. Сначала я решила – просто веселый нахал. Потом оказалось – расчетливый профессионал. Теперь неизвестно откуда вдруг вылез мальчик-идеалист в розовых очках. У тебя шизофрения?
– А злобного изменника, меняющего женщин, как перчатки, ты во мне еще не заметила?
– Не заметила. Ты не меняешь женщин, это они тебя бросают. Потому что ты из глупости попадаешься на очередной измене. Но изменяешь подло, втихомолку. О гареме, что ли, мечтаешь?
– Я, в общем-то, не попадаюсь. В смысле – с поличным ни разу не сгорел. Просто жизнь берет свое. Шила в мешке не утаишь. Обожаю женщин – это моя беда, а не вина. Тебя не устраивает мое внимание?
– Меня не устраивает твое внимание не ко мне.
– Что делать, что делать. Я плыву по реке жизни, и руки мои непроизвольно задевают разные кувшинки.
– Кувшинки в реках не растут. Выходит, твоя жизнь – болото.
– Так уж и болото. Скажем, тихий пруд. Совсем по-японски: жаркий день, старый пруд, затянутый ряской, лягушка прыгает в воду. Всплеск тишины.
– Лягушка – это очередная женщина на твоем пути?
– Женщина – это всплеск тишины. В жаркий день на старом пруду. Она гармонична, она совершенна, без нее мир не закончен.
– Без нее мира не будет.
– И ты о том же. Вы, женщины, обожаете представлять себя исключительными. Без мужчин мира тоже не было бы. Мы тоже причастны к деторождению. Пока ты меня не перебила, я говорил не о физиологии, а о душе.
– Обзывать женщин лягушками не значит говорить о душе.
– Ты действительно сейчас споришь, или просто развлекаешься поперек логики и ради принципа? Я говорю – в женщинах таится совершенство мира. Но несовершенство мира создает больше поводов для искусства и прогресса.
– Так. Женщины мешают искусству и прогрессу?
– Я не говорю, что вы занимаетесь подрывной деятельностью против человечества. Мужчин вдохновляют недосягаемые женщины, побежденных они эксплуатируют в бытовых целях.
– Кто кого эксплуатирует?
– Мужчины побежденных женщин. Примеры Софьи Андреевны и Коры Ландау достаточно красноречивы. Никто никогда не подсчитает их вклад в достижения мужей, а сами они будто и не задавались такой задачей. Ваше предназначение – ложиться костьми ради благополучия потомства и производителей.
– Самсонов, ты заткнешься наконец? Отправляйся к своему главному и вешай ему лапшу на уши, сколько твоей душеньке угодно, только женщин не трогай.
Самсонов послушался Марину и в понедельник явился со своим рацпредложением к главному редактору. Тот долго смотрел на него исподлобья, потом почесал одним пальцем переносицу:
– Не пойдет.
– Почему?
– Дурачком не прикидывайся. Сам не вчера родился. Продолжай работать и не выпячивайся. Тоже мне, борец за свободу.
– Нет, но я же…
– Помолчи, Самсонов, помолчи. Иначе мне придется для тебя "скорую" вызвать. Или для себя.
– Но послушайте…
– Уйди отсюда, уйди. Не доводи до греха. Тебе вроде рановато в старческий маразм впадать.
– Ну почему вы так реагируете? Разве я предлагаю что-то нереальное или незаконное?
– Нет, ты предлагаешь только полнейшую ахинею. Не заставляй меня думать о тебе плохо, замолчи и иди займись делом.
– Чем же я заставляю вас думать обо мне плохо?
– Тем, что выдаешь себя за идиота. Хотя, я уверен, идиотом не являешься. Значит, изобрел какую-то интригу с неясной целью. Чего ты добиваешься, Самсонов?
– Я вам подробно рассказал, что предлагаю.
– И ты хочешь, чтобы я бросился тебе на шею с криком восторга и благодарности?
– Это не обязательно. Просто скажите "да".
– Сам я на такие вопросы не отвечаю. Вопросы редакционной политики положено выносить на редколлегию.
– Замечательно, выносите.
– Тогда все узнают о твоем предложении.
– Замечательно.
– Тебе не страшно?
– Почему мне должно быть страшно?
– Потому что все узнают о твоей психической неполноценности. Слушай, Самсонов, успокой меня. Скажи, что пришел немного попридуриваться, а потом вернешься к исполнению своих служебных обязанностей.
– Я излагаю вам свой план наилучшего исполнения моих служебных обязанностей. Кстати, острые, не ангажированные ни властью, ни оппозицией, материалы помогут популярности газеты и, следовательно, ее тиражу. Не вижу в такой перспективе ничего ужасного.
– Твои острые материалы только приведут меня и тебя на биржу труда. Бывал там когда-нибудь?
– Не приходилось. Думаю, любой опыт для журналиста полезен.
– А семью твою кто будет кормить, пока ты будешь набираться опыта?
– У меня нет семьи.
– У тебя есть семья, если ты не подонок. Ты в самом деле не даешь деньги жене? Совсем не возникает желания позаботиться о собственной дочери?
– Возникает иногда. Но если не будет работы, нечем будет делиться, и забот станет меньше. Я живу первобытным человеком, только сегодняшним днем.
– Первобытные люди заботились о детях, поэтому все и кончилось твоим рождением.
– Может, моим рождением все только начинается? Вы совершенно не хотите прославиться?
– Я хочу спокойно жить и работать, кормить семью и летать каждое лето в Египет. А вот чего тебе неймется – ума не приложу. Сейчас же опомнись, прекращай дурить, берись за ум и возвращай семью.
Самсонов машинально собрался выдать длинную нелицеприятную тираду о своей жене, которая водит к себе мужиков среди бела дня, не стесняясь соседей, но ангел-хранитель спас его, ловко придержав невоздержанный язык в самый последний момент.
– А я хочу жить в мире с самим собой, – неожиданно для себя произнес вслух буйный журналист. – Чтобы не сосало под ложечкой от осознания несовершенства жизни.
– Жизнь всегда будет несовершенной, – буркнул главный, с оттенком недоумения взглянув на подчиненного. Впервые за время знакомства он разглядел в Самсонове черты странного человека. Тот не хотел униматься:
– Я не предлагаю никакой крамолы. Сейчас нет ни пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса, ни шестой статьи Конституции. Осуществление моего предложения не нарушит ни одного российского закона, почему вы смотрите на меня, как на сумасшедшего?
Главред действительно смотрел на него именно так, смотрел долго, с оттенком отеческой жалости во взгляде. В конце концов начальник решил обращаться с журналистом, как с малым ребенком:
– Понимаешь, на свете есть много законных вещей, которые недостижимы в реальной жизни. Человеку не запрещено летать, как птице, но он не может.
– Человек-то летать не может, но газета заниматься своим прямым делом честно и профессионально не только может, но и должна. А вот запретить такую деятельность газеты никто не может. По закону.
– Разве я говорил о запретах? Нам ничего не запретят, меня просто уволят по статье за служебные нарушения, которых у меня пруд пруди, потому что нет их только у того, кто ничего не делает. А тебя я просто убью, без юридических формальностей.
– А вы работайте без служебных нарушений. Надо же когда-нибудь навести порядок в государстве.
– Даже в государстве! Эк ты замахнулся, мил человек. Ты кем себя возомнил, вершитель судеб отечества? В государстве он порядок решил навести. Тебе рассказать древний анекдот про советскую власть и парикмахерскую?
– Не такая уж у нас парикмахерская. Целый район у Москвы под боком. Нас и в центральной прессе могут заметить.
– Очень ты нужен центральной прессе!
– И на федеральных каналах.
– Конечно, этим ты еще нужней! Хочешь навести порядок в России, стань сначала президентом.
– Спасибо, лучше я начну с парикмахерской. Вы мне так и не ответили, почему нельзя работать по правилам.
– Потому что работа по инструкции называется итальянской забастовкой. И вообще, как ты планируешь жить дальше, забросав дерьмом своего работодателя? Где ты видел людей, оставшихся живыми и счастливыми после подобных подвигов?
– Забросать дерьмом – значит возвести напраслину. Я же говорю о формулировании обоснованных точек зрения.
– Ты говоришь о войне компроматов, которой страна в свое время нахлебалась выше крыши. Теперь читателя больше всего интересуют гороскопы и фасон нижнего белья звезд экрана и эстрады.
– Я говорю не о войне компроматов. И не стоит плохо думать о читателе. Если он прочтет в газете подтвержденную ссылками на подлинные документы статью о том, что выгодополучателем в деле о выделении участков пашни под коттеджный поселок является Касатонов, и если он прочтет впоследствии о начале работы депутатской комиссии по расследованию, а затем и полный отчет этой комиссии, он заинтересуется в наивысшей степени. Самое главное для нашего человека, чтобы кого-нибудь наказали и выплатили компенсацию в бюджет – если такое случится, газета имеет шанс стать экономически эффективным предприятием и получить независимость.
Главред откинулся в кресле, поедая жалобным взглядом Самсонова и нервно барабаня пальцами по столу.
– Вот если ты попробуешь заикнуться о Касатонове в таком ключе, то в лучшем случае тебе еще до публикации переломают ноги или руки. В худшем – сгинешь в каком-нибудь болоте на радость будущим археологам. Собственно, тебя мне не жалко, но не мне же твою дочку растить, подумай на досуге.
– По-вашему, следует и дальше делать вид, будто никто ничего не знает?
– А никто ничего и не знает, все только болтают. Где ты собрался искать подлинные документы, подтверждающие твою гениальную догадку? Кто их тебе даст или хотя бы покажет издали? Все люди, имеющие к ним доступ, хорошо прикормлены Касатоновым, они пошлют тебя куда подальше, да еще и хозяину доложат о вербовочном подходе. Ты как дитя малое. Что с тобой происходит? Я прежде не замечал в тебе признаков инфантилизма.
– Теперь заметили?
– Теперь я уверился в твоем великом будущем. Где-нибудь на задворках чего-нибудь большого и вонючего. Займись семьей, не майся дурью. Зарабатывай деньги, покупай подарки жене и дочке, обустрой дом. Куда ты лезешь, зачем?
– Я очень ясно говорю, куда я лезу. И сказал, зачем.
– Чтобы не было мучительно больно? Сколько можно болтать о высоком, мелькая драной задницей? Кому нужны твое благородство и самопожертвование ради свободы в одном отдельно взятом районе? У нас даже психушки нет, где ты нашел бы для своих идей бесподобную аудиторию.
– И вы о психушке. Никак не могу увидеть связь между стремлением хорошо делать свою работу и безумием.
– Не можешь? Я тебе объясню. Ты неправильно понимаешь хорошую работу журналиста. Надо объяснять дальше?
– Не надо. Вы хотите сказать, я должен и дальше следовать вашим указаниям.
– Не указаниям, а общему руководству. Я формулирую задачи, ты находишь решение и претворяешь их в жизнь. Свободы для поиска и творчества здесь – сколько твоей душеньке угодно.
– Например?
– Например, займись проблемами коммунального хозяйства. Сам понимаешь, претензий у людей – выше крыши. Пытай коммунальщиков хоть на дыбе, изучай русла денежных потоков, только не рой слишком глубоко.
– То есть не называть адреса, к которым эти потоки стекаются?
– Да не найдешь ты никаких адресов. Тебе и без меня дадут знать, если подойдешь к границе. А до нее – обличай на здоровье.
– На здоровье не получится. Откуда взялась граница? У нас сословий нет, тем более привилегированных. Все равны перед законом.
– Опять ты за свое? Сколько раз я должен тебе объяснять одно и то же?
– Видимо, пока я не постигну всей глубины вашей мысли.
Главред уже смотрел на собеседника едва ли не с испугом. Он задумался о возможности умственного помешательства Самсонова на почве несуразиц в личной жизни.
– Слушай, Самсонов, никак не пойму. Ты всерьез молотишь всю эту дребедень?
– Вы сомневаетесь во мне?
– Нет, я за тебя боюсь. Взрослый человек не может обладать невинностью младенца.
– Почему вы считаете меня ненормальным из-за желания не презирать собственное отражение в зеркале?
– Хочешь сказать, ты лучше других? Более духовный, возвышенный, бескорыстный? Ты просто глухой, слепой и пустоголовый.
Самсонов направился к двери, но остановился и спросил:
– Значит, нет?
– Именно так.
– Отлично.
Журналист вышел из кабинета, чеканя шаг, и направился совершенно не в ту сторону, движения в которую можно было бы ожидать от законопослушного и трудолюбивого сотрудника редакции. Он вытащил из кармана засаленную записную книжку, лихорадочно полистал ее, нашел нужную страницу и, не отрывая взгляда от нужного номера, потянулся за трубкой телефона на столе у Даши. Та сидела грустная, ничего не делала и не обращала внимания на беспредельщика. На сей раз им обоим было не до подтруниваний.
Короткие гудки в трубке сменились тишиной, затем приятный девичий голос поздоровался с Николаем Игоревичем, с достоинством произнес наименование корпорации и поинтересовался намерениями звонящего. Журналист также представился, но не успел развить свою мысль, как в трубке раздалась глупая электронная мелодия, и ему ответил новый девичий голос, представившийся пресс-секретарем. Самсонов пустился в атаку без всякой подготовки, объявив о желании взять интервью у господина Касатонова с целью выяснить его точку зрения по поводу слухов о неприятной тайной истории коттеджного поселка под Москвой. Голос выдержал паузу, которую при желании можно было объяснить замешательством. Затем наглецу предложили подождать ответного звонка в течение недели, тот в свою очередь сообщил, что звонит по редакционному телефону и попросил оставить ему сообщение. Закончив невероятные переговоры, он просто отправился прочь из редакции, в коммуналку. Его погнал туда страх – хотел уйти из редакции прежде, чем служба безопасности Касатонова успеет среагировать на его звонок.
В животе угнездился противный холодок, несколько раз по дороге журналист оглянулся, но не увидел никакой угрозы. Он заскочил в продовольственный магазинчик, запасся продуктами на пару дней и наспех обдумал новую тактику поведения в отношении Алешки. Сдержанность и отстранение следует сменить умеренной агрессивностью, принять образ тайной угрозы. Угроза должна быть непонятной, неизвестной природы. Ее следует зашифровать во взгляде, манере поведения, интонации. Только вот где взять такую прорву актерских талантов?
Как и следовало ожидать, наполеоновские планы в отношении эротомана не осуществились. Тот продолжил активно демонстрировать презрение к незаконному соседу, а Самсонов в ответ только прятал глаза. Боялся выдать врагу страх. Страх приходил к журналисту время от времени, все чаще и чаще. Он неустанно сочинял способы расправы над собой, доступные фантазии Касатонова. Правда, очень редко Николая Игоревича посещала боязнь совсем другого рода. Вдруг олигарх просто не обратит внимания на звонок сумасшедшего? Наверняка, в современном русском бизнесе люди привыкли ко всяким досадным подробностям. В такие минуты Самсонов чувствовал себя особенно униженным, куда там Алешке с его алкоголизмом.
Неприятная боязнь быстро миновала, и являлись прежние страхи, вселяющие гордость в душу журналиста. Видимо, начнется процесс со звонка главреду, с целью выяснить, действительно ли тихая газетка отбилась от рук. Главный с радостью даст позвонившему самцу гориллы все сведения о местонахождении неудачника, и наступит новая жизнь. Увольнение неизбежно, здесь толстяк прав, но это только начало. Развитие печальных событий виделось сочинителю неопределенным, почерпнутым исключительно из милицейских и полицейских сериалов. Поездка за город в багажнике автомашины, берег реки. Неужели все так кардинально? Он ведь всего лишь произнес вслух то, о чем судачит весь город. Но именно по этой причине его и постигнет кара. За сказанные вслух слова. Слова, слова, слова. Бедолага Гамлет ничего не понимал в жизни. Слова ведут человека вперед и приводят к концу. Слова, произнесенные вслух, жизнь иногда подытоживают.
Минуло несколько дней, Самсонов бегал на работу трусцой, пытаясь незаметно в витринах разглядеть "хвост", и несколько раз даже обнаружил оный. То есть, остался в убеждении, что обнаружил. Ничего не происходило. Через неделю, выйдя вечером из редакции, борец за свободу обнаружил у дверей редакции большую синюю "семеру" БМВ и человека возле – в черном костюме и в серой рубашке без галстука, в темных очках. Ситуация выглядела до обидного ясной.
– Здравствуйте, Николай Игоревич, – сказал баритоном человек и открыл заднюю дверцу машины. – Сергей Николаевич ждет вас сегодня для интервью. Если при вас нет необходимых материалов, я могу подождать.
Журналист стоял в нерешительности. Если позвать милицию прямо сейчас, он только выставит себя полным идиотом – ничего ужасного ведь не происходит. Ему просто предлагают проехать на место интервью, о котором он сам же и договорился. Договориться о милицейском конвое определенно не получится – не видала такого земля во веки веков. Отказаться ехать – зачем тогда звонил? Действительно, зачем? Чтобы бриться, не краснея от вида своей постной рожи в зеркале. Гори оно все синим пламенем. Самсонов молча шагнул вперед, согнулся в три погибели и провалился в мягкое сиденье. Он твердо решил не выглядеть глупым или трусливым, и тем самым сохранить для себя шанс вернуться к жене без потери морального облика. Свидетелей мужественного поведения журналиста поблизости не наблюдалось, некому будет рассказать Лизе о его благородстве, нет смысла проявлять никому не нужную решительность. Мысли суматошно толпились в мозгу Самсонова, мешая друг другу приобрести ясные очертания.
Машина мягко тронулась с места, и уже через несколько минут боец слова сделал правильную догадку о цели короткого путешествия. Десять или пятнадцать минут БМВ потратил на неспешную поездку до того самого коттеджного поселка, который стал в городе притчей во языцех. Смысл большинства слухов, циркулирующих среди непричастных к событиям людей, сводился к утверждению, что меньше всех заработал на сделке владелец земли, дышащий на ладан бывший колхоз, а больше всех – Касатонов. Сквозь тонированные стекла журналист бегло осмотрел несколько домов, проплывших за окнами, затем автомобиль свернул с улицы и оказался во дворе впечатляющих размеров особняка. Самсонов пошарил по двери, отыскивая ручку, и добился успеха своих поисках раньше, чем предупредительный водитель успел открыть дверцу снаружи. Гостя провели в дом, он окунулся в массу кондиционированного воздуха, передернул плечами и с высокомерным видом проследовал за каким-то мажордомом в большую гостиную с эркером, камином и огромной люстрой на высоченном потолке. В центре стояли два кресла с низеньким столиком между ними, на столике посверкивали два бокала, наполненных чем-то дорогим. В одном из кресел сидел Касатонов.
Хозяин поднялся с кресла – довольно крупный мужчина внушительной наружности. Внешность его вселяла полное доверие.
– Здравствуйте, Николай Игоревич.
– Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Самсонов выглядел несколько взъерошенным, поэтому Касатонов тактично поинтересовался, не случилось с интервьюером каких-нибудь неприятностей. Тот заверил владельца заводов, газет, пароходов в полной своей безмятежности, и четверть часа они мило болтали о пустяках, пригубливая время от времени марочное вино, которое журналист по неопытности никак не мог распознать. Затем Касатонов взял быка за рога:
– Николай Игоревич, вы меня озадачили своим звонком.
– Вы тоже меня озадачили, – честно ответил журналист. Считая честность лучшей политикой, он твердо решил и впредь резать правду-матку без зазрения совести. – Я ожидал либо полного отсутствия реакции, либо весьма резкой.
– Поджидали мальчиков с бейсбольными битами? – тонко улыбнулся Касатонов.
– Примерно. Как минимум, нелицеприятного разговора с уполномоченными молодчиками.
– Разочарованы? Подвиг не получился?
– Не важно. Что это мы все обо мне, да обо мне. Насколько я понимаю, вы готовы дать мне эксклюзивное интервью?
– Я готов поговорить с вами по душам. Просто по-человечески интересно пообщаться. Я ведь уверен – за вами не маячит никакой персонаж, решивший в интересах бизнеса натыкать мне палок в колеса. Вы не получали своего задания, ни официально, ни подпольно. Занимаетесь самодеятельностью?
– Опять вы обо мне? Давайте лучше поговорим о вашей чудесной сделке.
– Далась вам эта сделка. Что вы хотите о ней узнать? Кто нагрел на ней руки и каким образом? Действительно ждете от меня бесподобной и беспрецедентной откровенности? Я дал вам повод подозревать меня психической неуравновешенности?
– Зачем же вы меня сюда затащили?
– Поговорить о вас, разумеется. Например: в чем заключается ваш план? Никак не могу понять. Думали, придете ко мне и узнаете всю подноготную? Хотите, расскажу о становлении своего капитала?
– Хочу. Разумеется, если бесплатно.
– Нет, серьезно. Вам бы следовало начать с другого конца. Под договором о выкупе участка даже моей подписи нет. Ройте с того конца.
– Это ваш совет? Вы заинтересованное лицо, я не верю в вашу объективность. План мой прост, как все гениальное: желаю добиться от вас комментария на предмет заполнивших город слухов о вашей причастности к афере с участком и извлеченной из нее немалой выгоде.
– Мой ответ еще гениальнее, чем ваш вопрос: нет ни причастности, ни выгоды. Я просто купил здесь дом. Ничего незаконного. У меня ведь бизнес в вашем милом городке.
Самсонов молчал. В самом деле, какого другого ответа можно требовать, не имея в руках улик? Зачем он вообще вошел в контакт с Касатоновым? Истерическая реакция на неприятности жизни простительна женщинам с их тяжелым гормональным фоном, но почему его затянуло в болото нерасчетливости?
– Вам нужны подлинные документы по сделке, нужна их независимая экспертиза, нужны рычаги давления на людей, поставивших подписи, и много других важных вещей, – беззаботно произнес Касатонов. – Но у вас ничего этого нет и никогда не будет. Знаете, почему?
– Не знаю.
– Потому что вы гуляете сами по себе, как кот. Журналист опасен, если является орудием в руках серьезного человека, имеющего в деле интерес. Он обеспечит и необходимую инсайдерскую информацию, доступ к документам и прочие удовольствия. Вы не знакомы с этими прописными истинами?
– Знаком. Просто я решил начать новую жизнь.
– Боюсь, вы пытаетесь заложить основы новой жизни страны. Или просто насмотрелись занятных фильмов о бесстрашных журналистах, которые лихо развязывают языки всевозможным злоупотребителям и похищают документы из сейфов и письменных столов. Смею вас заверить, у меня вы ничего не похитите, и никто из моих людей с вами словом не обмолвится. А перекупить их вы не сможете – денег нет. Жизнь устроена печально. Скучно и обыденно.
– И она, полагаю, вас устраивает.
– Само собой. Не удивляет же вас такое мое отношение к проблеме?
– Не удивляет. Сны вам снятся?
– Сны? Иногда. Если вы надеетесь, что по ночам я терзаюсь кошмарами, спешу вас разочаровать. Обхожусь без достижений фармакологии.
– Какой сон видели в последний раз?
– Не помню, – Касатонов пожал плечами. – Утром иногда еще могу находиться под впечатлением, но через четверть часа и думать забываю.
– А впечатления помните? Смешные сны, реалистичные, фантастические?
– Ничего определенного сказать не могу. Откуда такой интерес к моим снам?
– Я просто надеялся.
– Надеялся? И?
– Надеялся на невероятное. Сны делают человека ранимым. Он переживает их, как вторую жизнь. Особо увлеченные полагают сны истинной реальностью, а повседневность – видимостью. Вас никогда не посещали такие мысли?
– Конечно, нет, – раскатисто засмеялся олигарх. – Детство какое. Меня вполне устраивает повседневность.
– Намекаете на мои несчастные обстоятельства? Думаете, спасаюсь в снах от жизни?
Касатонов закинул ногу на ногу и с иронией посмотрел на собеседника:
– Нет, я просто пытаюсь понять глубинные причины ваших поступков. Должно ведь существовать нечто необъяснимое, подвигнувшее взрослого человека на подростковое поведение. Признаться, я поэтому и решил увидеться с вами лично.
– Я вам и объясняю глубинные причины своего поведения. Человек должен радоваться жизни. Не в гедонистическом смысле, а в бытовом. Радоваться в момент пробуждения, во время завтрака, на работе, во время обеда, дома, во время ужина, ложась спать.
– Наверное, с некоторыми сумасшедшими все так и происходит.
– Возможно. Я ведь не о вечной идиотской улыбке говорю. Все перечисленные мной события не должны тяготить человека, раздражать или изматывать. Когда эти условия соблюдаются, человек счастлив. В моем понимании большие деньги по определению лишают своего обладания спокойствия. Правда, у меня даже маленьких денег особо никогда не водилось, поэтому я обращаюсь к вам за консультацией: вы живете в мире с самим собой?
– Я не понимаю ваших категорий, – пожал плечами Касатонов. – Я живу на вулкане. Возможно, это и есть мой мир, другого я не знаю и не мечтаю о нем. Временами адреналин бьет ключом, как под артобстрелом. Иногда скучно. Страшно никогда не бывает – нищим в буквальном смысле слова я не стану ни при каких обстоятельствах, по объективным законам больших чисел. А чего еще можно бояться в нашей жизни?
– Скажу так – резкого обеднения.
– Ерунда. Сколько уже раз я резко беднел, и не припомню. Только злость закипает, стискиваю зубы и снова беру свое.
– Только свое?
– В смысле, не чужое ли? Нет. В бизнесе царствует философия факта – если я что-то взял, значит оно мое и есть. Деньги ведь должны переходить из рук в руки – в чулке под подушкой они просто обесценивающийся товар, не имеющий сам по себе никакого смысла. Смысл денег возникает именно при их перетекании от одного хозяина к другому.
– А как быть со старыми поговорками о невозможности заработать все деньги или унести их с собой на тот свет?
– Да очень просто. Правильные поговорки. Я ведь сказал, что не коплю деньги, а играю в них.
– Слушаете мелодичный перезвон и получаете эстетическое удовольствие?
– Непременно. Это как туш в честь победителя. Чемпионов ведь чествуют целыми стадионами. А у меня вместо трибун – цифры отчетности.
– Но вы же тратите деньги на себя? Как минимум, на этот дом.
– Разумеется. И не только на этот дом. Это ведь и есть тот самый звон, о котором мы только что говорили. Радуюсь жизни, как могу. Но каждая трата вызывает невольные подсчеты, сколько прибылей я упущу из-за нее. Деньги, потраченные на этот дом, через несколько лет могли бы принести мне два дома. Получается, чтобы тратить деньги, нужно быть не слишком жадным.
– Странный вывод.
– Но логичный, не находите? Разве я вас не убедил?
– Мне трудно судить. До вас подобные рассуждения мне в голову не приходили. Хорошо, но что вы думаете о людях, которые за деньги убивают, отнимают их силой или мошенничеством?
– По-вашему, все они должны быть мне близки по духу?
– Не знаю, я вас спрашиваю.
– Но вы предполагаете мой ответ?
– Нисколько. Правда, вы говорили о том, что чужих денег не бывает…
– И что же?
– Хватит вам отвечать вопросом на вопрос. Затяжка времени в данной ситуации работает против вас.
– Ладно, спешу спасать лицо. Как вы охарактеризуете человека, который на улице избивает людей, как ни в чем ни бывало?
– Наверное, как хулигана.
– А как вы относитесь к боксеру, нокаутировавшему противника в полном соответствии с правилами?
– Видимо, так и отношусь – как к спортсмену.
– Уразумели разницу?
– Хотите сказать, вы никогда не нарушали правила в силовой игре?
– Хочу сказать, что у старушек пенсию никогда не отнимал.
– Вы уверены, что ни одна старушка ни разу не купила на свою пенсию некачественный товар вашего производства?
– Я не занимаюсь ширпотребом. Я имею дело с менеджерами, директорами и владельцами всевозможных компаний, корпораций и контор, которые пошлют меня куда подальше, если их не устроит мое предложение.
– И среди них нет ни одного, кто по каким-либо причинам при всем желании не может отказаться от вашего предложения?
– Возможно, попадаются и такие. Но это их проблемы. Раз они встали в такую позицию, значит плохо делают свое дело. Мы все говорим о различных вариациях силового отъема денег, но вы ведь еще упомянули о мошенничестве. Вот уж где-где, а здесь жертва в большинстве случаев сама виновата в своих проблемах. Большинство мошеннических схем строится на эксплуатации человеческой жадности. Люди хотят быстро, без особых усилий и без проблем изрядно умножить капитал, на чем и горят.
– А обманутые дольщики в квартирных делах?
– Здесь не всегда дело в мошенничестве – бывает, искренне хотели построиться, но не вышло. Если речь все же о мошенниках, то их жертвы хотели по дешевке срубить квартирку. В некоторых случаях даже договора некорректно составлены, а если договора и приемлемые, как можно в нашей стране отдавать большую кучу денег под обещание сделать что-то за них в будущем? Я понимаю, хочется пожить в человеческих условиях, но это не значит, что нужно швыряться деньгами в разные стороны.
– А бесчисленные пенсионеры, которым то обменивают деньги якобы на новые, то еще что-нибудь придумывают?
– Если пенсионеры вырастили детей, те за них и отвечают. Если не вырастили – сами виноваты в том, что на старости лет остались один на один с новым, незнакомым им миром.
– А если пенсионеры пережили своих детей?
– Значит, мало родили. Если родить шестерых, восьмерых, то всех пережить точно не удастся.
– А у вас сколько детей?
– Четверо пока. Но я не намерен на этом останавливаться.
– Похвально. Только не все в последние десятилетия имели возможность плодить детей.
– Ерунда. Сто лет назад возможностей с объективной точки зрения имелось еще меньше, а детей рожали в неизмеримых количествах. Проблемы здесь начинаются, когда люди думают прежде всего о собственном комфорте, а затем уже обо всем остальном.
– И еще они думают о будущем своих детей, которое им по силам обеспечить. И большинство может обеспечить будущее одному-двум отпрыскам.
– Чушь. Советский образ мышления. Результат презрения ко всем видам деятельности, кроме требующих высшего образования. Пусть за него и не платят ничего, зато перед знакомыми не стыдно. Деловые работящие люди могут обеспечить детей и без высшего образования, ничем Россия здесь не хуже других стран. Вот только торговля, предпринимательство, физический труд – все дружно презираемы. Ценится только деятельность, оплачиваемая из государственного бюджета, то есть за счет тех самых людей, чей труд почитается нечистым занятием.
Самсонов долго молчал в ответ на длинную тираду собеседника. В доме не водились мухи, летнюю тишину нарушали лишь доносящиеся издалека звуки музыки. Живой музыки – кто-то играл на фортепьяно, иногда сбиваясь и начиная арабеску Дебюсси сначала.
– Я не понимаю Дебюсси, – внезапно произнес интервьюер и сам не понял, зачем он высказал вслух свое отношение к ни в чем не виноватому покойнику.
– Да? – удивленно приподнял брови Касатонов. – А я ничего против него не имею.
– Скажите, Сергей Николаевич, вы имеете какие-то виды на политическую карьеру?
– Почему вы спрашиваете? Разглядели во мне задатки великого государственного деятеля?
– Нет, мне кажется, в бизнесе вам расти больше некуда. А куда же расти выше бизнеса? Только в политику.
– Извините, не планирую. В бизнесе всегда есть куда расти. Что же касается политики, ею интересуются совсем уж никчемные людишки. Помните, Ельцин в свои последние месяцы на президентском посту безуспешно пытался протащить через Совет Федерации кандидатуру генерального прокурора? Уж и не помню, кого именно?
– Припоминаю.
– И чем закончилась эпопея? У Ельцина так и не вышло, пришел Путин, выдвинул того же самого персонажа, и он прошел без сучка и задоринки. Знаете, чем примечательна эта история?
– Не знаю. По-моему, ничего примечательного.
– Ошибаетесь. Вся эта свалка замечательна тем, что в ней не участвовал ни один политик. С одной стороны высокопоставленные рабы, лягающие мертвого льва и прыгающие на задних лапках перед живым и здоровым, с другой – держиморды, для которых нет ничего важнее, чем продемонстрировать стране свою самодержавную волю.
– А генеральный?
– Теоретически он как бы и не политик, но всякий мало-мальски уважающий себя человек взял бы самоотвод еще после первого провала на Совете Федерации. Но для него тоже самым главным было продемонстрировать свою холопью преданность государю.
– Но ведь вы на своем нынешнем месте тоже зависите от этих людей. При наличии желания власть у нас может разорить кого угодно.
– Не спорю. Но я не лезу в политику и исправно башляю, кому и сколько следует.
– Но если вдруг пропустите платеж, против вас ведь можно возбудить дело на совершенно законных основаниях?
– Можно. Только я не пропускаю платежей.
– Получается, вы у презираемых вами высокопоставленных рабов на коротком поводке?
– Можно посмотреть с другой стороны и сказать, что это они едят у меня с рук.
– Я понимаю, такая точка зрения вам приятней, но если они могут вас заменить и продолжать есть с рук другого, а вы от них избавиться не можете, то по законам логики получается все же, что это вы у них на коротком поводке.
Касатонов раздраженно поерзал в своем кресле, устраиваясь поудобнее – прежде ему не доводилось слышать подобных сентенций от селькоров.
– У меня имеются кое-какие рычаги обратного воздействия.
– Через других высокопоставленных рабов, стоящих повыше тех, которые доставят вам неприятности?
У олигарха на виске задергалась жилка.
– Чего вы хотите от меня? Чтобы я один был лучше всех остальных? Вся страна живет по одинаковым правилам, в основном неписаным.
– Я только хочу узнать, довольны ли вы своим положением в единой системе неписаных правил. Вам не хочется внести в них хоть чуточку совершенства?
– Мне многого хочется. Здесь не время и не место перечислять мои желания.
– И все-таки? Вы же взрослый человек, с характером, с волей. Хочется иногда сорваться с поводка?
– Послушайте, хватит вам о поводке!
– Слух режет? Если вас задевает моя ирония, вы осознаете двусмысленность своего положения. Думаю, здесь кроется шанс на выход из оного.
– Какой еще выход? Вы на что намекаете?
– Успокойтесь, не на утрату вами денег и собственности. Есть шанс на изменение ваших отношений с кукловодами.
Касатонов разъярился всерьез. Он резко встал и раздраженно сделал несколько шагов взад-вперед возле столика и кресла с сидящим в нем журналистом.
– Почему, собственно, вы взяли такой тон, будто являетесь хозяином положения? Я ведь в любую минуту могу шевельнуть пальцем, и вас отсюда вышвырнут, как котенка.
– Не сомневаюсь. Но, как известно, слово не воробей, и я его уже произнес. Сколько бы раз ваши ребята меня не вышвырнули на улицу, для вас ровным счетом ничего не изменится. То есть, вы, возможно, почувствуете себя отомщенным, но только несколько минут. Вы же понимаете, что я отряхнусь и потопаю домой, а ваши мысли останутся с вами и будут по-прежнему бередить ваше самоощущение.
– Можно подумать, вы в своей сельской газете сидите, как ангел во плоти, ни от кого не зависимый. Вас даже редактор в бараний рог согнуть может, и вам пикнуть окажется некогда.
– Может. Но мне терять почти нечего. Как говорил классик, кроме своих цепей… Про вас такого не скажешь. Полагаю, степень зависимости человека от не контролируемых им внешних обстоятельств прямо пропорциональна объему возможных потерь.
Касатонов продолжал нервно шагать по гостиной, сцепив руки за спиной. Он никак не мог постичь природу величия пришедшего с улицы репортеришки, который взял на себя наглость судить о материях недосягаемой для него высоты. С какой стати этот тип решил, будто может молоть здесь все, что придет ему в голову? Ведь выброс на улицу – самое безобидное действие из всех, которые без малейших усилий можно к нему применить. Достаточно снять трубку телефона, набрать нужный номер, и через полчаса неудачника вызовут в бухгалтерию за расчетом. Можно устроить ему встречу в темном переулке с невиданными отморозками, можно даже квартиру отнять, без всякой для себя корысти, разумеется – исключительно ради принципа. И ведь все он прекрасно понимает, но сидит себе в дорогом кресле, закинув ногу на ногу, словно уверен в своей неприкасаемости. Даже после произведенной службой безопасности экспресс-проверки Касатонов вдруг засомневался: нет ли в самом деле за этим типом какой-нибудь очень мохнатой лапы?
– Сергей Николаевич, вам не приходила в голову мысль создать в наших палестинах собственное средство массовой информации? – деловым тоном, словно делая предложение, от которого невозможно отказаться, произнес Самсонов.
– Какое еще средство?
– Да на какое вам денег не жалко. Можно, конечно, и местный телеканал, но газета – более реальное предприятие.
– Зачем мне здесь газета?
– Для развития возможностей противостоять молоху.
– Какому еще молоху?
– Бюрократическому. Только придется учесть одно главное условие – газета должна демонстрировать очевидную всем беспристрастность. Если она начнет трудиться в вашу пользу, то сразу потеряет всякий смысл.
– Интересно, и на кого же должна трудиться моя газета?
– На ваш бизнес-интерес. Если для нее не будет табу в нашей местной политике, в том числе и в ваш адрес, она даже сможет приносить прибыль. То есть, я не предлагаю вам завести собственный пропагандистский рупор, я предлагаю еще один способ инвестировать деньги.
– Пустые фантазии. Районная газета, если и даст прибыль, то настолько смехотворную, что овчинка не будет стоить выделки. И вообще, прибыльных газет не бывает. Простите, а с какой стати вы озаботились моими инвестициями?
– Я, собственно, озабочен собственным трудоустройством. Надоело тянуть лямку в нашей трухлявой редакции.
– И вы хотите, чтобы я ради вашего удовольствия вбухал в песочный замок большую кучу денег?
– Думаю, по вашим масштабам куча получится не такая уж и большая.
– Если бы я занимался такой ерундой, то не достиг бы своих нынешних масштабов.
– Но вы ведь уже их достигли. Ну так сделайте исторический шаг. Вас совсем не интересует реноме?
– Какое реноме? В чьих глазах?
– Общественности.
– Не смешите меня. Нашли авторитет. Стоит мне последовать вашему великолепному совету, и я в мгновение ока вступлю в смертельную поножовщину с вашим главой администрации, который немедленно призовет на помощь вышестоящие инстанции, а те тоже испугаются перспективы и поспешать выручить товарища, попавшего в беду.
– Наш глава наверняка озаботится, но вышестоящие инстанции одной газетой не напугать, бумаге они многое прощают. Вот если вы независимое телевидение затеете – возможны проблемы.
– Много вы понимаете в высокой политике. Дело не количестве, а в качестве. Зачем мне вообще затевать бучу? Меня и ваша газета вполне устраивает.
– Она не ваша.
– Ну и что? Она мне совершенно не мешает.
– Опять вы о своем. Я же говорю – дело не в пропаганде, а в бизнесе. Может быть, вам в перспективе даже не придется башлять нужным персонажам.
– Если я перестану башлять кому следует, здесь появятся новые люди с новыми деньгами и, возможно, причинят мне убытки.
– Вы же капиталист, вы должны петь гимны свободной конкуренции!
– С какой стати? Я буду изо дня в день крутиться волчком, весь в мыле, соперничая со всякими проходимцами, а какой-нибудь угрюм-бурчеев в один прекрасный день хапнет себе в карман все мои достижения? Лучше я сразу обговорю с ним условия мирного сосуществования и буду тихо и мирно их соблюдать. Если и возникнут какие-нибудь проходимцы и предложат угрюм-бурчееву более выгодные для него условия, я к тому моменту уже успею поиметь свое.
– Почему непременно проходимцы?
– Потому что с честными намерениями отправляются в Швейцарию, а не в здешнюю тьмутаракань.
– Но ведь так происходит именно из-за всевластия обладателей столов различной высоты. Вы не хотите разрушить порочную ситуацию?
– Не хочу. Мне так проще. И привычнее. И вообще, не желаю я тратить свои деньги на создание рабочего места для вас. Как только вам такая мысль в голову пришла!
Они замолчали, глядя друг в другу глаза, как перед смертельным поединком.
– Скажите, Сергей Николаевич, – внезапно разбил неловкую паузу Самсонов, – вы можете вспомнить всех, кого забыли в своей жизни?
– То есть?
– Забыли же вы кого-нибудь из людей, встречавшихся на вашем пути. Можете вы вспомнить, кого именно забыли?
Касатонов удивленно остановился за спиной журналиста, и тот закинул голову на спинку своего кресла, закатив глаза под самые брови, чтобы разглядеть лицо собеседника, хотя бы и снизу вверх.
– Н-не знаю, – с сомнением в голосе протянул олигарх. – Не припоминаю таких.
– Как не припоминаете? – в свою очередь удивился Самсонов, впервые услышавший такой ответ на свой неизменный вопрос.
– Так и не припоминаю. Как вам еще объяснить?
– Что, помните имена, фамилии и лица всех, с кем учились в первом классе?
– Помню, – уверенно отрезал Касатонов.
– Помните? – с нажимом повторил интервьюер.
– Помню, – коротко отрезал интервьюируемый.
– Про институт можно и не спрашивать?
– Разумеется.
– А в армии вы служили?
– Нет, не понадобилось.
– Значит, вам меньше народу в жизни встречалось.
– Думаю, вам в страшном сне не приснится та прорва народа, с которой я имел дело в бизнесе.
– И вы их всех тоже помните?
– Помню, – твердо стоял на своем Касатонов.
– Вы счастливый человек.
– Наверное.
– Скажите, я могу использовать наш разговор для публикации?
– Нет, – усмехнулся олигарх и подумал об одинаковых странностях характера всех встречавшихся ему журналистов.
– Тогда до свидания?
– До свидания.
– До свидания или прощайте?
– Хорошо, прощайте.
– Почему вы в этом уверены?
– Мне внутренний голос сказал.
– Вы всегда ему верите?
– Всегда.
– Почему?
– Это голос ангела-хранителя.
– Даже так! Я вот некрещеный.
– Сочувствую.
Весь обмен короткими фразами происходил в движении: Самсонов неторопливо продвигался к выходу, Касатонов несколько шагов его сопровождал, потом незаметно отстал, и журналист внезапно обнаружил, что впереди него следует тот же неразговорчивый молодой человек, который привез его в усадьбу. Вскоре они оказались на улице, и молодой человек махнул рукой в сторону ворот, зияющих пустотой среди живой изгороди. Журналист, засунув руки в карманы, неторопливо отправился в указанном направлении, а затем по-прежнему неспешно направил стопы ad urbi.
В пути он сонно размышлял о своих приключениях на лоне борьбы за свободу и категорически не мог постигнуть причину неудачи. Наверное, люди не верят в него.
7. Властелин стихий
Александр Валерьевич Ногинский узрел собственную судьбу неожиданно, проходя мимо коммунистического пикета под памятником Ленину напротив здания районной администрации. Целую жизнь она бродила по каким-то безвестным закоулкам, скрываясь от него, а теперь смирно стояла с краешку, с транспарантом над головой, и смотрела немного вверх, на окна казенного учреждения, словно пыталась высмотреть за ними физиономии ненавистных служителей власти.
На голову судьбы был надет прозрачный полиэтиленовый пакет, ее плащ из ядреной советской болоньи громко шуршал при малейшем движении, самодельный транспарант над головой тоже прятался под прозрачной пленкой, но его ничто уже не могло спасти – тушь потихоньку начинала стекать тонкими ручейками по белому ватману. Надпись решительно гласила: "Нет грабительским коммунальным платежам!", но дождевые потеки придавали ей немного жалобный вид. Собратья-коммунисты дружно скандировали: "Долой! Чиновных! Грабителей! Долой! Чиновных! Грабителей!", но судьба Ногинского молчала и, казалось, думала совсем об иных материях.
Моросил холодный летний дождик, небесная вода затекала за воротник и вызывала противный озноб, Ногинский невольно поеживался, но не мог сойти с места, наблюдая за происходящим. Бывший журналист, нынешний пенсионер еще недавно следовал по своим не требующим суеты и поспешности делам, но вдруг забыл о них и стоял возле пикета в позе любопытствующего зеваки. Его заметили активисты и в паузах между скандированием стали зазывать в свои ряды, взывая к общности интересов и социального положения. Ногинский не участвовал ни в каких общественно-политических предприятиях с тех пор, как они перестали быть обязательными, поскольку не видел в них практического смысла. Однако, теперь он быстро догадался, что в случае отказа присоединиться его в конце концов примут за соглядатая, поэтому счел за благо уступить зазывалам, протиснулся между милиционерами, которые плотно обступили коммунистов со всех сторон, и занял позицию в рядах пикета. Желая придать больше смысла спонтанному поступку, Ногинский постарался встать поближе к своей судьбе, оказавшись у нее за спиной. Он вытянул вперед руку с зонтом, желая защитить от погодных невзгод свою избранницу и привлечь ее внимание, но она упорно его игнорировала. Само собой, кричать он ничего не собирался, и только обдумывал в меру возможности создавшееся положение.
Женщина производила безотчетно приятное впечатление, даже пакет на голове ее не портил. Она, наверное, не думала о своей внешности, считая возраст чрезмерным для подобного рода забот. Из-за спины Ногинский не видел ее лица, но он успел хорошо его запомнить – наверное, на всю жизнь. И теперь мучительно старался понять, чем оно его поразило.
Год за годом он смотрел на женщин, с течением времени все менее и менее плотоядно, и на седьмом десятке стал немного в них разбираться. Женская красота уже давно не столько привлекала, сколько отталкивала опытного ценителя. Точнее, отталкивала его красота резкая, нарочитая, тщательно подчеркнутая, предназначенная поражать. Зато Ногинского влекло к женщинам, при первой встрече обдававшим его прохладной волной тихой привлекательности. В старости он только скорбно отводил глаза, плененный в очередной раз безвестной прохожей девушкой (не девицей!), жестоким усилием воли удерживаясь от провожания ее взглядом. Что уж людей смешить! Зато пенсионер стал вдруг различать среди прочих жизненных персонажей некоторых, очень редких, зрелых женщин, победивших время. Наполеон, обращаясь в Египте к своим солдатам, упомянул о времени, боящемся пирамид. Ногинский мог бы выступить перед неограниченной аудиторией с двухчасовой лекцией о женщинах, пленивших время. Они привлекали его неизмеримо сильней, чем юные создания в коротеньких юбочках или откровенных сарафанчиках. Гормоны не клокотали в теле умудренного жизнью старика, он сам уже давно состоял в коротком знакомстве со временем, и хорошо знал жестокость близкого внимания этой трудно определяемой категории. Знал тяжесть простого передвижения из точки А в точку Б, когда возраст лежит мертвым грузом на твоих плечах и наливает чугуном непослушные ноги. И не уставал восхищаться женщинами, отрицавшими время в высшем проявлении своей нелогичности. Они просто шли вперед, отказываясь верить суждениям опытных людей об объективных жизненных законах. Отрицали очевидные вещи, делали вид, что объективности не существует, сами для себя создавали реальность такой, какой они хотели ее видеть, и удивительным образом время покорялось их безразличию к суровым законам и нежеланию признать общепринятые нормы. Летели в тартарары мудрые речения прежних веков, рушились фундаментальные истины, но женщина с пакетом на голове упорно продолжала соперничать с молодыми конкурентками, ничего для этого не делая и не пытаясь прикидываться – она была такой в действительности. Забывшей о времени и заставившей время забыть о ней.
– Простите за несвоевременность, – обратился Ногинский к предмету своего интереса, – но не подскажете ли, сколько еще продлится ваше мероприятие?
Женщина оглянулась на новичка с удивлением и неудовольствием:
– Вы куда-то торопитесь?
– К врачу, – почти без паузы соврал Ногинский, спасая лицо. – Я просто мимо шел, а ваши меня совратили.
– Что значит совратили? А сами вы не видите причин для социального протеста?
– Вижу в большом количестве, – вновь поспешил с ответом незадачливый прохожий. – Но к врачу все равно надо успеть.
– К какому врачу?
– К кардиологу, – произнес Ногинский, теперь уже после некоторой паузы, во время которой успел забраковать первый вариант ответа, предполагавший намного более серьезный оборот дела, а именно необходимость срочного похода к онкологу. "К онкологам срочно не ходят, – удачно подумал он. – Когда в онкологии доходит до срочных мероприятий, пациенты уже не способны ходить". Мысль о сомнительности этической стороны медицинского вранья не посетила бывшего журналиста вовсе.
– У нас разрешение до четырех, значит остается еще минут двадцать. Успеваете? – искренне поинтересовалась женщина с пакетом на голове.
– Спасибо, вполне.
Надежды Ногинского на развитие диалога были сорваны другой соседкой, в которой он не увидел ничего примечательного, но которая сердито толкнула его в бок и предложила заниматься общественно-полезным делом, а не увиваться вокруг дамочек, которые даже в пикетах ни одного мужика мимо себя просто так не пропускают.
– Дама, вы ведете себя некорректно, – тактично заметил Александр Валерьевич.
– Какая я вам дама? Дамы все на Рублевке и в борделях!
– Извините, товарищ.
Ногинский в мыслях не держал устроения конфликта, он только искренне желал поскорее отвязаться от назойливой блюстительницы общественной морали и больше времени уделить знакомству со своей судьбой.
– Что за тон вы себе позволяете? – вспыхнула с новой силой нарушительница спокойствия, перекрикивая скандирование соратников.
– Обыкновенный тон.
– Да нет, вовсе не обыкновенный! Да, я требую обращения "товарищ" и не собираюсь от него отказываться из-за моды и вкусов всяких негодяев.
– Да пожалуйста, не отказывайтесь. Я ведь и сказал – товарищ. Не понимаю, почему вы обиделись.
– Потому что вы произнесли это слово так, словно плюнули. А ведь за ним стоят миллионы героев, не щадивших жизни ради блага народа!
– Уверяю вас, я никоим образом не хотел вас задеть, – Ногинский все порывался отвернуться от незваной собеседницы, но ничего не получалось – та удерживала его за рукав и буквально силой оставалась в поле зрения своего визави.
Остальные участники пикета уже начали на них коситься и шикать, призывая вернуться от личных распрей к политической активности, но конфликт разгорался неудержимо. Объектом агрессивности блюстительницы нравов стала судьба Ногинского. Глядя ей в безразличный затылок, товарищ принялась громко высказывать свое нерасположение к особам, компрометирующим партию постоянным уклонением от исполнения принятых решений, склонностью к политическим фантазиям и неразборчивостью в политических связях.
Судьба Ногинского на обвинения никак не ответила, вновь обратившись к окнам районной администрации, а сам он попытался каким-нибудь образом отодвинуться подальше от товарища и поближе к женщине с пакетом на голове, но успеха не добился. Товарищ переместилась в пространстве соответственно изменившимся обстоятельствам и продолжила свою разоблачительную деятельность. Коммунисты размахивали красными флагами, потрясали обличительными плакатами и выкрикивали лозунги, но оформившаяся на фланге тройка совершенно выпала из коллектива.
Александр Валерьевич в силу воспитания не мог игнорировать назойливую даму и тем самым поощрял ее к дальнейшей активности. При этом товарищ непрестанно метила острием сатирического копья в судьбу Ногинского, а та по-прежнему стояла к ней спиной. В конце концов случилось неизбежное: какой-то милицейский начальник через громкоговоритель объявил, что время санкционированной акции истекло, и протестующим следует мирно разойтись. Товарищ тут же переключилась на новый объект и стала громко протестовать против милицейского произвола, перекрикивая громкоговоритель начальника, который раз за разом повторял свое скучное предложение. Она выдвинулась в первый ряд и со всей силы оттолкнула сухонькими ручками ближайшего к ней хмурого милиционера. Тот рассердился и толкнул ее в ответ, товарищ отлетела, ударилась в судьбу Ногинского и вместе с ней повалилась на землю. Ногинский бросился на помощь своей судьбе, но шеренга милиционеров двинулась вперед, и он принялся расталкивать служителей правопорядка, которые быстро сбили его с ног. Опытный журналист стал продвигаться вперед на четвереньках среди обутых в берцы ног, которые наступали ему то на руки, то на ноги, а иногда пинали, убирая с дороги. Ход событий неизбежно привел к логическому исходу – на спину и плечи Ногинского стали хлестко и методично опускаться резиновые дубинки. К этому моменту он уже добрался до своей судьбы – она лежала на асфальте, свернувшись калачиком и обхватив руками голову. Кавалер стал вытаскивать даму сердца из пекла, но у него ничего не получалось – она отчаянно сопротивлялась, приняв его за врага. Очень быстро его самого потянули за шиворот и отволокли в сторону от избранницы, которая на прощание лягала его ножкой. К счастью, обута она была в удобные мягкие кроссовки и не причинила своему защитнику никаких повреждений.
Тем временем ситуация вышла из под контроля полностью и окончательно. С обеих сторон никто не понимал, что происходит и почему, а также что делать дальше. Коммунисты, увидев на своем фланге схватку нескольких своих с представителями власти, кинулись им на помощь, хотя еще минутой ранее уже начинали безропотно расходиться по домам. Милиционеры, удивленные нападением пенсионеров, наступали на них в соответствии с приказом и с использованием приемов, которым их обучали. Пенсионеры встали стеной, опираясь друг на друга плечами и сцепившись локтями. Без команды, под аккомпанемент несогласованных нечленораздельных выкриков, они пытались пробиться к единомышленникам, отрезанным шеренгой наступающих навстречу коммунистам солдат правопорядка. Произошла яростная схватка, в которой коммунисты потерпели поражение.
Ногинскому не позволили остаться лежать на поле боя. По истечении недолгого сумбурного периода времени, не оставившего в его памяти никаких воспоминаний, страдалец обнаружил себя на заднем сиденье милицейского УАЗа, с ноющим сердцем, боками и затылком. С некоторым удивлением изрядно вымокший Александр Валерьевич смотрел на улицу через усеянное дождевыми каплями окошко и пытался восстановить цепь событий, приведших его вместо хозяйственного магазина за решетку.
В силу скромных размеров районного центра ехать до участка долго не пришлось. Задержанный покорно прошел казенную процедуру, проследовал за милиционерами в обезьянник и с комфортом расположился там на деревянной лавке, без документов и без шнурков, с любопытством изучая обстановку. С наружной стороны решетки ходили разные стороны люди в форме и в штатском, не обращавшие на арестанта ни малейшего внимания. Зато внутри клетки на противоположных концах лавки мирно спали сразу два бомжа. Запах грязных тел распространялся далеко и внушал неприятные мысли. Новый невольник сидел между ветеранами и поочередно с осторожностью их оглядывал, прикидывая разные способы спасения от вшей.
Один из сокамерников вздрогнул и резко проснулся, буквально подскочив в сидячее положение. Маленькими недружелюбными глазками из-под косматых бровей посмотрел он на внезапно возникшего соседа.
– Ты откуда взялся? – хриплым голосом спросил сосед Ногинского.
– С митинга, – равнодушно ответил тот, решив подзаработать моральный авторитет. – С милицией подрался.
– Курить есть? – продолжил бомж, никак не изобразив на помятом коричневом лице отношения к громкому факту, так эффектно выложенному перед ним.
Ногинский неторопливо полез в карман и протянул страждущему измятую полупустую пачку. Новичок, он старательно изображал опытность, хотя теоретические познания почтенного пенсионера о тюремном быте исчерпывались трудами Шаламова и Солженицына. Приходилось руководствоваться инстинктом выживания и уверенностью в себе, которой седовласому страстотерпцу всегда было не занимать.
Бомж в одной щепотке выудил из предложенной пачки сразу три или четыре сигареты и сунул их куда-то во внутренний карман своей замызганной одежки, наличия которого сторонний наблюдатель никак не мог предположить заранее.
– А ты здесь за что? – с деланной беззаботностью поинтересовался Ногинский, пытаясь как-нибудь незаметно отвернуться от вонючего собеседника или найти среди сквозняков наветренную сторону.
Бомж в ответ угрюмо выматерился, в длинной витиеватой тираде выразив свое резкое несогласие с существующей системой правопорядка. Александр Валерьевич смог только разобрать отдельные слова, отразившие сермяжную суть происшествия – сладкая парочка попалась на рынке при краже продовольствия.
– Сильно побили торговцы? – посочувствовал жертве закона Ногинский.
Бомж безразлично махнул рукой и выматерился в том смысле, что болью его не испугаешь.
– Есть хочется?
Неразговорчивый собеседник продолжил общение прежним способом, донеся до сознания пенсионера всю простоту и глубину чувства голода лишь парой ослепительно ярких фраз, которые не содержали в себе таких слов, как "голод", "еда", "есть", "кушать" и тому подобных. Ногинский вспомнил себя маленького в сорок седьмом году – он тогда каждый вечер засыпал с чувством удивления. Короткая тяжелая жизнь дошкольника, имевшего счастье жить в переломную историческую эпоху, успела научить его к чувству голода. Но голод ежедневный и непреходящий его изумил – куда же мог подеваться хлеб, который прежде он ел по три раза в день? Однажды мокрая заплесневелая ржаная корочка на земле возле какой-то свалки показалась ему аппетитной, и он поразился собственным ощущениям.
Любопытный пенсионер принялся расспрашивать сокамерника обо всех сторонах его жизни, начиная с жилья и заканчивая женщинами. Немного оторопев от неожиданного в стенах милиции натиска, тот отвечал сначала коротко, потом все более длинными и сложными фразами, которые при этом оставались рублеными и мало связанными друг с другом. Бомж не обладал ораторским искусством и богатством словаря, зато язык его напоминал вьетнамский в том отношении, что часто разная интонация произнесения одних и тех же слов диаметрально изменяла их значение. Около половины понятий и определений в устах велеречивого узника не подлежали использованию в присутствии порядочных женщин и детей, но в обезьяннике они отсутствовали, а Ногинский и сам очень быстро уподобил свою речь языку собеседника. В его жизни вообще особы противного пола встречались лишь эпизодически и никогда не брали верх над волчьей натурой журналиста, привыкшего к калейдоскопу лиц перед своими глазами. Короче говоря, неприятный для слуха рассказ бомжа в сознании единственного слушателя сам собой укладывался в литературный текст, не лишенный даже некоторых красот, вроде метафор и эпитетов. Ногинский не тратил ни малейших усилий на их поиски – они просто рождались, подсказанные свыше, а он и не думал интересоваться, кем именно. Записать услышанный мемуар не представлялось возможным, но стилист и редактор с годами не потерял уверенности в своей надежной памяти, и в его голове сложилась во вполне законченной литературной форме история жизни человека в отрепье.
В прошлой жизни бомж носил имя Иосифа Селиверстова, по батюшке Андреевича. Никто не объяснил ему, в чью честь его осчастливили именем, шедшим к отчеству и фамилии, как мини-юбка боксеру. В меру сил и способностей он честно учился в школе, служил в армии, с восемьдесят четвертого года работал на шлакоблочном заводе. Работал подсобником, поскольку не постиг в своей жизни ничего, кроме программы восьмилетней школы, и никогда не мог понять людей, способных потратить на учение полтора десятка лет. Отец пил и уносил из дома больше и чаще, чем приносил, сестренку хотелось радовать вкусностями и обновками, а мать и без того выбивалась из сил.
Они с сестрой спали в одной комнате, смежной с родительской, которая была проходной. С возрастом ситуация стала его раздражать, сестра все норовила заслониться от него то открытой створкой шкафа, набрасывая диванное покрывало на спинки стоящих в ряд стульев, чтобы в своих постелях обоим казалось, будто в комнате никого больше нет. Селиверстов часто лежал и думал о том, что никогда не сможет ни купить, ни снять, ни получить отдельную квартиру или даже комнату.
Тем не менее, жизнь складывалась терпимая, пока в нее не вошла Поля. Соседка по подъезду, знакомая с детства, с которой вместе иногда праздновался Новый год в компании другой мелкоты из соседских квартир. Она долго носила косу, смеялась редко, но звонко и заразительно, волшебным колокольчиком разливая в округе радость. Казалось, жизнь становилась проще и понятней, светлее, когда она проходила мимо и бросала на Селиверстова случайный взгляд. Он играл на гитаре, владея искусством импровизации и обладая вполне пристойным слухом. Мог подбирать мелодии по заявкам слушателей, если слышал их прежде, или сами заказчики могли правильно напеть. Поля могла, и часто донимала его сложными задачами, выискивая неизвестно откуда безымянные мотивы, которых он не слышал ни до нее, ни после.
Уже после армии, на вечерних посиделках во дворе, она иногда позволяла ему себя обнять за плечи и не сразу отстраняла его руку, опускавшуюся к ней на грудь. Уходила с ним гулять в темные переулки и позволяла там намного больше, подзадоривая робкого ухажера насмешками над его неопытностью. Он злился и стремился продемонстрировать ей все свои достижения в эротической сфере, чем еще больше смешил. В общем, свадьба получилась не хуже прочих, без мордобоя и прочих непристойностей, поселились молодые в отдельной однокомнатной квартире, доставшейся жене от покойной бабушки, и Селиверстов впервые в жизни оставил сестру и родителей в фамильном гнезде из двух очень даже приличных комнат.
Семейная жизнь ему в общем понравилась. Интимные радости, перепадавшие прежде нерегулярно и не всегда доставлявшие удовольствие, превратились в подробность ежедневного быта. Супруга никогда не оспаривала притязаний Иосифа на ее тело, по утрам готовила вкусный завтрак, вечерами встречала его горячим ужином, ходила вместе с ним по гостям и всех там очаровывала. Селиверстову нравилось ловить взгляды мужчин, жадно обгладывающие женщину, которая вся принадлежала ему. Иногда он выбирал из этих женихов Пенелопы кого-нибудь не слишком опасного и учинял показательную расправу, доставляя удовольствие жене и особенно публике. Драться он умел, и никогда не хватал в руки ни кирпичей, ни водопроводных труб, тем более ножей – подобные хамские приемы в его кругу считались признаком телесной и душевной слабости, за которую презирали.
Молодая жена не давала покоя супругу, беспрестанно ставя ему в пример того или другого из родных и знакомых, добившихся в этой жизни больше, чем он. Иосиф хотел тихо и мирно работать на одном и том же заводе, но в конце восьмидесятых деньги в значительной мере утратили смысл, и необходимость доставать, а не покупать, стала неизмеримо более насущной, чем прежде. Женщину не устраивало стояние в бесконечных очередях, она хотела получать все необходимое сразу и в нужных ей размерах. Следствие выглядело закономерным – она устроила мужа в свежеобразованный кооператив общего знакомого, где простодушному Иосифу вместо лопаты, метлы и совка пришлось познакомиться с накладными и счетами-фактурами. Он крайне тяготился простыми и потому подозрительными обязанностями экспедитора, за исполнение которых получал в несколько раз больше денег, чем на заводе. Это казалось ему странным. Прежде он делал грязную и тяжелую работу, которая была не по силам женщине или ребенку, чего он не мог сказать о новой своей деятельности. Получая в десять раз больше денег за работу, которая была под силу ребенку, он злился и иногда вымещал неудовольствие на жене, поскольку именно она уговорила его сменить жизненные ориентиры.
Всего через несколько месяцев босс предложил Селиверстову повышение – должность диспетчера перевозок, чем окончательно его смутил. Он не понимал причин своего возвышения, поскольку ничем не выделялся среди прочих экспедиторов. Он начал думать, делать предположения и выдумывать разные вещи. Итогом размышлений и сомнений стали подозрения, и они понемногу нарастали, как снежный ком, поскольку самим своим возникновением провоцировали новые сомнения и подозрения. В конце концов Иосиф стал банально следить за женой и очень скоро разоблачил ее связь со своим боссом. Не растрачивая попусту времени на размышления и подготовку, он вломился к нему в дом с топором в руках и пытался зарубить кого-нибудь из развратников, но кооператор оказался бойчей, и с неожиданной сноровкой разоружил ревнивца.
Жена много плакала и уговорила хахаля не вовлекать в конфликт государство, а мужа – прекратить кровожадные попытки. Сцена вышла незабываемой и имела важные последствия – кооператор изгнал из своей жизни, то есть из дома и с работы, обоих супругов. На улице изменщица снова плакала, долго и подробно объясняя несчастному, что хотела как лучше, чтобы дом был полной чашей, чтобы не маяться от зарплаты до зарплаты на его дурацком заводе. Ну чем плоха работа в кооперативе, которую она ему выхлопотала? И как бы еще он ее получил? И откуда такие за страсти-мордасти, как будто он не знал еще с первой их ночи, что не был у нее первым мужчиной? Не первый, не единственный, какая разница? Что изменилось между ними из-за появления третьего? Хочешь, пусть появится еще одна женщина, она не против. Селиверстов жену никогда не бил и теперь, остыв после приступа бешенства, не собирался. Он не пошел в ее квартиру, а направил стопы в родительское гнездо.
Пришел он вовремя: сестра привела запуганного жениха, который постоянно с опаской косил на отца невесты, а появление брата и вовсе выбило бедолагу из колеи. Сестра сидела рядом со своим избранником счастливая и смущенная, уверенная, что ее с мужем ждет собственная комната, которую она почти всю жизнь делила с братом. Матери жених нравился, она ему приветливо улыбалась и непрестанно угощала, отец обрадовался законной возможности напиться и мало внимания уделял происходящему.
Иосиф молча посидел с компанией, выпил водки, ничего не сказал и ушел несколько времени спустя после жениха. Он попробовал переночевать на вокзале, но вместо этого пришлось скоротать ночь в кутузке, где ему показалось даже удобнее, только милиционеры обходились с ним грубо и оставили без последних смятых денежных бумажек в кармане. Ну, это что уж за беда! Селиверстов ведь не из пансиона благородных девиц в большую жизнь выпал, ему и прежде не каждый день карамельки доставались.
Утром он оказался на улице – не только бездомным, но еще и нищим. Постояв некоторое время на одном месте и задумчиво оглядевшись по сторонам, он решительно отправился в сторону городского рынка, поскольку там торговали едой. Купить ее начинающий бродяга не мог, поэтому начал настырно устраиваться в подсобные рабочие, с оплатой продуктами. Какая-то тетка стала громко вопить, будто он шастает здесь с преступной целью, и смогла-таки привлечь внимание большого круга торговцев. Иосиф принялся говорить о своем желании немного подработать и перекусить, но его не захотели слушать и погнали прочь, всячески выражая желание никогда его больше не видеть. В конце концов среди изломанных ящиков позади ларьков его избили конкуренты. От этих последних Селиверстов вполне сумел прилично отмахаться, даже сохранил свою новую куртку, только физиономию ему совсем расквасили: губы и нос безобразно распухли, на подбородке засохла кровь. В таком виде искать работу не приходилось, он нашел уличную колонку и умылся под ней, но рожа все равно осталась преступной. Тогда неудачник и решил отправиться на вокзал, а там – в электричку и в Москву, где много людей, денег и работы. Казалось, проще всего вернуться на свой завод, но в таком случае следовало возвращать всю прошлую жизнь без остатка. Возвращать ее Селиверстов не захотел, так и бросив паспорт в квартире жены – личность ему теперь без надобности.
Добравшись до столицы зайцем, Иосиф не ушел с вокзала, а стал присматриваться к местным бомжам. Потом подошел к ним и заговорил – хотел выяснить в общих чертах, как живут люди, которым некуда идти. С ним сначала обходились осторожно, стараясь выяснить его сущность, но простодушная избитая физиономия новичка не показалась отталкивающей опытным обитателям улицы. Наоборот, она скоро внушила доверие коренным обитателям вокзала, и они без заминки ввели его в курс дела. Коллектив оказался сплоченным и замкнутым на себя – посторонних здесь не привечали, но Иосифу повезло. Несколькими днями ранее умер один из столпов бездомного сообщества, оставив прореху в виде выгодной точки сбора пожертвований. Вся компания последовательно, в порядке ранжира, переместилась на одну иерархическую ступень вверх, оставив для новенького самую нижнюю тьмутаракань, на улице, возле туалетных кабинок.
Тогда начиналась осень, зарядили дожди, жить на улице становилось невозможным, и Иосифа пристроили в бомжатнике, где он прослыл богачом из-за своей поначалу чистой и теплой одежды. Он отработал одну смену на отведенном ему участке, продрог и промок, норму прибыли не выручил – выплатив положенный куш вышестоящим кураторам, остался с пустыми карманами, злым и усталым. Просить милостыню оказалось просто – он и не говорил ничего, просто сидел, поджав под себя ноги и положив перед собой картонку с письменной просьбой о посильной материальной помощи. Стыда Иосиф не испытывал – ему действительно хотелось есть и негде было жить. Спать пришлось вповалку, на полу, прямо в одежде, зато в настоящем помещении, а не в приспособленном закутке на каких-нибудь трубах. Даже настоящая люстра висела под потолком, правда горела в ней под выцветшим абажуром только одна лампочка.
И снова ему встретилась роковая женщина! Пассия сурового вожака, держащего всю команду в ежовых рукавицах, угрюмого молчаливого мужика с большими кулаками. Без малейшего повода она вдруг заверещала непонятные слова, закатывая глаза и показывая на Иосифа пальцем. Женщина вовсе не выглядела Афродитой – с такой же опухшей коричневой физиономией, как и всех остальных членов коллектива, она совершенно не выделялась на общем фоне. Но при этом обладала властью – могла подвести под кулаки пахана любого фигуранта по своему выбору. Поднялся нечленораздельный гвалт, смысл которого Иосиф постиг лишь спустя некоторое время – его обвиняли в наглом посягательстве на честь чужой женщины, посредством неподобающего щипка за интимную выпуклость. Селиверстова эта полупьяная баба не интересовала совершенно, он даже не смотрел на нее, а хотел только мирно поспать. Возможно, его безразличие и послужило поводом к страшной женской мести. Возможно также, все остальные ждали только сигнала к расправе. Во всяком случае, на Иосифа набросились все разом и действовали без малейшего сожаления или осторожности. Отбиться бедолага не смог, и спустя короткое время обнаружил себя наказанным – физиономию заново расквасили, одежду, еще сохранявшую приличный вид, отобрали, и свалили перед жертвой кипу тряпья, которое кто-то долго и упорно носил, ни разу не озаботившись прачечной или химчисткой. Он надел это подобие одежды, не испытывая отвращения, потому что сидеть полуголым перед раздевшими тебя людьми гораздо хуже, чем одетым во что попало.
Оставаться дальше в том же бомжатнике не представлялось возможным, и Селиверстов вышел в осеннюю ночь кое-как одетый, без плаща и зонта, без места для ночлега. Захотелось вернуться домой, но сразу стало обидно за себя; он мысленно махнул рукой и двинулся куда-то вперед, слабо ориентируясь в московском темном пространстве. Во мраке он встретил неясную фигуру, робким девичьим голосом обратившуюся к нему за помощью – проводить до дома. Подивившись в очередной раз загадкам женской логики – бояться мужчин и для защиты от них обратиться к совершенно незнакомому мужчине на ночной улице – он милостиво согласился. Они шли некоторое время молча, потом зашли в какой-то двор, и там Иосифа ударили сзади по голове твердым и тяжелым предметом.
Ему показалось, что уже через мгновение после удара он лежал на земле и смотрел в непроглядное небо, но, как позднее удалось прикинуть, в действительности очнулся он через час или два после покушения. Изначально пустые карманы рваной грязной куртки были тщетно вывернуты незадачливыми разбойниками, но с руки пропали часы, которые Селиверстов смог уберечь даже во время расправы в бомжатнике. Он сел, город лихо завертелся вокруг него, несчастный вновь повалился навзничь и ударился головой об асфальт. Потом его стошнило. Придя в себя, он попытался ползти вперед на четвереньках, и это получалось лучше, чем совершенно невозможная ходьба, но следовало выяснить, куда двигаться. Утром поблизости появились люди, они шли мимо по своим делам и не обращали на алкаша никакого внимания. Остерегаясь женщин, незадачливый бродяга обратился к благообразной старушке с просьбой вызвать "скорую". Она оглядела просителя с подозрительностью в пронзительном взоре, поджала узкие бесцветные губы и пошла дальше. Селиверстов решил, что ничего не вышло, но ошибся – через полчаса прибыл спасительный белый "рафик" с продольной красной полосой, и пострадавшего доставили в больницу.
Там ему диагностировали сотрясение мозга, после мучительного в его состоянии душа переодели в больничный халат, перевязали голову и уложили на койку в оживленном коридоре. Вспомнив все пережитое за короткое время, Иосиф воспринял последнюю перемену как благо и стал обдумывать способы застрять в больнице подольше. Особого напряжения поначалу и не требовалось – две недели цивилизованного блаженства гарантированно требовались для завершения курса лечения. Для продления удовольствия следовало напрячь и без того ушибленный мозг. Совершенно чуждый медицине, страдалец не мог самостоятельно разработать стратегию и тактику симуляции, поэтому с необыкновенным простодушием обратился за содействием к старшей медсестре. Та выяснила, что злоумышленник не имеет ни документов, ни денег, и предупредила лечащего врача о вынашиваемых пациентом подрывных планах. Разумеется, осуществиться им не пришлось, и ровно через две недели Иосиф опять стоял один на улице под дождем. Хорошо хоть, его одежду в больнице привели в более приличное состояние, чем то, в котором он ее получил.
Так и началось многолетнее бесприютное житье неуемного скитальца Селиверстова. Сначала его время от времени задерживали за бродяжничество, он называл каждый раз новые вымышленные имена и прочие данные, его личность долго и безуспешно устанавливали, но, убедившись, что придурок не находится в розыске, в конце концов с чертыханиями выпускали на волю. Затем избранный Иосифом образ жизни перестал считаться преступлением, и он самозабвенно вел свое первобытное существование, добывая кусок хлеба насущного охотой и собирательством в каменных джунглях, все помянутое время обходя женщин стороной.
– Как? – изумился Ногинский. – Ни разу ни с одной не сошелся?
Селиверстов разразился в ответ длинной невразумительной тирадой, смысла которой верный слушатель не понял, но ощутил ее настроение, то есть дикую ненависть к коварному и безжалостному противостоящему полу.
– И с женой ни разу не виделся?
Бомж отрицательно помотал головой.
– И не позвонил? Не написал?
Иосиф продолжал мотать головой в прежнем направлении.
– И не развелся?
– Еще чего! Перебьется.
– Так ты, наверно, уже лет пятнадцать пропавшим без вести числишься?
Селиверстов неопределенно пожал плечами.
– А сюда давно приехал?
– Вчера.
– Жену видел?
– Нет.
– Родителей, сестру?
– Нет.
– Так зачем приехал-то?
Бомж пожал плечами с прежней неопределенностью и безразличием.
– Козел потому что, – раздался вдруг новый сиплый голос.
Ногинский оглянулся на него и обнаружил проснувшимся третьего обитателя обезьянника. Тот агрессивно чесался у себя под лохматой длинной бородой, высоко задрав подбородок и старательно вытягивая губы трубочкой. Наверное, получал удовольствие.
– Кто козел? – с тихой угрозой спросил у товарища Селиверстов.
– Ты козел, – спокойно ответствовал бородач, продолжая свое неотложное занятие и пристально глядя в потолок. – Онанист гребаный.
– Что ты сказал?
– Да что слышал, то и сказал. Еще будешь на мою бабу дрочить, мозги вышибу.
– Ты мне мозги вышибешь? – надвинулся на соперника великий схимник.
– Я тебе, – с прежней невозмутимостью заявил тот.
Ногинский подумал, что пятнадцать лет без женщины для здорового мужика – испытание непреодолимое, и смотрел на Иосифа с искренним любопытством и сочувствием.
– Можно понять человека, – примиряюще обратился пенсионер к бородачу. – Тебе не все равно, на кого он дрочит?
Ответить ревнивец не успел – Селиверстов коршуном набросился на него и повалил на пол, пытаясь то ли задушить врага, то ли сломать ему шею. Александр Валерьевич счел за благо не встревать в чужой конфликт, к тому же окрашенный эротическими эмоциями. Замешанная на женщине драка способна в любой момент вылиться в смертоубийство первого, кто попадется на глаза – для утишения пожара в сердце.
Звуки возни, сопровождавшиеся сиплыми выкриками и стонами, широко распространились по участку, и очень скоро люди в форме уже загремели ключами на входе. Бомжи не обращали на них ни малейшего внимания, продолжая выяснять отношения, а Ногинский отошел подальше от места событий, к самой дальней стенке. Принятые предварительные меры ему не помогли, от людей в форме досталось тумаков всем обитателям обезьянника. Дерущихся буянов растащили в разные стороны и хорошенько обработали дубинками, а Ногинского просто вытащили за шиворот наружу. Он не сопротивлялся, покорившись судьбе.
Беспокойного пенсионера толчками в спину проводили до какой-то комнаты, у двери в которую он услышал возглас изумления:
– Александр Валерьевич!
В коридоре стоял Самсонов с разведенными в стороны руками и наблюдал за происходящим с таким видом, словно стал очевидцем первого контакта человечества с инопланетной цивилизацией.
– Привет! – бросил на ходу арестант.
– Как вы сюда попали?
– По недоразумению. Они меня с кем-то перепутали.
– Шагай, шагай, – мирно ткнул Ногинского в спину конвоир. – Сейчас разберемся, с кем тебя перепутали.
– Александр Валерьевич, я вас дождусь! – крикнул в спину узнику Самсонов и бросился к начальнику ОВД, от которого только что вышел. Он собирал материал для статьи о работе милиции и решил использовать свое служебное положение в личных целях для спасения бывшего конкурента.
А того тем временем ввели в комнату, где обнаружились задержанные вместе с ним коммунистки и человек за письменным столом.
– А, провокатор явился! – злорадно воскликнула товарищ при виде вошедшего.
Судьба бывшего журналиста бросила на него взгляд и вновь отвернулась.
Человек за столом принялся выяснять, где, когда и при каких обстоятельствах познакомился Ногинский с присутствующими здесь нарушительницами общественного порядка. В процессе выяснения этого несуществующего факта оказалось, что судьбу бывшего журналиста зовут Тамарой Анатольевной Довгелло. Александр Валерьевич постарался запомнить ее имя, поскольку решительно настроился на продолжение знакомства.
Спустя некоторое время женщин увели. Человек за письменным столом стал записывать показания Ногинского о происшествии во время пикета перед зданием администрации. Суть показания составляло утверждение об отсутствии какого-либо происшествия, тем паче нападения на сотрудников милиции. Человек почесал переносицу и уже вызвал конвойного, чтобы вернуть арестанта в место его временного обитания, когда в комнату вошел начальник ОВД в сопровождении Самсонова, весело подмигнувшего коллеге.
– Ну, что здесь? – строго спросил начальник подчиненного.
– Да пока ничего, – бодро отрапортовал тот. – Утверждает, будто ничего не случилось, просто кто-то споткнулся и на кого-то упал.
– А наши что говорят?
– Тоже ничего определенного. Много неразберихи.
– Ну и заканчивай с этим! Нам здесь только обвинений в угнетении борцов за свободу не хватает!
– Да пожалуйста, я с удовольствием, – пожал плечами подчиненный и стал собирать в стопку разбросанные по столу листы исписанной бумаги.
Следующие полчаса ушли на полицейские формальности, затем Ногинский и коммунистки все вместе оказались на улице у дверей ОВД, где их встретил улыбающийся Самсонов. Попытка Александра Валерьевича продолжить знакомство со своей судьбой пресеклась, не успев толком начаться. Итог получился закономерным: он провел вечер с Николаем Игоревичем.
Они долго и нудно пили водку в квартире незадачливого пенсионера, закусывая ее колбасой и солеными огурцами, при этом Самсонов упорно вырывал из коллеги объяснение загадочной страсти к незнакомой женщине.
– Послушайте, Александр Валерьевич, – говорил он с набитым ртом и с уже не очень послушным языком, – вы ведь всю жизнь прожили без всяких там жен. Теперь для вас настало время невиданной свободы – не нужно никого добиваться, ни за кем ухаживать, ни нести ответственности за чью-либо жизнь. Почему вас так тянет на этот сомнительный огонек? Крылышки не боитесь обжечь?
– Не боюсь. Я их всю свою жизнь обжигал, с завидной регулярностью. Женщины для того и существуют на свете, чтобы мужчины за них сражались друг с другом, ломая кости.
– Женщины существуют, чтобы рожать детей.
– Они должны рожать от достойных.
– Александр Валерьевич, это социальный дарвинизм.
– Это закон жизни. Как ни назови их поведение, они выбирают среди мужчин того, которому соглашаются доверить будущее своих детей. И тем самым превозносят его над остальными. А мы гордо озираем проигравших соперников с высоты и хотим, чтобы все восхищались нашей женщиной.
– О каких детях вы говорите? Вы что, действительно собираетесь завести детей от вашей пенсионерки?
– Я и сам пенсионер. Одно из наших преимуществ над женщинами – мы и в пенсионном возрасте можем выстругать ребеночка, а вот о них такого не скажешь. Кстати, о детях. Второе наше преимущество – биологически мы запрограммированы на секс как таковой, он для нас самоцель. А им, в большинстве случаев, подавай ребенка. Они биологически запрограммированы на то, чтобы свить гнездышко и произвести на свет потомство. Потом они начинают жаловаться на мужской инфантилизм, но мы не виноваты – забота о семье для нас есть лишь следствие культурной индоктринации. Для них – веление свыше. Большинство изменщиков не имеют никаких страшных претензий к жене и ни секунды не задумываются о разводе; если изменяет женщина – мужчине остается только удалиться с поникшей головой, поскольку сам факт предательства означает его непригодность для данной конкретной женщины. Правда, он не означает автоматически, что женщине нужен мужчина, с которым она изменила.
– Вы всерьез считаете это нашим преимуществом?
– Конечно. Мы психологически свободны. Толстой самозабвенно носился в эмпиреях своего творчества и идей, а Софья Андреевна растила детей, занималась хозяйством, подрабатывала у мужа редактором и переписчицей и еще находила время обезопасить материальное будущее детей от идеологически обставленных угроз со стороны их собственного отца. Кто из них был свободен?
– Но Софья Андреевна осталась в общественном сознании рядом с мужем.
– В качестве одной из величайших рабынь всех времен и народов.
– Это вам так кажется с вашей мужской точки зрения, – улыбнулся Самсонов и закусил очередной стопарик новым ломтиком вареной колбасы.
– С моей? А у вас точка зрения какая-то другая?
– Что вам до моей точки зрения? Просветите меня, если желаете.
– Видите ли, Николай, – принял менторский тон Александр Валерьевич, – мы с вами разнимся в самом существенном отношении. Вы не понимаете главного в женщинах.
– Я не понимаю? Я женат, и я уличенный в неверности ходок! А вы целую вечность промаялись вечным жидом, слоняясь от юбки к юбке.
– Вот именно. Вы потому и женаты, что не поняли главного в женщинах. В отношениях с ними никогда не следует руководствоваться разумом. Подобного рода попытки неизбежно ведут к катастрофе, поскольку их логика определяется эмоциональными порывами, стремлением нравиться и побеждать в соревновании с другими женщинами. Побеждать честно – распутниц они воспринимают как нарушительниц правил большой игры за право продолжения человеческого рода. В общем, вам никогда не понять их умопостроений, и сколько бы вы не упражнялись в остроумии по поводу женской логики, вы всегда останетесь ею битым. Действовать следует иначе. Нужно не думать, а чувствовать. Рассеяно проходите мимо предмета своих мечтаний, но не увивайтесь и за другими. Будьте спокойны, молчаливы, строги, вески, умны и остроумны в немногих сказанных вами словах, хорошо одеты, ухожены, несите в манерах и внешности приметы денег и власти, и пусть у вас не будет ни того, ни другого, но вы создадите туманную видимость их наличия, и женщина решит, что вам можно доверить будущее ее детей. Только ни в коем случае не говорите словами, будто обладаете деньгами и властью, если не имеете их на деле. Она разоблачит вашу ложь и станет презирать. Если же она сама в мыслях наделит вас достоинствами будущего отца, то они так и останутся за вами, даже после раскрытия печальной истины. И поймите, я не говорю о таких примитивных глупостях, как кратковременное сорение взятыми в долг деньгами и туманные намеки на неотложные государственные дела, зовущие вас среди ночи от ее постели. И никогда не пытайтесь понять, лжет вам женщина или говорит правду. Они в принципе не мыслят такими категориями. Они говорят то, что считают нужным сказать в данной конкретной ситуации, из этого и исходите.
– Что же вы с таким теоретическим багажом остались в холостяках? – искренне поинтересовался Самсонов.
– Это не теоретический багаж, а самый что ни на есть практический. Он и позволил мне остаться холостяком. Ведь я – властелин стихий, а вы – их раб.
– Я – раб? Я пресыщен женщинами. Моя проблема – избавиться от них, а не снискать у них симпатию в свой адрес. И я – раб?
– Разумеется. И как женатик, и как изменщик вы не состоялись, женщины вас отвергают. Даже если вам кажется, будто кого-то из них вы сами бросили, смею вас уверить, это самообман. Мужчина вообще не может бросить женщину, она – единственный смысл его пребывания в нашем мире. Вы сами справедливо заметили, что для мужчин секс является самоцелью и главной биологической задачей существования.
– И вы живете без женщины, властелин стихий.
– Я живу со многими женщинами. Меня не отпугивает конкуренция, и прежде тем более не отпугивала. Я добиваюсь их постоянно, а не полагаюсь на одну, будто бы обязанную мне своим телом. Хотите узнать причину ваших поражений на альковных фронтах?
– Очень надо! В гробу я видал эти фронты со всеми их поражениями.
– Поражения не их, а ваши. И случаются они по банальной причине: если жена и беззаконная дама сердца отдаются своему мужчине единственно из чувства долга, а он принимает их уступчивость за чистую монету, они распознают в нем игрушку и начинают пользоваться им в своих интересах. Между тем, отношения мужчины и женщины имеют перспективу лишь в одном случае – если женщина восхищена своим избранником и сама хочет его день и ночь напролет. Жена может прожить с мужем целую жизнь по привычке, и бедолага так и не догадается, что в действительности у него никогда не было женщины, и десятилетиями он получал одну только милостыню, ради детей и семьи. Незамужняя развратница может годами мстить своему прошлому или будущему, в настоящем жонглируя своей лирической жертвой. И подавленный ей персонаж умрет твердо уверенным в своем мужском всемогуществе, хотя в действительности он всего-навсего служил болваном для снятия нервного напряжения.
– Так вы ведь и есть вечный донжуан. Что вы знаете о своих женщинах?
– Да ничего не знаю. Никогда не уподоблюсь самоуверенным идиотам, полагающим, будто они постигли женщину.
– А чем мы с вами здесь занимаемся вот уже битый час? По-моему, вы вполне самоуверенно объясняете мне женщин.
– Вам так показалось? Тогда извините, Коля. Я только излагаю свою точку зрения.
– Уходите от ответственности за собственные слова?
– Не порождаю у вас ложных надежд. Делюсь впечатлениями своей долгой по сравнению с вашей жизни.
– А вам никогда не приходило в голову, что вы до старости проходили в холостяках именно в результате ошибочности ваших взглядов на женщин? Может быть, все гораздо проще, и не нужно заморачиваться на их счет всякими высокими идеями? Возможно, они руководятся теми же страстями, что и мужчины – власть, деньги, успех у противоположного пола?
– Пожалуйста, считайте правым себя. Не могу вам запретить такое безобидное удовольствие. Я же останусь при своих убеждениях, и не пытайтесь меня разуверить. Вы назвали меня вечным ходоком, но я – вечный странник. Я в мыслях не держу разгадать женщин, и все мои рассуждения суть лишь рецепт выживания в отношениях с ними. Никогда не считайте себя победителем, и не проиграете.
Самсонов разлил по стопкам последнюю влагу из бутылки, и потряс ею в воздухе жестом пустынного странника, в надежде добыть последние капли:
– Ладно, остается только поднять тост за женщин.
– Поддерживаю, – Ногинский уверенно встал, держа перед собой сверкающую хрустальную стопку. – Пускай судьба пощадит нас и избавит от ужаса неразделенной привязанности. Пускай каждый из нас встретит женщину, которая пригреет его в своем мире и не пожелает отдать сопернице. Так надо, потому что только так мужчина обретает себя в своей земной юдоли. Только так он не исчезает после смерти в бесконечном черном мраке, а остается жить вечно.
Компаньоны дружно выпили и закусили, и Самсонов заметил:
– Извините, но с тостом вы перегнули, Александр Валерьевич. Женщина без мужчины ведь тоже не остается, а исчезает навсегда. Значит, мы говорим о вообще о человеческом, а не о женском.
– Запомните, Коля, еще ни одна женщина не исчезла бесследно в подлунном мире. Каждую из них, даже самую забытую, всегда кто-нибудь желал, хотя бы раз в ее жизни. Мужчины же, которых за всю их жизнь не возжелала ни одна женщина, преобладают в нашем неприкаянном обществе.
Оба собеседника теперь стояли, глядя друг на друга через стол и обдумывая варианты дальнейшего развития событий вечера.
– Наверное, мне пора, – с ноткой вопросительности в интонации произнес Самсонов.
– Как знаете, насильно держать не стану.
– Александр Валерьевич, а сколько у вас было женщин?
– За всю жизнь?
– За всю.
– Понятия не имею. Не подумайте чего-нибудь ужасного, я не звезда спорта или шоу-бизнеса, на тысячи счет не веду. Просто никогда не приходило в голову их считать – они мне не стадо, я не пастух. Но помню всех, начиная с самой первой.
– Всех?
– Всех. Первую звали Наташей, рыжая и веснушчатая. Хихикала все время по пустякам.
– Первую помнить не удивительно. Поразительно – помнить, скажем, пятидесятую из ста.
– Вы льстите моим донжуанским качествам, Коля. Вряд ли в моем списке наберется столько строчек.
– А вообще людей вашей жизни вы помните? Собственно, меня интересует, помните ли вы, кого именно забыли?
– Кого забыл? – Ногинский удивленно пожал плечами. – Разумеется, многих позабывал. Потому что одни мне безразличны, других не хочу помнить. Безразличных больше во много раз.
– А тех, кого не хотите помнить, помните?
– Только что по вашей милости вспомнил. Почему вас интересуют такие скучные материи, Коля?
– Ничего себе скучные! Да я себя сутками извожу. Вот вспомнил, кого забыл, и задумался – почему? Был человек, я с ним разговаривал, на одни уроки ходил, или в одной казарме спал, прошел десяток лет – и нет человека в памяти. Значит, и кусок моей жизни канул вместе с ним?
– И зачем же вам понадобились все куски вашей жизни до единого?
– Потому что меня нет без моей жизни.
– Ваша жизнь никуда не делась, и вы вместе с ней. Сейчас вы не тот, кем были десять или двадцать лет назад, и не нужно играть в машину времени. Вот и вся премудрость.
– Но ведь те люди тоже живут где-то. И тоже не помнят меня?
– Скорее всего. Не вижу здесь катастрофы. Зачем таскать по жизни батальоны прежних знакомых, тем более вынужденных?
– Каких еще вынужденных?
– Вы же не сами подбирали состав своего класса в школе или взвода в армии? Жизнь свела, потом развела. А в памяти остались только те, кто важен. Остальные потому и пропали, что не оставили в вас следа.
– А если оставили, но я, как и вы, не хочу этого видеть?
– Не хотите, и не надо. Коля, вы слишком эмоциональны для журналиста. Как вы сохраняете объективность, передавая события своим читателям?
– Я ее не сохраняю. Я просто ничего не чувствую к тому, о чем пишу. Скажете, нужно менять профессию? Я же не могу сбежать на пенсию, подобно вам.
– Не скажу. То есть, скажу другое: считайте себя тем, кем желаете быть, и ведите себя соответственно.
– По-моему, такой тип сознания называется шизофреническим.
– Возможно. Но какое вам дело до того, кем вас посчитают другие? Вот, например, я. У меня суставы, простатит, стенокардия, радикулит – наверное, найдется и что-нибудь мне не известное. Я выгляжу инвалидом?
– Нет, пожалуй, – окинул Самсонов оценивающим взглядом фигуру соратника. – Выглядите вполне бодрым стариканом.
– А почему?
– Ведете себя так, словно здоровы?
– Вот именно. Как видите, результат налицо.
– А не боитесь внезапной смерти? Ритм здоровой жизни для больного может оказаться роковым.
– Не боюсь. Умереть я согласен, я не хочу постепенно умирать.
– Тогда желаю вам удачи.
– Спасибо, я постараюсь. Всего хорошего, коллега.
– До свидания, Александр Валерьевич.
Самсонов вышел на темную мокрую улицу и с первого же шага угодил в глубокую лужу перед крылечком подъезда. Дождь давно закончился, но следы его сохранялись повсюду – мокрая листва поблескивала в тусклом свете редких мутных фонарей. Николай Игоревич чертыхнулся и бодро направился в сторону своего коммунального логова, хлюпая водой в летних туфлях. Ногинский собрал немногочисленную посуду в раковину на кухне и вымыл ее, а потом разложил диван, устроил себе постель и мирно отошел ко сну, изнуренный своими болезнями и долгими вечерними возлияниями. Ему приснилась молодость.
Утром пришедший в себя, никогда не унывающий пенсионер, не испытывая особо тяжких последствий после выпитой накануне в приемлемом количестве высококачественной водки, бодро направился в коммунистический райком. Тот располагался на тихой улочке среди безобидных заведений типа роно и собеса, на первом этаже желтого оштукатуренного двухэтажного здания. Вывеска под стеклом и колышимый легким ветерком красный флаг с золотыми серпом и молотом не оставляли никаких сомнений в принадлежности скромного офиса. Александр Валерьевич решительно шагнул внутрь, наткнулся на человека за столиком – видимо, дежурного, и нагло поинтересовался контактными данными Татьяны Анатольевны Довгелло. Дежурный посмотрел на посетителя с подозрением и мудро решил сначала позвонить женщине домой и поинтересоваться, насколько ей нужен неизвестный любопытный человек. Поговорив некоторое время с телефонной трубкой, дежурный протянул ее настырному пенсионеру, который с готовностью ее схватил и тут же крикнул в микрофон:
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, – ответил несколько озадаченный женский голос. – Извините, но кто вы такой?
– Это вы меня извините за нахальство. Но я не мог ничего с собой поделать, вот и пошел напролом. Надеюсь, вы меня помните – вчера мы вместе сидели.
– Ах, это вы! Александр Валерьевич, кажется?
– Совершенно верно! Я рад, что вы меня запомнили. Надеюсь, вы не вините меня в происшествии?
– Да причем же здесь вы! Я вас ни в чем не виню и, простите, пока не могу понять причину вашего появления в райкоме.
– Что же здесь непонятного! Вчера вы скрылись, отвергнув мои услуги провожатого, и ваша партийность оказалась единственной ниточкой, за которую следовало потянуть, чтобы вас найти.
– Да зачем же вы меня ищете, Александр Валерьевич?
– Затем, что хочу многое вам сказать. Многое и важное.
– Что сказать? Что вы имеете в виду?
– Тамара Анатольевна, я думаю нет смысла вести этот разговор по телефону. Давайте встретимся, и я все вам объясню.
– Да что вы собираетесь мне объяснять? Я вас совершенно не знаю.
– Тем более нам необходимо встретиться. Я не предлагаю ничего особенного. Давайте встретимся у пожарного пруда, где кафе. В любое удобное для вас время. Назначайте.
Тамара Анатольевна, озадаченная напором незнакомца, кажется, советовалась с кем-то, прикрыв телефонную трубку ладонью. Пауза затянулась, но завершилась удачно для Александра Валерьевича – приглашение было принято.
Дама явилась через три часа, одетая не в тот боевой наряд, в котором стояла в пикете. Одетая в девчачье цветастое платье с целомудренно застегнутым воротничком и с белой панамкой на голове, она выглядела курортницей на морском берегу. Кавалер встречал ее с букетом разномастных цветов, чем вызвал реакцию резкого неприятия:
– Вы с ума сошли! Нашли девочку на выданье! Кажется, я не давала вам повода считать себя особой легкого поведения!
– Помилуйте, Тамара Анатольевна! Это же просто цветы, знак внимания.
– Да какой знак, люди неизвестно что подумают! Выбросьте их немедленно! Или я ухожу!
Ногинский поспешил выполнить указание, поскольку серьезность угрозы не вызвала у него ни малейших сомнений. Утратив изрядную долю уверенности, он осторожными экивоками заманил Тамару Анатольевну в "Лунную дорожку" на бокал безалкогольного коктейля, поскольку говорить в приятной сени гораздо приятней, чем на солнце, пусть и августовском.
– Странный вы человек! – продолжала дама на повышенных тонах. – Вытащили из дома неизвестно зачем, явились с букетом, словно мальчик. Скажите еще, что хотите со мной дружить.
– Именно это я и собирался вам сказать, – честно заявил Ногинский. – Я хочу познакомиться с вами поближе.
– Так! Приехали. Еще что скажете?
– Пока ничего. Особенно, если вы не желаете продолжить наше знакомство.
– Вы уверены, что у меня нет мужа?
– Абсолютно. Скажу без ложной скромности, я знаю женщин. Когда вы стояли вчера в пикете, я шел в хозяйственный магазин, взглянул на вас мельком и сразу понял, что не могу просто так пройти мимо, не заговорив. Вчера нам помешала милиция и некоторые из ваших товарищей, но сегодня я полон решимости.
– Вы сумасшедший? Чего вы от меня хотите?
– Общения, Тамара Анатольевна, общения. Я в этом мире один, как перст, и давно научился выбирать людей.
– Не вижу логики. Если вы научились выбирать людей, почему вы один?
– Я выбираю их для радости, а не для будней.
– До сих пор продолжаете выбирать для радости?
– Что значит "до сих пор"?
– Это значит – вы слишком стары, чтобы общаться с женщинами для радости. Вам давно пора заняться буднями.
– Думаете? Лет до сорока – возможно, а сейчас – в любом случае поздно, если бы и захотел. Сразу добавляю: я и не хотел никогда. Быт – такая штука, что ее лучше вкушать в одиночестве.
– Занятный вы человек. Пробегали беспутным мальчишкой целую жизнь и, кажется, гордитесь.
– Во-первых, не уверен насчет гордости. Я просто доволен собой. Во-вторых, не спешите завершать мою жизнь, она продолжается.
– С ума сойти! Хорошо быть мужчиной – седой, как лунь, а жизнь у него все еще продолжается!
– Теперь я не понимаю вашей логики. Вы уверены, что в моем возрасте жизнь порядочного человека должна кончиться? Не соглашусь ни за что на свете!
– Понимаю, вам по-прежнему кажется, что ваша жизнь только начинается? Если бы вы не бегали всю жизнь от ответственности и обзавелись семьей, вам бы так не казалось.
– Вам кажется, будто вы завершили свой жизненный цикл, дали человечеству детей и внуков, более ничего ему дать не можете и, следовательно, не должны жить дальше?
– Троих детей и шестерых внуков, если стремиться к точности.
– Поздравляю! А никогда вам в голову не приходило, что именно теперь, дав жизнь густой толпе потомков, вы можете вкусить и те стороны жизни, которые до сих пор оставались для вас недоступными?
– Что же это за стороны такие, интересно знать?
– Приключение, разумеется. Безбашенное, как говорит молодежь, безрассудное и безответственное. Не нужно отвечать за жизнь молодой поросли, дети уже взрослые и сами способны позаботиться о внуках.
– Вы порете обыкновенную мужскую инфантильную чушь, Александр Валерьевич. Все заботы о внуках лежат на мне. Дети работают в Москве, кое-кто там и живет, но тем и другим совершенно некогда читать их детям сказки, вытирать носы и сажать на горшок.
– И весь детский сад на вас?
– Да, на мне. В молодости я отвечала за троих детей, сейчас – за шестерых. А вы, извините, развиваете дурацкие идеи об истечении срока ответственности. Сразу видно, за всю жизнь ни о ком ни разу так и не позаботились.
– Ну, я бы не был настолько категоричен. Случалось и мне таскать обеды на завод родителю.
– Значит, вся жизнь наизнанку? В детстве приходилось нести ответственность, в зрелые годы решили от нее отдохнуть?
– Вы слишком широко мыслите, Тамара Анатольевна. И категорично.
– Просто я сужу вас с женской точки зрения, большинству мужчин непонятной. Как можно истратить десятилетия на пустяки и даже в старости не сокрушаться содеянным?
– Далась же вам моя старость! Посмотрите на эти кудри – у многих стариков вы такие видали?
– Глупыми шуточками от меня не отделаетесь. Кстати, обо мне. Никак не пойму, какие вы планы вынашиваете на мой счет? Неужели романтическую связь затеваете? Имейте в виду – внуков я ради вас бросать не собираюсь, и людей смешить своими великовозрастными приключениями не намерена.
– Хорошо, забудем о приключениях. Раз вы так ставите вопрос, я готов оказывать вам содействие в заботах о потомстве. Я, видите ли, с недавних пор нахожусь на заслуженном, так сказать, отдыхе и своим временем располагаю свободно.
– А между тем?
– Что между тем?
– Не пытайтесь меня уверить, что загорелись идеей попечения о моих внуках, о которых впервые услышали несколько минут назад и которых никогда не видели. Не увиливайте от прямого ответа на вопрос: какие у вас виды на меня? К чему вся эта безумная затея? Что вам взбрело в голову?
– Все же вы загадочная женщина, Тамара Анатольевна. Я с самого начала сказал, чего жду от вас – общения. Вы мне совсем не верите?
– Совсем. С какой стати я должна вам верить? Чем, когда и кому вы делом доказали надежность своего слова?
– С ума можно с вами сойти! Раз я бобыль, значит – завзятый обманщик?
– Вполне возможно. Да вы и сами не знаете, обманщик ли вы. Родители не в счет, а после них у вас близких людей не было, вы от них поспешили избавиться. То есть, поспешили себя избавить от них.
Тамара Анатольевна уже давно держала руку на бокале с соком и соломинкой, не пригубив ни капли. Александр Валерьевич вовсе игнорировал свой напиток, полностью поглощенный беседой. Он и сам себе не мог точно сказать, какие планы вынашивает в отношении своей собеседницы. Ему виделись смутные картины тихого и радостного бытия в беседах, совместных походах в музеи, театры, кино и тому подобные культурные институты. Оптимистичный пенсионер уверил сам себя, что они смогут жарко обсуждать книги и спектакли, картины и музыкальные произведения, не обижаясь на резкие слова, не испытывая неловкости от собственной неосведомленности и не завидуя интеллекту друг друга.
Он скользнул взглядом по окружающей местности и остановил его на молодой женщине с коляской и маленьким карапузом в джинсиках, который перемещался исключительно верхом на красной пластмассовой каталке в виде машинки. Малыш стремительно перебирал ножками, отталкиваясь ими от земли, и восторженно кричал матери что-то не очень вразумительное. Наверное, призывал восхититься своими достижениями на спортивном поприще.
– Вам нравятся молодые мамы, Александр Валерьевич? – нарушила благостную тишину Тамара Анатольевна.
– Да нет, – всполошился тот и тут же смешался. – То есть, я не хочу сказать, что они мне не нравятся… Просто я… не в том смысле.
– В каком это не в том?
– Не в эротическом, Тамара Анатольевна. Вы все прекрасно поняли! Застали меня врасплох и теперь активно развиваете успех? Я не собираюсь делать морду кирпичом – действительно, мне приятно смотреть на молодых женщин, пусть даже и мам. Это безусловный рефлекс, инстинкт. Прорывается периодически, но не настолько, чтобы в реальной жизни потерять голову. Просто задумался.
– Глядя на молодую женщину задумались о чем-то совершенно не эротическом? Странно.
– Ничего странного. Не мальчик уже. Вспомнилась эта избитая цитата про коня на скаку и горящую избу.
– К этой избитой цитате объект вашего пристального наблюдения ни малейшего отношения не имеет.
– Ну как же! Женщина ведь.
– Ну и что? Эта пресловутая цитата затаскана людьми, которые сами Некрасова не читали, а только повторяют несколько его строчек с чужого голоса.
– Хотите сказать, у Некрасова эти несколько строчек выглядят не так, как их цитируют?
– Эти несколько строчек цитируют правильно. Но Некрасов вовсе не имел в виду обобщающий образ русской женщины. У него в поэме "Мороз Красный Нос" умирает конкретный мужик, после него остается конкретная вдова, которую автор относит к исчезающему типу величавой славянки. Именно этот тип он и описывает на нескольких страницах. Начинается описание с того, что есть женщины в русских селениях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со взглядом цариц, их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит: "Пройдет – словно солнцем осветит, посмотрит – рублем подарит". Как-то так, кажется, не берусь отвечать за абсолютную идентичность. Потом еще много разного на нескольких страницах, как я сказала, и среди этого многого – одно четверостишие про коня и избу. Согласитесь, Некрасова обвинить не в чем.
– Понятно. Унижен и уличен в безграмотности. Скажите, вы в прежней жизни – филолог?
– Почему вы так решили? Я не сказала ничего специфически профессионального. Просто, в отличие от большинства людей, я читала Некрасова. И краснеть по этому поводу не собираюсь.
– Помилуйте, зачем же краснеть? – удивился Ногинский. – Представьте только, сколько еще полезной информации вам предстоит вылить на меня, если мы продолжим знакомство. Вы совсем не желаете выступить в роли просветителя?
– Все намного проще: я не доверяю остроумным мужчинам.
– Вы мне льстите! Мало кому удавалось разглядеть мое чувство юмора. Тем не менее – спасибо. Я бреду по жизни неприкаянно, не очаровывая людей. Приятно сознавать, что именно вы оказались в числе плененных.
– Каких еще плененных? Я ведь сказала, что не доверяю вам!
– Вот именно. Стандартный женский защитный прием. Вот если бы вы начали меня утешать и доказывать, что я занимателен, привлекателен и вообще перспективен, я бы понял, что вы смотрите на меня, как на медузу. А так – есть надежда.
– Типично мужская логика. Может, вы мне объясните, почему "нет" ваш брат непременно принимает за "да"?
– Потому что в большинстве случаев так и бывает. Женщины мнят себя непостижимыми, хотя в действительности для опытного мужчины они – всегда открытая книга. Вас следует завоевывать масштабом ошеломления.
– Чем завоевывать? – встрепенулась заскучавшая было Тамара Анатольевна.
– Масштабом ошеломления. Вы очень впечатлительны и эмоциональны. Разумеется, я имею в виду основную массу, а не отдельных исключительных особей. Не раз доводилось слышать восхищение примерами женского религиозного экстаза. И стигматы только с вами случаются, и бесов только из женщин изгоняют, и к закату советского периода в церкви оставались только старушки, но не старики. Если же исследовать проблему подробней, сразу вспоминаются религиозные кликуши, истеричные припадочные девчонки на рок– и поп-концертах, фанатки у подъездов "звезд", и неизвестные дамы, рыдающие не только на похоронах Сталина, но даже Брежнева, Андропова и Черненко. В случае с похоронами я имею в виду не родственниц, конечно, а женщин из публики, пришедшей проститься. Я не утверждаю, что всех женщин мира можно без остатка распихать по перечисленным мной группам, но все же они существуют, чего практически нельзя сказать о мужчинах.
– Мужчины слишком грубы, тупы и бесчувственны.
– Возможно. С иным психологическим и эмоциональным складом трудно выжить на войне.
– А мужчин, ломающих друг другу челюсти на трибунах и на спортивных аренах, вы не желаете припомнить?
– Спорт есть эвфемизм войны, со всеми вытекающими из сего обстоятельства грустными последствиями.
– А как же быть с олимпийскими принципами? О спорт, ты – мир?
– Ваш Пьер Кубертен вообще был дурак. Принцип "главное не победа, а участие" – воплощение абсолютной человеческой глупости. Его и вспоминают всегда с юмором, для насмешки над проигравшими. Истина состоит в том, что в Древней Греции Олимпийские игры являлись не развлечением, а религиозным ритуалом, поэтому ради них и войны прекращались, поэтому олимпиоников боготворили и проламывали для них проходы в стенах родных городов. Современные же причитания с осуждением нежелающих прерывать войны на период игрищ меня просто раздражают. Люди, которым дела нет до Древней Греции и Кубертена со всеми их принципами, честно воюют без всяких иносказаний за свои идеи или за деньги, и просто не слышат дурацкого лопотания пацифистов.
– Дурацкое лопотание пацифистов? Вы у нас еще и милитарист?
– Здрасьте, приехали. Теперь я еще и поджигатель войны. Тамара Анатольевна, если бы некто следил за нами, то из нашего странного разговора он вполне мог бы сделать вывод о нашем давнем знакомстве, и о наличии у вас ко мне старых счетов. Я просто пытаюсь высказывать свои взгляды, почему такая враждебность?
– Видимо, ваши взгляды меня не устраивают.
– Категорически?
– Во многом.
– Но вы готовы уделить мне еще некоторое время?
– Почему именно вам? Я просто немного развеялась, отдыхаю от повседневных забот.
– Хорошо, вы готовы отдыхать от забот еще некоторое время?
– Готова. Вы готовите какой-то сюрприз? Будьте осторожны, я не готова к экстремальным выходкам.
– Никакого экстремизма. Только вопрос: о чем вы мечтаете?
– О чем мечтаю? Какие могут быть мечты в шестьдесят лет? Внучек мечтаю замуж выдать.
– Это понятно, все бабушки мечтают примерно о том же. А есть у вас своя собственная мечта?
– Мечты не бывают собственными.
– Напротив, только такими и бывают. Их ведь рождают люди. Некоторые мечтают о собственной вилле, лимузине, драгоценностях, другие – о славе, третьи – о власти. А вы о чем?
– Какие ужасные у вас представления о мечте, Александр Валерьевич. Я бы не рискнула так назвать перечисленные вами кошмары. Еще можно было бы согласиться, что голодный способен мечтать о куске хлеба, а жаждущий – о глотке воды. Но мечтать о богатстве, славе и власти невозможно. Мечта не может быть низкой, это оксиморон.
– А если представить человека, который мечтает обо всей этой низости, чтобы получить возможность дать благо людям?
– Тогда этот человек мечтает не о богатстве и прочей ерунде, а о счастье для других людей.
– Ах, ну да. Вы как коммунистка обладаете непреложным приоритетом в деле осчастливливания человечества.
– В вашей интонации я слышу иронию.
– Возможно. Я вообще – ироничный человек. Только ни вам, ни кому бы то ни было иному не удастся по заранее намеченному единому плану принести всей планете одинаковое счастье. Ваша мечта для своего осуществления требует выведения новой породы человека, поэтому никогда и не осуществится.
– Вы слишком практичны для бывшего пионера и комсомольца, Александр Валерьевич.
– Я и партийцем тоже был, не сомневайтесь, Тамара Анатольевна.
– Гордитесь тем, что вовремя перестроились?
– Я просто не думаю об этом. Не горжусь, не переживаю, не жалею. Все давно в прошлом. Живу дальше и не вспоминаю.
– А когда вступали в партию, думали?
– Думал, конечно. Решил, что для карьеры полезно.
– Не стыдно признаваться?
– Нет. Не я же создал систему, в которой для успешной карьеры журналиста было полезно вступить в единственную партию страны.
– Так уж вас бы и погубили, если бы вы не вступили!
– Возможно, не погубили бы, но шансов дорасти до центральной прессы оказалось бы поменьше.
– И как, доросли?
– Да нет. Не помогла ваша партия.
– И вы решили ей отомстить?
– Да я не мстил. Даже не выходил из рядов. Партия сама собой рассосалась в пространстве.
– Что же вы в "Единую Россию" не вступаете?
– Противно. Они с таким усердием идут по стопам КПСС, что плакать хочется. Правда, съезды у них лучше выглядят – совершенно на западный манер.
– И в нашу партию вы не вступаете, потому что она уж точно вашей карьере не поможет?
– Моей карьере уже давно никто не может помочь. А с этого года я и вовсе на пенсии.
– И ваша пенсия вас устраивает?
– Конечно, нет.
– И вы не собираетесь даже пальцем пошевелить, чтобы заставить государство вернуть вам долг?
– Не собираюсь. Перебиваюсь потихоньку, читаю подряд домашнюю библиотеку, кефир потягиваю.
– И не чувствуете себя оскорбленным, брошенным на произвол судьбы, а точнее – выброшенным на социальную свалку?
– Не чувствую.
– Хотите сказать, вы – прирожденный раб?
– Нет. Я думаю, что несу свою долю ответственности за то, что моя страна проиграла борьбу за свою систему идеалов.
– И не испытываете желания призвать к ответу виновников этого поражения?
– Кого вы имеете в виду? Ленина? Сталина? Хрущева? Брежнева? Андропова? Черненко? Горбачев и Ельцин пришли уже на пепелище. Когда печень развалилась, поздно пить боржоми.
– Горбачев и Ельцин продали великую процветающую страну ни за понюшку табаку. Мы производили сорок процентов самолетов мира, ездили на отечественных машинах, делали свои телевизоры, компьютеры, телефоны и прочая, и прочая. Теперь сидим в разоренной стране и меняем нефть да газ на дешевые китайские поделки. Считаете, так и должно быть? Считаете, американцы не должны ответить за гибель нашей Родины?
– Причем здесь американцы?
– Как причем? Вы читали Рыжкова? Почитайте, и узнаете, кто сбил цены на нефть в десять раз.
– А кто создал нам экономику, которая рухнула из-за того, что нефть подешевела в десять раз? Тоже американцы? Если бы Советский Союз был развитой индустриальной державой, удешевление нефти пошло бы ему только на пользу. Более того, ни одна из сырьевых стран, экспортирующих нефть, не погибла вследствие краха рынка, только мы. Значит, даже сырьевую экономику ваше славное Политбюро не смогло толком выстроить. Возможно, мы производили сорок процентов самолетов мира, но подавляющее их большинство поставлялось в СССР, странах соцлагеря и в Африке. В большинстве случаев – не за твердую валюту, а за переводные рубли или бананы. Соцстраны их покупали не потому, что они были лучше американских, а потому, что им не разрешалось покупать другие самолеты. Поэтому они и избавились от них, как только убедились, что советские танки им больше не угрожают. Из всех мировых рынков Советский Союз присутствовал только на рынках золота и энергоносителей. Мы продали, кажется, один реактор финнам (и то – опять же не за валюту), американцы – не то десятки, не то сотни по все миру. В конце шестидесятых годов советские компьютеры ставили мировые рекорды производительности, но так и остались в качестве великой государственной тайны в ЦУПе и командных пунктах ракетных войск, а американцы своими не самыми быстрыми компьютерами завоевали мир, заработали гору денег и оставили нас далеко позади в том числе и по производительности компьютеров. Сейчас существуют два стандарта компьютерных процессоров: Ай-Би-Эм и Макинтош. Представляете, если бы существовала еще пара советских стандартов, и советские стандарты пользовались бы большей популярностью в мире? Представляете, если бы западные страны обращались за кредитами в социалистический лагерь, а не социалистические шли на западные рынки капитала? Если бы советские автомобили продавались по всему миру и вызывали восхищение европейских покупателей уровнем технического исполнения? Вот тогда бы Советский Союз был великой индустриальной державой, и никто бы при всем желании не смог бы его никому продать.
– Мы были вынуждены после войны поднимать страну из руин, а американцы на войне только нажились, окружили нас базами, развязали гонку вооружений, заставили тратить огромные деньги на оборону. Об этом вы тоже не помните?
– Помню. Но я ведь вам уже говорил: несмотря на все указанные вами обстоятельства, в конце шестидесятых советские компьютеры по быстродействию превосходили американские. Учитывая, что кибернетика у нас лет двадцать состояла в звании буржуазной лженауки, достижение тем более впечатляющее. И утратили мы свое превосходство не из-за войны, а из-за несовершенства экономической и политической системы. Американцы получали средства на совершенствование компьютерной техники из доходов от ее продажи на мировом рынке, мы – из государственного бюджета, без всякой экономической отдачи. Результаты – налицо. Маниакальная секретность на фоне неспособности внедрять в серийное промышленное производство научные разработки – вот причины, в силу которых Советский Союз мирно продремал научно-техническую революцию семидесятых годов. И весь социалистический блок вместе с ним. Сохранять изоляцию от внешнего мира стало уже невозможно, начались анекдоты про качество отечественной промышленной и сельскохозяйственной продукции, распространились легенды о райской жизни на Западе, настолько цветистые, что после обрушения железного занавеса для некоторых последовало разочарование реальным состоянием дел по ту его сторону. С послевоенным противостоянием американцам – та же катавасия. Я понимаю, что сорок первый год оставил глубокую психологическую травму, и Политбюро горело решимостью не допустить его повторения, для чего требовалось оборонительное предполье на западных рубежах. Но кому понадобилось навязывать Восточной Европе ваш чертов коммунизм, который им ни при какой погоде не был нужен? Ведь все рухнуло в значительной степени именно из-за этого. Оптимальной могла бы стать схема отношений по примеру отношений с Финляндией, но никто не мог бы гарантировать успех повторения такой политики в случае со всей Восточной Европой. С поляками точно ничего бы не вышло. Наша проблема в том, что для восточноевропейцев Россия никогда не являлась вдохновляющим примером – для этого надо быть свободным и богатым, чего с нашим отечеством не случалось никогда в его истории. В результате всего этого клубка неразрешимых противоречий мы получили якобы союзников, которые при первой возможности поспешили перебежать на другую сторону баррикад. Хорошо, что холодная война не вылилась в горячую – представляю, как бы нашим войскам пришлось воевать не только с войсками НАТО, но и с собственными союзниками.
Советские войска за границей, кстати, представляют собой отдельную тему. Вы ведь представляете себе нашего солдата – сейчас или двадцать лет назад, все равно? Зачастую как на подбор – маленькие, чумазенькие, оборванные. Если вы думаете, что в Европе они выглядели иначе, то вы кардинально ошибаетесь. Точно так же и выглядели. Военнослужащие из натовских контингентов в Западном Берлине посещали Берлин Восточный без всяких командировочных заданий, а просто так, из любопытства и с туристскими целями. Прямо в форме, на своих армейских машинах – проехали КПП, поболтались по городу, магазины посмотрели, девушек оценили, на экскурсию в Карлсхорст сходили – и назад. А вот советских военнослужащих в тот же самый Восточный Берлин не пускали. Что уж говорить о Западном! Извечная уверенность Советской власти, что ее подданные только и мечтают об измене. В определенной степени такая уверенность имела веские основания: поток беглецов тянулся с Востока на Запад, а не в обратном направлении. Наверное, имелись перебежчики с той стороны стены на эту, но, если они не являлись разоблаченными шпионами или уголовниками и не скрывались от тамошней полиции и контрразведки, им нужно было просто придти в посольство и оформить выезд. А вот минные поля, колючая проволока и автоматчики на вышках предназначались исключительно для перебежчиков с этой стороны на ту. И эта картинка несколько десятилетий стояла перед глазами всего мира в качестве ярчайшего доказательства неминуемого поражения советского лагеря в холодной войне.
Да и все противостояние с Западом вылилось в совершенную абракадабру. Кому понадобился маразм с глушением западных радиостанций и прочими способами ограждения граждан от иной точки зрения? В результате люди делали только один вывод: власть признает де-факто идейное превосходство Запада и всеми силами стремится скрыть эту тайну от народа. Самой престижной стала работа в странах с конвертируемой валютой, и дети высокопоставленных партийных функционеров непременно подвизались на внешнеторговом или дипломатическом поприще.
– Хотите сказать, что дети нынешних хозяев жизни работают школьными учителями?
– Не хочу. Но зародилась эта манера властей предержащих не видеть в своей стране будущего для собственных детей еще тогда. И вообще, манера презирать страну и народ. Ну почему были необходимы именно такие дурацкие якобы выборы? Почему нельзя было выдвигать по несколько одобренных партийными инстанциями кандидатов на каждое место, чтобы они вели настоящие предвыборные кампании, дискутировали в телевизионных программах? Почему нельзя было создать несколько партий в рамках левой идеологии, чтобы они боролись между собой и мысль в стране не затухала окончательно? Потому что коготок увяз – всей птичке пропасть. Разрешив более одной партии, было бы невозможно предотвратить создание партий, исповедующих и другие идеологии, помимо официальной, и все равно бы началась катавасия. А монополизация всего и вся стала билетом на тот свет.
– А нынешние якобы выборы вас устраивают?
– Не устраивают. Но по сравнению с вашими – они просто образец демократичности. Если помните, при вас вопрос корректности подсчета голосов не стоял вовсе – и партия была одна, и кандидат на каждом участке – один. Голосующий "за" следовал прямиком от стола комиссии к урне, а голосующий "против", если бы нашелся такой, должен был зайти в кабинку, чтобы вычеркнуть кандидата. Таким образом, элементарно не обеспечивалась даже тайна голосования.
– Зато кандидатами были порядочные люди, а не воры и бандиты.
– Да, и эти порядочные люди заседали два дня весной и столько же – осенью, успевая проголосовать за все решения, принятые президиумом соответствующего совета в оставшиеся месяцы года. Думаете, они успевали их перед голосованием обсудить?
– Эти решения принимались изначально с учетом интересов народа, потому что буржуев и олигархов просто не было, а разбогатевшие на воровстве торгаши имели статус обыкновенных уголовников, а не политического класса.
– Замечательно. Зато был класс партийной бюрократии, державшейся за власть обеими руками и к семидесятым годам окончательно утратившей способность адекватно оценивать состояние экономики. Просто считалось, что все идет хорошо, а страна тем временем прочно садилась верхом на треклятую трубу в западном направлении и не могла самостоятельно разработать почти никакой конкурентоспособной продукции широкого потребления. Закупали на нефтедоллары товары или, в лучшем случае, устаревшие технологии (потому что новейших разработок Запад не продавал), простым административным способом, без всяких заградительных пошлин, перекрывали импорт и оставляли только комиссионки, где японская бытовая электроника продавалась по безумным ценам. А страна тем временем с нарастающей скоростью неслась к пропасти.
– И сейчас ситуация полностью исправлена?
– Не исправлена. Раньше мы производили неконкурентоспособную продукцию, теперь не производим никакой.
– Так какой же вы предлагаете выход?
– Никакого не предлагаю. Его нет.
– Чего нет?
– Выхода нет. Монополизация власти ведет в России к медленному загниванию и разложению, внедрение плюрализма – к стремительному разрушению. Ненависть к Москве разлита по всей стране, не только в национальных республиках, но и в самых что ни на есть русских областях. Стоит только разжать железный кулак, и страна снова расползется по швам, уже безвозвратно.
Тамара Анатольевна некоторое время молча смотрела на собеседника, окончательно забыв про свой сок. Ногинский рассеянно смотрел на уток в пруду, словно ожидал от них философского откровения.
– Вы так спокойно заявляете, что Россия обречена на гибель?
– Да. Что уж здесь волноваться? Достаточно поволновались в прошлом веке. Может быть, так будет лучше для всех.
– Что будет лучше для всех? Исчезновение нашей страны?
– Именно. Удерживать единство страны силой бесконечно долго нельзя. Вся энергия уходит в эти усилия, не остается ни на что другое. Рушится экономика, общественное сознание, мораль. Все, как у нас. Единственная сила, способная удержать страну в ее границах, – национальное сознание граждан. И именно это сознание активно разрушается самой властью. Национальных и религиозных различий самих по себе вполне достаточно, чтобы сделать существование единой страны невозможным, а у нас эти различия усиленно раздуваются правительством. Милиция ведет ожесточенную охоту на лиц неправильных национальностей и даже просто на жителей иных регионов, которые почему-то не имеют права находиться в той части страны, в которой им хочется, и обязаны оповещать власть о своем желании. А власть еще ломается и думает, правильно ли, чтобы именно этот гражданин жил именно здесь, а не там, где родился. И не всегда разрешает гражданину жить, где ему вздумается, хоть это вроде бы и является нарушением закона. Милиция проверяет поезда, автобусы и машины, следующие в Москву из Чечни и Дагестана с таким усердием, будто речь идет не о российских регионах, а государствах, находящихся в состоянии войны с Россией. И что еще страшней – большая часть русских людей, вроде бы не желающих развала страны, не только поддерживают упомянутые мной действия властей, но и требуют их усиления, чуть ли не запрета чеченцам выезжать из Чечни. Можно сколько угодно объяснять необходимость такой самоубийственной политики профилактикой терроризма, но в конечном итоге она становится свидетельством поражения в борьбе против терроризма. Северокавказские террористы хотят отделения своих республик от России, и политика российских властей следует в русле удовлетворения их требований.
– И как же, по-вашему, следует действовать?
– Понятия не имею. Уверен, что коммунистам ответ на ваш вопрос известен – они знают ответы на все вопросы. Что характерно – ответы эти всегда простые и понятные.
– Ваша ирония не может скрыть истины. А именно: при Советской власти описанных вами проблем не существовало. Не было национализма, сепаратизма, фашиствующих банд. И почему?
– Видимо, потому, что на дворе стояла Советская власть. Только вот проблема в том, что вы ошибаетесь. Был и национализм, и сепаратизм, и фашиствующие настроения, но до конца восьмидесятых вы о них не слышали, потому что наши целомудренные средства массовой информации занимались не информацией, а гипнозом. Вы никогда не задавались вопросом: если при Советской власти национализма не было, откуда он взялся при Горбачеве? Его ведь стали публично демонстрировать не малые детки, а вполне взрослые дяди и тети, прошедшие полный курс советского высшего образования. Нельзя бесконечно долго силой подавлять общественные настроения – рано или поздно произойдет взрыв. Вот он и случился. Мы ведь и не подозреваем, что в девяностые обошлись очень низкой ценой по сравнению с той, которую могли бы заплатить при ином развитии событий.
– Так мы все радоваться должны?
– Должны. Но доказать это невозможно, объяснять бессмысленно. Все уверены, что все пропало, и именно поэтому все действительно пропадает. Для обращения инерции распада вспять в первую очередь требуется оптимистический порыв общества в целом и отдельных людей в частности, а ни тем, ни другим и не пахнет. Есть только уныние и неверие в собственные силы. Бизнес лениво импортирует товары и изредка – оборудование и технологии, в мыслях не держа заняться собственными новыми разработками. Граждане угрюмо ходят на работу, зачастую ненавидя ее, и свято верят, что ни при каких условиях, ни за какие деньги не смогут производить товары, которые можно было бы продать на Западе. Творческие личности либо сочиняют что-нибудь для денег, живя все на том же Западе, либо убеждают слушателей и читателей в том, что Россия – худшая страна на свете.
– А вы не находите, что дела обстояли бы совершенно иначе, если бы в восьмидесятых крепко прижали горлопанов-демагогов всех мастей и приняли решительные меры к экономическому оздоровлению?
– Возможно, но кто мог это сделать? Союзное руководство было совершенно невменяемым. Желающих тащить и не пущать там было предостаточно, но на высшем уровне не было ни одного человека, способного принять эти самые решительные меры в экономике. Коммунисты охотно ссылаются на опыт Китая, но по части жесткости реформ китайцы дадут сто очков вперед всем нашим гайдарам и чубайсам вместе взятым. Чтобы встать на китайский путь в конце восьмидесятых, следовало в несколько раз сократить государственные расходы, в том числе отменив для большинства населения государственное пенсионное обеспечение, сократить зарплаты и увеличить продолжительность рабочего дня часов до двенадцати минимум.
– Все эти ужасы про китайские успехи ваши гайдары и чубайсы сочиняют, чтобы оправдаться в собственных преступлениях.
– Ну конечно, раз выводы вам не нравятся, значит они неправильные. Именно такая логика высшего руководства и довела Советский Союз до гибели. Китайцы не делают секретов из своих методов, они читаются в их собственной открытой статистике. Но пресловутые простые люди предпочитают ваши простые аргументы. В Китае у власти коммунисты, там все замечательно. У нас у власти олигархи, все плохо. И все, аргументация означенными постулатами исчерпывается полностью. Стоит только заговорить про экономические показатели и долю национального дохода, распределяемую через бюджет, вы в ответ только машете руками и требуете не вешать вам лапшу на уши. А ведь в Китае и по сей день средний уровень жизни ниже российского, они все еще не обогнали нас, хоть мы уже столько лет либо топчемся на месте, либо летим в пропасть. Можете представить, откуда они начинали? И ничего, стоят стеной за родную партию, довольны своей жизнью и не требуют лучшего от власти, просто в поте лица своего добывают хлеб насущный.
– А вы не понимаете почему? Потому что в Китае партия еще на первом этапе реформ накормила народ, а потом уже занялась тонкостями.
– Ненавижу, когда так говорят, вы уж извините. Государство не может накормить народ по определению, это народ его кормит. Государство может только отбирать с таким расчетом, чтобы людям тоже что-то оставалось, а главное его дело – не мешать работоспособным людям зарабатывать для себя и для государства. Именно здесь у нас большие проблемы. Все хотят, чтобы другие делились с ними своими доходами, но при этом сами категорически не желают делиться своими доходами с другими, потому что считают эти доходы и без того маленькими. Другими словами, все хотят больше получать из госбюджета, но не желают делать отчисления в бюджет. Всем не нравится дорогой бензин и все клянут за него нефтяных олигархов, хотя основной доход от торговли бензином получает государство. Все возмущены, что бензин у нас дороже, чем в Америке, но никого не интересует, что в Америке доля налогов и акцизов в стоимости бензина раза в два или три меньше, чем у нас. То есть, плата за дешевый бензин – снижение государственных доходов и, как следствие, государственных расходов. Кому интересны эти мои рассуждения? Никому. Еще ни разу ни одного человека я не смог ими заинтересовать. Разговор сразу переводится на казнокрадов. Но, если снизится доход государства от торговли бензином, казнокрады никуда не исчезнут и продолжат свое дело, то есть страждущим все равно достанется меньше, чем достается сейчас.
– И дворцы на Лазурном берегу вас совсем не раздражают?
– Раздражают. Но девять десятых капитала наших олигархов, по моим представлениям, приходится не на дворцы, бриллианты и яхты, а на стоимость принадлежащих им ценных бумаг. В основном – акций. Если государство отберет у олигархов эти акции, оно не получит никаких сокровищ, а только их долю в корпорациях. Коммерческая стоимость этих долей все равно составит ноль, потому что после такой экспроприации с частным капиталом в России будет покончено. Дивиденды собственника в стоимости того же бензина составляют процентов десять-пятнадцать. Если государство откажется от этих дивидендов, бензин подешевеет на эти несколько процентов, а не в разы, если государство оставит дивиденды себе, с ценой на бензин вообще ничего не произойдет. Возможно, казнокрады построят меньше дворцов, чем сейчас строят олигархи, но прибыль от всей операции будет временная и небольшая в сравнении с той, которую можно было бы получить, отладив взаимоотношения между капиталом, обществом и государством оптимальным образом. Вот только не вижу я в обозримом будущем возможности такой отладки. Все по тем же причинам – никому ничего не надо. В стране должны действовать десятки и сотни тысяч больших и маленьких общественных организаций, с темпераментом Новодворской проедающие плешь властям в волнующих их областях – от состояния детской литературы и режима демонстрации по телевидению эротических сюжетов до основ государственного устройства. Вкупе они должны изматывать обитателей высоких кабинетов до последнего предела и вызывать у последних страстное желание избавиться от них посредством хотя бы частичного удовлетворения требований. Выборы должны вызывать у политиков нервные срывы, телевидение должно их бесить, люди должны требовать от них выполнения обещаний, но при этом не вестись на обещания построить за пару лет в наших палестинах цветущий рай. Но люди сидят и упорно ждут доброго царя. Когда хозяин земли русской отправляется в путешествие по своим владениям, они всеми силами стремятся попасть ему на глаза, зажав в потном кулачке свою челобитную, с надеждой при помощи царя получить жилье, починить крышу или канализацию, провести газ. Так было пятьсот лет назад, так все остается по сей день. Только теперь они уверены, что стоит правильно угадать на выборах хорошего человека, и все остальное он сделает для них сам. Но среди политиков нет хороших людей, никто из них не вскакивает по ночам с постели, мучимый мыслями о народном благе. Их следует непрерывно дрессировать и держать на коротком поводке даже между выборами, только так можно добиться толка. Уже несколько лет я думаю: какую бы форму правления мы ни пытались соорудить, всякий раз у нас получается монархия. Так может, нужно бросить бесплодные фантазии и честно построить то, что у нас получается?
– Ну и ну! – громко воскликнула Тамара Анатольевна и всплеснула руками, опрокинув свой бокал. – Доболтался! И не надо наговаривать на людей – с челобитными мечутся единицы. И что значит это ваше: "они"? Кто эти "они", к которым вы относитесь с таким явным пренебрежением? Обездоленные люди, брошенные нынешней властью на произвол судьбы. Сразу видно интеллигента – народ для него плохой.
– Ну что вы руками машете, – понуро проговорил Ногинский. – Сами ведь таскаете на демонстрациях портреты Сталина.
– Ничего я не таскаю! Много вы понимаете. Кажется, сами не так давно утверждали, что монополизация власти ведет к медленному загниванию. Всякая монополия ведет к разложению – это еще Ленин писал в "Государстве и революции". А вы и не подозревали, с кем солидаризируетесь?
– Кажется, писал, – грустно согласился Александр Валерьевич. – В семнадцатом написал, а потом до самой смерти отдавал приказы о расстрелах.
– Ну вот, завел старую шарманку! А Колчак с Деникиным расстрельных приказов не отдавали? Всю страну кровью залили!
– Памятниками Колчаку и Деникину страна, мягко говоря, не заставлена. В октябре семнадцатого всей стране было по барабану, кто там взял Зимний и зачем – поэтому и состоялось пресловутое триумфальное шествие Советской власти, которое мы в школе проходили. Только в школе нам забывали сказать, что это триумфальное шествие плавно переросло в не менее триумфальное ее падение, потому что через два-три месяца совдепии политическую апатию с людей как рукой снимало, и они бросались вешать коммунистов на фонарях или прудить ими Волгу в Ярославле. Представляете, как надо было постараться большевикам для получения такой реакции? Если вы пожелаете вспомнить про военный коммунизм и НЭП, я поспешу заметить, что военный коммунизм был изобретен задним числом. В восемнадцатом году вы не найдете в работах Ленина утверждений, что свободу торговли следует временно отменить, потому что в городе нет товаров для обмена с деревней – он говорит только о том, что свобода торговли есть программа Колчака и Деникина, против которой восстают десятки тысяч трудящихся. Почитайте вторую программу партии и узнаете, что военный коммунизм был не временной вынужденной мерой, а претворением в жизнь программных положений РКП(б). Что же касается НЭПа, то для его введения не нужно было ни совершать октябрьский переворот, ни разгонять Учредилку. Вместе с эсерами большевики имели в ней конституционное большинство и могли без всякой войны и расстрелов просто сразу начать осуществление эсеровской программы кооперативного социализма. Главные успехи большевиков – это декрет о земле и НЭП, то и другое они сперли у эсеров. Ваш вклад в дело социальных преобразований – именно расстрелы несогласных, в том числе идейно ограбленных соратников по революционной борьбе с царским режимом.
– Почему же тогда красные победили в Гражданской войне? Ведь белым помогала половина мира, а они с треском провалились. Как же это могло получиться, если коммунисты такие плохие?
– Не думаю, что существует простой ответ на ваш вопрос. Думаю, в первую очередь потому, что крестьяне эсеровскую программу не читали, а землю получили от большевиков. Поэтому от всех противников большевиков они ждали реставрации прежнего положения дел, что их категорически не устраивало. Пресловутого похода четырнадцати держав не существовало – из трехсот тысяч интервентов с регулярными войсками Красной армии воевали только несколько десятков тысяч чехословаков в Поволжье и порядка двадцати с лишним тысяч англичан и американцев с мелкими союзниками на Севере. Англичане воевали на Севере год и потеряли за это время убитыми около трехсот человек – сами судите о размахе боевых действий. Остальные союзники просто топтали землю, боролись с партизанами, то есть периодически жгли деревни и раздражали народ своим присутствием, создавая большевикам ореол борцов с иностранными захватчиками. И потом, Красная армия к девятнадцатому году по численности в несколько раз превосходила все белые армии вместе взятые, и могла себе позволить использовать для подавления крестьянских восстаний в своем тылу намного больше войск, чем белые для аналогичный целей позади своего фронта. Собственно, в восемнадцатом году в Поволжье наша Гражданская война выглядела самым необыкновенным образом: за счастье русского народа со стороны красных воевали в основном латыши и мадьяры, а со стороны белых – чехословаки. Тем не менее, размах крестьянской войны в двадцать первом году вынудил даже железобетонных большевиков, только что разгромивших пятисоттысячное белое войско, пойти на временные уступки, на период до начала массовой коллективизации. Но крестьяне сами себя обманули: получив отобранную у собственников (не только у помещиков!) землю и разграбив помещичье имущество, они почему-то думали, что у них землю и имущество отобрать нельзя. Оказалось, можно.
– По-вашему, не нужно было давать крестьянам землю, которую они требовали несколько столетий?
– Нужно. Не нужно было потом ее отбирать. А то ведь что получилось: по всей Европе для защиты дворянской собственности на землю от притязаний тамошних аграрников установились авторитарные и фашистские режимы, которые силой удерживали крестьянское движение в дозволенных рамках, пока не случилась мировая война, а у нас на орехи досталось и дворянам, и крестьянам – еще неизвестно, кому больше. Должна же быть хоть какая-то логика, кроме потребности перерезать как можно больше глоток.
– Логика у нас была самая простая – обеспечить простым людям фундаментальные права, позволяющие не бояться за свое будущее и уверенно планировать будущее своих детей. Пока на Западе бушевала великая депрессия, мы занимались строительством собственной промышленности, которая и росла бешеными темпами на фоне катастрофического падения за границей.
– Промышленность вы построили и в космос первыми полетели, только так и не устроили людям тихой спокойной обеспеченной жизни.
– Ничего подобного! В шестидесятых-семидесятых люди жили очень даже неплохо! И без всяких потогонных систем, с положенными оплаченными отпусками и больничными – об этом сейчас только мечтать можно.
– Наверное. Только не говорите, что в семидесятых все были счастливы и довольны жизнью. Я ведь не по фильмам сужу о том времени, я сам тогда жил.
– Да, были недовольны, потому что не знали, каково нам всем окажется в будущем. Но при этом бабушки на свою пенсию ездили на море отдыхать.
– Меня активно занимает эта коммунистическая аберрация зрения. Я ведь говорю вам: я сам жил в это время. И не помню пенсий, позволяющих кататься на море. Разве что вы вращались в определенных кругах, где пенсии были повыше, а путевки подешевле?
– Нигде я не вращалась, и никакой аберрации у меня нет. Вы просто не хотите признавать фактов, которые разрушают вашу глупую концепцию. Лучшее, что я помню о семидесятых – люди не были говорящими животными. Большинство интересовалось чем-то большим, чем простое набивание желудка и отоваривание импортными шмотками. В моде было чтение, домашние библиотеки, высокие интересы. Люди стеснялись признаться в отсутствии интереса к искусству и пытались имитировать его наличие даже при полном его отсутствии. Но важен именно тот факт, что они стеснялись невежества! А самое главное – существовала идея, делавшая жизнь общества осмысленной и целенаправленной.
– Да, замечательно. Просто картинка из жизни античной Греции. Вот только не могу согласиться с вами полностью. Мода на книги была, идеи не припоминаю. Об идее говорили на собраниях и майско-ноябрьских митингах и демонстрациях, с трибун разной высоты и по телевизору. А большинство людей не собиралось строить никакой коммунизм, зато хотело хорошо зарабатывать, иметь квартиру, машину, дачу. Только поехать летом в Египет никто и не мечтал, да в семидесятых там все равно шла война.
– Получается, мы с вами жили в разных странах? – сказала Тамара Анатольевна, глядя на собеседника с ироничной улыбкой.
– Мы жили в одной и той же стране, но вспоминаем ее по-разному.
– Почему? Потому что вы ее ненавидите?
– Нет, потому что вы себя обманываете. Семидесятые были лучшим временем вашей жизни. Сколько вам тогда было? Тридцать лет, плюс-минус?
– Какое вам дело? Что за хамство, в самом деле!
– Ну ладно, вы меня поняли. Наверное, вы вышли замуж, родили детей и были счастливы. В действительности время было серое и скучное, обшарпанное.
– Можно подумать, сейчас мы живем очень весело! Ерунду какую-то вы все время несете, уважаемый Александр Валерьевич.
– Весело мы и сейчас не живем, вы правы. Но сейчас есть хоть надежда на изменения. И жизнь потихоньку улучшается, хотя ее качество по-прежнему не превышает советского уровня. Понимаете, тогда все было навсегда – КПСС, Брежнев, партсобрания и пионерские сборы. Теперь мы знаем, что можно изменить даже вечное.
– И много удовольствия вы получили от этих изменений?
– Речь не обо мне, я пенсионер. Я хочу верить в нынешнюю молодежь. Хочу увидеть ее в России, исполняющей свои мечты здесь, а не за кордоном. Тем более, не пьющей с малолетства и не убивающей на улицах людей с неправильным цветом кожи и разрезом глаз. Она должна взять свою судьбу в собственные руки. Вот только не берет, почему-то.
– Чтобы молодежь увидела здесь свое будущее, нужно создавать производство, которое в большинстве начисто уничтожено. Ваши драгоценные предприниматели умеют только разворовывать оставшиеся с советских времен богатства и распиливать нефтегазовые бюджеты!
– Все-таки, уже давно не только это. Никто как-то не заметил, но без всяких ударных строек коммунизма и решений партийных съездов в России создана общегосударственная сеть мобильной связи. Заметьте, с самого начала эта сеть была сферой деятельности частного бизнеса, для нее не приватизировали ничего советского, ничего не разграбили, только создали новый вид связи.
– Ничего они создали, а купили за границей готовое и привезли сюда. Все оборудование импортное, завтра нам перестанут его продавать, и останемся без вашей мобильной связи.
– Да что ж, я ведь с вами не спорю. Собственное производство России необходимо, только полностью государственная промышленность у нас уже была, и она производила продукцию, основную массу которой даже в Союзе покупали исключительно потому, что другой не существовало. Продать же ее за пределами соцлагеря никто и не пытался. Нам нужен новый предприниматель, который не будет договариваться с конкретным чиновником об особых условиях для своего конкретного бизнеса, а будет в качестве члена корпорации добиваться изменений по стране в целом, то есть осознает свои классовые интересы. А интересы эти в числе прочего предполагают независимый суд и приемлемый уровень коррупции, не убивающий экономики.
– И где же вы собираетесь искать этих замечательных предпринимателей?
– Понятия не имею. Наверное, сами собой должны возникнуть, с течением времени.
– Да уже чуть не двадцать лет прошло, как Горбачев затеял у нас ваше предпринимательство, а они все никак своих классовых интересов не осознают. Сколько же еще ждать?
– Ну вот, за двадцать лет перевалит, появится второе поколение предпринимателей, которые не прыгали из князи в грязи через головы несчастных соотечественников. Может быть…
– Да эти не прыгали из князи в грязи. Они в князьях родились и с раннего детства привыкли к прописной истине, что народ – быдло. Так к нему и относятся. Весь их классовый интерес в том, чтобы выжимать из страны и людей все до капли, а жить тем временем на Лазурном берегу.
– Для изменения этой ситуации люди должны выйти на улицы, но не с целью все разрушить до основания, а для начала хотя бы с требованием честных выборов. До тех пор, пока большинство людей не станет доверять официальным результатам выборов, ничто не изменится. Только потом можно браться за коррупцию вообще и за суды с милицией в частности.
– Чего захотели! Да власть сейчас так перепугалась грузинских событий, что изо всех сил дует на воду по поводу и без повода. Ни на какую улицу никому выйти не дадут, и не надейтесь.
– Ну, так уж и не надеяться! Наоборот, всю жизнь только и надеюсь на всевозможные радужные перспективы, в надежде дождаться претворения их в реальность.
– Опять ерунду несете, Александр Валерьевич! Ради изменений каких-нибудь закорючек в законах и каких-то там юридических процедур народ на улицы не выйдет. Цель должна быть великой.
– Ага, понимаю. Видимо, восстановление Советской власти?
– Это вы сказали.
– Сказал… Знаете, никогда не мог понять, что вы имеете в виду под этим лозунгом? Запретить все партии, кроме коммунистической, поставить все средства массовой информации под прямой контроль вашей партии, снова выдвигать на выборах всех уровней непременно по одному кандидату на каждое место?
– Нет. Это значит вернуть власть народу.
– Пустой лозунг. При вас у народа власти было меньше, чем сейчас. Почти тринадцать лет назад вы утратили статус партии-государства, а в стране полно регионов, остающихся под политическим контролем коммунистов, поскольку таково волеизъявление избирателей. Еще пятнадцать лет назад аналогичную ситуацию никто даже представить не мог – сверху донизу все принадлежало вам, а несогласных с таким положением дел и выражающих свое неудовольствие вслух ждали крупные неприятности.
– Можно подумать, сейчас выступления против власти приносят массу удовольствия! А в советское время не было буржуев, поэтому политика Советской власти отвечала интересам подавляющего большинства народа, почему потребность в других партиях у людей не возникала. Иначе как объяснить, что все эти многочисленные диссиденты после девяносто первого года не пришли к власти? Их никто не ждал и не звал. Прежде они действовали при западной поддержке, а после свержения народной власти и разрушения великого государства просто в полном составе уехали на Запад, тратить заработанные на продаже Родины денежки.
– Выступления против власти действительно не приносят радости и сейчас, но нынешние неприятности – сущий пустяк по сравнению с тогдашними. Что же касается других партий – это в самом деле наше больное место. У нас абсолютистское сознание – все уверены, что власть должна быть монолитом и стирать в порошок всех, кто попробует с ней спорить. Раз за разом одни и те же люди перебегают из потерпевшей поражение партии власти в новую, и их там охотно пригревают. К каждым новым думским выборам мы подходим с радикально обновленным списком партий, мешанина которых никак не организуется в стабильную систему. Лично я вижу в этом печальном обстоятельстве самое яркое свидетельство нашего цивилизационного отличия от Европы. Посмотрите на бывшие соцстраны – там и при коммунистах существовала формальная многопартийность, а после них система партий сложилась буквально в считанные месяцы или годы.
– То есть, вы предлагаете вернуть однопартийную систему, как при Советской власти?
– Нет, не предлагаю. Она уже привела нашу страну к краху, как ранее монархия привела к краху империю. Нельзя идти вечно от катастрофы к катастрофе, нужно наконец создать государство, способное развиваться эволюционно и находить ответы на вызовы истории. И, видимо, единственную возможность создать такое государство дает именно то, чего у нас нет и никогда не было – демократия.
– Это вы считаете, что у нас никогда не было демократии, я придерживаюсь иной точки зрения.
– Тамара Анатольевна, я абсолютно уверен, что вы никогда не являлись ни партийным, ни комсомольским вожаком никакого уровня. Я прав?
– Какая разница, кем я была?
– Понятно, я прав. Хотите, расскажу, чем объясняется ваш энтузиазм в отношении славного советского прошлого?
– Я вам сама это объясняю уже битый час!
– Да нет, вы все время о частностях, а я могу вытащить на свет божий самую сердцевину ваших ощущений.
– Хирург какой выискался! Ну, попробуйте.
– Пробую: вас раздражают разительные имущественные различия между людьми. В советское время члены Политбюро были нищими по сравнению с нынешними олигархами, а бедных стало больше, и их бедность на фоне олигархов виднее.
– Что ж такого, – пожала плечами Тамара Анатольевна, – неужели вам эти самые различия доставляют удовольствие?
– Мне тоже не доставляют. Я вам больше скажу: подавляющему большинству людей во всем мире деление человечества на бедных и богатых не нравится. Как ни рассчитывай это деление, внутри отдельных стран, между отдельными странами или между группами стран, почти всем оно не нравится. Вопрос состоит в том, как исправлять положение. Коммунисты в свое время ограбили богатых и распределили их имущество – в значительной степени между бедными, хотя и государство не забыли. Только вот страна не стала богатой. Сделали коммуналки из бывших роскошных квартир, и до самого конца Советской власти так их полностью и не расселили. А ведь есть много стран, где богатых не грабили, а коммуналок нет и не было никогда. Я к чему все это говорю – второй ипостасью вашего неприятия богатых является убеждение, что при прежнем режиме люди были чище и добрей. Именно потому, что разница между бедными и богатыми была меньше во много раз и к тому же богатство в принципе официально осуждалось как явление аморальное и антиобщественное.
– Ну и правильно. Неужели станете доказывать его моральность и общественное благо?
– В принципе я не готов доказывать ни того, ни другого. Все зависит от конкретных людей – само по себе богатство не делает их ни хорошими, ни плохими. Люди распоряжаются своим богатством в соответствии со своими представлениями о добре и зле. И есть богатые, которые тратят средства на благотворительные цели, вкладываются в развитие производства, создают новые рабочие места.
– Да хватит вам ерунду молоть, сколько можно! Отщипывают щепотку от своего пирога и бросают нищим, а вы предлагаете еще восхищаться ими из-за этого! И производство с рабочими местами они создают не для того, чтобы принести общественное благо, а для извлечения из них личной прибыли. Причем, посредством нещадной эксплуатации.
– Ну, здесь мы страдаем от социальной апатии. Не только буржуи, но и рабочие не осознают своих классовых интересов и не борются за них. А если отдельные и пытаются, то зачастую встречают самое что ни на есть уголовное противодействие, в лучшем случае – силовое со стороны правоохранительных органов. Можно подумать, у милиции других дел нет, как профсоюзными активистами заниматься! Ведь и до революции имела место та же галиматья – царская охранка зачем-то боролась с профсоюзами. Видимо, тогда и сейчас власть считает, что недовольство собственников для нее опасней недовольства пролетариев. Единственный способ изменить такое положение – доказать власти, что она сильно ошибается. То есть, что недовольство пролетариев для нее неизмеримо опасней, и что она не сможет подавить его проявления силой, потому что это поведет только к усугублению конфликта. Но пролетарии наши – тише воды, ниже травы. Собственно, все общество в таком же состоянии. И я не имею ни малейшего представления, когда эта апатия закончится. Наверное – так же, как в семнадцатом и в девяносто первом, когда будет уже слишком поздно начинать реформы, и государство рухнет в очередной раз, уже последний. Не думаю, что Россия переживет еще одну катастрофу такого масштаба – странно, как она вообще до сих пор сохранилась.
– Знаете, а мне это вовсе не кажется странным. Думаю, вы просто общаетесь не с теми людьми. Вот я, например, в отличие от вас, верю в счастливый исход.
– Боюсь, счастливый исход для вас не окажется таковым ни для меня, ни для страны.
– Вы же сами только что признались, что ненавидите богатых!
– Но я не говорил, что желаю их смерти. Бороться надо не с богатыми, а с бедностью.
– И как же вы собираетесь делать второе, не делая первого?
– Мы с вами все время крутимся на одном месте. Я ведь уже говорил, что девять десятых капиталов наших олигархов вложены в ценные бумаги и имеют смысл исключительно при наличии в стране рыночных отношений. В день объявления экспроприации рыночные отношения закончатся, и государство просто получит в управление предприятия, которые и так им управлялись в советское время, причем без особого успеха. Нам всем не нравится разворовывание бюджета, и именно здесь следует действовать силой. Установление контроля над бюрократией возможно – он существует во многих странах. И один из наиболее действенных инструментов такого контроля – ненавистная народу свобода слова. Выйдет много лжи и ерунды, но за разглашение реального компромата виновному не будет грозить расправа. Общество совсем перестанет уважать политиков, но оно и сейчас не слишком балует их доверием – терять здесь практически нечего. Перед каждыми выборами будет выясняться, что все кандидаты – завзятые казнокрады в прошлом, неверные мужья и растлители малолетних, но нужно продираться через эту тайгу с ее ненавязчивыми прокурорами вперед, к уважающей себя прессе. Может быть, она появится не скоро, но это не значит, что нужно переставать ходить на выборы. Говорят – от нашего участия в голосовании ничто не изменится. А от нашего абсентизма изменится? Если и изменится, то уж точно не в лучшую сторону. Если люди будут ходить на выборы, толпами ломиться в наблюдатели, и не за деньги, а по горячему убеждению, то власть, по крайней мере для начала станет интересоваться реальными результатами выборов и думать, что бы сделать для удовлетворения запросов избирателей, дабы следующие выборы обошлись меньшими нервными затратами. Если же будем сидеть по домам – какое дело власти до нас? Мы ей ничем не досаждаем.
Тамара Анатольевна молчала, рассеянно глядя в свой пустой бокал. Казалось, она задумалась о бессмысленности внезапного разговора с незнакомым по сути человеком. Ногинский не сводил глаз с собеседницы, выискивая в ее лице признаки отличия от прочих людей. Они молчали долго и беззаботно, не тяготясь упавшей на них тишиной.
– Ладно, Александр Валерьевич. Мы с вами ни о чем не договоримся, как мне кажется.
– В религиозных и идеологических спорах победителей не случается.
– Возможно. Боюсь, наша дискуссия с самого начала строилась на ущербном фундаменте.
– А именно?
– Вы с обычным мужским самомнением объявили моего мужа несуществующим и сами себя завели в ловушку.
– Хотите сказать, вы замужем?
– Да, именно это я хочу сказать.
Ногинский удивленно поднял брови:
– Вот она, женская логика во всей красе. Всю жизнь меня веселят объяснения из серии "мы просто разговаривали". Ваш муж знает, куда вы ушли?
– Разумеется. Мне нечего от него скрывать – меня попросил о встрече человек, вместе с которым я накануне попала под арест.
– А ваш муж в пикете не участвовал?
– Нет, он считает, что я маюсь дурью.
– Вы даже родного мужа не соблазнили в свою веру?
– Что его соблазнять, он в теории подкован лучше меня.
– В марксистской теории?
– В марксистской.
– И вас совсем не удивляет идейная холодность близкого и хорошо подкованного человека?
– Удивляет. Он не желает верить даже в самого себя.
– Ничего поразительного – так часто бывает. Вам бы следовало в первую очередь вдохновить на подвиги родного супруга, а вы тратите запал на ваших бесполезных мероприятиях.
– Не надо делать замечаний относительно полезности наших действий, они вас совершенно не касаются. Мы и не собирались вас очаровывать. Подумаешь, какой оценщик выискался!
– Ну вот, обиделись. Тамара Анатольевна, у меня есть к вам предложение.
– Какое еще предложение?
– Только не пугайтесь! Давайте сходим в театр на следующей неделе. Новый сезон открывается.
– Какой театр?
– "Балаган" называется. Вы о нем не слышали? Наш местный драматический театр. Говорят, вполне пристойный.
– Самодеятельный?
– Нет, совершенно профессиональный.
– Воображаю. Что за актеры согласятся работать в районном центре? Представить страшно.
– Уверяю вас, я слышал о нем вполне благожелательные отзывы.
– От ваших коротких приятелей?
– Нет, от людей, съевших собаку в искусстве. Честное слово, я вас не обманываю.
– Что же, мне с мужем придти?
– А зачем нам муж? Не надо мужа. Предлагаю вам открыть авантюрную страницу своей жизни. Собственно, мы ведь не собираемся делать ничего предосудительно. Секрет на ровном месте – вы станете регулярно исчезать в неурочные часы, муж станет задумываться и проявлять к вам дополнительный интерес.
– Какой еще дополнительный интерес? Что вы имеете в виду? Что вы себе насочиняли о наших отношениях?
– Только не бейте, Тамара Анатольевна! Ничегошеньки не сочинил. Вы существуете рядом, а живете порознь – утверждаю это со всей определенностью, без тени сомнения. Классический случай. Расшевелите его, Тамара Анатольевна! Другого случая не представится.
– Ерунда какая-то. А если нас с вами увидят вместе? Наш городок к конспирации совершенно не располагает.
– Что увидят? Как мы вместе выходим из театра или идем по улице? Интересно, что вы себе насочиняли о моем предложении!
Тамара Анатольевна засмущалась, густо покраснела, досадливо махнула рукой, потом утвердительно кивнула:
– Надоели вы мне, Александр Валерьевич, хуже горькой редьки. Хорошо, на театр уговорили. Только встретимся там, у входа. Где этот ваш "Балаган" находится, кстати?
– Знаете, недалеко отсюда есть бывший детсад, розданный фирмачам в аренду?
– Знаю. Но там столько всяких контор понапихано! И никакого театра я там не припоминаю.
– Вход со двора, в подвал. Там указатель есть. В бывшем тире они располагаются и всячески эксплуатируют это скучное обстоятельство.
Тамара Анатольевна встала и поспешно засобиралась, недовольная собой, Ногинский почтительно склонил голову, с которой свесились седые кудри, и сумел поймать руку своей дамы для поцелуя. Та выдернула руку из его ладони и отправилась прочь. Александр Валерьевич проводил ее взглядом, потом ненароком нащупал тренированным взором женщину с коляской и карапузом на красной автокаталке. Она шла по выложенной плиткой дорожке вдоль пруда, удаляясь от пронырливого пенсионера. Он видел только со спины ее распущенные волосы, летящие по ветру, и красиво раскачивающиеся на ходу бедра. Женщина уводила детей, словно почувствовала странную угрозу для них, возникшую ниоткуда.
8. Мать Сарданапала
Мать умерла сентябрьским утром, когда мутный свет нехотя сочился через окно в ее строго прибранную комнату. Сын узнал об этом по телефону – домашние позвонили ему на работу через пару часов после рокового события, поскольку не сразу поняли, что оно свершилось.
Андрей Владимирович Полуярцев ошарашенно произнес в ответ неопределенную фразу и положил трубку. Долгое время он не знал, что делать. Исчезновение матери напугало его и сделало будущее невнятным. Оказалось, она исподволь давала ему уверенность в себе и веру в неизменность удачи. Мать находилась рядом всегда, сколько он себя помнил, никогда не выпускала его из поля зрения и не оставалась равнодушна к его занятиям, будь то школьные уроки или политические интриги в коридорах районной власти.
– Мама, – тихо сказал Полуярцев, глядя на телефон.
Вряд ли он надеялся на ответ, просто вдруг осознал, что больше никогда не произнесет этого слова вслух. До сих пор он сыпал им много раз в день и не придавал ему никакого значения – оно было привычным и обыденным. Теперь оно превратилось в символ безвозвратно ушедшего прошлого. Его теперь тоже нельзя поминать всуе, как и Всевышнего, чье имя хранится в тайне от беспутного человечества. Людям нельзя доверять священные имена – они непременно вымажут их дегтем или даже дерьмом.
Коммуникатор ожил и голосом секретарши сообщил о приходе к назначенному часу директоров нескольких школ. Андрей Владимирович машинально ответил, люди вошли и завели разговор о самых обыкновенных хозяйственных проблемах. Хозяин кабинета их не слушал, только утвердительно кивал головой, вселяя в души посетителей беспочвенную надежду. Он не мог выделить средства ни на какие дополнительные расходы, все это знали, включая самих директоров, но они настырно выбивали из Полуярцева эти средства, поскольку желали исполнить свой долг до конца.
Люди ушли, так и не дождавшись от Андрея Владимировича ни единого слова, но ободренные его поведением. Сам он оставался за своим столом и продолжал смотреть в одну точку на стене.
Он не помнил проявлений материнской нежности. Она заботилась о сыне, не умиляясь им и не считая его изначально лучше других людей. Маленький Андрей, прибегая домой в слезах, даже не надеялся на материнское сочувствие. Он получал в таких случаях только наставления о необходимости самостоятельно давать отпор школьным хулиганам или о непременной правоте учителей в отношениях с школьниками. Сын пытался объяснить, что хулиган старше и сильнее, что учительница ошибается или говорит неправду, но ни разу не встретил понимания. Мать смотрела на него строго, сухо чеканила свои прописные истины и отказывалась воспринимать его доводы. Только звала ужинать в положенное время, и в положенное время гнала от телевизора в постель. Уроки Андрюша делал сам, без напоминаний и принуждения – боялся матери больше, чем учителей.
Андрей Владимирович опомнился через час. Позвонил главе администрации, выслушал его соболезнование, отпросился, потратил полчаса на организацию дел в период своего отсутствия, и пошел домой. Пятнадцать минут в пути он думал о своих детях, которым требовалось объяснить исчезновение бабушки, и отце, который последнее время стал совсем сдавать и иногда вел себя странно.
Родительский дом встретил вылетевшего из гнезда птенца тишиной. Зеркала уже завесили, часы остановили. Отец сидел в большой комнате, сложив руки перед собой на столе. Он растерянно встречал взглядом каждого входящего и не сводил с него глаз, пока человек не выходил из комнаты. Казалось, он надеялся услышать от кого-нибудь хорошие новости о жене. В квартире Полуярцева встретили дядя Сережа и тетя Наташа. Брат и сестра покойной, они вышли из ее спальни со скорбными лицами, едва услышав стук входной двери.
Андрей Владимирович смотрел на них молча, не зная, что сказать. Они стояли у двери с двух сторон, словно почетный караул, и тоже молчали. Сын понимал необходимость войти к матери, но не хотел сделать несколько безвозвратных шагов. Они изменят его жизнь навсегда, а он хотел сохранить свое прежнее уютное бытие в окружении живых людей.
– Здравствуйте, – хрипловатым голосом произнес вновь пришедший, обращаясь ко всем сразу.
Ему ответили кивками головы и сочувственными взглядами. Отец вперился в сына тем же взглядом, которым сопровождал прочих, хотя появившийся извне человек определенно не мог знать о происходящем внутри больше, чем люди, находящиеся на месте печальных событий. Все ждали от Полуярцева одного и того же – он точно знал, чего именно.
Пройдя мимо всех родственников, он толкнул рукой дверь и вошел в спальню матери. Там оказалось темно из-за опущенных штор. Сквозь щели сочился матовый бледный свет. Тело лежало на широкой кровати, прикрытое одеялом до подбородка. Лицо с заострившимися скулами поразило вошедшего – веки глубоко опали, словно под ними не было глаз. Труп на кровати ничем не напоминал Полуярцеву его мать. Он остановился у самой постели и даже немного склонился над ней, пристально вглядываясь в незнакомые черты. Умом Андрей Владимирович понимал неотвратимость случившегося. Жизнь способна удивлять людей, но незнакомые трупы не появляются в квартирах, взамен исчезнувших навсегда близких. Нельзя обманывать себя верой в коварных инопланетян и обманывать себя глупыми надеждами.
Однажды он уже терял мать. Она зашла в магазин, Андрюшка дожидался ее на улице, сосредоточенно исследуя волосатую гусеницу на пыльном газоне. Дневная жара уже спала, люди ожили и громко разговаривали вокруг. К мальчишке подошел чужой мужик и заговорил с ним о превратностях жизни, время от времени заплетаясь языком вокруг неожиданно сложных фраз. Свою короткую речь он закончил предложением собеседнику совершить паломничество к себе домой. Андрюшка объяснил, что дожидается маму, но мужик доходчиво объяснил ему всю бессмысленность подобного препровождения времени. У него дома есть уйма интереснейших вещей, даже настоящая сабля. Стоит ли отказываться от такого удовольствия ради каких-то гусениц, которых любой может найти в любое время? Ответ был очевиден для мальчишки – он схватил протянутую ему руку мужика и отправился к нему домой.
Тот жил в частном секторе возле станции – в одноэтажной деревянной избушке, черной и грузно осевшей, с неизменной узкой кабинкой в дальнем углу двора. В двери кабинки даже виднелось окошко в виде кокетливого сердечка – можно подумать, щели между досок не давали временному обитателю всего необходимого ему света! С любопытством озираясь по сторонам, Андрюшка вошел в дом вслед за пьяным хозяином и немного заблудился в полутьме сеней. Мужик как бы растворился на короткое время, но затем его силуэт вновь прорисовался в пространстве, и он провел мальчишку в комнату – наверное, единственную во всем доме. Хозяин усадил гостя на кровать, укрытую лоскутным одеялом, и удалился в неизвестные глубины своего жилища. Андрюшка болтал ногами и продолжал внимательно оглядывать окружающую обстановку в поисках обещанной сабли, но не замечал ее.
Мужик, немного покачиваясь на ходу, вернулся в комнату, неся в одной руке чайник, а в другой – сахарницу.
– Ты давай, пацан, к столу садись, – произнес он и мотнул головой в сторону стоящего у окна небольшого столика. Клетчатая бело-синяя клеенка почти не свешивалась с его краев, а топорщилась в разные стороны.
Андрюшка радостно сполз с кровати и кинулся к указанному месту, не забыв поинтересоваться на ходу местонахождением сабли.
– Потом покажу, – досадливо мотнул головой мужик и брякнул свою ношу на стол.
Мальчишка смирился и согласился для начала на чай с пряниками или печеньем, от конфет он тоже не отказался бы. Уселся на высокий стул, не доставая ногами до пола, и принялся вкушать все предлагаемые ему хозяином яства. А тот непрерывно говорил непонятные слова и фразы, мало связанные между собой. Пытался рассказать гостю о своих смутных проблемах, до которых Андрюшке не было никакого дела, и которые вообще никого в целом мире не касались.
В односторонней беседе прошло некоторое время, затем появились двое хмурых молодых людей, которые недовольно покосились на мальца и стали задавать вопросы мужику. Алкоголик отвечал в своей манере, непонятно. Молодые люди наскоро перекусили, затем один из них спросил Андрюшку, где он живет, взял за руку, вывел на улицу и отвел к самому подъезду блочной четырехэтажки, где проводил свое детство будущий замглавы районной администрации.
В течение всей этой истории юный Полуярцев ни единой минуты не испытывал страха или иных неприятных эмоций и сильно удивился, увидев взволнованное лицо отца. Тот схватил сына за шиворот и втащил в квартиру, а затем обрушил на него град вопросов. Мальчишка ничего не понимал и в конце концов заплакал, впервые за вечер испугавшись. Потом вернулась суровая бледнолицая мать и несколько раз стегнула его по попке пластмассовой игрушечной шпагой, вследствие чего Андрейка разревелся в три ручья, обиделся на родителей и навсегда оставил их в уверенности, что просто пару часов шлялся где-то в округе без спросу.
Теперь взрослый Полуярцев смотрел на свою мертвую мать и понимал ее тогдашние чувства. Вспоминал ее переживания в периоды всевозможных испытаний, наступавших время от времени для ее единственного сына, и ее крик из-за выбора невесты без одобрения родителей. Память услужливо выдавала одно за другим доказательства материнской привязанности, а Андрей Владимирович никак не хотел примириться со своим сиротством – казалось, с ним произошла ужасающая несправедливость, с единственным во всем мире. Здравый смысл отказывался побеждать глупое чувство, и тугой комок подкатил к горлу.
За дверью раздались новые голоса и шаги, Полуярцев вышел из спальни в комнату и увидел там врачей, нескольких милиционеров во главе с начальником ОВД, районного прокурора и еще каких-то неизвестных ему людей. Пожимал руки, принимал соболезнования, затем предоставил всем пришедшим выполнить свои профессиональные обязанности, а сам сел за стол напротив отца.
Тот смотрел на внезапно возникшую толпу с испугом, словно винил пришельцев в смерти жены и сам боялся принять от них ту же участь.
– Как ты, папа? – спросил Полуярцев и впервые в сознательной жизни прикоснулся к отцу, положив ладонь поверх его судорожно сцепленных пальцев.
Отец ничего не ответил, только бросил на него быстрый невидящий взгляд, и вновь принялся крутить головой, испуганными глазами отслеживая перемещения по комнате чужих людей. Кажется, он не узнавал сына, и Андрей Владимирович едва не вскрикнул от ощущения мертвенного холода в груди. Кровь остывала в нем и неумолимо разносила по всему телу страх. То ли страх смерти, то ли страх безумной старости – страх совершенного одиночества перед лицом высших, неумолимых сил. Крещеный, Полуярцев так и не поверил во всемилостивого и всеблагого Господа – он видел своим неискушенным взглядом в окружающем мире только длань равнодушного, расчетливого и мстительного Демиурга, жонглирующего человеческими жизнями в интересах сверхъестественного тотализатора.
– Андрей Владимирович, нужно вынести тело, – обратились к Полуярцеву с осторожными дежурными словами – он не понял, кто именно. Только молча кивнул в знак согласия и, опираясь локтями на стол, закрыл лицо ладонями. В памяти непрерывно звенела строчка из какой-то песни – он не помнил ни авторов, ни исполнителя: "А я – осенняя трава, летящие по ветру листья…" Все остальные строки бесследно исчезли, словно и не существовали никогда, только эта мешала вдыхать полной грудью. Никогда не отличавшийся сколько-нибудь заметным музыкальным слухом, Полуярцев помнил даже мелодию – как ему казалось, до последней ноты. Возможно, он ошибался, но это ничего не значило, раз ему так казалось.
Санитары пронесли мать мимо сына, он невольно встал, но не смог заглянуть ей в лицо – оно было накрыто одеялом. Отец проводил волокушу все тем же испуганным взглядом без малейшего оттенка здравого смысла. Он не узнал жену в проплывшей мимо тяжелой груде тряпья.
– Па, поедем ко мне, – сказал Андрей Владимирович, не ожидая ответа.
Его и не последовало. Отец сидел с отрешенным видом и не обращал внимания на родственников. Дядя Сережа и тетя Наташа стали доказывать ему настоятельную необходимость принять предложение сына, и он бросил на них несколько удивленных взглядов.
– А Маша? – сказал наконец вдовец, отказывающийся осознать свое положение.
– Послушай, Володя, – заботливо начала тетя Наташа, усевшись рядом с несчастным и положив свою мягкую руку поверх его сцепленных пальцев. – Тебе нужно успокоиться. Жизнь не может длиться вечно, все люди уходят в свое время. Маше теперь хорошо, она не болеет, не страдает. Наверное, ей только одиноко без нас, но мы все когда-нибудь снова встретимся с ней, и все будет хорошо.
– А куда она ушла? Она бросила меня?
– Володя, прекрати, – не теряла терпения тетя Наташа. – Ты должен принять ее уход, так нельзя. Она не бросала ни тебя, ни Андрея, просто настало ее время освободиться от земных забот и треволнений. Она не выбирала и не назначала этого времени – на все воля Господня.
– Почему она не попрощалась со мной?
– Что поделать, так вышло. В одночасье все решилось. Случается. Ты не обижайся на Машу, нельзя. Она не виновата ни в чем. Поезжай сейчас к Андрею, поспи, отдохни. И думай о Маше – ты ей сейчас нужен. Чем больше людей будут по ней скучать, тем лучше ей там будет.
– Где там?
– Пока нигде, мытарствует ее душа. Думай о ней хорошо, поплачь, помолись – и поможешь ей поскорей вознестись на небо.
– А как молиться?
– Ну, как люди молятся, – растерялась тетя Наташа. – Слова-то сами по себе не так и важны, главное – чтобы они от души шли.
– Я не молился никогда.
– Это ничего, кто из нас молился-то? Всю жизнь ходили по земле неприкаянными да семечки перед ликом Господа лузгали. Ты научишься, это просто – не держи за душой ничего черного и проси милости у Всевышнего. К исповеди сходи, причастись, свечку поставь за упокой Машенькиной души.
– Я ведь некрещеный.
– Как некрещеный? – изумилась тетя Наташа, крестившаяся в конце восьмидесятых в один день с дочкой. – Разве можно так? Покрестись немедленно, что ты!
– Не верю я в Бога, зачем же креститься. Кого обманывать? Если Он все видит, лучше уж так все и оставить, чем ложно веру принимать.
– Так если ты боишься перед Его лицом лгать, значит веришь?
– Не верю.
– Как же не веришь, если думаешь, что Он все видит? Кто Он, если ты не веришь?
– Не верю, но хочу поверить. И боюсь.
– Чего ты боишься, Володя?
– А вдруг Бог действительно есть? Я ведь всю жизнь прожил, не веря. Что же со мной будет, когда умру?
Тетя Наташа придвинулась еще ближе к страдальцу и еще плотнее сжала ладонями его нервно подрагивающие руки.
– Ты не бойся, Володя. Опомниться никогда не поздно. Я же говорю тебе: прими святое крещение, ходи в церковь, причащайся, исповедуйся, живи по заповедям, моли Всевышнего о прощении, и спасешься. Ты ведь не виноват, время такое было. Никто не верил. Но некоторые ведь и церкви рушили, а ты просто жил себе и жил. Хоть и не верил, но не обманывал, не крал, не убивал – смертных грехов на тебе нет, остальные можно при усердии отмолить.
– Обманывал часто. Крал иногда по мелочи – на работе, конечно, не в магазине и не на улице.
– Ладно, не убивайся, – беззаботно махнула рукой тетя Наташа, но быстро вернула ее на прежнее место. Нельзя так. Это все пустяки – людям ты вреда не делал.
– Да Бог ведь все видит и все знает. Вот и Машу прибрал мне в наказание.
– Не надо, Володя. Нельзя так. Нельзя себя винить – на все Божий промысел.
– Как же мне себя не винить? А кого мне винить? До Бога высоко, он милостив и справедлив. А я здесь, грешник, в своей грязи барахтаюсь. Один. Теперь один. Уж и не помню, сколько лет был вдвоем, а теперь вдруг один. Подумать страшно.
– Я очутился в сумрачном лесу, – неожиданно для самого себя подумал вслух Полуярцев-младший.
– В лесу, в лесу, – поспешно закивал головой вдовец. – Страшно в лесу одному. Нельзя придти к Богу в старости из страха перед посмертной карой. Не простит Он меня. Нужно поверить и перестать бояться смерти, а я не могу. Все время боюсь.
– А ты поверь, Володя. Простит, обязательно простит, если искренне раскаешься.
– Да я и раскаиваюсь, но из страха. И все равно не верю, словно порчу на меня навели.
– Ты, Володя, язычество свое бросай. Нет ни порчи, ни сглаза – есть только наказание Господне за неправедную жизнь и упорство в грехе. Главное ты понял: Бог есть. Теперь ты должен сделать следующий шаг: не нужно бояться смерти, нужно жить так, чтобы она стала великим благом, а не расплатой.
– Да я свое уже отжил. Как я ни доживу оставшийся срок, ничего уже не исправлю.
– Нет! Нет и еще раз нет! Уже битый час я тебе толкую – никогда не поздно опомниться. Пойми, теперь все зависит только от тебя. Смирись, приди в церковь, будь искренен и встретишь кончину с улыбкой. И снова встретишься с Машей.
Старший Полуярцев молча качал низко опущенной головой, отрицая каждое слово тети Наташи. Он не мог отказаться от прожитой жизни ради предстоящей смерти.
– Ладно, па, – произнес Андрей Владимирович. – Собирайся. Поедем ко мне. Я не оставлю тебя здесь одного.
Отец продолжал отрицательно мотать опущенной головой, не желая слышать никаких слов, кроме собственных. Они наполняли его сознание до отказа и мешали дышать. Вдовец постепенно перебирал в памяти всю свою жизнь, и со временем жена занимала в ней все больше и больше места, не оставляя места сыну и внукам. Продолжать жизнь после нее казалось совершенно невозможным.
– Ты меня слышишь, па?
Отец по-прежнему молчал, глядя в стол. Дядя Сережа стоял у двери в пустую спальню, скрестив руки на груди. Сын посмотрел на тетю Наташу. Та не отводила взгляда от понурого зятя, хотя видела только его затылок. По истечении нескольких минут тишины вдовец поднял голову и обвел родственников бессмысленным взглядом. Казалось, он не видит причин присутствия иных людей в опустевшем семейном гнезде. Все виделись ему посторонними в комнатах, десятилетиями служивших убежищем неразлучной пары перед лицом огромного мира.
Андрей Владимирович встал, отошел в сторонку, извлек из внутреннего кармана пиджака сотовый и вполголоса вызвал машину к подъезду. Затем вернулся к отцу и осторожно взял его под мышку:
– Пойдем, па.
– Куда? – встрепенулся старший Полуярцев.
– Ко мне, – в очередной раз сказал младший. – Зачем тебе оставаться здесь одному? У нас дома поживешь, займешься внуками, Лена обо всем позаботится.
– Лена? Разве она занимается домом?
– Ну какая разница? Ей не обязательно самой мыть посуду, чтобы следить за порядком. Поселишься в своей комнате, почитаешь, музыку послушаешь.
Дядя Сережа и тетя Наташа подключились к уговорам, всячески расписывая выгоды пребывания в уютном домике племянника. Из окон его скромного жилища на окраине города открывался замечательный вид на поля и леса, без малейших признаков индустриализации, словно вернулись дикие времена человечества.
Андрей Владимирович решительней потянул вверх со стула тяжелое безвольное тело отца, и тот в конце концов оперся ногами об пол и встал по-настоящему. Под утешительные речи вдовца удалось вывести из квартиры, в которой остались его шурин со свояченицей, и провести по лестнице вниз, на улицу, где уже припарковался персональный синий "Фокус", полностью перекрывший проезд другим машинам.
Оба Полуярцевых забрались в машину. Старший – мягко осев на заднем сиденье, младший – пружинисто запрыгнув с другой стороны. Машина тронулась, медленно поплыли мимо подъезды родительского дома, затем, после выезда на улицу, знакомые с детства городские виды полетели за окнами быстрее, а Андрей Владимирович впал в задумчивость.
Дорога от дома до дома на индивидуальных колесах занимала буквально несколько минут, но сирота не замечал времени. Воспоминания беспокоили его нотками неустроенности и забытых волнений.
Маленький Андрюшка в свое время пошел учиться вовсе не в ту школу, где учительствовала его мама, чему несказанно удивился. Пару лет перед наступлением этого важного жизненного рубежа мальчишка наивно представлял себя гордо идущим по светлым широким коридорам незнакомого загадочного учреждения за ручку с мамой, под завистливыми взглядами остальных школьников. Ему мнилась близость к учителям, а не к одноклассникам, привилегированность, хотя самого слова он тогда не знал, даже избранность. И вышел один пшик. Его записали в ближайшую к дому школу, первого сентября мама отправилась к себе на работу, а сын с папой в одиночестве побрели к храму среднеобразовательных знаний в качестве простых смертных. Отец торжественно держал в одной руке огромный белоснежный букет, в другой – горячую ладошку сына, и оба учились гордиться своей скромностью.
В звонок Андрюшка не звонил, стоял в общем строю первоклашек, а когда строй обернулся неровной колонной, он оказался в ее хвосте. Расстроенный и испуганный, попал в классе на последнюю парту. Не умея еще ценить выгодность занятой позиции, огорчился еще больше, на глазах закипели слезы. Учительница попросила детей написать на листочках бумаги слова, какие кто умеет. Андрейка написал "мечь", имея в виду "мяч", но узнал о своей неудачей вечером, выкладывая маме впечатления от первого школьного дня. Зато оказался едва ли не единственным из всех, умеющим читать. Умеющим в полном смысле слова. Пара его соперников, также заявивших об аналогичном умении, в действительности читали по слогам, а он – больше ста слов в минуту, едва ли не по максимальной норме, установленной на весь срок обучения вечному искусству. В памяти осталась гордость и сознание собственного превосходства.
Дальнейшие школьные годы протекли медленно и однообразно. Очень скоро Андрей узнал, что мать требует от его учителей особого внимания к своему сыну. А именно – спрашивать с него больше, чем с остальных детей. Впоследствии она часто объясняла, что необходимость обращения к репетиторам в старших классах всегда объясняется усредненной интенсивностью преподавания в набитом учениками классе, а для Андрюшки экстремальные условия получилось организовать прямо за государственный счет, в казенном помещении. Его не обучали по отдельной программе, просто ставили едва ли не тройки за ответы, достойные пятерки в исполнении любого из одноклассников. Такие тройки объяснялись, например, наличием другого решения, такого же правильного, как предложенного Андреем, но более изящного или оригинального, в общем красивого. Сочинения по литературе от него требовались какие угодно по содержанию, только не повторяющие версию учебника или учителя – поэтому в большинстве случаев юный Полуярцев вынужденно избирал вольные темы (при их наличии). При отсутствии оных – изо всех сил напрягал слабые подростковые способности в поисках новых слов. Изменять официальные трактовки не позволялось, но собственный язык маскировал их под самостоятельные. Если домашнее задание по русскому языку требовало составить несколько предложений по заготовленным схемам, от Андрея требовалось сочинить связный текст, либо полностью завершенный, либо представляющий собой как бы фрагмент чего-то большего. Такие упражнения ему даже нравились – иногда он сочинял настоящие батальные сцены, развлекая не только себя в момент творчества, но и учительницу в часы проверки тетрадей.
Преподавательница математики, мать ни разу не подсказала сыну правильного решения задаром. Иногда он сидел до поздней ночи со слипающимися глазами, с бессильной искренностью пытаясь понять ее объяснения, случалось – так и шел наутро в школу с невыполненным домашним заданием. Вечером мать проверяла, получил ли он двойку, и если дневник сохранял девственную чистоту, сама устраивала ему грандиозную Варфоломеевскую ночь, выматывая все силы и силком принуждая сына победить непокорный предмет. Учился он хорошо по всем предметам, но при этом литературу и историю воспринимал чем-то вроде развлечения, а алгебру с геометрией, физику и химию в сокровенных мыслях проклинал денно и нощно. Мать, напротив, презирала за никчемность гуманитарную сферу деятельности и раздражалась очевидной неодаренностью отпрыска в отношениях, полезных для общества. Повзрослевшего сына, желавшего поступить на истфак, она долго пытала вопросами о причинах, побуждающих его заниматься не делом, а тем, чего нет. В ответ он пускался в бесконечные рассуждения о национальном чувстве и воспитании гражданской ответственности, но не встречал понимания. Мать полагала фундаментом того и другого развитие точных наук и технологий.
"Фокус" вкатился во двор дома, Полуярцевы выбрались из него, причем, старший сделал это самостоятельно, почти с легкостью. Машина задним ходом выбралась на улицу, а отец и сын вошли в открывшуюся им навстречу дверь. Лена поцеловала свекра в щеку и произнесла несколько слов соболезнования, потом обняла мужа. У нее за спиной смирно стояли восьмилетние близнецы Гордей и Савва. Они уже знали, что бабушки не стало, и не понимали, как такое оказалось возможным. Дед внуков не обнял и как бы не заметил, молча направился в комнаты, неуверенно проходя через двери. Задумывался о том, правильно ли он помнит план сыновнего дома. Оказалось – правильно.
– Как он? – тихо шепнула Лена, в тайне не только от вдовца, но и от сыновей.
– Ничего, – пожал плечами Андрей Владимирович. – Держится. Могло быть хуже.
Младший Полуярцев хорошо помнил отношения родителей, озадачившие его в период полового созревания. Именно тогда он осознал, что главой семьи является мать, хотя отец зарабатывал больше, как и положено типичному отцу семейства. Деньги он полностью отдавал жене и потом просил их у нее на собственные надобности так же, как и его сын. Мать сама принимала решения о целесообразности тех или иных трат – могла выделить сумму больше запрошенной, но чаще производила существенный секвестр или отказывала начисто. На свои дни рождения муж и сын получали щедрые подарки, веселые поздравления и редкостное угощение. Существовали особые пироги с вишней, которые вкушались строго с интервалом в полгода – в честь очередных годовщин появления на свет представителей мужской части семьи. Дату рождения матери сын не знал ввиду ее абсолютной секретности. Она не видела поводов для торжества в наступлении очередного дня, каким бы числом он ни обозначался. Рассказывала иногда о своей уверенности в том, что возраст можно заколдовать, если не вспоминать о нем.
Родители никогда не спорили друг с другом. По крайней мере, Андрей Владимирович не помнил ни их споров, ни, тем более, ссор. Иногда возникало несогласие или взаимное непонимание, но они не перерастали во что-либо более серьезное. Просто мать с самого начала, буквально в течение минуты после зарождения несуразицы, безапелляционно произносила последнее слово в дискуссии, и отец замолкал. Понимал бессмысленность и бесперспективность разговора. Наверное, опыт совместной жизни научил его простой истине – жена никогда не ошибается. То есть, он мог в душе полагать, что она не права здесь или там, но сама супруга всегда считала иначе, и изменить ее убеждение не мог никто. Не могли даже ее собственные родители, пока жили на белом свете. Пытались уговорить ее не связывать жизнь с неудачником, после свадьбы время от времени повторяли ей в разных ситуациях "вот видишь!", но упрямица оставалась при своем непоколебимом мнении.
Со стороны не все замечали, но она не мыслила себя без мужа и сына. Предположение о возможности брака с другим заставляло ее смеяться. С другим? Кто этот другой? Чужой человек, не знающий ее так, как Володя? Не понимающий причин ее странных поступков, как не понимают их все, кроме мужа? Зачем ей другой мужчина, если есть этот, способный вытерпеть многое ради того, чтобы и впредь жить рядом с ней? Мужчина, способный сказать любому в глаза все, что сочтет нужным, и поступавший так не единожды в своей жизни, но уступающий ей во имя никому не понятного чувства привязанности?
Стоило сыну или мужу заболеть, и покровительница семейного очага превращалась во внимательную сиделку, пунктуально выполняющую предписания врача и требующая неукоснительного подчинения от своих милых страдальцев. Те могли требовать воды или чего-нибудь вкусненького, ни в чем не встречая отказа. Мать брала на работе больничный ради сына и отпуск за свой счет ради мужа, невзирая даже на самые отчаянные служебные обстоятельства. Администрация не была обязана предоставлять ей отпуск без сохранения содержания по первому требованию, но всегда предоставляла, пусть даже со скрежетом зубовным. Муж болел редко, но один из директоров однажды решил занять принципиальную позицию и ни за что не лишаться преподавателя математики в разгар подготовки к выпускным экзаменам. Скандал получился грандиозным, на весь город, если не на район. В долговременном и многоплановом развитии событий приняли участие профсоюзы, районная партийная пресса, роно и непосредственно сам райком коммунистической партии. Директор прославился как безобразный держиморда, чудище обло и огромно, стал притчей во языцех в кругах местной педагогической общественности и проклял все на свете. Стоя на начальственном ковре в роно, он бесплодно вопрошал руководство, предоставляло ли оно когда-нибудь подобные отпуска своим подчиненным и получал строгое внушение о необходимости подходить к подобным случаям индивидуально в каждом случае, поскольку ситуация иногда требует неординарных решений. Позиция директора казалась тем сильнее, что мать не ходила на работу, то есть совершала самые настоящие прогулы. Неразумный администратор пытался повернуть это обстоятельство в свою пользу, что изначально казалось ему задачей простенькой и быстро решаемой. Выяснилось, что он ровным счетом ничего не понимает в обращении со сложными женщинами. Очень скоро его самого начали спрашивать, каким образом и с какой целью он умудрился выжить из школы педагога с многолетним стажем, которого мечтали заполучить все окрестные школы. Осознав бесполезность сопротивления, директор попытался одержать моральную победу, просто закрыв глаза на допущенные подчиненной невыходы на работу и общаясь с ней в доконфликтной манере. Ничего не вышло: угрозой нового скандала она вынудила его завизировать-таки злосчастное заявление и совершить положенное законом удержание из зарплаты.
Лена тихо подошла к Полуярцеву и сказала:
– Он лег.
Муж рассеянно посмотрел на жену и молча вернулся к своим мыслям. Он никак не мог прекратить самоистязание и вспомнить еще хоть что-нибудь, помимо жизни покойной матери. В комнате царила мертвая тишина, только громко тикали напольные часы у противоположной стены, и размеренно качался маятник за поблескивающим стеклом. Андрей Владимирович неожиданно заметил в большом кресле наискосок от себя обоих близнецов, забившихся между подлокотниками и глядящих на отца испуганными глазами. Лена сидела рядом с ним на диване и тоже молчала. Полуярцев удивился: до сегодняшнего дня жизнь казалась ему вечной, хотя некоторые из его знакомых и дальних родных уже оставили мир живых.
– Как ты? – задала ему Лена вопрос, так недавно заданный им самим безутешному отцу. Андрей Владимирович при всем желании не мог ответить на женин вопрос. Он понятия не имел, что именно он переживает все последние часы. Бытие грубо и безжалостно повернулось к нему обратной стороной, понятные вещи затянуло дымкой сомнений, знание превратилось в детскую пустышку.
– Я в порядке, – произнес он немного хриплым голосом и удивился его звучанию. Показалось, родились новые интонации, прежде им не слышанные в самом себе.
– Пап, – осторожно, словно чего-то опасаясь, сказал Гордей.
– Что?
– А куда человек попадает после смерти?
Полуярцев ожидал подобных вопросов от сыновей, но не успел придумать никакого удобоваримого ответа.
– Никто не знает этого наверняка, Дей. И я не знаю.
– А когда узнают?
– Никогда, наверное. Вряд ли люди станут когда-нибудь воскресать и рассказывать о посмертной жизни.
Лена резко пошевелилась, и Андрей Владимирович понял, почему. Она обожала истории людей, переживших клиническую смерть, читала их внимательно и пыталась вынудить мужа обсуждать их с ней, но ни разу не добилась успеха. Теперь, видимо, ее остановило только нежелание причинить вред отцовскому авторитету. Через несколько минут выяснилось, что благородный порыв не остановил ее, а только задержал.
– Есть люди, которые подходили к смерти вплотную, Дей. Они практически умирали на очень короткое время, после которого человека еще можно вернуть к жизни. И рассказывали об увиденном.
– Они видели Бога?
– Нет, только свет. Слышали голоса и даже видели покойных родственников.
– Лена, развлекайся своими наукообразными историями в одиночестве, пожалуйста, – раздраженно бросил Полуярцев. – Не следует забивать детям головы всякой шелухой.
– Ну почему же шелухой? Очевидцы подтверждают религиозные постулаты о существовании загробной жизни. Разве это плохо? Разве это страшно? Разве нужно это скрывать от детей? По-моему, нужно только порадоваться за человечество.
– Ну конечно! Люди просто боятся смерти, вот и выдумывают о ней всякую чушь.
– Опять ты за свое! Почему шелуха, почему чушь? Ты можешь как-то опровергнуть свидетельства сотен и тысяч людей?
– Свидетельства чего? Специалисты предлагают логические объяснения всем россказням твоих очевидцев, без всякой мистики.
– Почему же ты веришь теориям и отвергаешь многократно подтвержденный человеческий опыт?
– Потому что теория объясняет личный опыт просто и без затей. Мозг постепенно отключается, в том числе постепенно отключаются клетки зрительного центра, а умирающий воспринимает процесс сужения поля зрения, обусловленный этим самым постепенным отключением коры головного мозга, как появление перед ним светового туннеля. Мне легче поверить в простое объяснение, чем в сверхъестественное. Хотя бы потому, что именно в силу простоты его истинность является более вероятной.
– Замечательно! – язвительно воскликнула Лена. – Тебе не кажется, что представление о солнце, вращающемся вместе с твердой небесной сферой вокруг Земли, тысячу лет назад казалось людям до того логичным, что появление Коперника с его сложными теориями они встретили смехом и негодованием?
– Как раз наоборот: представление о твердой небесной сфере и прочем имело религиозное происхождение и объяснялось сверхъестественными законами, а Коперник предложил логичную теорию, описываемую математическими и физическими категориями. Думаю, математика и физика проще сверхъестественного.
Близнецы внимательно следили за дискуссией, одновременно переводя взгляды с одного родителя на другого, словно наблюдали за теннисным матчем. Они старались вникнуть в суть спора, но быстро в нем заблудились.
– Как же люди живут и не знают, что будет потом? – с искренним недоумением спросил Савва. – Наверное, сначала нужно понять, куда мы деваемся после смерти.
– Почему? – удивленно спросил сына отец.
– Потому что тогда станет понятно, что делать при жизни, – сказал Савка с таким выражением лица, словно еще чуть-чуть – и укоризненно постучал бы пальцем по лбу.
– Как это? Разве так не понятно, что нужно делать?
– Конечно, нет. Может быть, не нужно бороться с болезнями, а наоборот, поскорее умирать, раз так надо. Может быть, там наказывают тех, кто пытался не умереть, хотя ему назначили день?
– Кто назначил?
– Бог, наверное.
– Савка, ты веришь в Бога? – с искренним удивлением спросил Полуярцев.
– Конечно. А ты разве не веришь?
– Я не знаю, – после неприлично долгой паузы придумал ответ Андрей Владимирович.
– Но ты же крещеный! – искренне удивился Савка.
– Крещеный.
– Зачем же ты крестился, если не веришь?
– Я хочу верить.
– Отец Серафим говорит – Бога нельзя обмануть.
– Какой еще отец Серафим?
– Как это какой? – до невозможности изумился сын невежеству собственного отца. – Настоятель Рождественского храма. Ты разве не у него крестился?
До сих пор Савва наивно полагал, будто отец в силу своей занятости ходит в церковь по какому-то особенному расписанию, теперь выяснялась вовсе печальная картина: отец в церковь не ходит. То есть, только по большим праздникам, вместе с семьей и людьми с его работы.
Полуярцев ничего не ответил на последний вопрос настырного сына, только встал, многозначительно мотнул головой жене и вышел вместе с ней к себе в кабинет.
– Лена, что происходит? – раздраженно спросил он ее.
– Ты о чем?
– О Савке, конечно. Каким образом он вдруг оказался религиозным мракобесом?
– Не говори глупости. Мальчик просто верит в Бога, ничего страшного в этом нет.
– Он, случайно, не поселился у этого отца Серафима?
– Нет, конечно. Няня водит мальчиков на воскресные службы, почему тебя это пугает?
– Лена, ты с ума сошла?
– Кажется, это ты свихнулся. Можно подумать, они в секту какую-нибудь попали. Самая настоящая православная церковь, Московского патриархата. Почему ты в таком ужасе, я не понимаю!
– Не понимаешь? А почему тайком от меня?
– Да почему же тайком? Ты ведь знаешь, какое-то время они проводят с няней. Детский центр, спортзал, музыкальная школа, в том числе они и церковь посещают.
– Почему из моих детей тайком от меня делают фанатиков-клерикалов? На дворе двадцать первый век! Может, ты их и в монастырь записать собираешься?
– В монастырь не записывают, дурачок. Люди принимают постриг. Разумеется, ни о каком монастыре никто не думает. Мужчинам вообще не свойственно такого рода самоотречение. Мальчики у нас очень живые, увлекающиеся. И их воцерковленность ничего ужасного из себя не представляет. Это ты в свое время, видимо, записался в православные, забыв расстаться с комсомольскими инстинктами. Ты уже давно не обязан заниматься атеистической пропагандой, опомнись.
– Я не занимаюсь атеистической пропагандой.
– А чем же ты занимаешься? Пришел в ужас из-за того, что дети, видите ли, верят в Бога и даже ходят в церковь! С ума сойти! Какой пассаж!
– Не преувеличивай. Я просто не хочу, чтобы они отвергали теорию Дарвина из-за ее несоответствия библейским постулатам.
– Вот когда отвергнут, тогда с ними и поспоришь. А сейчас, будь добр, пожалуйста, не удивляй Савку своим странным поведением.
Родители чинно вернулись к отпрыскам, которые сидели смирно, сложив ручки на коленях, и ждали ответов на свои вопросы.
– Идите, книжки почитайте, – хмуро бросил им отец.
– А в какой книжке написано, куда попадает человек после смерти? – проявил настырность Гордей.
– Таких книжек много, и они по-разному отвечают на твой вопрос. Если хочешь, можешь всю жизнь потратить на чтение этих книг. А сейчас ты в них все равно ничего не поймешь, – грубо настаивал на своем Полуярцев.
– А вдруг я ночью тоже умру? – с оттенком отчаяния в дрогнувшем голосе спросил любопытный сын.
– Да ты что, Дейка? – всполошенно кинулась к нему мать. – Что за глупости ты говоришь?
– И вовсе не глупости! Дети тоже умирают, об этом в книжках пишут.
– Дети умирают от болезней, или под машину попадают, или падают откуда-нибудь с высоты. А что с тобой ночью может случиться? Ты у нас мальчик здоровый, и в спальне у тебя никаких опасностей нет.
– Откуда ты знаешь? Вот когда чума была, люди вечером были здоровы, а к утру умирали.
– Ты об этом тоже в книжках прочел?
– Прочел!
– Я смотрю, надо повнимательней для тебя книжки отбирать. Ты вот читаешь, а невнимательно. От чумы умирают через несколько дней после заражения. Эпидемии чумы сейчас нет, значит, чтобы заразиться, ты либо должен был съездить на прошлой неделе куда-нибудь в Азию, либо повстречаться с кем-нибудь, кто только что оттуда вернулся. И этот кто-нибудь, раз он был заражен, должен был умереть раньше тебя. Ты никуда не ездил, это мы все знаем, а все твои одноклассники уже третью неделю спокойно живут и учатся, куда бы они ни ездили на каникулах. Значит, если ты так веришь книжкам, то должен понять, что никакой страшной болезни у тебя нет. Согласен?
Полуярцев подумал, что его жена умеет быть убедительной, даже рассуждая о совершенно незнакомых ей самой материях. Одно только желание убедить всегда придавало ей убежденности в количествах, достаточных для уверения в ее правоте даже широких народных масс, а не только маленького испуганного мальчишки.
– Гордей, будь мужчиной. Не распускай сопли, – добавил каплю мужественности в монолог жены муж.
Дей насупился и принялся внимательно изучать собственные коленки, словно обнаружил на них занимательный узор. Зато Савка никак не мог угомониться:
– Ну конечно, как не знаете ответа, так сразу нас посылаете книжки читать!
– Если ты опять про свое, то я тебе уже сказал: никто точно не знает, куда попадает человек после смерти. А верят разные люди в разное. Вот Дейка, наверно, верит, что люди попадают на тот свет и живут там вечно.
– А бабушка попала в ад или в рай? – неожиданно спросил Гордей.
Андрей Владимирович опешил, а Лена поспешно вступила:
– Бабушка пока никуда не попала. Ее душа еще три дня будет с нами, и только через сорок дней после смерти решится, куда она пойдет дальше.
– И куда она пойдет дальше?
– Этого тоже никто не знает, но верить нужно в лучшее. И нужно молиться за упокой ее души. Чем больше людей будут просить за нее, тем скорее она попадет в рай.
– Как же она попадет в рай? Она ведь в церкви ни разу не была.
– Савва, в церковь ходить не обязательно. Важно, как человек жизнь прожил. Сколько совершил зла, сколько добра. Бабушка всю жизнь учила детей, а ведь сколько для этого нужно терпения и терпимости, и внимания к людям, – вступилась за свекровь Лена, вовсе не уверенная в благоприятном для покойной развитии ее посмертной жизни.
– А отец Серафим говорит, что вне церкви нет спасения.
– Савва, у тебя один отец – это я. Ты меня отцом Серафимом не попрекай. Он не единственный свет в окошке. Он тебе излагает точку зрения православной церкви, а я тебе объясняю, что точек зрения много, и ни одна из них не может претендовать на монополизацию истины… Ты знаешь, что такое "монополизация"?
– Нет! – обиженно рявкнул Савка.
– А что ты на меня рычишь? Отец Серафим не учил тебя чтить отца и мать?
Сын упрямо молчал, зажав ладошки между коленями и глядя в пол.
– Монополизация означает сосредоточение чего бы то ни было в одних руках. Ни я, ни патриарх, ни кто-нибудь еще не могут доказать свою правоту в таком смутном вопросе, как смерть. Повторяю это вам обоим в тысячный раз. Верить можно во что угодно, но вера сама по себе ничего не доказывает. Люди живы, пока живут. Когда они умирают, то уходят в неизвестность. Наверное, можно бояться неизвестности, но здесь как раз на помощь и приходит вера. С первобытных времен люди боялись смерти и хотели как-нибудь ее объяснить. Поскольку страх этот – инстинктивный, то есть никакими доводами не объясняется, единственным возможным противоядием оказалась вера в продолжение жизни после смерти.
– Ты все никак не забудешь курс научного атеизма? – с прежним ехидством вполголоса поинтересовалась Лена. – В конце концов, дети бабушку потеряли и испугались, нужно их утешить, а ты пыльную лекцию читаешь.
– Я не читаю никаких лекций! Мне задали вопрос, я отвечаю. Савва, ты понял, куда девается человек после смерти?
– Нет.
– Ты не слушал меня?
– Слушал, но ты сказал, что не знаешь.
– И больше я ничего не сказал?
– Ничего.
– Значит, ничего? Интересно, как это ты в школе учишься? Не помнишь, что слышал несколько минут назад.
– Он сказал, что никто не знает, – ткнул Савку локтем Гордей.
– Отлично, хоть один понял! – воскликнул почти отчаявшийся отец.
– Нет, я тоже не понял, – поспешил разочаровать его неблагодарный сын.
– Чего ты не понял? Ты же сам сказал: никто не знает.
– Вот это и не понял. Сколько лет уже человечеству, а оно о себе самого главного не знает.
– Да почему же главного? Главное – жизнь. А уж откуда люди появляются на свет, известно все до подробностей. Только вам пока не все подробности знать полагается.
– Подумаешь, подробности! – беззаботно махнул рукой сердитый Савка. – Все мы знаем, откуда дети берутся.
Лена засмеялась, а Андрей Владимирович буркнул:
– Может, забрать тебя из школы и отправить в больницу гинекологом?
– Кем отправить в больницу?
– Андрей, прекрати! Ты с ума сошел. – Лену бросило в краску, и она испуганно теребила мужа за локоть в тщетной надежде его остановить. – Меняйте тему, быстро. О чем вы вообще говорите в такой день! Я уж и не знаю, каким словом вас назвать.
– Не надо нас называть, – ответил ей Полуярцев. – А близнецы наши совсем от рук отбились.
– А ты дома живи побольше и присматривай за ними.
– Может, лучше тебе побольше дома жить? Все-таки, мать семейства.
– Подумаешь! А ты отец семейства. Или хочешь впустить в огород кого-нибудь из твоих странных знакомых?
– Какие еще странные знакомые?
– Обыкновенные. Которые вокруг тебя роятся, присматриваются или высматривают, примериваются, подгадывают. Ты кому-то из них доверяешь больше, чем мне?
– Лена, о чем ты говоришь? Кто вокруг меня роится, помимо сотрудников администрации?
– Вот-вот, сотрудники администрации. Сколько из них мысленно примеряют твое кресло, никогда не пробовал подсчитать?
– Ты бредишь. Просто мания преследования какая-то.
– Ну конечно, мания. Ты хоть помнишь, как сам в этот кабинет попал? Скажешь, до тебя там никто не сидел? Это у тебя мания, Андрей. Мания непогрешимости и неуязвимости. Тоже мне, Брежнев какой нашелся. Ты отказываешься принимать во внимание самые банальные вещи. В том числе – необходимость работать на перспективу.
Полуярцев очень хорошо помнил историю своего вхождения во власть. Районная администрация приняла его в свое лоно в девяносто третьем, двадцати двух лет от роду, спустя двести лет после восхождения в зенит французской звезды Робеспьера. К Андрею Владимировичу судьба оказалась благосклонней, чем к великому кровопийце. Спустя двести лет после увенчания Бонапарта императорской короной деятель районного просвещения, в отличие от героя советской историографии, был все еще жив и даже сделал немалую карьеру. Путь от скромного канцелярского стола до стола для совещаний оказался весьма коротким, хотя и беспокойным. На середине маршрута сменился глава администрации, и возможность дальнейшего роста некоторое время представлялась вполне призрачной. Тем не менее, гроза миновала и события внезапно приняли благоприятный оборот. И Полуярцев знал причину. Мать, доросшая к девяностым годам до заведующей роно, имела знакомцев в нужных кругах и могла составить ему протекцию даже в весьма безнадежных ситуациях. Снова мать.
– Я помню, как попал в этот кабинет, – тихо сказал Полуярцев. – А ты напрасно вспомнила об этом именно сейчас. Я и сам давно уже не пустое место, знаю дело.
– Конечно. И тебя ценят.
– Да, меня ценят! Лена, я не собираюсь сейчас обсуждать тему моих служебных перспектив. У меня мать умерла, а ты со своими пустяками.
– Да, тебя ценят. Больший специалист в деле народного просвещения: после пединститута ни единого дня не преподавал.
– Каждому – свое. Откуда ты знаешь – может, именно к школе меня близко нельзя подпускать. А организовывать процесс – совсем другая работа.
– Конечно, другая. Кто же спорит! Для нее пединститут совершенно не нужен.
– Дался тебе этот пед! По-твоему, меня совесть должна мучить? Я что, грабежом занимаюсь или мошенничеством? Государственная служба у нас – пока совершенно легальный род деятельности.
– Вот именно, пока. Вскоре могут и запретить.
– Лена, это у тебя шутки странные, а не у меня – знакомые.
– В каждой шутке есть доля… – Лена неопределенно покрутила в воздухе тонкими длинными пальчиками. – У нас ведь всегда с плеча рубят. Ведь распустили в семнадцатом полицию как инструмент царского режима. А после следующей революции возьмут и вас распустят.
– Где ты увидела следующую революцию?
– На горизонте, где же еще. А ты со своей руководящей высоты уже совсем ничего не замечаешь? Ты все еще не уловил алгоритм русской истории? Рост давления в чугунном котле, взрыв перегретого пара с обрушением государства, постепенное нагнетание в заклепанный котел нового пара, до очередного взрыва и обрушения. Думаю, нам уже недолго осталось.
– Лена, ты Лимонова начиталась?
– Нет, Маркса с Лениным. После них ничего нового не придумали.
Полуярцев раздражался необходимостью вести непонятные разговоры в день смерти матери и обвинял близких в происходящем. Последний выпад жены он так и воспринял – как попытку вывести его из душевного равновесия в самый тяжелый момент его жизни. Он молча встал и вышел прочь из комнаты, затем из другой, и шел так до тех пор, пока не оказался на улице.
Андрей Владимирович стоял на крыльце в домашних туфлях и лихорадочно курил, бросая короткие взгляды на пляшущую в пальцах сигарету. Вороны галдели высоко на деревьях, сумрачное небо лежало на самых макушках крон, резкий порыв ветра поднял с земли стаю опавших желтых листьев и бросил их в лицо курильщику, словно тоже желал продемонстрировать свое презрение.
Мать стала знакомить его с "девушками из приличных семей" сразу после института, когда юный Полуярцев, минуя армию, попал в качестве материнского протеже на гражданскую службу. Невесты возникали ненароком, как бы случайно, в совершенно неожиданных ситуациях. Никогда от Андрея не требовалось установить контакт с той или иной девицей в видах женитьбы на ней. Просто его вели в гости, поскольку люди пригласили, и неудобно отказываться, а у хозяев вдруг объявлялась дочка на выданье, в самом соку, хихикающая и краснеющая по пустякам, играющая на фортепьяно и даже поющая под собственный аккомпанемент. Однажды его позвали установить компьютер и подключить Интернет в семью, не имеющую мужчин, зато могущую похвастаться дочкой-интеллектуалкой в трогательных очках и с длинной косой, которой срочно требовалось подготовить к сдаче не то курсовую, не то дипломную работу. Чаще всего против него использовали английский язык. Вызванный для консультации и разъяснения трудных для перевода мест в подлежащих сдаче "тысячах", Андрей оказывался один на один с пытливой студенткой, которая, невинным тоном задавая вопросы по тексту, наклонялась вперед и прижималась к нему теплым упругим бюстом. Полуярцев не возмущался, но удивлялся каждый раз неуемному стремлению противоположного пола к замужеству. Ему казалось, что для женщин институт брака не хранит никаких преимуществ, а одни только бесчисленные лишения и ограничения.
Мать всегда оставалась нейтральной стороной, только иногда мимолетным замечанием о достоинствах какой-нибудь из невест выдавала свою сопричастность к очередному матримониальному происшествию. Несколько раз, начиная еще со студенческих лет, сын самовольно приводил домой собственных избранниц. Отец ко всем относился с благосклонным равнодушием, мать же с первого взгляда и полуслова буквально бросалась на бедняжек в психическую атаку, заваливая их неудобными вопросами и непрестанно делая туманные намеки на некие непреодолимые обстоятельства, препятствующие вхождению гостьи в семью. Полуярцев не всегда понимал эти намеки и даже неудобность вопросов, иногда он оставался в уверенности, что мать наконец сдалась, и долго не мог понять причину слез отвергнутой с порога девушки.
– Да с чего ты взяла? – искренне пытался он разубедить одну из них. – По-моему, мамаша всеми силами демонстрировала благожелательность. Никуда ты не денешься от меня, паникерша!
Но паникерша продолжала тихо утирать слезы и бормотать себе под нос слова бессилия и обиды. Она искренне удивлялась бесчувственности женщины, родившей такого замечательного сына. Несчастная не понимала главного и самого ужасного для себя. Жестокость матери объяснялась не бесчувственностью, а как раз наоборот, стремлением спасти единственное чадо от опасности неудачного брака. Потенциальная свекровь обдумывала требования к будущим невесткам едва ли не с тех времен, когда сынок усиленно зубрил таблицу умножения. Она изобрела мысленный портрет особы, достойной претендовать на Андрюшку. В нем оговаривалась и внешность, и манера одеваться, и характер, и круг интересов, и многое другое – благо времени на разработку ушло много. Согласия сына портрет не предусматривал – разве мальчик способен без материнской помощи выпутаться из каверзных сетей, расставляемых на него многочисленными охотницами?
Наступил роковой день, начавшийся, как самый обычный и ничем не примечательный. Вечером Андрей пришел домой с девушкой и церемонно представил ее родителям. Отец кивнул головой и вернулся к своей газете, мать с первой секунды не увидела в "очередной девице" ничего, хотя бы отдаленно соответствующего идеальному портрету, и она заговорила с ней в своей обычной манере. Лена отвечала спокойно, с легкой улыбкой, ничем не выдавая волнения, страха или раздражения. Ответных выпадов она тоже не делала, просто внимательно слушала вопросы будущей свекрови о родителях, жилплощади, доходах и образовании и отвечала на них тихо и беззаботно, словно болтала с подружкой об общих знакомых.
– Мама, ну что ты на Лену набросилась, – неожиданно разорвал напряженную беседу Андрей. – Сколько можно. Мы ко мне пойдем, музыку послушаем, а вы пока тут развлекайтесь.
Именно в этот момент мать и поняла, что впервые потерпела поражение. Очередная девица на деле оказалась для сына единственной и неповторимой – он предпочел ее матери. Лена смотрела на свекровь ясными глазами, без малейшей издевки или искорки торжества, но та вдруг похолодела и ответила новенькой взглядом скулящей собаки. Невестка заметила странность в поведении своей визави и будто бы удивилась и обеспокоилась произведенным впечатлением. Именно "будто бы" – для матери эти буквы словно горели в сознании оранжевым пламенем.
На свадьбе она всеми силами стремилась выглядеть счастливой, но все присутствующие женщины заметили ее раненый взгляд и принялись тихо шушукаться тайком от мужчин. Трагизм ситуации поделил их на два примерно равных лагеря – в соответствии с возрастом, разумеется. Молодая партия доказывала партии возрастной, что мать должна отдавать сына невестке с радостью, ведь никто не живет вечно, и не останется сын навечно в руках родившей его женщины. Его следует отпустить, думая о его счастье, а не о своем, в противном случае выходит самый неприглядный образчик чистейшего эгоизма. Взрослые женщины покачивали головами и пускались в длинные истории о несчастьях, постигших сыновей, пренебрегших материнским руководством в отношениях с противостоящим полом. Что знают мужчины о женщинах? Да ровным счетом ничего! Либо они изнывают от сексуального восторга, либо ненавидят фригидных спутниц жизни, так и не поняв собственной роли в обеспечении великого равновесия. Видел ли кто-нибудь мужчину, способного выделить из толпы не женщину эротически привлекательную, а ту самую, которая одна из всех сможет примириться с уймой недостатков своего избранника? Никогда не видел свет такого мужчины. Они – рабы секса. Они в общем не требуют ничего другого, разве только сына. И то не всегда. Они всегда готовы играть, транжирить, ходить налево и множеством иных способов демонстрировать свою непригодность к семейному счастью. В большинстве случаев единственным спасением мужчины для достойной жизни оказывается по наитию правильно выбранная женщина. Точнее, встреча с женщиной, согласившейся взять на себя добровольное бремя спасения самца от вырождения. К сожалению, без мужчины пока невозможно завести детей, пусть даже этот мужчина выступит только в роли донора спермы. Так если нельзя обойтись без него вовсе – лучше выбрать его самой, чем полагаться на добросовестность материально заинтересованных в конвейерном производстве врачей!
Свадьба закончилась без скандала, семейная жизнь сына поначалу велась в родительской квартире, но Лена не пыталась вытеснить свекровь с кухни, даже всячески подчеркивала при каждом случае свой статус подмастерья. Мать редко на нее смотрела, почти никогда с ней не заговаривала по собственной инициативе. Если такая необходимость все же возникла, подсылала вместо себя мужа и, поскольку темы затеваемых им разговоров носили чисто женский характер, Лена всегда понимала, чье поручение выполняет свекор. Внешне невестка оставалась безразличной к происходящему, наедине с мужем плакала и требовала избавить ее от дальнейших издевательств. Полуярцев растерянно поглаживал ее по плечу и бормотал невнятные слова утешения, хотя искренне не понимал причин женской неврастении.
Прошли годы, карьера служащего стремительно развивалась и обеспечила молодой семье сначала съемную квартиру, затем отдельный домик на окраине города, приведший Лену в неописуемый восторг. Полуярцевы-старшие редко посещали резиденцию детей, и всякий раз обставляли визиты таким образом, чтобы не оставалось сомнений – они навещают внуков. Лена на новом месте расцвела и отдавалась хозяйству со всей своей безграничной энергией. Андрей Владимирович вспоминал ее истерики как нездешний кошмар, все складывалось хорошо, пока мама вдруг не умерла.
Она болела, конечно, но тем же, чем болела всегда – аритмией и варикозом. Известных сыну новых хворей не появлялось, и он уверился в материнском здоровье на веки вечные. Мысли о неизбежной смерти родителей в голову ему никогда не приходили, теперь он курил на крыльце своего дома и пытался понять, почему. Он ведь не маленький мальчик и не должен верить в бессмертие папы и мамы. Затем подумалось: а зачем человеку знать о смертности родителей? Именно знать, ведь все взрослые люди понимают: единственный способ никогда не увидеть похороны родителей – умереть раньше. Все люди смертны – какая бесспорная истина! Какая вечная и непреложная истина. Потому и бесспорная, что лишь безумцы бросают ей вызов и терпят неминуемый крах. Каждый уверен в неизбежности смерти родителей, своей собственной, своих детей и даже внуков. Все когда-нибудь умрут. Тогда зачем вообще нужна жизнь? Зачем начинать то, что обязательно кончится? Кому понадобился этот фокус мироздания, шутка всемогущего вечного Бога? Сигареты истлевали одна за другой, ответ не приходил, Полуярцев в растравленных чувствах вернулся в дом.
Минули тягостные дни похоронных приготовлений, гражданская панихида состоялась в вестибюле роно. Покойная ушла с должности заведующей за пару лет до смерти, но желающих сказать ей последнее прости собралось немало. Народ толпился на улице, гудели тихие голоса, но Полуярцев их не слышал. Вместе с отцом он стоял возле гроба, принимал соболезнования и ждал выноса тела. Какое-то время ему казалось, что жизнь изменилась навсегда и бесповоротно, потом придумалось утешение – мать боялась старческой немощи, и высшие силы избавили ее от участи бессильной, всех раздражающей куклы.
Подходили люди, некоторых из которых Полуярцев не знал. В числе знакомых появлялись по очереди директора школ, работавшие с матерью учителя и учителя, учившие когда-то Полуярцева. Подходили и сотрудники районной администрации, в том числе сам глава. Он приобнял зама за плечи, пожал руку молчаливому понурому вдовцу, произнес несколько слов, положил цветы в открытый гроб. Андрей Владимирович принимал соболезнования, бормотал в ответ маловразумительные слова благодарности, продолжал думать о своем и желал поскорее закончить формальности. Они казались ему странными и ненужными, придуманными для обмана и ложного успокоения людей.
Весь день сыпал холодный дождь, почти не рассветало, но над кладбищем небо вдруг прояснилось, участников похоронной процессии ослепило солнце. Капли воды заблестели на деревьях, траве, памятниках и могильных оградах. Полуярцев удивился. Могут ли подобные совпадения произойти случайно? Подают ли небеса знак своей благосклонности? Но мать ведь действительно за всю жизнь не отстояла ни одной службы, и церкви посещала только в ходе экскурсий. Всегда увлеченно слушала экскурсоводов, задавала вопросы по библейским сюжетам, но полагала роспись православных храмов аляповатой. И все-таки ангелы с утра плакали по ней, и Всевышний открыл свое лицо в момент прощания земных жителей с новой обитательницей небес. Приметы ведь тоже придуманы людьми. И ни одну из них никто никогда проверил и никогда не проверит, вплоть до самого Судного Дня. Значит – снова нужно верить? Слепо верить, без доказательств и без надежды когда-нибудь их получить?
Могилу выкопали рядом с могилами бабушки и дедушки – дочь легла рядом с ними в один ряд, и Андрей Владимирович вдруг подумал, что ему и детям места здесь не хватит. Затем он удивился, каким образом посреди густо заселенной старой части кладбища нашлось место еще для одной могилы и попытался вспомнить, что находилось до сих пор на месте последнего приюта покойной матери. Не вспомнил – он никогда не ходил на могилу.
Священника на кладбище не было, и в церкви покойницу не отпевали – Андрей Владимирович решил лишний раз не дразнить непонятные небеса посмертным заигрыванием. Он сам произнес у края ямы несколько казенных слов, никого не смутив излишней приватностью скромной панихиды. Могильщики опустили гроб в бездну, вдовец и сын бросили вниз свои комья земли и отошли в сторону. На край земли встали другие люди и бросили на гроб свои комья, они гулко барабанили по дереву с возрастающей частотой. Наконец, взялись за лопаты профессионалы, земля посыпалась в могилу большими грудами, люди стали расходиться, но Полуярцевы оставались на месте. Плакала тетя Наташа и какие-то незнакомые женщины. Сын не знал, о чем думает отец, и сам ни о чем не думал. Просто молча следил за размеренной работой людей в синих комбинезонах, словно смотрел на огонь или на бурное море. На его глазах прежняя реальность уходила под землю, и вдруг осиротевший сын догадался, почему мать обожала делать распоряжения относительно собственных похорон.
Она возвращалась к этой теме редко, но с видимым удовольствием. Раз в год или реже, иногда при разговоре о чьей-то смерти, но чаще – без всякого видимого повода, она заводила речь о том, как она желает умереть и каким образом – обрести вечный покой. Наказы содержали и категорический отказ от крематория, и захоронение рядом с родителями. Платье дожидалось погребальной церемонии несколько лет, тщательно постиранное и поглаженное, праздничное, несолидное в силу изрядного возраста. Такова странная особенность вещей – с годами они оказываются легкомысленными сравнительно со своими стареющими хозяевами.
Всякий раз, когда мать деловитым тоном заводила печальный разговор, сын хватался за голову или бил кулаком по столу и категорически требовал его прекращения, но никогда своего не добивался. Постепенно, урывками, из года в год, иногда с перерывами в два-три года, мать составила законченную картину своих будущих похорон. Она не забывала своих предыдущих предположений, только иногда пересматривала их и заостряла на этом внимание сына, который ничего не записывал и всеми силами старался не запомнить.
Теперь, стоя на кладбище, Андрей Владимирович разозлился на собственную глупость и бестактность. Если смерть приближается открыто и не торопясь, глупо и унизительно делать вид, будто не замечаешь ее. Страусиная политика еще никогда и никому не принесла пользы. Трусость и нежелание признавать правду унизительны. Бесплодное стремление оттянуть неизбежное лишь удлиняет боль и страх. Смерть нужно встречать, сидя в кресле и беззаботно глядя ей в пустые глазницы. Убежать от нее невозможно – она догонит, даже не двигаясь с места. Значит – нужно убедить себя и близких в том, что смерти нет, а похороны – пустая формальность.
Жизнь упрямо продолжала брать свое. После погребения полагались поминки, и назначены они были в ресторане. Полуярцевы прибыли туда последними, когда гости уже расселись за сдвинутыми столами. Траурные речи вновь последовали одна за другой. Пили раз за разом, не чокаясь. Андрей Владимирович ничего не слышал, кроме собственных мыслей, его отец вовсе не понимал, где находится и зачем. Только беспрестанно оглядывал собравшихся и все силился понять, почему они встают по очереди и говорят о его жене. Он даже думал – не стоит ли ему приревновать покойную к некоторым из выступавших с панегириками мужчин.
Лена почти все время находилась поблизости от мужа, только иногда отходила пообщаться с персоналом ресторана и быстро возвращалась. Близнецы сидели дома с няней. Слово "няня" теперь заставляло Полуярцева раздраженно мотать головой, отрицая за прислугой право влиять на его детей. Он постоянно думал о странных вещах, как бы не имевших отношения к происходящему – например, о необходимости ремонта родительской квартиры. Думал и не понимал, зачем во время тризны решать вопросы повседневного быта. Потом понимал: мать заговаривала иногда на ту же тему, но при ее жизни она бы ремонтом и занималась, теперь ответственность ложится на него. Отец совсем потерялся на пенсии, а без жены, похоже, готов и вовсе опуститься в пучину бессознательного.
По окончании застолья приглашенные подходили к Полуярцевым попрощаться и в последний раз выразить соболезнование, и один из них, лысеющий и полноватый человек, показался Андрею Владимировичу очень знакомым в лицо, но совершенно без имени. Человек пожал ему руку и сказал то же, что говорили прочие, и по голосу замглавы узнал нахального журналиста, бесцеремонно вломившегося в его кабинет минувшей весной.
– Это вы? – удивленно спросил Полуярцев, удерживая руку странного газетчика.
– Как говорится в известном фильме – да, это я, – с прежним высокомерием произнес непонятно откуда взявшийся человек.
– Как вы сюда попали?
– Получил приглашение.
– Какое приглашение? От кого?
– От вашего и вашего отца имени. А что, мне не следовало его принимать?
Полуярцев озадаченно покрутил головой, отыскивая жену. Она оказалась рядом и деловито спросила загадочного гостя:
– Простите, не напомните ваше имя?
– Запросто: Самсонов Николай Игоревич.
Казалось, журналиста совсем не расстроило происшествие. Возможно, он ждал его и едва не вздохнул с облегчением, когда оно стало потихоньку развиваться.
Лена извлекла из сумочки какие-то бумажки, быстро перебрала их и остановилась на одной:
– Самсонов Николай Игоревич, сотрудник "Еженедельного курьера". Выпуск 1981-го года.
– Именно так, – с достоинством подтвердил сокровенный человек.
– Лена, что это за бумажки? – удивился Полуярцев.
– Списки приглашенных. Мария Петровна составила.
– Мама составила списки приглашенных на свои похороны?
– Составила. Тебя это удивляет?
Полуярцев действительно удивился. Главным образом тому, что не знал о существовании таких списков. Он взял у жены бумажки, исписанные в разное время разными ручками. Некоторые из фамилий были вычеркнуты, некоторые вписаны между внесенными ранее. Если уж мать взялась за составление списков, она непременно привела бы их в образцовое состояние. Россыпь черновиков показалась Андрею Владимировичу нарушением материнских привычек.
– Откуда они у тебя? – спросил он жену.
– Мария Петровна показала, где они лежат, и просила не оставить их без внимания.
– Тебя попросила?
– Меня. – Лена несколько замялась и бросила короткий взгляд на Самсонова. – Она не испытывала уверенности в тебе.
– О чем ты?
– Здесь есть люди, не известные тебе, и люди, неприятные тебе. Она боялась, что ты их не пригласишь.
– Она тебе сама это сказала?
– Сама.
– А почему ты ничего не сказала мне?
– Потому что она этого хотела. Тебя что-то не устраивает, Андрей?
Самсонов почувствовал себя бесконечно лишним и попробовал распрощаться, но Полуярцев его остановил.
– Скажите, почему мама включила вас в список? Вы учились у нее?
– Учился. Она у меня классным руководителем была.
Андрей Владимирович лихорадочно перебирал бумажки в поисках никому не известного вопроса.
– Я не вижу здесь никого другого с пометкой "выпускник 1981-го года". Почему из всего выпуска она выбрала вас?
Самсонов и сам не знал почему. Он только развел руками и снова попытался уйти. Школьные годы до сих пор не вызывали в нем особо радостных воспоминаний. Фаворитом Марии Петровны он не являлся – она вовсе не имела таковых. Математическими талантами он также не отличался. Пятерки в табеле исправно получал, но вот на математических олимпиадах, куда его исправно отправляли в качестве отличника, ни разу ни одного задания не решил.
– Скажите, вы спешите куда-нибудь? – спросил вдруг Полуярцев.
– Кажется, нет, – ответил Самсонов прежде, чем вспомнил свои планы на сегодняшний вечер. Тон вопроса и обстоятельства, при которых он прозвучал, показались ему веским основанием для пересмотра планов, если они препятствовали положительному ответу. Перед журналистом стоял в сущности совершенно незнакомый человек, о котором он знал только самые казенные сведения: фамилию, имя, отчество, место работы и должность. Еще он знал, что мать этого человека потратила несколько лет жизни на бесплодную попытку воспитать из будущего борзописца достойного человека.
– Лена, иди домой, я задержусь, – повернулся Полуярцев к жене.
– Планируешь пьянку?
– Нет, планирую прояснить несколько необъяснимых вещей.
Лена посмотрела на мужа долго и пристально, пытаясь высмотреть в нем новые черты. Затем бросила взгляд на Самсонова и снова устремила его на благоверного.
– Вы ведь незнакомы.
– Лена, прошу тебя, не вмешивайся. Позволь мне самому решать, с кем разговаривать.
– Я просто не очень уверена, что ты в полном порядке. Ты себя хорошо чувствуешь?
– Лена, я сегодня похоронил мать. Если бы я хорошо себя чувствовал, меня следовало бы отдать под суд. Иди домой и не проявляй обо мне излишней заботы.
Андрей Владимирович всячески проявлял нетерпение, Самсонов – безразличие. Лена после долгой паузы все же оторвала взгляд от мужа, вновь мельком глянула на журналиста, развернулась и молча направилась прочь из ресторана. Каблучки ее звонко цокали по полу, чеканя решительный шаг.
– Простите, если внес раздор в вашу семью, – счел нужным произнести Николай Игоревич, которому не понравилось присутствовать при семейной сцене.
– Ничего, – рассеянно произнес Полуярцев. – Мне нужно с вами поговорить.
– О чем?
– В том числе о нашей прошлой встрече.
– Спасибо вам за нее, – вставил неожиданно Самсонов.
– Мне?
– Вам. Честно говоря, я ждал неприятностей по работе, вплоть до увольнения.
– Пустяки, – раздраженно махнул рукой Полуярцев. – Я тогда подумал: болеет человек за дело. Знаете, я ведь попытался разобраться в этой истории с текстом на мемориальной доске. Мои сказали: школа дала сведения написанными от руки, листок не сохранился. То ли у них была ошибка, то ли у нас, то ли кто-то честно не разобрал почерк. Наверное, нужно было сверить окончательный вариант…
– Наверное, – снисходительно согласился журналист. – Знаете, его мать ничего не заметила и всем довольна.
– Хорошо… Почему же ваш очерк не напечатали? Редакция побоялась скандала?
– Все проще гораздо. Меня ведь привлекли на замену – изначально Ногинскому очерк поручили, а он на некоторое время бесследно исчез. Вот главный и перестраховался. А в результате – приношу свой очерк, а мне говорят: текст Ногинского уже пошел в набор. Он, видите ли, решил перед увольнением все же выполнить последнее задание.
– А ваш очерк кто-нибудь видел?
– Нет.
– Как вы думаете, напечатали бы его?
Самсонову не хотелось рассказывать незнакомому человеку о течении мысли, вынесшей его весной вовсе не к тому варианту текста, который представляет собеседник.
– Не знаю, – хмуро буркнул он, желая поскорее сменить тему.
– Послушайте, мне нужно с вами поговорить, – немного севшим голосом произнес Полуярцев. – Давайте пройдемся?
– Давайте, – удивился журналист, не ожидавший такого поворота светской беседы.
Мужчины оделись и вышли на улицу, в сумерки, под мелкую изморось, заметную только вокруг уличных фонарей и перед автомобильными фарами. Огни расплывались в полутьме, прохожие сутулились и прикрывали головы, спасались под мокрыми, блестящими в искусственном свете зонтами. Некоторое время представитель власть предержащих и несостоявшееся золотое перо молча шли рядом куда-то вперед, в неопределенную мрачную перспективу улицы.
– Скажите, вы совсем не догадываетесь, почему мама включила вас в список приглашенных? – спросил наконец Полуярцев.
– Не догадываюсь, – честно ответил Николай Игоревич. – Я неплохо учился, но школу окончил без малейших претензий на медаль и вообще, звездой не являлся. В частности, по математике.
– Но была ведь какая-то причина? Она же помнила о вас столько лет?
– Видимо, да. Я не удивлюсь, если выяснится, что она помнила всех.
– Возможно, возможно… Но на похороны пригласила только вас.
Самсонов пожал плечами.
– Думаю, догадки не имеют смысла, – сказал он рассеянно. – Не все ли равно, где лежит правильный ответ. Мама ваша была женщиной суровой, ни с кем не сюсюкала – ни с учениками, ни с подчиненными, ни с начальством. Но, похоже, в мыслях вела некий список близких людей. Только вот при жизни не желала им открываться. Думаю, стеснялась проявить слабость.
– Разве женщины стесняются своей слабости?
– Значит, есть такие. Возможно, наш век принуждает женщин меняться. Равноправие, знаете ли. Оно автоматически означает отсутствие льгот по половому признаку, как и отсутствие препон для служебного роста. Мужчина, делающий карьеру, вряд ли добьется успеха, если проявит слабость. К женщинам этот постулат относится в той же степени. Наверное, Мария Петровна поняла это раньше многих.
– Но после смерти все же проявила слабость?
– В каком-то смысле.
– Значит, при жизни она только притворялась сильной?
– Сомневаюсь в возможности такого притворства. Нельзя прикинуться интеллигентом, нельзя всю жизнь казаться сильным, не будучи им в действительности.
– По-моему, сильным можно казаться сколь угодно долго, если не случится реального испытания, которое потребует демонстрации силы. Для мамы таким испытанием стала сама смерть.
– Не знаю, не знаю, – покачал головой Самсонов. – Конечно, я был мальчишкой и ничего не понимал в людях. Но вы ведь всю жизнь видели ее, и ни разу не заподозрили в слабости?
– Ни разу. Слабость всегда демонстрировали мы с отцом. – Несколько минут Андрей Владимирович молчал. – Думаю, мама боялась смерти.
– В самом деле? Почему вы так решили?
– Она иногда говорила о своих похоронах. Видите, вот и список приглашенных сама составила. Но список оставила жене, а не мне. Я на нее каждый раз руками махал, а она хотела поговорить о своей смерти.
– Возможно. Такое часто случается.
– Вы не знаете, откуда эти слова: "А я – осенняя трава, летящие по ветру листья"?
– Знаю, разумеется. Стихи Геннадия Шпаликова. Метафизический страх атеиста перед лицом смерти. В бессмертную душу он не верит, а желает, видите ли, сохраниться хотя бы травой. "Она весною прорастет и к жизни присоединится".
– А вы верите в бессмертную душу?
– По крайней мере, я не мечтаю сохраниться травой.
– Что-то я слышал про этого Шпаликова… Он сейчас жив?
– Нет, что вы. Повесился давно, еще молодым.
– Повесился? Странно для автора таких стихов.
– По-моему, наоборот – естественно. Мрачный взгляд на жизнь не способствует долголетию. И мрачный взгляд на смерть, кстати, тоже. У нас ведь сейчас преобладает атеистическое отношение к смерти. Инстинктивное. Безусловный рефлекс. Если вдуматься, бояться нужно не самой смерти, а умирания. Смерть есть избавление от земной жизни со всей ее болью и скукой.
– Люди боятся неизвестности.
– Полностью согласен. Спасение от страха неизвестности – вера. Вот вы, например, верите?
– Нет. С какой стати? Я бывший комсомолец.
– Бывший – не значит настоящий.
– Все равно. Страшно подумать, что должно случиться с человеком, чтобы в серьезном возрасте он поверил. Веру можно только сохранить с детства, придти к ней взрослым почти невозможно.
– С вами случилась большая беда. Теперь вы поверите?
– Не знаю, я пока думаю.
– Думать над вопросами веры бессмысленно. Никаких логических доводов вы никогда не придумаете, ни за, ни против. Все решается в один момент, легким движением души. Вдруг становится странно, как это до сих пор мог не верить.
– С вами так и случилось?
– Примерно. День и час я вам не назову. Просто жил и жил, как все, а однажды оглянулся назад и подумал: когда же я не верил? В детстве и юности точно не верил. Вот где-то с тех пор. Правда, я сам толком не знаю, во что верю. Как был некрещеным, так им и остался.
– Странный способ придти к вере. Вы что же, и католиком можете оказаться?
– Вряд ли. Церковь меня к верующим не относит, конечно. Священники говорят: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Или как-то так. Что такое вообще – человек? Вот умер он, и что остается? Память? А помните вы такого человека – Сарданапал?
– Вроде слышал где-то когда-то. Что-то древневосточное.
– Древневосточное. Последний царь Ассирии. Изнеженный и сребролюбивый, женоподобный в своем стремлении к наслаждениям. И дворцовый переворот против него совершился, и сжег он себя вместе со всеми сокровищами после многомесячной осады дворца. Всякие интересности о нем известны. А знаете главное, что о нем известно?
– Понятия не имею.
– Он никогда не существовал. Это миф. Но вы вот о нем что-то помните, Байрон о нем поэму накатал. Далеко не о каждом реальном царе поэт первого ряда написал стихи! А об этом, выдуманном – пожалуйста.
– По-вашему, человек – то, что о нем пишут поэты? Тогда Землю можно считать безлюдной.
– Человек – то, что о нем помнят после смерти. Даже если о нем напишут книги и снимут фильмы, все равно – он тот, кого помнят знавшие его люди. Помнят иногда молча, про себя, совсем не таким, каким человек предстает в книгах и фильмах. Когда уходят помнящие его люди, человек умирает окончательно, становится тенью, фотографией в альбомах. Никогда не пробовали разглядывать чужие фотоальбомы? Даже живые и здравствующие люди кажутся в них призраками.
– У вас богатая фантазия, Николай Игоревич. Или вы меня разыгрываете. Фотографии незнакомых людей для меня – просто фотографии незнакомых людей, ничего более.
Собеседники стояли в аллее городского парка, в полутьме, ветер срывал с деревьев мертвые листья и уносил их в небытие.
– А кого из мертвецов вы лично помните, Андрей Владимирович? – вкрадчиво спросил Самсонов. – И вообще, помните ли вы, кого забыли в этой жизни?
– Не понял. Как это – помню ли, кого забыл? Раз забыл, значит не помню. Как же я могу их помнить? Это нарушение законов логики.
– А может, вам только кажется? Займитесь на досуге перемоткой собственной жизни, кого только ни вспомните. Из забытых. И не откладывайте в долгий ящик – после шестидесяти потрошить себя гораздо труднее.
– Хотите сказать, что и сами так развлекаетесь?
– Есть такое дело.
– И давно?
– Около полугода. Оказалось – несметные толпы мимо меня прошли, а я на них и не смотрел. Все своими делами занимался.
– Не чужими же делами нам заниматься. Они потому так и называются, что не наши.
– Да, конечно. Вы правы. Вы всегда правы, Андрей Владимирович. Извините, наверное, я с вами раскланяюсь. Мне пора. До свидания.
Самсонов кивнул головой и отправился прочь, постепенно исчезая во тьме. Полуярцев проводил его долгим взглядом, постоял некоторое время в пустой аллее, ни о чем не думая, и направился к себе домой. Он хотел спать.
9. Голубь сизокрылый
Дочь целовалась с каким-то хлыщом, самозабвенно и с видимым удовольствием. Сагайдак остановился ошарашенный, затем сделал шаг вперед с желанием садануть в торец мерзавцу, а негодяйку взять за ухо и привести домой. Затем он остановился, дожидаясь, пока кровь отхлынет от лица. Легко в одно мгновение сделать глупость, которая изменит жизнь в худшую сторону. Дочь, конечно, повзрослела, но это не означает права прилюдно лизаться с кем попало. Петр Никанорович сделал еще несколько шагов и остановился рядом с парочкой, совсем потерявшей ощущение реальности.
– Молодой человек, закурить не найдется? – несколько механическим голосом произнес отец, готовый к убийству, но всеми силами сдерживающий свои эмоции.
Ублюдок не обратил никакого внимания на бесцеремонного прохожего, но Милка забилась в его руках, как голубка в силках птицелова, отпрянула и испуганно посмотрела на отца. Все молчали, негодяй соизволил проследить за взглядом своей жертвы и Сагайдак смог оценить его наружность. Как и следовало ожидать – мерзкая рожа без тени интеллекта, зато с тухлым блеском сексуального извращения в глазах.
– Людмила, садись в машину.
После долгой паузы, в течение которой испуг в глазах сменился негодованием, она воскликнула:
– Папа!
– Садись, без разговоров.
– Папа, прекрати! Езжай себе дальше, оставь меня в покое!
– Размечталась. Ты сядешь в машину, или мне силу применить?
– Только попробуй, только попробуй! Я из дома уйду!
– Тогда я тебя найду и на привязь посажу. Тоже мне, напугала.
Публичная сцена принимала совершенно неприличный оборот. Прохожие стали задерживать шаг при виде вопящей девчонки в окружении двух особей мужского пола. Сагайдак понимал двусмысленность своего положения и от этого еще больше злился.
– Пойдем, – сказал вдруг подонок, с вызовом посмотрел на негодующего отца и демонстративно взял дочь за руку. Та оставалась на месте, не спуская возмущенных глаз с родителя, и ждала проявления доброй воли с его стороны.
– Отпусти ее, – сказал тот ухажеру, одетому в косуху и кожаные штаны, сверху донизу усеянные блестящими заклепками.
– А чего вы командуете? Она вам не крепостная.
У мерзавца, оказывается, еще и голос есть!
– Я сказал, отпусти ее, подонок.
– Чего это я подонок?
– Папа, перестань!
Сагайдак сжал пальцы на тонком запястье дочери. Шкодливый хахаль был едва не на голову ниже, и смотрел на отца своей пассии снизу вверх, но с вызовом.
– Последний раз повторяю: отпусти ее. Просто не хочу тебя калечить без крайней необходимости.
– Папа, ну не надо!
– Ну что, не отпустишь?
– Не отпущу!
Сагайдак сделал короткое, едва заметное движение. Со стороны могло показаться, что он то ли одним плечом шевельнул, то ли быстрым жестом глянул на часы. Правда, часы должны бы были находиться на правой руке, но такие вещи нетренированные люди редко замечают.
Мерзавец пошатнулся, отшагнул назад и упал на корточки, низко опустив голову.
– Сережа! – завопила Милка с таким ужасом, словно ее гребаный кавалер получил пулю в лоб.
– Садись в машину.
– А вот не сяду, не сяду! Что, и меня ударишь?
Дочь смотрела на отца огромными ненавидящими глазами. Он вспомнил, как она, еще совсем игрушечная, смеялась на горшке и сучила ножками, передвигаясь поближе к нему. Тогда у него в руках сидел настоящий сизый голубь, косил желтым глазом и испуганно хлопал крыльями.
– Мила, прекращай бузу. Садись в машину, и поедем домой. Мама там одна.
– Ну и езжай к маме, езжай! Я тебя держу разве?
– Держишь. Уже поздно, тебе пора домой.
– Ничего себе, поздно! Может, дома еще и на горшок меня посадишь?
– Надеюсь, не придется.
Дочь гневно отвернулась от отца, опустилась на колени рядом со своим подонком и низко нагнулась, чтобы заглянуть ему снизу в лицо. Коротенькая ее курточка задралась на спине, а джинсики с заниженной талией совсем сползли, открывая миру непозволительно значительную область дочкиного тела. Сагайдак молча схватил ее за шиворот и поволок к машине. Милка завизжала, беспомощно забилась и попыталась лягнуть похитителя высоким каблуком. Маленькими кулачками она принялась молотить отца в живот, но он не обращал на ее усилия ни малейшего внимания. Несколько прохожих остановились и наблюдали за происходящим с некоторым напряжением в лицах. Обозленный на себя и на человечество, Петр Никанорович открыл водительскую дверь "Лады", засунул в машину дочь и забрался вслед за ней, протолкнув несчастную на пассажирское сиденье.
Милка заходилась истеричным криком. Мокрое от слез лицо выражало только боль, страх и ненависть. Перехватив дочь за руку, Сагайдак умудрился включить передачу. Негодяйка отвернулась к окну и закричала:
– Сережа! Сережа! Сережа!
Машина медленно тронулась с места, постепенно удалясь от места сражения, которое в конце концов скрылось из поля зрения. Победитель понимал, что долго ехать в таком положении не сможет, и кое-как припарковался за ближайшим поворотом.
– Людмила, хватит истерить.
Крик дочери перешел в плач самой несчастной девушки на свете.
– Начинается! Если бы ты знала, как меня достали все эти ваши женские штучки. Нервы с вами нужны – как стальные канаты.
Ответ вслух не прозвучал.
– Зачем ты постоянно закатываешь эти сцены, Людмила?
– Я закатываю? – не сдержала возмущения дочь. – Я закатываю сцены? По-твоему, это я сейчас закатила сцену?
Она говорила прерывисто, захлебываясь рыданиями, и Сагайдак испытал приступ острой жалости. Хотелось погладить дочь по головке, сделать комплимент, купить в подарок какую-нибудь безделушку. Почему обязательно безделушку? Можно подобрать что-нибудь серьезное. Нет, тогда она окончательно возненавидит его за попытку купить ее душу.
– Мила, мы должны сейчас в первую очередь заботиться о маме.
Молчание в ответ.
– Согласись, наши скандалы ей сейчас совершенно ни к чему.
– Тогда зачем ты затеял этот скандал? Зачем? Ну кто тебя просил?
– Скандал затеяла ты, когда решила изобразить из себя Жанну Д'Арк.
– Ничего подобного! Все начал ты, когда возомнил себя рабовладельцем.
– Я не рабовладелец, а всего лишь твой отец.
– Отцы не позорят дочерей, а заботятся о них!
– Моя дочь никогда не будет вести себя, как уличная потаскушка.
– Вот как? Я уже и потаскушка? Собираешься меня выпороть и запереть в подвале?
– Нет, только объясню тебе, как должны себя вести порядочные девушки.
– Где уж мне понять, я ведь шлюха подзаборная! Я ведь давно на побрякушки телом зарабатываю! Так что, папочка, лучше забудь про меня и больше никогда не пытайся воспитывать, только хуже будет.
– Не надейся, Мила. Даже не мечтай! Если понадобится, я тебя за волосы вытащу из любой дыры, в которую тебя нелегкая занесет, как бы ты ни визжала и ни царапалась. Ты мне, видишь ли, дорога. И твое будущее мне не безразлично. И твои парни мне не безразличны. И как ты одеваешься, мне не безразлично. Наверное, тебе кажется, что ты просто одета по моде, но если твоя мода требует выставлять задницу напоказ, я из тебя монахиню сделаю, вот увидишь.
– Замечательно, папочка, замечательно! Ты будешь решать, во что мне одеваться, с кем мне встречаться, куда мне ходить. Тебе не кажется, что я уже вышла из детсадовского возраста?
– Разумеется, вышла. Именно в этом все и дело. Детство кончилось, твоим кавалерам теперь нужно не просто прогуляться с тобой за ручку – они тебя хотят. И если ты этого не понимаешь, значит, не такая уж ты и взрослая.
– Я все прекрасно понимаю, папулечка! Не надо строить из себя борца за мою девственность – сама как-нибудь о себе позабочусь!
– Сама о себе ты будешь заботиться после восемнадцати, и то, если не будешь жить с нами. А пока тебе пятнадцать – изволь не корчить из себя опытную даму. Кстати, и с дамами неприятности случаются. А уж дурочек вроде тебя любому ходоку с толку сбить – как два пальца об асфальт.
– Сережка у тебя подонок, я – дура, а ты у нас кто? Лучший отец столетия? Как будто я не знаю, сколько мама из-за тебя плакала!
– Я не лучший отец в мире. Но все-таки отец. И на произвол судьбы я тебя не брошу, как бы тебе этого не хотелось.
– На какой еще произвол? На какой произвол? Просто не лезь в мою жизнь, и я тебе слова не скажу!
– Не лезть в твою жизнь? Разрешить тебе ходить полуголой и смотреть, как тебя тискают посреди улицы? Ты вообще представляешь себе хоть немного, что такое взрослая жизнь? В сотый раз повторяю: твое детство кончилось. Теперь нет мальчиков-одноклассников, которые дергают тебя за косички, нет молодых людей, которые просто так тебе подмигивают, нет мужиков, которые просто гладят тебя по плечику. Теперь все не просто. Ты теперь всем им нужна для потребления. Одноклассники, возможно, еще толком не понимают, чем можно с тобой заняться, но все остальные с первого взгляда при первом знакомстве начинают тебя оценивать и примеривать под свои инстинкты. Ты можешь в это время фантазировать о чем угодно, но у них все фантазии исчерпываются сексом. Ты должна понять, во-первых, это, а во-вторых – выбрать из всех желающих тебя одного, который захочет связать с тобой жизнь, что очень трудно. Многим женщинам это не удается. Но, прежде, чем начать ошибаться в выборе, ты должна по крайней мере закончить школу.
– Наденешь на меня пояс целомудрия?
– Нет, не надену. Только хочу убедиться, что до тебя дошло. И еще научу тебя паре приемчиков, чтобы в нужный момент избавляться от хмырей, не умеющих держать себя в рамках дозволенного. А самое главное – хочу убедиться, что ты установила эти самые рамки дозволенного.
– А что, сейчас ты все же считаешь меня потаскушкой?
– Сейчас я считаю тебя дурочкой, которая не понимает элементарных вещей.
– Почему же это я дурочка? Потому что читаю книжки, которые тебе не нравятся?
– Потому что ты читаешь глупые книжки, которые не позволяют тебе задуматься о себе и о людях в этом мире.
– Чтобы повзрослеть, нужно читать книжки, которые тебе нравятся?
– Чтобы повзрослеть, нужно прожить нужное количество лет и заботиться о людях, зависящих от тебя. Иногда случается что-нибудь вроде войны, и все дети взрослеют одновременно и раньше, чем необходимо. Если войны нет, некоторые могут повзрослеть раньше прочих, потому что жизнь займется ими отдельно и по полной программе, но я тебе этого тоже не желаю, как и войны. Наименее печальный способ повзрослеть немного раньше – добавить к своему жизненному опыту немного чужих переживаний. Опыт авторов твоих дурацких сказочек таков, что, поделившись с ними своими мыслями, ты только деградируешь. Они не ставят вопросов вовсе, или сами же на них и отвечают, оставляя читателя в дураках.
– Папа, о чем ты говоришь? Какой опыт, какие вопросы? Ты как с неба упал! Не нужны мне ни вопросы, ни ответы. Ни твои, ни чьи-нибудь еще. Дай мне спокойно пожить! Так, как я сама хочу, а не так, как ты считаешь нужным! Мне и в школе вопросов хватает, выше крыши!
Сагайдак замолчал, откинулся на спинку своего сиденья и просидел несколько минут, глядя в лобовое стекло. Людмила тоже молчала и смотрела на улицу в том же направлении. Она совсем забыла про потекшую тушь и покрасневшие глаза – отец часто заставлял ее забывать о естественных вещах, рассуждая на темы высокой морали. Петр Никанорович включил двигатель и резко рванул машину с места, направляясь домой.
Разговоры с дочерью всегда заканчивались отчуждением и молчанием полного непонимания. Иногда отцу казалось, что время безнадежно упущено, и они уже никогда не поймут друг друга. Ирина часто объединялась с Милкой в единый женский лагерь, и обе начинали объяснять своему мужчине гендерную разницу в мировоззрении. Он категорически отказывался эту разницу понимать и принимать, всякий раз начиная доказывать необходимость человеческого развития, вне зависимости от пола.
– Ты мучаешь девчонку своими претензиями, – говорила ему жена с глаза на глаз. – Она в конце концов возненавидит тебя. Не будет она читать Толстого и Достоевского, как ты не понимаешь! Ее волнуют совершенно другие вещи.
– Да не требую я от нее Толстого и Достоевского! Есть же Вирджиния Вульф, сестры Бронте, Джейн Остин. Жорж Санд, на худой конец. Они-то ведь точно писали о вещах, волнующих нашу с тобой дурочку.
– А ты читал кого-то из них?
– Не читал. Почти. Но это же классика.
– Они писали не так, как эти вещи видятся сейчас. И никакого опыта, кстати, девицам не добавляют, одни пустые мечтания.
Споры длились бесконечно, никому не приносили ни победы, ни удовлетворения, изматывали всех и постепенно превратились в одну из нудных подробностей обыденного образа жизни. Потом жена забеременела. Впервые за много лет. Она сказала об этом мужу ночью, в постели, в темноте. Они не видели лиц друг друга, только чувствовали тепло. Сагайдак тогда подумал о невероятности случившегося и стал невольно перебирать в уме возможные метафизические первопричины состоявшегося чуда, а Ирина долго и безуспешно ждала от него проявления чувств. Не дождалась и в гневе отвернулась, подавив острое желание отхлестать негодяя по лицу. Той ночью она почти не спала, только урывками проваливалась в полузабытье, перемешавшее сны с реальностью, утром очнулась злая и готовая к страшной мести, но мужа рядом с собой не обнаружила. Он встретил ее на кухне, сияющий от счастья, умытый, одетый, с приготовленным скромным завтраком.
– С добрым утром, родная! – торжественно провозгласил чудак и преподнес жене тарелку с тремя жареными розами, вырезанными из картофелин.
Она стояла в дверях, ошалевшая от неожиданности, а он вдруг спросил озабоченно:
– А тебе можно?
"Дурак, какой же дурак!" – подумала Ирина и глупо заплакала, по-беременному, как муж стал называть с того дня ее неожиданные новые реакции на обычные повседневные происшествия. Разногласия начались сразу.
– Надо Милку как-то подготовить, – озабоченно сказал Сагайдак.
– Зачем? – искренне удивилась Ирина. – Ей не три года, взрослая девчонка уже.
– В том-то и дело.
– Господи, какой же ты у меня идиот! – ласково удивилась беременная. – Не надо ее ни к чему готовить. Сейчас встанет, и порадуем. И еще возьмем с нее слово, что будет помогать с ребеночком.
– Все-таки щекотливый вопрос, – не унимался муж и отец.
– Этому щекотливому вопросу уже миллионы лет. Мужики вокруг него копья ломают, бьют друг другу морды и вышибают челюсти, а бабы рожали, рожают и будут рожать во веки веков. Успокойся и займись своими делами.
Машина медленно катилась некоторое время за чумазым самосвалом, и Сагайдак вдруг с удовольствием вспомнил про свой треклятый КрАЗ. Несколько месяцев Петр Никанорович пытался избавиться от него без затрат на утилизацию, и уже сам перестал верить в удачу, но несколько дней назад старикан ушел, наконец, с рук. По цене металлолома, но какая разница, хоть бы и бесплатно – ведь альтернативой была не большая прибыль, а прямой убыток. Деньги небольшие, но грузовые перевозки – не то Эльдорадо, которое может заставить забыть о мелочах.
– Мама тебя терпеть не может, папочка, – сказала Милка тихо, неторопливо и как бы рассеянно.
– Что?
Сагайдак ударил по тормозам, вильнул к бордюру и на скорости влетел на него правыми колесами. Машина подпрыгнула, застонала подвеской и остановилась. Дочь продолжала безразлично смотреть вперед.
– Что ты сказала?
– Что слышал, то и сказала. Если бы ты не расслышал, мы бы продолжали спокойно ехать.
– С чего ты взяла?
– Так подсказывает простейшая логика, папуля.
– Не валяй дурочку. Я спрашиваю про маму. Ты с ней разговаривала?
– Нет, просто я живу дома. Пока. Ты ведь мужчина, вы никогда ничего не замечаете.
– Интересно, и что же именно ты заметила?
– Я уже сказала. Повторять не буду.
– Прекращай свои фокусы, Мила. С чего ты взяла эту ерунду?
– Это никакая не ерунда, а самая наичистейшая правда.
– Хорошо, в чем именно ты разглядела эту свою наичистейшую правду?
– Где, где… Везде! Я на вас каждый день смотрю. И я тысячу раз видела, как мама на тебя смотрит.
– И как же она на меня смотрит, интересно знать?
Милка упрямо молчала несколько минут.
– Она на тебя смотрит, как на незнакомого. Как на прохожего посреди улицы. Иногда – как на таксиста.
– Ты, оказывается, специалист по оценке взглядов. Чем же, по-твоему, отличается взгляд на прохожего от взгляда на таксиста?
– От таксиста человеку что-нибудь нужно, от прохожего – ничегошеньки. По прохожим просто скользят взглядом, на таксиста смотрят и думают – даст он сдачу, или нужно сделать вид, будто даешь ему чаевые.
– И часто ты на такси ездишь? Когда это ты успела взгляды изучить и систематизировать?
– Да уж нашла время. Не на вас же его тратить. Вы ведь разговариваете только о кухонной плите, холодильнике, линолеуме в прихожей и плитке в ванной.
– Обыкновенные супружеские разговоры. О чем же, по-твоему, мы должны разговаривать?
– Хотя бы о книгах, которые ты заставляешь меня читать. Вы сами-то их читали, или для меня берегли?
– Мы их прочли и обговорили еще до твоего рождения. Потому и поженились. Мы друг друга узнали и поняли. И говорить шестнадцать лет о том, что нас сближает, нет нужды. Мы не сумасшедшие, не фанатики и вообще не психи.
– Замечательно. Значит, после шестнадцати лет брака людям нечего обсуждать, кроме кафеля?
– А по-твоему, они должны с утра до вечера целоваться, гладить друг друга по головке и всячески друг другом умиляться?
– Не знаю. Но я много раз видела, какими глазами девчонки смотрят на парней, без которых не мыслят своей жизни. И мама никогда так не смотрела на тебя.
– Здрасьте, приехали! Оказывается, мама у нас зеленая девица, обезумевшая от собственного мужа. Милочка моя, так не бывает. Мама смотрела на меня такими глазами, когда сама была девчонкой, а я – таким же придурком, как этот твой Сережа.
– Сережка – не придурок, прекрати его обзывать!
– Ну разумеется, он лучший парень на всем белом свете.
– Да, лучший! И я смотрю на него так, как мама никогда не смотрит на тебя!
– Поздравляю. Возьми себе пирожок.
– Прекрати издеваться надо мной, слышишь? Я ведь не шучу, я в самом деле убегу!
– Не надо убегать. Не буду издеваться. Только хочу спросить: ты действительно думаешь, что люди, прожившие вместе целую жизнь, относятся друг к другу так же, как перед свадьбой?
– Если нет, зачем жить вместе целую жизнь?
– Затем, что есть семья, дети, потом внуки. Чувства меняются. Телячий восторг уходит, приходит терпимость и осознание полной невозможности расстаться. Развестись – как руку себе отрубить.
– А как же люди разводятся?
– Разводятся те, кто утратил чувство восторга и ничего другого не нашел.
– А как узнать, найдется что-нибудь после восторга, или нет?
– Никак. Сказал уже – жизнь нужно прожить.
– Как же так? Люди женятся, потому что жить друг без друга не могут, а через несколько лет просто выясняется, что очень даже могут?
– Примерно так. Ничего не поделаешь.
– Ну почему?
– Что почему?
– Почему чувства теряются? Зачем они вообще приходят, если никто не знает, сохранятся ли они вечно?
– Зачем… Спросишь тоже! Вся мировая литература только об этом и талдычит. Но не твои дурацкие книжицы – они тебе только голову морочат.
– И что же делать?
– Во-первых, слушать папу и маму.
– Папа!
– Я совершенно серьезно тебе говорю. В отличие от тебя, мы уже пожили немного на белом свете и понимаем в людях побольше тебя. Во-вторых, в любом случае не кидаться на шею каждому, кто загадочно улыбнется в твою сторону.
– Я не бросаюсь на шею каждому встречному!
– Это тебе так кажется.
– Ничего мне не кажется! Про себя-то я знаю, где правда, а где – нет!
– Не знаешь. Ну вот скажи, например, что такого в этом твоем драгоценном Сережке?
– Он лучше всех!
– Чем же это он лучше всех, интересно?
– Я просто это знаю, и все тут! Никто никогда не знает, почему ему кто-то нравится. Ты как маленькая девочка, папа! Только они такие вопросы задают.
– Ах ты, взрослая какая. Хорошо, уточню вопрос. Можешь вспомнить, как у вас все начиналось? Что произошло? Вы вместе учитесь и встретились где-нибудь на танцах?
– На улице мы встретились, на улице!
– Даже так? Может, еще и в транспорте?
– А что такого страшного, если и в транспорте?
– Действительно в транспорте?
– Да нет же, говорю – на улице.
– На прошлой неделе? Или на позапрошлой?
– Нет! Представь себе – зимой еще!
– Ах, зимой! Надо же. Ну и почему же вы не прошли мимо друг друга?
– Потому что он меня защитил.
– С ума сойти. Тебя облаяла какая-нибудь дворняжка, и он дал ей пинка?
– Нет, не дворняжка! Не дворняжка! Два здоровенных парня пристали, а он вступился.
– Не помню, чтобы дома рассказывала о каких-то парнях на улице.
– А я и не рассказывала. Что рассказывать? Чтобы вы заохали и запретили мне на улицу выходить?
– Вообще-то, и сама могла бы поостеречься после такого. Голова-то на плечах есть?
– Есть голова, есть! Я с Сережкой стала гулять, чего мне остерегаться?
– Звучит настораживающе. В каком смысле гулять?
– В обыкновенном. Тебе толковый словарь дать?
– Ты не груби мне, дочь. Я ведь и выпороть могу. Ну, и что же это за Сережа такой? Сколько ему лет? Чем занимается?
– Восемнадцать недавно исполнилось. Учится где-то.
– Что значит "где-то"?
– Ну не помню, какая мне разница?
– Разница большая. Если бы он учился в МГИМО, то был бы сейчас в Москве. Значит, он учится в нашем ПТУ, которое теперь колледж.
– Ну и что? Отправишь меня в Москву охотиться на студентов МГИМО?
– Да успокойся ты, не отправлю. Просто интересно – он инвалид какой-нибудь, или просто от армии косит?
– Ниоткуда он не косит. А если бы и косил, мне все равно. Наоборот: лучше даже, если со мной останется.
– Да уж, нисколько не сомневаюсь. Столько этой сопливой мрази развелось – плюнуть негде. Одному, видите ли, вера запрещает свою страну защищать, другой боится, что ему в армии бо-бо сделают. Твой не баптист, случайно?
– Не баптист!
– Значит, боится, что бо-бо сделают.
– Ничего он не боится! Он смелый и сильный. Те парни ему лицо в кровь разбили, а он все равно смог их отогнать. И им тоже досталось неплохо.
– Что же он, такой сильный и смелый, у мамы под юбкой от гражданского долга увертывается?
– Да кому она нужна, твоя дурацкая армия? Только и умеют, что людей уродовать ни за что, ни про что!
– Это он тебе так объяснил?
– Нет, я и сама все знаю!
– Да уж, представляю, что ты об армии знаешь. Видишь ли, дочь, армия нужна стране. Какими бы ни были и страна, и армия. И в Швейцарии призывная армия, и в Германии, и в Скандинавских странах, хотя деньги на наемную армию у них найдутся. Не хотят они наемной армии, хотят армию граждан. У нас сейчас царит мнение, что в армию идут одни дураки, и это лучше всего доказывает плачевное состояние общества вообще и молодежи в частности. Всем плевать на страну. Все кричат: мне, мне, мне! Я хочу! Дайте мне это, дайте мне то! Дайте бесплатно! А бесплатного ведь ничего нет. Есть только за чужой счет. Лично я оттрубил в свое время от звонка до звонка, никогда об этом не жалел, и время службы потерянным не считаю. Потому что узнал за эти два года о себе много интересного, чего, возможно, в противном случае не узнал бы никогда. И я считаю, что каждый уважающий себя мужик должен пройти хоть через самое захудалое испытание, чтобы узнать про себя самое главное. А всех этих нынешних бегунов на дальние дистанции я презираю как трусов и слюнтяев.
– Пожалуйста, презирай! Какая мне разница? То есть, наоборот – я не хочу, чтобы он ушел в армию, и его там убили или покалечили.
– Ну разумеется! Типично женская точка зрения. В миллионной армии гибнет ежегодно от разного рода несчастных случаев несколько сотен человек. Газеты их всех скопом без разбирательства объявляют жертвами дедовщины, женщины читают, ужасаются и приходят к выводу, что из армии призывники живыми не уходят. Еще неизвестно, может быть в армии смертность ниже, чем среди молодежи на гражданке.
– Вот пусть они вообще перестанут гибнуть, тогда женщины и успокоятся. Мы просто не хотим, чтобы наши близкие попали в эту твою статистику несчастных случаев. На гражданке люди живут сами, а в армию их государство забирает силком и должно отвечать за все, что с ними там случается.
– Люди в армии не перестанут гибнуть никогда. Слишком большой механизм, слишком много народа, слишком много механизмов и оружия. Гибнут солдаты во всех армиях. Пусть только у нас бывают неописуемо дикие случаи убийств, но уж самоубийства-то случаются везде. И даже в американской наемной армии тысячи случаев дезертирства – поскольку добровольность добровольностью, но после подписания контракта просто так домой никому не уйти. А нам нужно только поменьше разгильдяйства в казармах, сержантов на контракте и поменьше женских соплей.
– Мало ли что нам надо! Нет же сержантов-контрактников, зато много разгильдяйства, отсюда и женские сопли. Вот наведи сначала порядок в своей армии, а потом требуй туда моего Сережку!
– Да целуйся, целуйся со своим драгоценным Сережкой! На глазах у всего честного народа.
– И буду целоваться, буду! И поцеловаться уже нельзя!
– Целоваться можно, нельзя лизаться, как блудливой кошке.
Милка рванула ручку двери и попыталась выпрыгнуть наружу, но Сагайдак успел поймать ее за куртку и затащил назад в машину.
– Отпусти! Я людей на помощь позову!
– Позовешь, позовешь. Когда действительно нужно будет защититься от какого-нибудь подонка. А я посмотрю, сколько человек на твои вопли отзовется.
– Ты о каком подонке опять? О Сережке?
– Понятия не имею. Откуда я знаю, где и когда ты на подонка напорешься.
– Чего это я на него непременно напорюсь?
– Потому что малолетние симпатичные дурочки интересуют их в первую очередь.
– Спасибо за комплимент, папочка! Большего я от тебя, наверно, никогда не дождусь.
– Может, и дождешься. От тебя зависит. Вот расскажи мне, что ты знаешь про этого своего хлыща.
– Про Сережу.
– Ладно, про Сережу.
– Что именно тебя интересует?
– Все. Где живет, кто родители, с кем гулял до тебя. С кем он гуляет сейчас, кроме тебя, не спрашиваю – ты сама не знаешь, судя по всему.
– С чего ты взял, что он с кем-то гулял и сейчас гуляет?
– Насчет сейчас ничего определенного сказать не могу, но вот насчет до тебя… Он как из себя, уродец или придурок какой-нибудь, маменькин сынок?
– Да сколько можно говорить! Не уродец, не придурок, не маменькин сынок, понятно?
– Понятно. И ты уверена, что этот не уродец, не придурок, не маменькин сынок до семнадцати лет тихо мечтал о тебе и на других девчонок даже не смотрел?
– Не смотрел!
– Это ты, возможно, ни на кого не смотрела, хотя в этом я тоже сомневаюсь.
– Ни с кем он не гулял, слышишь? А сейчас – тем более не гуляет.
– Не хочется тебя расстраивать, дочка, но если он до тебя не гулял, то ему оставалось одно – разряжаться вручную. Подростки, видишь ли, так устроены – каждый день нужно сбрасывать давление, иначе крыша совсем набекрень съедет за неделю. Если на момент встречи с тобой он не был ни психом, ни придурком, значит, давление сбрасывал исправно. Если он, по твоим словам, еще и не уродец, да еще и сильный и смелый, один против двух дерется и побеждает, то вряд ли у него была необходимость прибегать к ручному способу. Так вот, у меня вопрос: с кем он гулял до тебя, и где эта девчонка сейчас? Точнее, эти девчонки?
Милка покраснела до самой шеи, в глазах снова заблестели слезки. "Надо еще немного дожать", – подумал Сагайдак.
– Какие девчонки? – дрогнувшим голосом спросила дочь.
– С которыми твой драгоценный Сереженька гулял до тебя.
– Откуда я знаю? И с чего ты взял, что они были?
– Я тебе уже объяснил, с чего я взял. Значится, так и запишем: ты ничего о них не знаешь.
– Куда запишем, чего я не знаю?
– Ты ничего не знаешь о бывших своего хахаля. И еще ты не знаешь, с кем он встречается сейчас, кроме тебя.
– Ни с кем он не встречается! А на бывших его мне плевать, если они и были! Он теперь со мной!
– Разумеется, тебе плевать. Не стоит обращать внимание на обстоятельства, которые поздно изменять. Только вот как ты собираешься его удержать, хотел бы я знать?
– Зачем мне его удерживать, он и так никуда не уходит.
– Возможно, не уходит. Но ты наверняка не знаешь, куда он ходит время от времени – потому что ты о нем ничего не знаешь, кроме того, что он хороший.
– А он и есть хороший! И чего это такого я еще должна о нем знать?
– Ну вот например. Помнится, пару дней назад ты вечером сидела дома, хотя с тобой это нечасто случается. Значит, он от тебя избавился под каким-то предлогом. Почему? И где он был тем вечером?
– Ничего он от меня не избавлялся! У него дела были!
– Интересно, какие же это дела бывают у пэтэушников по вечерам? Неужели к контрольной готовился?
– Он не пэтэушник!
– Хорошо, у учащихся колледжей. Какая разница? Главное в другом: он не сказал конкретно, чем намерен заняться, а ты побоялась спросить, чтобы его не разозлить.
– А ты бы хотел, чтобы я его хорошенько разозлила? Не дождешься!
– Не знаю, не знаю. Не зарекайся. Не помню точную статистику, но чуть ли не большинство браков распадается. А симпатий, начавшихся в пятнадцать лет и продлившихся всю жизнь, почти не бывает. Ты, разумеется, уверена, что твой случай – именно такая редкость?
– Представь себе, уверена!
– И на чем же основана твоя уверенность? На том, что он сильный, смелый, не урод и нравится другим девчонкам тоже, а не только тебе?
– Ну и пусть нравится, что с того? Он ведь не животное, чтобы бросаться на каждую.
– На каждую – это перебор. А вот на какую-нибудь смазливенькую, которая ему пару раз глазки состроит, может и среагировать.
– Неправда, он не такой!
– Почему же не такой? С тобой он ведь познакомился. Почему ты думаешь, что отныне он больше ни с кем знакомиться не станет? Если ты считаешь себя школьной королевой красоты, спешу тебя предупредить: школа – еще не весь мир. А в мире, между прочим, настоящие королевы красоты, кинозвезды и даже настоящие принцессы крови периодически разводятся с мужьями, расходятся с парнями и переживают прочие несчастья. Заговоренных нет, учти.
– Чего ты от меня хочешь, папа? Чтобы я порвала с Сережкой? Не дождешься! Я без него жить не смогу. И он без меня.
– Это кто же тебе сказал?
– Никто не говорил! Я сама знаю!
– Надо же! Она сама знает. Что ты можешь знать об этой жизни, милая моя? Возможно, насчет тебя самой тебе действительно кажется, будто ты без него не проживешь. Но с какой стати ты думаешь то же самое о нем?
– А с такой стати, что я его знаю! Не один день, и даже не один месяц!
– С ума сойти! Она его знает не один месяц. Да что толку от твоего знания? Если ты чуть не год пялишься на него бессмысленными глазами, это вовсе не означает, что ты его знаешь. Можно годы прожить с человеком в одной квартире и все же не узнать о нем всего.
– Ты о маме сейчас говоришь?
– Нет, не о маме. И не советую демонстрировать мне свое потрясающее чувство юмора. Людмила, ты реагируешь на мои слова так, будто я пытаюсь причинить тебе несчастье.
– Скажешь, это не так?
– Скажу. Ты ведь моя единственная дочь. Я хочу видеть тебя счастливой, а не брошенной. Я знаю жизнь в сто раз лучше, чем ты, я знаю мужиков в тысячу раз лучше, чем ты. И я просто хочу уберечь тебя от обыкновенных девчачьих ошибок, которые многим ломают жизни.
– Ты совсем как мама говоришь. Она тоже все время пытается уберечь меня от ошибок. Это она тебя подговорила провести со мной душеспасительную беседу?
– Причем здесь душеспасительная беседа? Просто мы с мамой очень хорошо понимаем твои нынешние переживания. Нам ведь тоже было когда-то пятнадцать, хотя ты никак не можешь в это поверить. Мы знаем, что ты думаешь о нем, когда засыпаешь, видишь его во сне, просыпаешься и снова о нем думаешь. У тебя душа поет, когда он тебе улыбается, а когда он тебя целует, тебе кажется, будто земля ушла из под ног и ты паришь в воздухе. Но, в отличие от тебя, мы с мамой очень хорошо знаем, что весь этот восторг неизбежно закончится. И мы просто хотим, чтобы ты не покалечилась душой в результате своих увлечений.
– Почему же это он закончится?
– Потому что он всегда заканчивается. Иначе не бывает. Вот ты сказала, что мама не смотрит на меня восторженными глазами. Как ты думаешь, почему? Потому что наши чувства уже давно изменились. У нас есть ты, будет еще пополнение семейства. Наши чувства теперь в вас, они осуществились. И мы говорим о кафеле в ванной, потому что хотим, чтобы вы жили удобно и красиво, а не среди руин. Но этот самый переход от фонтана эмоций к спокойному сосуществованию многие не выдерживают. Отношения рушатся вместе с чувствами, и люди начинают друг друга ненавидеть.
– Я никогда не стану ненавидеть Сережку.
– Все так думают, пока не приходят к точке перелома.
– Мы не придем.
– Желаю успеха.
За время разговора Сагайдак успел придти к твердому убеждению, что дочь уже спит со своим проходимцем, и хотел уничтожить его полностью, истолочь в пыль. Прежде, чем в очередной раз завести двигатель, он сказал:
– Людмила, ты вольна угробить свою жизнь. Я понимаю – мы с мамой не сможем тебя остановить силой. Я хочу только довести до твоего сознания простейшую мысль: все в нашей жизни проходит. И хорошее, и плохое. Счастье не длится вечно, горе не царит беспредельно. Люди умирают, уходят, приходят другие. Нужно просто быть предусмотрительным, иначе можно на одном из таких виражей свернуть себе шею. Нельзя до дна растворяться в другом человеке, потому что нет совершенства в мире. Что ни возьмешь – есть и лучшее, и худшее по сравнению с ним.
– А как же чемпионы мира?
– Что чемпионы мира? На место одних чемпионов всегда приходят другие. И каждый чемпион лишил себя много, в том числе и в личной жизни, чтобы стать чемпионом. А в старости, на инвалидности, в одиночестве, сидит и думает, зачем он потратил свою единственную молодость на дурацкий спорт, а не на тихие радости жизни.
– Хочешь убедить меня в том, что в жизни нет ничего хорошего?
– Ты меня слушала или думала о своем Сереженьке? Я пытаюсь тебе доказать, что все проходит, нужно понимать это и всегда быть готовым сделать новый шаг, а не останавливаться на одном месте в радостном изумлении или в приступе черной меланхолии.
– Но это же плохо.
– Что именно?
– То, что нельзя остановить жизнь в любой момент по своему желанию.
– Вот повзрослеешь, станешь читать другие книжки и одолеешь когда-нибудь один толстенький кирпичик, посвященный этому вопросу с самого начала до самого конца.
Милка замолчала, а через несколько минут, когда они приехали домой, без единого слова ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, вывесив снаружи на ручке стащенную из какой-то гостиницы табличку "Do not disturb".
– Что с ней? – спросила Ирина, придерживая руками свой большой живот.
– Ничего страшного. Наподдал как следует ее хахалю.
– Сергею?
– А ты с ним еще и знакома?
– Не знакома. Слышала иногда от Милки.
– Она ведь спит с ним?
– Наверно.
– Не видишь здесь проблемы?
– Проблему вижу. Не вижу решения. У нее мозги совсем набекрень съехали. Вены может себе порезать, если всерьез надавить.
– Надеюсь, теперь не порежет.
– Что ты ей сказал?
– Что жизнь – не сказка, как бы ей ни хотелось думать иначе.
– Запретил с ним видеться?
– Нет. Попытался доказать, что он – не единственный свет в окошке. Ты как здесь?
– Ничего. Развлекаюсь походами в туалет.
– А телевизор?
– Телевизор надоел.
– А книги?
– И книги надоели.
Ирина спрятала лицо в ладонях и тихо заплакала. Сагайдак встал и обнял ее за плечи:
– Что с тобой?
– Ничего. Милку жалко.
– Ничего страшного с ней не случится. Перебесится.
На следующий день Сагайдак прибыл в здание районной администрации, дабы принять участие во встрече главы с местными предпринимателями. Думая о своем, в кулуарах он неожиданно столкнулся с Самсоновым и машинально с ним поздоровался.
– Как жизнь? – без всякого интереса спросил журналист.
– Нормально. Беременная жена и беспутная дочь считают меня мерзавцем.
Петр Никанорович сам не знал, зачем принял исповедальный тон в разговоре с малознакомым человеком. Все вышло само собой. Видимо, именно ввиду малознакомости – постороннему человеку легче занять позицию независимого критика чужой жизни.
– Случается, – спокойно заявил Николай Игоревич. – Меня жена вообще видеть не желает. Хорошо хоть, дочка еще маленькая и скучает.
– А сколько твоей?
– Пять всего.
– Счастливчик. Моей пятнадцать. С восемнадцатилетним спуталась, истерики закатывает. Лижется с ним посреди улицы.
– Положа руку на сердце, это естественно. Можно сокрушаться по поводу раннего начала взрослой жизни, но если уж началась, то началась. Правда, когда думаю о своей пигалице, то склоняюсь к идее пороть ее, как сидорову козу, если до окончания школы на свиданки бегать начнет.
– Начнет, не сомневайся. Не до смерти же их запарывать. Был бы парень, а не девка – никакой головной боли.
– Феминистка тебя бы без соли съела за такие слова, – ухмыльнулся Самсонов.
– Да пошли они куда подальше. Дураку ведь понятно – совершенно разные вещи. Случись что – все шишки посыплются на девчонку, а не на пацана. И не из-за половой дискриминации, а из-за того, что для нее это вопрос здоровья и жизненной перспективы.
– Ты запретил ей встречаться с ним?
– Как же я ей запрещу? Просто попытался открыть глаза на суровую правду жизни.
– Невозможно открыть глаза подростку. Родители для него – аллегория отчужденности.
– До моей вроде дошло – со вчерашнего дня переживает.
– Переживает или играет на твоих нервах?
– Вроде переживает. Заперлась в своей комнате и не выходит. Домашний самоарест.
– Раньше такое случалось?
– Нет. Раньше случались только шумные сцены.
– Тогда, возможно, действительно переживает. Кто их разберет, они и взрослые – вещь в себе, а уж на фоне бурления гормонов…
– Пусть ее гормоны дома бурлят, а не где попало. Наверное, запустил я девчонку. Хочешь ее уберечь от ошибок, а она сопротивляется, будто ее на казнь волокут.
– А ты помнишь своих девок?
– Что?
– Ты сам девок портил? Помнишь их? Извини, конечно, за бесцеремонность, но, раз уж зашел такой разговор, то вопрос вполне уместен. Лично я, насколько себя помню, пломб никогда не срывал.
Сагайдак недоуменно пожал плечами:
– Я тоже не припоминаю за собой.
– Видишь, как замечательно! Но среди твоих приятелей наверняка есть такие. По крайней мере, рассказчики.
– Рассказчики точно были, но свечку никому не держал.
– Видишь, как занятно. Никто не трогает целок сам, только его приятели.
– Если мы с тобой не трогали, это еще не значит, что никто этого не делал.
– Не скажи. Я уже не первый год свое социологическое исследование провожу. А вообще, помнишь, кого забыл?
– Чего-чего?
– Помнишь людей, которых в своей жизни забыл?
– Что-то у тебя сегодня вопросы странные. Кого-то помню, кого-то забыл. Зачем мне всех помнить? Не помню тех, с кем ничего не связано.
– Но если они были в твоей жизни, значит, с ними было что-то связано?
– Ладно, ничего личного не связано. Если только вместе учился и ни разу словом не обмолвился – естественно забыл. По-твоему, я должен семьями дружить со всеми бывшими однокашниками и однокурсниками?
– Зачем же дружить? Просто вспоминать иногда.
– Всех, с кем когда-то жизнь сводила?
– Всех.
– Чепуха. Так не бывает. Хочешь сказать, ты всех вспоминаешь?
– Нет, к сожалению. А надо бы.
– Почему?
– Потому что каждый достоин памяти.
– Даже подлец из подлецов?
– Подлец из подлецов достоин дурной памяти.
– Даже ни то, ни се, ни рыба, ни мясо?
– Даже эти. Не понятые, не замеченные, промелькнувшие мимо. Если ты десять лет смотрел мимо него, откуда тебе известно, что он ни то, ни се?
– Я именно потому и смотрел мимо него в течение десяти лет, что он – ни то, ни се.
– Нет, он просто не обратил на себя внимания. Стоило только разок остановиться рядом с ним и перекинуться парой слов – вдруг открылась бы бездна непознанного?
– Чепуха. Так не бывает. Нельзя в течение десяти лет не заметить в человеке бездну непознанного. Десять лет можно не замечать только пустоту.
– Ты так думаешь, потому что никогда в жизни не интересовался тихими и незаметными.
– Ерунда. Ты меня не убедил.
– Жаль. Ну ладно, бывай здоров.
– Счастливо.
Сагайдак и Самсонов разошлись в разные стороны по своим делам, и Петр Никанорович долго думал над словами странного журналиста. Нет, он не может быть прав. Нельзя залезать в душу прячущим ее людям – можно и по морде схлопотать.
Измотанный после хлопотливого рабочего дня, бизнесмен вернулся вечером домой и вновь обнаружил на двери дочери запретную табличку.
– Она хоть выходила оттуда? – спросил Сагайдак жену.
– Разумеется. В школу. Потом ужинала. Молча.
– А ты к ней заходила?
– Нет. Она же запрещает.
Петр Никанорович представил, как маленькая родная Милка лежит одна на своем диванчике и плачет. Под ложечкой похолодело. Ничего, и это тоже пройдет.
10. Рожденный взамен
Утренний морозец прихватил не успевшие опасть листья берез у редакции "Еженедельного курьера". Серые, подернутые инеем, похожие на грязные лоскутки, свисали они с веток, уныло оттеняя праздничную белизну стволов. Редкие прохожие втягивали головы в плечи и старались шустрее перебирать на ходу ногами – лето осталось в прошлом, но привычка к теплу еще не покинула людей. Солнце безнадежно тонуло в серой мгле непрозрачного неба.
Утренняя пятиминутка у главреда подходила к концу, когда он хлопнул обеими ладонями по столу и крикнул:
– Самсонов! На твоей улице праздник. Помнится, ты рвался резать правду-матку?
– Можно и так сказать, – буркнул Николай Игоревич.
– Возможность представилась наипервейшая. Сегодня арестован замглавы Полуярцев. Знаешь такого?
– Знаю.
– Ну вот, дерзай. Там для тебя целый букет приготовлен. Фирма на имя жены, откаты, блатные подряды и тэ дэ и тэ пэ. На этом все, все свободны – за работу, господа товарищи.
Люди вставали с мест, с грохотом отодвигая стулья, вполголоса переговаривались друг с другом и неторопливо тянулись сквозь дверь прочь из высокого кабинета. Николай Игоревич продолжал сидеть с прежним, безразличным выражением на официальном лице.
– Можешь приступать, – добавил главный, не осознав глубинной подоплеки поведения непредсказуемого журналиста.
– Вы точно этого хотите? – тихо спросил тот.
– То есть? Почему бы мне этого не хотеть?
– Как знаете. Мне понадобятся интервью с ним самим, с его женой, с другими замами, с подчиненными, с главой администрации, с прокурором. Возможно, еще с кем-нибудь – потом видно будет.
– Ничего тебе не понадобится. Есть пресс-бюро администрации, оно предоставит все доступные материалы по делу. Зачем тебе глава-то понадобился?
– Спросить хочу кое-что.
– Что именно?
– Про фирмы, дома, машины и всякую всячину в собственности близких людей высоких чинов нашей иерархии судачат уже несколько лет. Отсюда вопрос: почему дело сдвинулось с места только сейчас и только в отношении Полуярцева?
Главный тяжело молчал и хмуро ел глазами подчиненного.
– Ты опять за свое? Никак не повзрослеешь? Еще не научился отличать правильное от неправильного?
– Как сказать. У нас с вами разные точки зрения по этому вопросу.
– Если у тебя своя точка зрения, какого черта ты здесь выступаешь с неадекватными заявлениями? Всерьез ждешь моего "да"?
– Нет, конечно. Но попусту растрачивать свое время не намерен. Если мой план работы по теме вас не устраивает, я лучше займусь другими проблемами. Я слышал, у нас неплохое литературное общество действует – пойду туда, пообщаюсь с безобидными чудаками. Культура – не моя сфера, но можно подать историю как проявление общественной жизни.
Главред не сводил свинцовых глаз с Николая Игоревича.
– Послушай, Самсонов, я никак не могу понять. Ты считаешь, на Полуярцева возвели поклеп?
– Нет, не считаю.
– Обвинения кажутся тебе справедливыми?
– Вполне возможно. Хотя тоже нужно еще присмотреться повнимательней.
– Ну так в чем же твоя проблема? Берись за дело и присматривайся, сколько угодно. Ты сам не веришь, что он окажется во всем белом.
– У меня нет никакой проблемы.
– Как же нет? Почему ты отказываешься делать свою работу, о которой так красиво говорил прежде?
– Я не отказываюсь. Я обрисовал вам вкратце свой план работы – он вас не устроил.
– Разумеется, не устроил. И ты заранее знал, что он меня не устроит. Тебе предлагают заняться делом, а ты изобретаешь способы уклониться от профессионального долга.
– Ничего подобного. Я бы уклонился, если бы принял ваше предложение.
– Ну вот, опять. Взрослеть собираешься?
– В вашем понимании – нет.
Главный пристально смотрел на подчиненного, искренне желая разглядеть в его лице признаки умственного помешательства.
– Я пойду? – осторожно спросил Николай Игоревич.
– Иди. И будь внимательней на виражах, как бы шею не свернул, с твоими-то творческими запросами.
Самсонов вышел на свободу и натолкнулся на торопливо семенившую к трезвонящему телефону Дашу. Она недовольно отпихнула его в сторону и схватила трубку, словно ждала от нее избавления от незримой беды.
– Алло! Редакция. Говорите, пожалуйста. Кого? Самсонов, подожди! Тебя.
Всю тираду опытная секретарша выпалила с такой скоростью, что Николай Игоревич не успел исчезнуть в офисных дебрях и нехотя вернулся к роковому столу, чтобы с угрюмой миной принять протянутую ему телефонную трубку.
– Алло. Я слушаю. Мария Павловна? Здравствуйте, очень рад. Чем обязан?
Официозно корректный тон журналиста при исполнении быстро сменился на обыденно заинтересованный. Мать покойного солдата искала помощи в связи с неприятностями у младшего сына. Видимо, этим утром все пути вели Самсонова за решетку – самый младший из Первухиных тоже оказался там. Николай Игоревич не имел ни малейшего представления ни о смысле происходящего, ни о способах, которыми он мог бы оказать помощь несчастной. Тем не менее, тема нарисовалась сама собой, из воздуха, и журналист отправился по следу.
Мария Павловна встретила его заплаканная, в стареньком халате, без приготовленного стола с угощением. Прямо у двери, едва успев ее открыть, она начала сбивчиво и непоследовательно рассказывать гостю о постигшем ее несчастье. Ранним утром явились представители власти в таком количестве, какого никогда еще не видел этот дом. Показали какие-то "корочки", какие-то бумажки, что-то сказали и углубились в квартиру, а через минуту спросили, где сын.
– Как где? В своей комнате.
– Где его комната?
Она показала на открытую дверь.
– Его там нет. Зато окно открыто.
Мария Павловна перепугалась, бросилась в комнату сыновей и действительно не обнаружила там Мишку.
– Что вы с ним сделали? – закричала она на представителей власти, но те потребовали от нее замолчать, а затем предположили, что сын выпрыгнул в окно во избежание неприятной встречи с законом.
– Неплохая подготовочка, – уважительно заметил один из мужчин. – С третьего этажа сиганул и был таков. А мы и охранение там не поставили – думали, если прыгнет, то ноги переломает.
Затем представители власти принялись обыскивать квартиру в присутствии понятых из числа соседей, которые сидели в уголке немного потерянные и смотрели в основном на хозяйку. Нашли только книги о тактике партизанской войны и способах изготовления взрывных устройств, которые и унесли с собой, оставив Марию Павловну посреди разоренного и обезлюдевшего жилища.
– Так значит, Михаил не арестован? – заинтересованно спросил Самсонов.
– Ничего не знаю, ничего… – горестно запричитала несчастная мать. – Может, и убили уже где-нибудь на улице. В окошко-то прыгнул, в чем был – вся теплая одежда в прихожей.
– Вы успокойтесь, я не думаю, что в него будут стрелять. А в чем его обвиняют, они сказали?
– Да говорили что-то… Я ничего не поняла, ничего. Какое-то нападение, избиение, причинение каких-то повреждений. Ничего не поняла! Какое нападение? Мишка кого-то так избил, что его с милицией ищут? Чепуха ведь полная!
– А все-таки, кого именно избил? – спросил журналист.
– Не знаю, не знаю, кого. Никого он не мог избить! – проявила материнскую уверенность в святости собственного ребенка Мария Павловна. – Вы помогите мне, ради Бога! Не может ведь такого быть. Ну какой же Мишка преступник? Пацан совсем, молоко на губах не обсохло! Может, и подрался где, но не так же, чтобы его вся милиция искала! Тоже, террориста нашли!
– Вы успокойтесь, Мария Павловна. Я думаю, все обойдется, – неискренне настаивал Самсонов, одновременно обдумывая дальнейшие действия. Было бы неплохо найти беглеца раньше органов, как подступиться к решению этой задачи, журналист не знал.
– Ну как же я успокоюсь, что вы говорите!
– Ничего, ничего, успокойтесь. Попейте что-нибудь. Я не знаю… Валерьянки, наверное.
Николай Игоревич никогда не пил ничего для успокоения и не мог ничего посоветовать Марии Павловне, а теперь он еще и спешил ее покинуть. Но сначала следовало получить от женщины дополнительные справки: с кем в городе Мишка находится в приятельских или дружеских отношениях, кто чаще других заходил к нему в гости, и где все эти люди живут. Желаемые сведения журналист получил, хотя не рассчитывал использовать их для поиска беглеца – ведь милиция будет искать его там в первую очередь, и подпольщик должен понимать такие очевидные вещи. Самсонов хотел нащупать неожиданный след. Такой, которого не вынюхает ни одна ищейка. В понимании самозванного детектива, он должен вывести к человеку без видимых связей с Мишкой, но при этом его знакомому. Бывший друг, бывшая девушка – еще кто-нибудь бывший, отошедший почему-либо в тень, но не забывший прошлого.
С помощью безутешной Марии Павловны журналист составил целый список связей ее сына, ни одна из которых не могла привести к нему напрямую, но действовать немедленно в этом направлении было бессмысленно. Среди бела дня большинства не окажется дома, и бродить по многочисленным адресам прямо сейчас нет смысла.
Самсонов наскоро распрощался женщиной и первым делом направился в ОВД, где после некоторых усилий смог разузнать главное. Первухина-младшего подозревают в причастности к нападению на сотрудников охраны картонажной фабрики пару дней назад. Двое пострадавших оказались в больнице с переломами и сотрясением мозга, не сумев толком рассказать об обстоятельствах происшествия. Однако, как часто бывает, нашелся свидетель, видевший поблизости от проходной, где все и случилось, нескольких парней. Он узнал в некоторых из них рабочих фабрики, а в одном – младшего Первухина, который на фабрике не работал, но был известен там некоторым в качестве сына своей матери.
– А что за охранники на этой фабрике? – спросил Самсонов.
– Да одно охранное агентство, частное, – пояснили ему и многозначительно подмигнули, чем сказали намного больше.
Николай Игоревич вернулся в редакцию, порылся в справочных данных и принялся звонить на картонажку в надежде узнать дополнительные подробности. Он долго общался с разными людьми, говорившими то девичьими голосами, то мужскими, но все они оказались едины в одном: администрация фабрики не может комментировать события, не связанные непосредственно с ее деятельностью. Оказавшийся в розыске Михаил Первухин на фабрике никогда не работал, то обстоятельство, что он является сыном одной из работниц фабрики, администрацию нисколько не интересует. Все детали, касающиеся деятельности охранного агентства, следует выяснять о сотрудников этого самого агентства.
Журналист в целом представил себе ситуацию, за исключением мелких подробностей, и в общем домыслил их до состояния почти полной уверенности. Тем не менее, совесть требовала уйти от фантазий к фактам, и Самсонов отправился на картонажку для проведения собственного расследования. На проходной его встретили крепкие молодые люди в черном и не проявили ни малейших признаков понимания. Удостоверение их совершенно не впечатлило, даже не принудило вызвать старшего.
– Вы хотя бы знаете пострадавших? – настырно лез не в свое дело Самсонов. – Общались с ними после нападения?
Ответом послужило молчание и угрюмое бурчание, не содержавшее никакого смысла, кроме неприятия журналистского клана вообще и некоторых его представителей в частности.
– А почему вы так враждебны? – не унимался Николай Игоревич. – Вы считаете, что я непременно представлю происшествие предвзято?
– Как тебе скажут, так и представишь, – холодно ответили ему. – А откуда мы знаем, что тебе скажут?
– Логично. А если я справку принесу от Касатонова с разрешением на сбор сведений?
– Ни хрена ты не принесешь. И на Касатонова твоего нам плевать. У нас свое начальство есть – ты от него справку принеси.
Не добившись никакого прогресса в переговорах и сталкиваясь со все нарастающей агрессивностью парней в черном, Самсонов вышел на улицу и отправился в районную больницу. Там ему вновь пришлось напрячь актерские и прочие творческие способности, дабы получить доступ в палату к пострадавшим охранникам. Он размахивал служебным удостоверением, ссылался на необходимость освещения в прессе проблем здравоохранения в видах их скорейшего решения, интересовался уровнем преступности в городе, каким он видится медикам у операционных столов и наговорил много всякого, чего никогда прежде не говорил в своей жизни. Журналист прорвался в кабинет главврача и вывалил на корректную, ослепительно белую даму весь свой дар красноречия, Позднее ему вспоминалось в некотором тумане, будто он даже пообещал ей строительство нескольких новых корпусов больницы. Зачем он зашел так далеко, Николай Игоревич никогда объяснить не мог.
Тем не менее, главного он достиг: в ходе экскурсии по больнице, в накинутом на плечи халате, среди выставленных в коридор коек с больными разного возраста и пола, журналист попал в палату с шестью недовольными мужиками.
– Что у нас здесь такое? – бодро поинтересовался Самсонов.
– Вот, двоих позавчера ночью привезли, – объяснила терпеливая главврач, которой не терпелось поскорее закруглить визит навязчивого репортера.
– Ага, отлично! – искренне обрадовался тот. – Что случилось, мужики?
– А тебе какая разница? – хмуро буркнул один из пострадавших охранников. Его нос был густо залеплен пластырем, но густая синева заливала распухшее лицо, и все равно было понятно, что нос сломан. С правой ключицей, видимо, случилось то же самое: согнутая в локте рука торчала вверх, удерживаемая в воздухе подпоркой.
– Да вот, собираю материал о преступности, – продолжал всеми силами демонстрировать беззаботность Самсонов. – С кем же это вы вдвоем встретились, да так, что не они, а вы здесь оказались? У нас что здесь, банда орудует?
– Откуда мы знаем, кто у вас тут орудует. Мы в командировке.
– В командировке? Никогда бы не подумал, что в наш славный город можно приехать в командировку. Чем же это вы таким занимаетесь, мужики?
– Не твое дело, – вмешался второй покалеченный. У этого нос был цел, зато голова была плотно обмотана бинтами, а правая нога закована в гипс. – Иди себе дальше, материал собирай.
– Мужики, я же вам помочь хочу. А вы так реагируете, словно я собираюсь про вас фельетон писать.
– Откуда мы знаем, что ты там собираешься. Сказано тебе, иди куда шел. И помогать нам не надо, сами разберемся.
– Вы что, секретные агенты под прикрытием?
– Проваливай.
– Нет, я только делаю предположения. Если попаду в точку, просто кивните.
– Проваливай отсюда.
Главврач не смогла оставаться в стороне и вмешалась в ситуацию не на стороне Самсонова:
– Пойдемте, нельзя нервировать больных.
– Нет, ну я же не требую от них ничего ужасного или компрометирующего, почему такая реакция?
– Проваливай, козел!
– Пойдемте, пойдемте, Николай Игоревич.
Женщина в белом схватила журналиста под руку и насильно вытащила в перенаселенный коридор.
– Что вы себе позволяете?
– Да ничего я себе не позволил! Вы же все видели.
– Видела. Они не давали вам согласия на интервью.
– Ваша правда. Не давали. А что у вас богатый опыт общения с журналистами?
– У меня просто есть ясное представление о медицинской этике.
Самсонов испытал острый позыв сострить по поводу медицинской этики, но вовремя придержал язык – главврач ему может пригодиться еще не раз, и портить с ней отношения без необходимости показалось ему верхом глупости.
Репортер вернулся из больницы в редакцию и позвонил Марии Павловне. Она снова стала плакать и жаловаться на отсутствие новостей от Мишки, но Николай Игоревич смог ее прервать и поинтересоваться домашним телефоном фабричного профорга. Женщина порылась в своем блокноте и спустя некоторое время сообщила репортеру требуемые сведения, после чего опять стала плакать. Самсонов бросил телефонную трубку и вышел из редакции на улицу.
Мороз отступил, воздух стал промозглым и сырым. Журналист остановился на тротуаре и задумался. Чем он занимается и зачем? Почему судьба Мишки Первухина выводит его на неприятную позицию конфликта с серьезными людьми, а он послушно следует путем проклятого? Если он и напишет что-нибудь о безвестном революционере, "Еженедельный курьер" его материал не напечатает, а для любого другого издания он – просто человек с улицы. Да и кому вообще понадобится этот юный бунтарь, занявшийся по глупости робингудовскими подвигами? Кто пожелает прочесть хотя бы строчку о нем? Прохожие обходили задумчивого журналиста стороной, некоторые его задевали и недовольно оглядывались. Он всем мешал.
Самсонов медленно отправился в служащую ему временным приютом коммуналку, где решительно подошел к Алешкиной двери и постучал. Тот долго не откликался, затем из комнаты донеслись шаркающие шаги, дверь со скрипом открылась и в проеме обнаружился потерявший себя хозяин. Отсутствующим взглядом обозрел он полутемный коридор и с нескольких попыток смог остановить его на посетителе. В затуманенном взоре Алешки не сразу, но постепенно прорезалось удивление.
– Привет! – как ни в чем не бывало почти крикнул Николай Игоревич. – Дело есть. Тут, понимаешь, такая ситуация… У тебя есть какая-нибудь куртка, старая? Мне на время, только на сегодняшний вечер. Мои все дома остались, а там сейчас жена, неохота с ней общаться.
Алешка смотрел на просителя долго и сосредоточенно, осмысливая его запрос. Затем молча углубился в свою комнату и вынес оттуда совершенно невообразимое тряпье. "А вдруг вшивая?" – с опаской подумал Самсонов, но машинально взял предложенный ему предмет верхней одежды и даже поблагодарил. То ли хорошее воспитание сказалось, то ли сработал эффект неожиданности, но уже через несколько секунд Николай Игоревич пришел к уверенности, что никогда не сможет это одеть. Получасовой санитарный осмотр и аутотренинг привели к перемене настроения, и он вышел на улицу в своем чудовищном наряде.
Самсонов прошелся по окрестностям, нашел магазинчик, купил в нем бутылку водки и упаковку сыра для тостов, затем пристроил бутылку за пазухой, а сыр – в кармане. Испытывая сложные чувства, он вернулся к картонажной фабрике и присел на лавочке за ближайшим углом в ожидании. Минут через тридцать закончилась смена, работяги хлынули через проходную на улицу и рассыпались в разные стороны. Журналист выбрал пару наиболее крикливых и недовольных жизнью пролетариев, активно решавших некий внутренний конфликт, и беззаботно приблизился к ним. Смысл дискуссии уловить сходу ему не удалось, но интуиция повела репортера вперед вслепую.
– Здорово, мужики! – произнес он заговорщицким тоном.
– Чего тебе? – грубо спросили его в ответ.
– Да вот, беда у меня.
– Слушай, козел, отвали! Не до тебя сейчас.
– А как насчет этого?
Журналист раздвинул края расстегнутой на груди куртки и продемонстрировал жаждущим блестящее горлышко непочатой бутылки волшебной амброзии.
– Угощаешь? – строго спросил один из страждущих.
– Угощаю. Но за компанию.
Мгновенно достигнутое согласие реализовалось тут же, на лавочках, в маленьком запущенном скверике. Беседа завязалась раскованная и откровенная. К концу бутылки Самсонов, старавшийся глотать пореже и поменьше, успел понять главное: интуиция его не подвела.
Неделю назад охранники картонажки отправили на больничную койку одного мужика, рассуждавшего во время перекуров о пользе забастовок. Собственно, его разговоры ни к чему не вели, поскольку он ни разу не ответил на вопрос слушателей: чем жить во время забастовки? Именно в силу смехотворных зарплат накоплений ни у кого не было, как и другой работы в городе.
– Ну, перебиться как-нибудь неделю-другую, – настаивал непонятливый мужик.
– А если не хватит недели-другой?
– Еще как хватит! Касатонов-то за это время потеряет еще больше, чем мы!
– Касатонов, наверное, и не помнит, что у него среди прочего есть еще и наша картонажка. Он хоть десять лет сможет терпеть, а скорее всего, просто в первый же день уволит всех к такой-то матери.
– Так это же незаконно!
– Ты что, совсем дурак? – спрашивали мужика и получали в ответ новые порции его увещеваний.
Самсонов поинтересовался, откуда появилась уверенность трудящихся в причастности охранников к избиению болтуна.
– Так они и не скрывались особо! Среди бела дня, прямо на территории фабрики, несколько человек, без единого слова, чуть не до смерти. Кто же еще, как не быки? Мужик их, правда, так и не разглядел, но свои так не бьют. Сроду такого не было. Свои, если не поделят чего, друг друга за грудки потаскают, и все тут.
– А на проходной эти быки сильно зверствуют?
– Да как их на всех углах наставили, мужики еще больше тащить стали. Назло. Инструмент всякий, то-се. У нас, вообще-то, не мясокомбинат, особо не разживешься. А быки цепляют, конечно, им слово, они – два, им – три. Глядишь – опять ор поднялся. Мужики сзади напирают, а эти не выпускают, вертушку свою запирают и кого-нибудь из толпы вытащить хотят.
– Часто вытаскивают?
– Когда как. Нас ведь тоже на принцип не возьмешь. Только они потом поодиночке кого-нибудь подкарауливают и на костыли пересаживают.
– А им что же, никогда не перепадает?
– Почему не перепадает, вот только на днях двоих укатали.
– А раньше случалось?
– Раньше – нет. Впервые. Они-то все гуртуются, а мы – по одному на территории болтаемся.
– И кто же этих двоих укатал, не слышали?
Собутыльники насторожились и посмотрели на Самсонова внимательней.
– Нет, не слышали. А тебе на хрен знать?
– Так просто. Может, и не ваши вовсе укатали, а вы только языками болтаете.
– Будь спок, наши. Проверено.
– Вы же не слышали, кто.
– Сказано тебе, наши. Может, тебе чердак разнести, чтобы знал, какие вопросы задавать?
– Да ладно, мужики, чего вы! Я так просто. Не слышали, и не слышали. А как у вас вообще, на картонажке? Места есть? Я устроиться хотел.
– Устраивайся. Платят – слезы, по больничным оплачивают только пять дней в год. Переберешь – пошел вон. Пять раз опоздаешь, хоть насколько – пошел вон. Один день без больничного пропустишь – пошел вон. Отпроситься с работы попробуешь – хрен тебе. Варежку раззявишь – больничку организуют.
– А на фига вы там корячитесь?
– А где еще корячиться? В Москву каждый день мотаться – полжизни в электричке проведешь. В Москве угол снимать – от зарплаты останется столько же, сколько здесь зашибешь без всякой Москвы.
Подогреваемый водкой разговор с пролетариатом дал Самсонову удивительное чувство непричастности. На редакцию "Еженедельного курьера" он трудился когда хотел и где хотел. А самое главное – не поднимал ничего тяжелее шариковой ручки. Довольный своей удавшейся жизнью, журналист к исчерпанию бутылки закруглил беседу и спустя короткое время явился в родную редакцию с легким приятным кружением в голове и небывалым приступом служебного рвения.
Засунув голову под кран с холодной водой и сделав легкую зарядку, Николай Игоревич засел за телефон и принялся по списку обзванивать приятелей и знакомых молодого Первухина. О его местонахождении он даже не спрашивал, чтобы не вызывать в людях отталкивающих эмоций, а говорил только о журналистском задании и необходимости создать представление об образе жизни ударившегося в бега активиста. Главной целью расспросов он поставил себе выяснение круга бывших знакомых, а то и врагов, у которых беглеца не стали бы искать, но не добился и этого. Наверное, вести такие разговоры по телефону было неправильно, но на другие способы у репортера не оставалось времени. Безрезультатно завершив серию телефонных переговоров, Самсонов сменил заимствованное у Алешки облачение на свой обыкновенный плащ и отправился домой к профоргу.
В квартиру его впустили после некоторой задержки у глазка и после тщательного изучения предъявленного журналистского удостоверения, просунутого в щель приоткрытой на цепочке двери. Профоргом оказалась немолодая женщина, исполнявшая свою общественную нагрузку чуть не с советских времен с постоянством антикварного часового механизма. Она смотрела на репортера удивленными глазами и все никак не могла осознать цели его визита. В глубине квартиры к профоргу присоединился муж, перемещавшийся с палочкой и еще более подозрительный, чем его жена. Разговор получился вязкий, медленный, непоследовательный.
Профсоюз на картонажке есть, и он работает. Взносы собираются, юбиляры поздравляются, подарки на восьмое марта, двадцать третье февраля и Новый год покупаются. Вопросы Самсонова о трудовом кодексе, коллективном договоре и прочих практических вещах поставили профорга в тупик и сделали вполне недоброжелательной.
– Вы зачем сюда явились? – сухо спросила она. – Вы вообще откуда?
– Я же показывал вам удостоверение. Из "Еженедельного курьера".
– Не может быть.
– Почему не может быть?
– Если бы вы были оттуда, то пришли бы днем на фабрику и таких вопросов не задавали.
– Надо его гнать отсюда, – решительно предложил муж. Он сидел на стуле рядом с женой, поставив палку между колен и опираясь на нее обеими руками. Взгляд его с самого начала не отличался дружелюбием, а теперь сделался откровенно враждебным.
– Извините, я не понимаю вашей реакции, – изобразил невинность Самсонов. – Разве мои вопросы не относятся к сфере деятельности профсоюза?
– К провокации твои вопросы относятся, – снова вставил слово недовольный муж.
– Причем здесь провокация? Профсоюзы у нас в стране не запрещены, трудовой кодекс существует, заключение коллективных договоров обязательно. Я ведь не говорю о какой-то подпольной деятельности.
– Какую еще подпольную деятельность вы имеете в виду? – встрепенулась профорг.
– Да никакую не имею, – искренне изумился Николай Игоревич. – Я веду речь о совершенно легальной работе профсоюза.
– Вам лучше уйти, – сориентировалась в обстановке профорг. – И поскорее, пока мы милицию не вызвали.
– Помилуйте, зачем же впутывать в наши отношения милицию? Я, конечно, могу уйти, хотя так и не понял, в чем состоит мое преступление.
– В том, что ты дурак или провокатор, – в очередной раз подал решительный голос муж. – Хочешь нас на двух пенсиях оставить, молодчик? Ишь, какой выискался!
– Хотите сказать, что вашу жену могут уволить всего лишь за разговор с корреспондентом официальной районной газеты? Сама по себе такая возможность – уже повод для отдельной беседы. Вас устраивает подобное положение дел?
– Нас устраивает такое положение дел. Ты, что ли, нас кормить будешь?
– Но ведь, в случае соблюдения трудового кодекса на вашей фабрике, ваше положение только улучшится. Что за дикий капитализм такой?
– Какой есть, такой есть. Что вы хотите, чтобы я революцию устроила? Да я живой не останусь, если только рот открою.
– Это вы про охранников? Можете что-нибудь сказать про недавние нападения?
– Ничего не могу сказать. Ничего не видела, ничего не слышала.
– Но вы одобряете нападение на охранников? Оно ведь носило характер возмездия?
– Не знаю, какой характер оно носило. Ничего не знаю. Уходите отсюда, я вас к себе в гости не звала.
На этом разговор в целом завершился и в дальнейшем уже совершенно не содержал никакого смысла, а одну только сплошную попытку избежать насилия.
Выпровоженный на улицу без всяких церемоний, Самсонов не утратил интереса к жизни. Достав из кармана листочки с записями о связях молодого Первухина, он отправился в новый путь, руководствуясь листочками как путеводной звездой.
По первой паре адресов обнаружились только недовольные поздним визитом родители нужных репортеру связей, и он оказался на улице уже в достаточной темноте, но по-прежнему без какой-либо информации. На следующей паре адресов связи нашлись, однако без всякого стремления к общению с приблудными журналистами. По-прежнему пребывая на голодном информационном пайке, Самсонов отправился в следующее по списку место, как внезапно, в темном дворе, на какой-то детской площадке, которая с трудом идентифицировалась по смутным очертаниям горки и карусели, его движение прервалось самым варварским способом.
Самого момента происшествия журналист на уловил, осталось только смутное ощущение упавшего с ночного неба метеорита. Метеорит беззвучно обрушился Николаю Игоревичу на голову и опрокинул его навзничь. Мир оказался поколебленным, полотнище редких звезд вращалось у него перед глазами, и только одно оставалось непонятным – почему он оказался перенесенным от горки к карусели.
– Очухался? – угрюмо поинтересовалась темнота немного хриплым голосом.
Самсонов медленно ощупал себе грудь, бока, лицо, затылок, пошевелил ногами, руками, головой и подумал, что столкновение с метеоритом обошлось без тяжких последствий. Возникшее было во всем теле ощущение волшебной легкости постепенно ушло.
– Очухался, спрашиваю? – настойчиво повторила вопрос темнота тем же голосом.
– Кажется, – с оттенком сомнения ответил Николай Игоревич и попытался вглядеться в окружающее его ничто.
– Кто такой?
"Мог бы этим поинтересоваться прежде, чем бить по башке", – быстро подумал Самсонов, вслух произнес другое:
– А кто тебе нужен?
– Мне нужен один любознательный козел. Думаю, это ты и есть.
– Не знаю, не знаю. За козла ответишь.
– Тебе что ли отвечу? Дурочку не ломай. Ты меня ищешь?
– А ты кто такой?
– Здесь я вопросы задаю.
– Нет. Если ты – Первухин, то вопросы хотел бы задать я.
– Перебьешься. Кто такой, спрашиваю?
– Корреспондент "Еженедельного курьера" Николай Игоревич Самсонов.
Журналист сел, прислонившись спиной к какому-то столбу и ощущая собственную голову немного чужой.
– Корреспондент? Это ты весной к матери приходил?
– Я.
– Какого хрена?
– Что значит – какого хрена? Материал собирал для очерка о брате твоем. Она тебе не сказала?
– Сказала. А еще сказала, что в газете напечатали очерк того журналюги, который до тебя приходил. А вот откуда ты приходил, это вопрос.
– Да оттуда же я приходил, оттуда же. Долгая история. На подстраховку меня кинули, потому что тот вроде как к сроку не поспевал.
– Но успел все-таки?
– Успел. Слушай, не будь младенцем. Органы так не ищут, как я. У них стукачи есть.
– Вот именно.
– Я смотрю, у тебя в подполье совсем крыша съехала. Слушай, я же матери твоей телефон редакции оставил, она мне сама туда и позвонила – за тебя, дурака волнуется.
– Откуда я знаю, куда она тебе позвонила? Она и сама не знает.
Темный силуэт борца как бы раздвоился, и вдруг раздался мелодичный девичий голос:
– Миш, хватит тебе. Он же один ходит. Опера такие не бывают, сам посмотри. Ты же сам у него в карманах ничего не нашел.
– Ты еще по карманам моим шарил? – возмутился Самсонов. – Может, мне бабки в кошельке пересчитать?
– Целы твои бабки, – недовольно буркнул Первухин. – Чего ты за мной ходишь?
– Переговорить надо.
– О чем мне с тобой говорить?
Репортер, почти невидимый для собеседника, пожал плечами:
– О жизни.
– Удачное место ты нашел.
– Положим, место нашел ты. Но я не против, могу и на явку пройти, хоть с завязанными глазами. Ты почему до сих пор не уехал-то?
– Много хочешь знать… Надо будет, уеду без твоих советов.
– Хорошо. Мы что же, здесь и поговорим?
– Не собираюсь я с тобой говорить. Прекращай за мной таскаться, и все. А то совсем урою.
– Откуда же такая агрессия? Я обыкновенный журналист, занимаюсь своим делом. Разве вам не нужна печатная трибуна? Я не собираюсь тебя выспрашивать о методах партийной работы. Меня интересует мировоззрение.
Самсонов невольно погладил ладонью свою малость одеревеневшую голову.
– У нас партийная программа не секретная – бери и читай. Какое тебе еще мировоззрение?
– Да к черту партийную программу! Я лично тебя хочу попытать.
– Попытал один такой!
– Да брось ты в бутылку лезть! Не цепляйся к словам. Мне интересно, чего хочешь конкретно ты в конкретно нашем славном городе. Честно говоря, я не думаю, что у нас тут есть ваша партийная ячейка. Ты ведь один здесь революцией занимаешься, так?
– Болтаешь много, журналист.
– Да ладно, не отвечай. И так знаю – один ты. Вот только девушка у тебя – наверное, добровольная помощница.
– Ее не тронь.
– Не буду, не буду. Так чего же ты хочешь добиться?
– Чего это я тебе рассказывать стану? Все равно не напечатают.
– Не напечатают. Ну и что?
– Как это "ну и что"? Чего мне на тебя время тратить?
– Потому что я пресса. Мало ли, как все повернется. Я кое-какие ходы знаю, сможешь листовки свои здесь печатать. Конечно, если деньги будут. Дают тебе деньги-то? Нет, наверное. Зачем тебе, без ячейки.
– Ничего, будет ячейка.
– Серьезно? Подбираешь кадры? На картонажке, что ли?
– Болтаешь до хрена, журналист. Людей полно вокруг. Выйду на улицу, свистну – рота соберется, если понадобится.
– Думаешь, соберется? Может, ты по себе судишь? На картонажке вот народ пашет с утра до ночи и помалкивает – не хотят на улицу вылететь. А со стороны посмотреть – на фига им такая работа, зачем они за нее держатся? А ведь держатся – хозяина боятся, охранников боятся.
– Не так уж и боятся. Чуть подтолкни – башку кому хочешь снесут.
– Как же не боятся? О забастовке – и то речи нет. Кому там по кумполу дали за разговоры?
– Ну и что? Теперь злее стали.
– Хорошо, быков упаковали для первого раза, но потом-то что? Какой смысл воевать с наемниками? Наверное, с нанимателем надо разобраться? Я в твои дела не лезу и ничего не советую, просто пытаюсь выстроить логическую линию.
– Касатонов – тоже не главное. Он без власти – никто. Власть его обслуживает, и бороться с ним бессмысленно. Проблема во власти, сгнившей сверху донизу.
– Насчет прогнившей власти – с тобой многие согласятся, почти все. Но что лично ты намерен предпринять? Участвовать в выборах?
– Какой смысл в выборах? Как говорили в свое время европейские левые – если бы выборы что-нибудь меняли, их бы запретили. Менять нужно систему власти, а не перетасовывать одни и те же рожи в разных комбинациях.
– И как же ты собираешься сменить систему власти без выборов?
– Да очень просто: противопоставить власти волеизъявление народа. Недовольство не может нарастать вечно – в конце концов произойдет взрыв. Как в феврале семнадцатого – без крови, резни. Просто все разом вышли на улицу и сказали власти разом и членораздельно: пошла на хер! И солдаты отказались стрелять, и генералы бросились уговаривать царя отречься, все получилось как бы само собой. Но сколько лет копилось! Вот и сейчас – второй десяток лет копится ненависть ко всей этой мрази. Думаю, недолго осталось. А я тут понемногу стараюсь. Учу работяг складывать А и Б. Политическая грамота легко не дается. До крови уже дошло. И из-за чего? Человек по простоте душевной хотел организовать совершенно конституционными способами легальный протест. Ему за наивность кости переломали. Ну а я организовал ребят и костоломам тоже ребрышки пересчитали. Посмотрим, что теперь Касатонов придумает. Быкам мы теперь так просто не дадимся – арматуры на них на всех хватит. Еще хорошо подумают, стоит ли за какого-то хрена с горы башку подставлять.
Силуэт революционера несколько раз резко вздрогнул, отражая бурлящую в нем энергию.
– Миш, пойдем отсюда, – волнующе прозвучал девичий голос, и Самсонов понял, что он на месте Первухина не устоял бы перед призывом.
– Подожди, – нетерпеливо отрезал тот.
– Слушай, Михаил, – поспешил вступить репортер. – Я все равно не понимаю. Свергнуть власть мало. Все равно нужно выдвинуть какие-то новые рожи на место старых. И где вы их возьмете, таких честных и справедливых?
– Как это где? Из числа революционеров, из народа. Согласно нашей программе, будет созван двухпалатный парламент, законодательная палата депутатов будет выборной, а законосовещательная палата представителей – комплектоваться активистами прогрессивных общественных и религиозных организаций, представителями профессий и возрастных групп, патриотами, вышедшими из народа, а не из борделей.
– Если прогрессивные активисты и патриоты соберутся в невыборной палате, кто же останется для выборной? И почему ты думаешь, что их непременно кто-то должен туда делегировать? То есть, избиратели за них не проголосуют?
– В прямых выборах много политиканства и лжи, люди сами не знают, кого выбирают, все решают денежные мешки. После национализации крупных предприятий олигархов не останется, конечно, но власть есть власть – в палату депутатов все равно попадет много грязи, прямые выборы просто для нее созданы. А в палату представителей попадут люди, которые докажут верность интересам народа в уличном противостоянии с режимом, а не в удобных кабинетах, с ручкой наперевес. И их мнение станет определяющим для главы правительства.
– Почему?
– Потому что это будут не брокеры-маклеры-менеджеры, а лидеры революции.
– А здесь, в нашем городке, ты и будешь лидером революции?
– Не знаю. Может, не доживу еще.
– Миша! – укоризненно воскликнул девичий голос.
– Революция ведь будет бескровной, почему же не доживешь?
– Потому, что все зависит от режима. Если снова станут стрелять в народ, как в девяносто третьем, мы по щелям прятаться не станем.
– Со стороны послушать, разговаривают ветераны Великой Французской революции. Ты за якобинцев, а я вроде как за термидорианцев. По-моему, это доказывает, что ничто не ново под Луной. В семнадцатом году власть рухнула, потому что прогнила сверху донизу?
– Да.
– И перешла власть в руки благородных честных революционеров, не жалевших крови за народное благо.
– Да.
– А почему рухнула власть в девяносто первом?
– Потому что прогнила сверху донизу.
– Но ведь она находилась в руках у последователей тех самых честных и благородных революционеров, взявших ее в семнадцатом. Так в чем же заковыка? Так и будем по два раза за столетие революции делать?
– Если власть прогнила, то другого выхода нет. А ты что предлагаешь, журналист, так на нее и молиться?
– Нет, мне просто интересно, почему у нас власть периодически сгнивает?
– Потому что она развращает. При Сталине продажных чиновников не было, и счетов в американских банках у чиновников не было. А вот как он умер, хватка ослабла, они и пошли потихоньку вразнос. Сначала этот кукурузник, потом живой труп. А бюрократия взяла власть и сделала ее своей собственностью, вопреки интересам народа.
– Но ведь никто никогда не будет жить вечно. И диктаторов вечных не бывает. И после каждого обязана быть такая же катавасия?
– Только в том случае, если правящая партия окажется не способна выдвинуть нового сильного человека.
– Видишь ли, Михаил, это закон человеческой природы, или закономерность общественного развития – понимай, как хочешь. Диктатор потому так и называется, что выпалывает вокруг себя сильных личностей – боится их как потенциальных конкурентов. И после смерти диктатора новая сильная личность ему на смену не приходит никогда – ей просто неоткуда взяться.
– Значит, дерево свободы нужно время от времени поливать кровью патриотов.
– Это американское изречение. Вы ведь не признаете за Америкой моральный авторитет?
– Плевать. Эти слова были сказаны, когда Американской империи еще не существовало.
– Но американцы все же решили не заниматься таким регулярным поливом и предпочли стабильную самоочищающуюся систему.
– Ерунда. Просто они регулярно проливают не свою кровь, а чужую. Начали с индейцев и негров, теперь по всему миру разгулялись. И поливают ей уже не дерево свободы, а корни своей империи, живущей грабежом человечества.
– Красиво рассуждаешь. Учился в Москве на партийных курсах?
– Тебе какое дело? Болтаешь много, журналист.
– Миш, пошли, – жалобно протянул девичий голосок.
– Матери твоей что передать? – спросил темноту Самсонов.
– Что тут можно передать? Чтобы скоро не ждала.
– Не жалко тебе ее? Ей ведь второго сына терять.
– Ничего, свидимся когда-нибудь. Я подыхать не собираюсь. А если сдохну, то так, что она обо мне в газетах прочитает.
– Она не обрадуется.
– Ничего. Подумает немного и смирится.
– Михаил, а что ты знаешь о своем брате?
– О брате? Забудешь о нем, как же.
– Часто напоминали?
– Да всю жизнь. Чуть не каждый день.
– Представляю. Ставили в пример?
– Ставили. Что ни сделаю, мне – а вот Саша делал так-то и так-то. И еще о том, как он героически погиб. А мужики приезжали как-то к матери, спьяну мне по секрету рассказывали – глупо он и погиб-то.
– Как это – глупо?
– Случайно. Не повезло просто. Сидели несколько человек у бэтэра в тени, а тут – минометный налет. Короткий – всего пять или шесть мин кинули. Все рылом в землю, потом огляделись – на всех ни царапины, а ему осколок башку разнес.
– Матери не рассказали?
– Вроде нет. Да какая ей разница?
– Наверно, никакой… Так ты что же, на брата злишься?
– Не злюсь. Он в детстве снился мне несколько раз.
– Снился? Ты ведь родился года через три после его смерти.
– Все равно снился. Фотографии я ведь видел, да во сне не очень-то и понятно, что там за лицо. Просто знал – это брат. На качелях меня качал.
– А ты смеялся?
– Нет, плакал.
– Во сне?
– Нет, когда просыпался. Я тогда хотел, чтобы у меня был настоящий старший брат, а не мертвый. Они тогда уже редко у кого были, да еще с такой большой разницей в возрасте. И я страшно жалел, что у меня брат был, а меня не дождался.
Самсонов подумал, что, если бы Сашка остался жив, Мишка, скорее всего, никогда бы не родился. Вслух он этого не сказал, а только немного помолчал.
– Слушай, Первухин, а ты помнишь, кого в своей жизни забыл?
– Как это – кого забыл?
– Ну вот помнишь, что был человек, а имя и лицо из памяти стерлись.
– Дурацкие у тебя вопросы какие-то.
– Да нет, я просто такой опрос провожу. Уже уйму народа переспрашивал.
– Не знаю… Вроде есть такой. Не знаю, чепуха какая-то.
– Да ладно, какая разница. Я же не с телекамерой в прямом эфире тебя спрашиваю.
– Ну, помню. Одного точно помню. С детства еще. С раннего. У какого-то пацана в песочнице игрушечный самосвал отнял, а он только жалко так на меня посмотрел.
– Зачем отнял-то?
– Потому что у меня такого не было, а я хотел. В этой песочнице потом его и выбросил, через несколько дней.
– Почему выбросил?
– Не понравился он мне. И пацана этого все время напоминал.
– Знаешь, что это означает?
– Не знаю.
– Это означает, что у тебя не по возрасту рано развилось представление о совести. У обитателей песочниц она обычно не прослеживается.
– Не знаю. Тебе виднее, журналист. Не ходи больше за мной, башку оторву.
Два силуэта колыхнулись и растворились во тьме, а Николай Игоревич долго сидел на карусели, поглаживая гудящую голову. При малейшем его движении карусель покачивалась и нудно скрипела, словно молила о помощи кого-то невидимого и несуществующего.
11. Счастливая Бобо
Сцена "Балагана" была ярко освещена софитами, и Светлана Ивановна почти не видела публики. Лица зрителей смутно белели в пространстве, совершенно неотличимые друг от друга. Она пыталась иногда разглядеть глаза женщин, но не могла. Пьеса шла своим чередом, Леночка Синицына смотрела на примадонну своими черными глазищами, словно на каракатицу или жабу. Взгляд оправдывался ролью, и Леночка всегда с особым удовольствием играла именно в этом спектакле – легко играть свои подлинные чувства, не нужно затрачиваться. А Овсиевская мечтала увидеть слезы в зале. Она не видела их ни разу за все годы служения в театре и уже давно пыталась понять: нет слез вообще, или ей не суждено разглядеть их со сцены. На мужчин в этом отношении примадонна никогда и не рассчитывала, на юных девственниц тоже. Она хотела выжать слезу из опытных женщин, видевших в жизни многое из того, чего никогда не желали своим дочерям, внучкам и племянницам.
Пустые мужские глаза в минуту, когда ожидаешь увидеть в них желание обнять и поцеловать. Не завалить на постель для насыщения похоти, а обнять, погладить по волосам, заглянуть в глаза и произнести хоть несколько ласковых слов. И наоборот, поток бессмысленной беспомощной речи, когда предложила себя ему чуть не прямым текстом. Беспорядочные судорожные шевеления рук, когда ждешь одного-двух движений. Скупых и щедрых одновременно, защищающих и приближающих к теплому, жаждущему тебя телу. Предательство, когда смотришь на свой большой живот и думаешь: никому его не отдам, ни с кем не поделюсь, он будет только мой. Насилие, когда кричишь и не веришь, что надвигающееся на тебя животное существует в действительности, что телевизионный и киношный триллер, кошмарный сон воплотился в реальности, что никто тебя не слышит, а кто слышит – не придет на помощь из страха, и что во вселенной вообще не осталось никаких других живых существ, кроме тебя и зловонного животного, что тебе не хватит сил справиться с ним, и что нет, нет никакого спасения. Остается только истошный крик, отзвук диких времен, когда не существовало общества и всех его институтов, предназначенных защищать людей, и крик оставался единственной связью женщин с безвозвратно ушедшим счастливым прошлым. Немыслимо маленький гробик в квартире, воцарившаяся вдруг навечно мертвая тишина и разбросанные повсюду, никому не нужные, чудовищно крохотные вещи, которые не на кого больше надеть, бессмысленные игрушки, сваленные в кучу на ковре, и люди, которые почему-то пытаются тебя успокоить, как будто все еще можно исправить.
Прожившие жизнь женщины ходят в театр, чтобы увидеть себя. В страхе увидеть себя, и в надежде. Вдруг на сцене что-то изменится, окажется лучше, чем в жизни. Вдруг обойдется без боли, вдруг жизнь повернется другой стороной и развернет волшебную панораму альтернативной реальности, которой никогда не было. И примадонна каждый день упрямо пыталась разглядеть в зале слезы, в доказательство своего умения притворяться другими людьми. И ни разу не увидела.
Леночка Лисицына уходила от нее по сцене за кулисы твердыми мелкими шажками, цокала каблучками и красиво покачивала бедрами, умело привлекая взгляды мужчин. Овсиевская тоже ушла, потом вышла вместе со всеми на поклоны под жидкие аплодисменты малюсенького зала, так и не рассмотрела публику, получила несколько букетов от благодарных поклонников, а затем величественно удалилась в свою гримерку. Актрисы провожали ее укромными взорами.
Примадонна привычными движениями снимала грим, глядя в зеркало, и пристально изучала собственное лицо, медленно возникающее из-под снимаемой личины. Возраст несомненно наложил на него свою печать. Морщинки, круги под глазами – все, как положено. Куда же уйдешь от положенного тебе высшими силами. Они требовательны и неумолимы, берут свое без отсрочек и помилований. Расчищают путь новым поколениям цветущих и чарующих, с сияющими глазами и торчащими грудками. Их ждут все радости жизни и разочарования, им предназначены стихи и серенады, деньги и судьбы мужчин.
В сумочке запиликал мобильник, Светлана Ивановна подтянула ее к себе поближе и стала в ней рыться, пытаясь отыскать источник раздражающего звука. Звонящий продемонстрировал опытность и упрямство, не сбросив вызов и дождавшись ответа на него.
– Здравствуй, мой хороший.
– Добрый вечер, Сережа.
– Поздравляю со спектаклем.
– Спасибо, не стоит. Ничего фантастического не случилось.
– Хочешь сказать – все как обычно?
– Хочу.
– Как обычно – значит, с успехом.
– Ну хорошо, пусть так. Ты далеко?
– Изрядно.
– На Ривьере?
– Всего лишь в Лондоне, родная. Общаюсь в основном с лысыми мужиками.
– Сочувствую тебе. Когда приедешь?
– Трудно сейчас сказать… Не раньше, чем через пару недель. Сама понимаешь, не все коту масленица – надо и делом заниматься.
– Я понимаю. Как жена, дети?
– В порядке. А как ты? Чем займешься вечером?
– Я тоже в порядке. Схожу в ресторан.
– С кем?
– Найду, с кем. Ты сомневаешься в моих способностях?
– Да нет, как можно! Дерзай. Не скучай там без меня.
– Хорошо, не буду. Пока, Сережа. Не хочу отвлекать тебя от дел.
– Да брось, ерунда.
– Нет, не ерунда. Счастливо. Целую.
Светлана Ивановна чмокнула губами воздух и нажатием кнопочки разорвала связь с туманным Альбионом. Потратив около получаса на преображение в саму себя, она через пустой зрительный зал вышла с букетами на улицу и направилась в темноте по свежевыпавшему снегу к своей машине.
– Разрешите вам помочь, Светлана Ивановна, – раздался поблизости как будто знакомый голос.
– Помогите, – милостиво согласилась Овсиевская и отдала человеку букеты, не подозревая в нем никаких дурных намерений.
Садясь в машину и принимая цветы у самозванного помощника, она узнала его в полутьме:
– Ах, это вы! Простите, запамятовала…
– Самсонов Николай Игоревич, "Еженедельный курьер".
– Конечно, конечно… Глашатай справедливости. Почему же напечатали очерк вашего конкурента? Я, признаться, уже засомневалась – правда ли вы корреспондент.
– Правда. А с очерком я опоздал. Ногинский ведь раньше меня начал, как вы понимаете, а меня привлекли только на всякий случай, потому что он перестал выходить на связь.
– Жаль… Знаете, мне показалось – вы лучше бы написали.
– Нет, Светлана Ивановна, вы ошибаетесь. Не лучше.
– Не знаю, не знаю… Вам видней. Так что вы здесь делаете?
– Конечно же, вас жду.
– Серьезно? Вас бросили на культуру?
– Нет, я не по этой части. Хотел поговорить с вами о Касатонове. Вы не против?
– Против. Причем здесь я? С ним и разговаривайте.
– С ним я уже в целом переговорил, хотелось бы развить тему.
– Да-да, он мне рассказывал… Как странно, вы все время приходите ко мне говорить о моих мужчинах, а не обо мне.
– Хочу привлечь ваше внимание своей оригинальностью.
– Вам удалось. Хорошо, поедем в ресторан. Мне нужно хорошенько подкрепиться на ночь – всегда так делаю после спектакля. Вы за рулем?
– Нет, что вы.
– Тогда садитесь.
Через несколько минут "Тойота" примадонны подкатила к ресторану в городском парке, где для нее уже приготовили отдельный кабинет. Она прошла туда вместе с журналистом, на ходу отдав мэтру несколько коротких распоряжений. В полутемном кабинете они устроились за круглым столом с ночником посередине и некоторое время смотрели друг на друга.
– Так что же вы хотите знать о Касатонове, Николай Игоревич?
– Все, что известно вам, и с самого начала.
– Зачем вам такие подробности?
– Пытаюсь его понять.
– Зачем?
– Я ведь журналист. Это мое естественное стремление.
– Вы нашли выход на какое-то издание?
– Зачем мне его искать, я уже работаю в газете.
– Ваша газета не опубликует о Касатонове то, что я могу вам рассказать. Зачем же я буду рассказывать?
– Затем, чтобы поделиться знанием. Вы ведь несчастливы с ним.
– Разумеется. Где вы видели счастливую стареющую содержанку?
– Не такую уж и стареющую. Вы прекрасно выглядите, Светлана Ивановна.
– Бросьте, Николай Игоревич, я не девочка. Мне известен мой возраст, хоть я и не собираюсь перед ним капитулировать. И не надо изображать передо мной общепринятую предупредительность, вы ведь не галантны. Признайтесь – вы не галантны. Так?
– Так. Глупо отрицать очевидное. И тем не менее, все, что я хотел сказать: вы вовсе не выглядите стареющей содержанкой. Галантность здесь не при чем, просто констатация факта. Если уж быть до конца бесцеремонным, могу напомнить поговорку про бабьи сорок лет.
– Да, хорошая поговорка. Ласкает слух. Только касается она женщин, вырастивших детей и не успевших дождаться от них внуков. Я же, да будет вам известно, детей никогда не имела.
– Жалеете?
– Иногда. Когда ненавижу себя на сцене. А когда начинаю считать себя гениальной актрисой, обо всем остальном забываю.
– По-моему, вы чаще себя ненавидите.
– Хотите сказать, я плохо играю?
– Нет, хочу сказать, вы к себе слишком требовательны. Ведь для нашего славного города наполнить зрителями ваш подвальчик – задача, равносильная наполнению какого-нибудь Кремлевского дворца съездов в Москве. Здесь ведь даже приезжих нет, которые в столицах дают, наверное, половину всей публики.
– Не знаю, не знаю. Социологическими исследованиями не занималась. Но вы говорите, говорите, вас приятно слушать.
– Я и хочу поговорить о сделанном вами выборе. И выбор этот невозможно отделить от господина Касатонова. Насколько я понимаю, именно он предоставил вам возможность такого выбора. Вы бы не могли рассказать, как все начиналось?
– О чем здесь рассказывать? Пресса давным-давно обо всем рассказала. Вы не сделали домашнюю работу?
– Сделал. Именно она меня к вам и привела. Я ведь сам работаю в какой-никакой прессе. И я очень хорошо понимаю, что пресса рассказывает в основном ерунду.
– Можете привести пример?
– Могу. Общепринятая версия вашего знакомства. Якобы Касатонов оказал вам эффективную защиту от какого-то бандитского наезда, связанного с исчезновением вашего первого мужа. Мол, даже долг не стал выплачивать, но с помощью своей службы безопасности так внятно объяснил ситуацию бандюкам, что они раз и навсегда оставили вас в покое.
– Чем же вас не устраивает общепринятая версия?
– В ней есть слабое место. Никто никогда не объяснил, каким образом Касатонов вообще узнал о вашем существовании. Во всех интервью эта тема обходилась стороной. Хотя ваш муж и занимался бизнесом, но по своей весовой категории никак не мог иметь дела с Касатоновым. Вы в предпринимательстве вообще не замечены. Каким же образом вы пересеклись? Случайно встретились на улице, и вы с первого взгляда потрясли олигарха?
– Знаете, мне нравится ваша версия. Нужно запустить ее в оборот.
– Пожалуйста, я авторские права оспаривать не стану. Если вы меня проинформируете о реальном положении дел.
– В реальном положении дел, как правило, нет ничего примечательного.
– Пускай. Я согласен окунуться в прозу жизни.
Овсиевская потягивала аперитив, и бокал поблескивал в свете ночника.
– Все очень просто. Я преподавала литературу в частной школе, где учился сын Сергея.
– И все? Хотите меня убедить, что он посещал родительские собрания?
– Нет, не посещал. Я сама к нему пришла.
– Зачем?
– Испугалась, что умру учительницей.
– Разве это так страшно?
– Страшно или нет – каждый решает для себя. Я не представляла более ужасной участи. Свободного времени оставалось мало, и я с девяносто четвертого года тратила его в самодеятельном театре. Тайком от школьной администрации. В школе существовали драконовские правила, в том числе касающиеся образа жизни преподавателей.
– Неужели участие в самодеятельности считалось предосудительным? Средневековье какое-то.
– Дело не в самодеятельности как таковой, а в том, что я спала иногда по два-три часа, а утром шла на уроки. Энергию полагалось тратить только в школе, а за ее пределами вообще и в свободное время в частности – только накапливать. Разумеется, я своими словами пересказываю правила, но смысл передаю точно.
– И вы отправились к Касатонову в поисках свободного времени?
– Наверное. Честно говоря, сейчас и не вспомню, какие конкретно мысли тогда меня занимали, но в целом вы правы. Я хотела, со своим университетским филологическим образованием, заниматься одним только лицедейством, и ничем другим. Почему – понятия не имею. Просто в школу ходила по обязанности и ради денег, а вечером в театральный подвал летела на крыльях счастья. Муж со своим бизнесом действительно намудрил лишнего и бесследно исчез, по сей день ничего о нем не знаю. Сама по себе я из школы не вырвалась бы никогда.
– И вы, вот просто так, явились на прием к лично не знакомому миллиардеру и попросили сделать вам театр?
– Не совсем. Я явилась не просто так. У меня имелось оружие.
– В каком смысле?
– В прямом. Пистолет.
– Где же вы его взяли и зачем?
– Где взяла – не имеет значения. А взяла затем, чтобы застрелиться.
– Вы серьезно?
– Абсолютно. Истерика со мной случилась полноценная. В классном журнале значился рабочий телефон Касатонова, но ответила по нему, разумеется, секретарша. Я представилась и попросила назначить личную аудиенцию, через час мне сообщили день и час. Я пришла с пистолетом, на входе в офисное здание зазвенел металлоискатель, я запретила проверить содержимое сумочки и устроила истерику, какой охранники, наверное, в жизни не видели. Так много и громко кричала, что мне назначено, и они не имеют права, что они перепроверили и получили добро на пропуск меня без досмотра от самого Касатонова. А я, в благодарность, оказавшись в кабинете, достала пистолет и объявила, что сейчас застрелюсь, если он не сделает мне театр. Видите ли, я даже не пыталась пробоваться в настоящие театры – мне нечего было им предъявить в качестве моего портфолио или резюме, не знаю, как назвать. Наверное, Сергей мог бы устроить меня в Москве – он ведь меценатствовал, ему бы пошли навстречу. Но об этом все бы узнали, и такая роль меня не устраивала совершенно. Я хотела именно собственный театр, чтобы самой решать, какой спектакль ставить, кто его будет ставить, и какую роль я буду играть. Издеваться таким способом над каким-нибудь МХАТом не хотелось, да и вряд ли даже Касатонов смог бы организовать мне там такое роскошество. Я проявила скромность и решила вернуться в родные пенаты.
– Просто образец самоотречения.
– Вы не иронизируйте, Николай Игоревич. Брошенной бездетной женщине нечего терять, и она способна на многое. Вы разве не знали?
– Подозревал. Скажите, вы действительно застрелились бы?
– Действительно.
– И ваш пистолет находился в работоспособном состоянии?
– Да. Продавец выстрелил при мне и приготовил его к новому выстрелу, а я ничего не трогала.
– Что значит – приготовил к новому выстрелу? Если обойма снаряжена патронами, то готовить нужно только первый выстрел, то есть взвести затвор. Все последующие выстрелы, пока обойма не кончится, не требуют от стрелка никаких дополнительных манипуляций, помимо нажимания на спусковой крючок.
– Не знаю, не знаю. Совершенно не понимаю, о чем вы говорите.
– Хорошо, продавец после демонстрационного выстрела сразу отдал пистолет вам, или сделал еще что-нибудь?
– Не помню. Хоть убейте, не помню. Просто заверил меня, что при желании можно выстрелить еще несколько раз. А сделал что-нибудь с пистолетом или нет – не помню.
– Убивать не стану, но мне все равно интересно. Куда вы потом дели этот пистолет?
– Никуда не дела. Она даже сейчас со мной. Я ношу его на спектакли, это мой талисман.
– Вы с ума сошли?
– Не больше, чем положено актрисе. А почему вы так бесцеремонны?
– Вы еще спрашиваете? Вы хоть знаете, что незаконное хранение огнестрельного оружия, тем паче его ношение, являются уголовным преступлением?
– Плевать. Не вижу в этом ничего преступного. Все, что я с ним делаю – кладу в сумочку или вынимаю оттуда.
– Я об этом и говорю! То есть, вы его ни разу не чистили и даже не сняли с боевого взвода?
– Совершенно точно не чистила, а что значит снять с боевого взвода – не знаю.
– Тогда сейчас все уже не так плохо. Он у вас в небоеспособном состоянии.
– Какая мне разница? Я не собираюсь из него стрелять.
– Вы – странная женщина. Вам говорили это когда-нибудь?
– Часто говорили. Я и сама так думаю иногда. Вдруг в голову вступит иногда – зачем тебе все это? Зачем всеми силами добиваться того, от чего нормальные люди бегут? Ответ всякий раз один – я странная женщина. Разве нет?
– Кажется, да. Мы с вами остановились на истории в кабинете Касатонова. Что же, вы вошли с пистолетом, произнесли свою угрозу, и он дал вам деньги?
– Разумеется, нет. Он удобно откинулся на спинку своего кожаного кресла и долго на меня смотрел, не произнося ни слова и никого не вызывая на помощь. Потом он признавался, что моя физиономия выглядела крайне убедительно, и он решил немного со мной поговорить и успокоить. Говорит, если бы я забрызгала его кабинет мозгами, ему пришлось бы искать помещение для нового, а он не хотел тратить время и деньги. Думаю, присутствовать при моем акте высочайшей глупости ему тоже не хотелось.
– И вы начали разговаривать?
– Начали разговаривать.
– С пистолетом у виска?
– Ну, не совсем у виска. Так, болтался в руке. Как будто я не знала, куда его деть.
– Сколько времени вы разговаривали?
– Несколько часов.
– Несколько часов?
– Да, несколько часов. Все время звонили телефоны, Сергей что-то кому-то говорил, но никому не разрешал войти и никак не намекал на мое неадекватное поведение.
– О чем же вы разговаривали несколько часов?
– О жизни.
– О вашей?
– Нет, вообще. О жизни вообще.
– А в каком году все это происходило?
– В девяносто восьмом, осенью.
– Представляю себе яркую картинку: осенью девяносто восьмого года психованная учительница с пистолетом в руке разговаривает о жизни с олигархом в его кабинете.
– Да, очень драматично.
– Я бы сказал, слишком драматургично. Если вставить такой эпизод в повествование, критики скажут: чушь собачья.
– Возможно, это именно она и была.
– Все-таки, о чем именно вы разговаривали? О жизни – это слишком общо. Я думаю, осенью девяносто восьмого у Касатонова и без вас хватало поводов для тяжких дум.
– Я не смогу воспроизвести весь разговор, но я отлично помню впечатление о нем. Кажется, я никогда в жизни не испытывала такой свободы. Плакала, смеялась, размахивала пистолетом и говорила только то, что действительно хотела сказать, а не то, что следовало бы сказать, и не то, что прилично было бы сказать, и не то, что могла бы сказать любая другая тридцатичетырехлетняя женщина.
– О вашей мечте?
– О моей мечте.
– И проняли самого Касатонова до самых печенок? Так не бывает в этой жизни, согласитесь.
– Да, не бывает. Я его не проняла, я его привлекла. Потом он говорил, что до меня ни разу в жизни не встречал человека, так страстно мечтающего об эфемерной ерунде.
– Я думал, люди в основном о ерунде и мечтают.
– В основном – не об эфемерной. И в основном – не так страстно. В общем, это Сергей так говорил, а что он подумал на самом деле, спросите у него.
– Я думаю, ему доводилось встречаться с известными театральными деятелями, мечтавшими примерно о такой же эфемерной ерунде, но с одним важным отличием. Они наверняка хотели театры в Москве. Или в Питере. На худой конец, в областном или республиканском центре. И только вы пришли к Касатонову, чтобы замахнуться на районный масштаб.
– Возможно. И о чем это говорит?
– О совершенном безумии.
Овсиевская отвлеклась от своей тарелки и посмотрела на репортера с удивлением.
– Вы так думаете?
– Нет, простите, я неточно выразился. Я имел в виду не абсолютное безумие, а безумное совершенство.
– Безумное совершенство?
– Да, безумное совершенство. Совершенство, абсолютно лишенное практического смысла.
– Ну, почему. Хоть и на деревне, но я первая. А в Москве была бы десять тысяч первой, или даже сто тысяч первой. На свете много людей с больным самолюбием, и я – одна из них.
– Как вы думаете, почему люди ходят на ваши спектакли?
– Хотят посмотреть на содержанку Касатонова.
– Я знаю нескольких человек, посещающих ваш балаганчик постоянно. Думаете, они никак не могут на вас насмотреться?
– Возможно, есть еще театралы и в наших палестинах.
– Есть. Благодаря вам, Светлана Ивановна. Есть заядлые театралы, а есть такие, которые ходят к вам из престижных соображений.
– Из престижных? Что вы имеете в виду?
– В интеллигентских и околоинтеллигентских кругах ваш театр престижен. Модно обсуждать спектакли, престижно встречаться на них.
– А вы не врете? В любом случае, эти круги, судя по всему, страшно узки.
– Возможно, не берусь судить. Но я все о своем. Мы остановились на том, как вы привлекли внимание Касатонова своим безумным совершенством. Что было потом?
– Дальше – все как у психически здоровых людей. Он пригласил меня в ресторан. На тот же вечер.
– Понятно. Вы сказали "спасибо", спрятали пистолет в сумочку, утерли слезы и сопли и пошли домой готовиться к вечернему выходу?
– Примерно. С нюансами. Я не просто так ушла, сначала стала выяснять, что он намерен одеть, чтобы подобрать себе гардероб в тон.
– Интересно. Что еще?
– Кажется, стихи читала. Бродского. Похороны Бобо.
Овсиевская продекламировала, тихо, на одном дыхании:
Бобо мертва. И хочется уста
слегка разжав, произнести "не надо".
Наверно, после смерти – пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.
Актриса замолчала, а Самсонов спросил заинтересованно:
– Только это четверостишие прочитали?
– По-моему, только это.
– Почему именно его? Стихотворение ведь длинное и начинается с другого места. Вы почему не с начала начали-то?
– Ну откуда же я знаю, Николай Игоревич? Что в голову пришло, с того и начала. Вы так спрашиваете, как будто я там претворяла в жизнь заранее обдуманный план. Я ведь в приступе краткого помешательства находилась, вы разве не поняли?
– Извините, но помешательство, по-моему, оказалось не таким уж кратким.
Овсиевская откинулась на спинку стула:
– Николай Игоревич, вам не кажется, что вы выходите за рамки?
– Честно говоря, не кажется. Извините, но ваш нынешний образ жизни видится мне верхом безумия.
– Вы с ума сошли?
– Нисколько. Почему вы не захотели тихо и скромно преподавать литературу в школе, тем более в частной?
– Потому что я там давным-давно сошла бы с ума. Послушайте, помнится, вы совсем недавно рассказывали мне о престижности "Балагана" в некоторых кругах. Причем же здесь безумие?
– Не уверен, что тезис насчет престижности является комплиментом. Его можно трактовать по-разному. Не лучше ли воспитать чувство прекрасного в новом поколении? У меня нет однозначного ответа.
– Ну, знаете ли! Я в той школе ощущала себя прислугой. Или проституткой. Администрация считала – раз мне дали работу в таком шикарном месте, я должна быть благодарна по гроб жизни и держать свое мнение при себе. Детки – те были уверены, что, раз папа или мама платят школе, и учителя из этих денег получают зарплату, то они обязаны оказывать оплаченные услуги, а не учить. Попробовали бы сами!
– Нет уж, мне такая мысль даже в голову не приходила. Только вот в чем загвоздка: вы ведь от денег никуда не ушли. Они и здесь с вами, и снова их платят вам за оказание услуг. В чем же разница?
– Вы совершенно не понимаете, о чем говорите! Сергей – это друг. Я говорю ему, сколько надо денег, он их дает и никогда ни о чем не спрашивает.
– В самом деле? Так вы осуществили мечту всех российских творческих деятелей!
– Да, осуществила. И жаловаться на свою жизнь не намерена. Она меня устраивает.
– Устраивает?
– Устраивает!
– Честно?
– Честно!
– Но вы же комплексуете из-за статуса содержанки. Вы несколько раз о нем упомянули. Только из кокетства?
– Да, из кокетства! Николай Игоревич, вы ведь уже не мальчик, и, простите, давно. Я должна вам объяснять разницу между словами и чувствами женщины?
– Значит, вы счастливы?
– Каждый день с утра до вечера счастливы только некоторые из сумасшедших. Наверное, страдающие бредом величия. А я счастлива, когда получается репетиция, когда получается, роль, спектакль.
– И не хотите мужа, детей?
– Какой мне смысл их хотеть? Не будет никогда, ни того, ни другого.
– Один мой знакомый сказал бы, что вы нарушаете законы биологии.
– Ваш знакомый ни черта не понимает в жизни, так ему и передайте.
– Вообще-то, он уже на пенсии.
– Какая разница, на пенсии он или нет? Еще один ненормальный дарвинист, забывший разницу между животным и человеком. И возраст не имеет здесь ни малейшего значения. Или хуже, возраст лишь подчеркивает беспомощность вашего знакомого в отношении с женщинами. Сколько раз он был женат?
– Ни разу. И детей никогда не было. Но на отсутствие женщин никогда не жаловался.
– Наверное, в этом его проблема. Мужчина может узнать женщину, только прожив с ней хотя бы лет десять. Если же ваш знакомый ни с одной женщиной не жил так долго, то не узнал ни одной, и все его суждения о женщинах – суть белиберда. В разговорах с ним старайтесь выбирать другие темы, а то он вас окончательно запутает.
– Меня запутать сложно. Я ваш минимальный стаж с женой уже отработал.
– И каков результат?
– Дочка. Пять лет. А потом жена меня выгнала из моего собственного дома за измену.
– Правильно сделала. А вы лавровый венок ждали? Или хотели достичь понимания на принципах шведской семьи? Поразительная мужская логика в действии. Новых ощущений решили поискать?
– Нет, просто так вышло.
– Замечательное объяснение! Случайно ошиблись адресом и не заметили, что в постели другая женщина?
– Нет. Шел по улице и словно увидел свою жену перерожденной. С другими глазами, с другой улыбкой. Но – свою жену!
– Ну конечно! Жена сама виновата. Плохо вас развлекала внедрением разнообразия в семейную жизнь. Могла бы урвать побольше времени от дочки, не велика потеря. Не перестаю изумляться величине безразмерного мужского эго!
– Вы не оригинальны, Светлана Ивановна. Я слышал и читал нечто в этом роде много раз в своей жизни.
– Нисколько не сомневаюсь. Все вы слышали и читали, только проку никакого.
– Знаете почему?
– Ну, просветите меня.
– Так проявляется ненавистная вам биология. Человек является частью животного мира, только он, как высшее животное, достиг непомерных высот агрессии и научился сочинять страстные стихи.
– Вы хотите сказать – мужчина является частью животного мира? Ведь высоты агрессии и поэзии – это, в основном, про вашего брата.
– Как посмотреть. Вот вы одним четверостишием сразили наповал железного человека, который, надо полагать, никогда не выделялся чрезмерным филантропизмом. Даже пистолет у виска вам не помешал. Так кто из вас двоих умело воспользовался поэзией в сугубо личных целях?
– Странно вы изъясняетесь, Николай Игоревич. Битый час я вам расписывала все перипетии моего приключения с пистолетом, а вы разговариваете так, словно я ни слова не произнесла. У вас избирательный слух?
– Не знаю, не знаю. Мой богатый опыт общения с людьми вообще и с женщинами в частности учит меня не верить в объективность. Я еще должен опросить Касатонова, его секретаршу и еще пару свидетелей, и, получив набор противоречащих друг другу текстов, попытаться составить собственное впечатление о происшествии.
– Замечательно. Значит, я вру?
– Нет, вы говорите правду, как вы ее видите. И при этом вы совершенно искренны. Из чего совершенно не вытекает соответствие ваших слов действительности. Утверждения трижды честного человека отвечают лишь его представлениям о правде. А что такое правда – вообще никто толком не знает.
– Как же?
– Так же. Правда всегда одна – это постулат тоталитарного общества. Стоит чуть ослабить железную хватку государства на горле общества, и моментально выясняется, что правда – у каждого своя. И чтобы отразить истину в освещении даже самого пустякового вопроса, нужно написать толстый роман, никакой газеты не хватит, даже журнала. А телевидение и вовсе рядом с правдой не стояло.
– Но вы ведь работаете в газете?
– Пытаюсь. Или делаю вид. Тем не менее, мне там деньги платят, а посему вопрос: что произошло в ресторане? Надо полагать, с пистолетом вас туда не пропустили? И, видимо, тот разговор вы помните лучше первого?
– Помню. Пришла в каком-то дурацком платье и без прически – думала, меня фэйс-контроль не пропустит, но Сергей заранее обо всем договорился.
– Он пришел без охраны?
– Не пытайтесь шутить, пожалуйста. Это у вас получается еще хуже, чем говорить правду.
– Я только пытаюсь вас подбодрить.
– Не надо меня подбадривать, я и так достаточно бодра.
– Ладно, больше не буду. Продолжайте, пожалуйста.
– Я пришла в ресторан без пистолета. А Сергей – без охраны, если это вас так интересует. Встал, когда меня подвели, и предложил мне стул. Сама не знаю, чего ждала. Чего угодно, включая наряд милиции. Я уже успела отойти после истерики, поэтому находилась в состоянии тихого ужаса. Хотя толком не помнила событий в кабинете, точно знала, что они были ужасны. Понятия не имела, о чем Сергей собирается со мной говорить, и страшно удивилась, когда он заговорил о своем сыне. Казалось бы – ничего удивительного, я ведь учительница. Но к тому моменту я про свою профессию уже успела позабыть – будто целая жизнь прошла за один день. Мальчик у Сергея был неплохой, любознательный, с парадоксальным мышлением, начитанный. Говорили мы о нем долго, потом разговор постепенно сошел на литературу вообще, на поэзию в частности и на мои личные пристрастия. О себе я всегда говорю легко, как вы могли заметить, поэтому стала болтать шустро и разболтанно, почти как с подружкой. С мужчинами я тогда так легковесно не разговаривала, потом сам себе удивлялась. Конечно, весь тот день остался в памяти одним большим удивлением – так не должно было случиться, я должна была закончить его хотя бы в милиции, если не в ФСБ. Или что тогда было – ФСК?
– В данном случае – несущественно. Вы закончили вечер не у них, а в ресторане. Или даже не в ресторане?
Овсиевская долго молча смотрела на Самсонова, но тот не отводил взгляд, понуждаемый мужским и профессиональным самодурством.
– Ждете от меня эротической истории? – холодно поинтересовалась примадонна.
– Честно говоря, не надеюсь на такую душевную щедрость.
– Дело не в душевной щедрости. Тем вечером ничего подобного просто не случилось. В конце концов разговор добрался до практических вопросов, и я поведала Сергею о давно мной присмотренном закрытом тире, назвала даже стоимость аренды и переоборудования помещений.
– И он тут же полез во внутренний карман за кошельком?
– Конечно, нет. Мы просто распрощались, и он уехал.
– Очень мило. И не предложил вас подвезти?
– Нет, не предложил. Я бы все равно отказалась – я ведь приехала туда сама, и не набивалась к нему в наложницы. Мне вызвали такси, я вернулась домой, на следующий день уволилась с работы.
– Осенью девяносто восьмого?
– Именно потому и уволилась, что осенью девяносто восьмого. У меня накопились кое-какие сбережения в долларах, и я тогда жутко разбогатела.
– Очень предусмотрительно.
– А вы держали рубли под матрацем?
– Честно говоря, тогда мне просто нечего было держать. Никогда не умел сберегать и инвестировать.
– Тогда вы – человек прошлого.
– Возможно. Давайте не тратить время на мою особу. Что там у вас дальше получилось с Касатоновым?
– Сами видите. Неужели требуются какие-то пояснения?
– Требуются. Когда вы получили деньги?
– Примерно через неделю. Наличными, в валюте. Мне их привезли прямо домой. А я повезла их на электричке сюда и всю дорогу дрожала от страха. Рассовала по частям во всевозможные места и все равно сидела, как посаженная на кол. Наверное, "Балаган" стал тогда единственным местом экономической активности в наших краях. Решала все строительные вопросы наобум, собирала труппу, нашла режиссера. Как вы понимаете, возможность выбора имелась.
– Не сомневаюсь. А как вы представляли себе дальнейшую жизнь вашего театра. Всерьез рассчитывали на экономическую эффективность? Или сразу понадеялись на продолжение отношений с Касатоновым?
– Не понадеялась. Он приехал на нашу премьеру, под Пасху девяносто девятого. И когда после спектакля все разошлись, я отдалась ему здесь, прямо на сцене.
Самсонов смущенно молчал и даже отвел глаза куда-то в угол, потом спросил:
– Почему?
– Потому что сгорала от счастья. Оно отличалось от приступа в кабинете Сергея: теперь я все понимала, все помнила, просто хотела взлететь и не возвращаться на грешную землю. Чтобы никогда больше не пачкать ног.
– И решили освятить сцену?
– Решила. Я ведь не продалась ему – он уже дал мне деньги, и я не собиралась брать их у него снова. Просто хотела поделиться своим великим счастьем. Которое он мне подарил, а не продал.
– Но почему именно на сцене? Простите великодушно за пошлость, но существуют места, более приспособленные для сближения.
– Ерунда. Вы ничего не понимаете, Николай Игоревич. В постели Сергей знал много женщин, на сцене – только меня.
Самсонов задумчиво покрутил в пальцах ручку, которой делал пометки в своем блокноте.
– Простите за беспримерное хамство, Светлана Ивановна, но я не могу не спросить: вы пытались как-то объяснить себе особое отношение к вам со стороны Касатонова? Ваш рассказ, рассуждая логично, должен был прерваться в самом начале, еще в кабинете. Весь описанный вами водоворот выглядит вопиюще неоправданным, противоречащим философии современной жизни.
– Хотите сказать, к услугам Сергея всегда готовы шпалеры восемнадцатилетних девиц с ногами от ушей, а он по неизвестной причине возится со старой бездарной актрисой?
– Насчет старости – вы на себя грешите. Мы с вами ровесники, но даже я не готов к подобной самоидентификации, а о вас и говорить нечего.
– Спасибо за дежурный комплимент. Честно говоря, я старалась не забивать себе голову психологическими экзерсисами в связи с поведением моего мужчины. Просто ценю его близость саму по себе. Любое мое мнение станет проявлением чудовищного самолюбования, но одну нахальную версию предложить могу: он пресытился женским телом. С определенного момента его заинтересовала, простите, женская душа.
– Душа? И вы так спокойно об этом говорите?
– Вы о чем?
– Ну как же! Целый олигарх оставил ради вас жену, попортил себе реноме, потратил уйму денег. А вы самоотреченно рассуждаете о своей старости и женской душе. Наверное, никто бы не удивился, если бы Касатонов увлекся длинноногой моделью, слегка совершеннолетней. Вы знаете секрет, за который большинство женщин готовы убить, берегитесь.
– Ерунда. Жену, родившую четырех детей, не бросают ради другой женщины. Ее бросают просто так, потому что продолжение невозможно. Кончились слова, кончились взгляды, жесты. Мужчины ведь сексуальные животные. Львы, которые отнимают у соперника его гарем и убивают его львят, чтобы львицы родили им собственных. Львицы охотятся, рожают, заботятся о потомстве, защищают его от гиен, а львы шляются по округе без всякого дела и только в надлежащее время навещают наложниц.
– Но вы же неоднократно называли себя содержанкой или наложницей.
– Вы видите здесь противоречие? Я – нет. Он не хуже меня знает: вместе с "Балаганом" он потеряет и меня. Пока существует "Балаган", я буду принадлежать Сергею. Я, извините, крепостная актриса.
Самсонов сидел, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу. На собеседницу он смотрел со смешанным чувством страха, гадливости и восхищения. Та с демонстративной тщательностью обгладывала цыплячьи косточки – никакой мужчина, тем более репортер, не мог отторгнуть актрису от традиционного ночного блюда.
– Все равно не понимаю, хоть убейте.
– Убивать не стану, но я понимаю, что именно вы не понимаете. Вы, Николай Игоревич, в своем зрелом возрасте все еще не вышли из юношеских заблуждений о женщинах как источнике физического наслаждения. Сладость общения для вас остается удовольствием недоступным. Вы разговаривали когда-нибудь с какой-нибудь женщиной ночь напролет?
– Ночь? Не припоминаю такого подвига. Час-другой доводилось.
– Понятно – час перед сексом, час – после. Нет, ошибаюсь: два часа разговоров, чтобы уломать женщину, а после секса – тишина. Можете ли вы вовсе исключить секс из формулы общения?
– Не могу. Куда же без него? И не пытайтесь меня убедить, будто ваши отношения с Касатоновым после первой ночи на сцене перешли в платоническую фазу.
– Не собираюсь вас ни в чем убеждать. Какая вам разница? Какая мне разница, верите вы мне или нет? Я не платонические отношения имею в виду: их нельзя так однозначно назвать. Но в нашем общении так много всего, и оно такое редкое, такое непродолжительное, что секс просто теряется в нем, как крохотная жемчужинка в огромной старой раковине.
– Все-таки жемчужина?
– Жемчужина, жемчужина, успокойтесь. В старой, замшелой, уютной, привычной, безмолвной, родной раковине. Не знаю, способен ли Сергей сполна оценить драгоценность наших коротких встреч. Я живу между ними, словно еду по занесенной снегом степи от одного постоялого двора к другому.
– Степь? Собственный театр вас больше не радует?
– Радует – неправильное слово. Я им упиваюсь. Но к моей личной жизни он не имеет ни малейшего отношения.
– Странно. Получается, ваша жизнь разрезана надвое? На частное бытие и на общественное?
– Вы снова ошибаетесь, Николай Игоревич. Ничего общественного в моем существовании нет. Это мое частное бытие разрезано на театр и эротические переживания.
– Забавно было бы попробовать такой образ жизни. У меня-то общественное висит тяжким грузом на шее.
– Сочувствую. И советую сменить профессию. Хотите – приходите к нам в "Балаган". Все от меня зависит – скажу, и вы уже завтра репетируете на сцене. Ваш типаж идеально подошел бы для характерных ролей.
– Впервые встречаю человека, который умудрился разглядеть во мне артистический талант.
– Я вовсе его у вас не разглядела. Но все равно приходите – вдохнете полной грудью и поймете, с чем едят свободу.
– Какую свободу? Да на свете нет более зависимых от всех и каждого людей, чем артисты. Я бы с ума сошел, если бы мне пришлось всю жизнь раз в несколько месяцев сдавать экзамены и проходить конкурсы.
– Какой у вас скучный взгляд на веселые вещи!
– Светлана Ивановна, это вам весело в театре, потому что там все от вас и зависит. А все остальные именно потому вас и ненавидят. И, уверен, радости не испытывают.
Овсиевская задумчиво помешивала ложечкой в тарелке:
– Может быть, вы и правы. Я как-то не задумывалась об этом.
– Наверное, вы о многом не задумывались, Светлана Ивановна, – продолжал злобствовать Самсонов. – Помните ли вы, например, людей, которых забыли за свою жизнь?
Примадонна впервые за вечер посмотрела на собеседника с искренним изумлением:
– Как вы сказали? Помню ли я людей, которых забыла?
– Да.
– Другой человек на моем месте ответил бы вам, что людей, которых я помню, я не забыла, а тех, которых забыла, тем самым не помню.
– Вы далеко не первая, кому я задаю этот вопрос, и некоторые ответили именно так.
– Я не удивлена. Но сама отвечу иначе: я не могу забыть тех, кого помню. Они живут со мной день за днем, стоят над душой, маячат у постели. Не дают забыть о себе. И я помню их, хотя некоторых хотела бы забыть, поскольку память причиняет боль. А некоторых не хочу и не могу забыть, потому что без них, даже мертвых, жизнь станет темнее.
– А среди окружающих вас сейчас хотите кого-нибудь забыть?
– Едва не половину. У меня, видите ли, ненужно широкие знакомства.
– Но пустота и вероятнее, и хуже Ада.
– Да. После смерти. А сейчас я мечтаю свести к минимуму круг знакомых, пожирающих остатки моего времени.
– Если когда-нибудь действительно сведете – поймете, что и при жизни пустота не приносит счастья.
– Ерунда. При жизни от пустоты до поля чудес – один шаг.
– Причем здесь поле чудес? Мечтаете изгнать волшебство из нашего бытия? Учтите, оно существует не для нас с вами, а для тех, кто не знает реалий.
– Оно существует для тех, кто внутренне готов стать его жертвой. Кроликом в цилиндре. Или женщиной, которую распиливают пополам. На грязном полу, в полутьме. Раз за разом, с перерывом на обед. Под жадными взглядами публики, готовой растоптать или вознести до небес. Как ребенок отрывает бабочке крылья или отпускает ее – без всякой мысли, повинуясь только смутному желанию стать богом.
Овсиевская подозвала официанта, расплатилась и ушла, не попрощавшись с Самсоновым. А тот еще долго сидел в полутемном кабинете под нетерпеливыми косыми взглядами официанта и рассеянно крутил в пальцах вилку, словно пытался и никак не мог продемонстрировать трудный фокус.
12. Приют странников
Дверь несколько раз содрогнулась под мощными ударами снаружи, затем оттуда же донесся рык:
– Колька, хорош дрыхнуть, иди сюда!
Самсонов принципиально молчал еще секунд десять, но затем слабость характера дала себя знать, и он нехотя крикнул в ответ:
– Чего тебе?
– Иди сюда, говорю!
Алешка пару раз шлепнул ладонью о дверь, в комнате журналиста со стены посыпались лоскутья облупившейся краски.
– Иди к черту, мне некогда.
– Да выйди хоть, позырь.
Самсонов осознал бесполезность дальнейшего сопротивления, встал с раскладушки, воткнул ноги в тапки, обогнул окутанный полиэтиленом сервант и открыл зев в сумрак коридора, из которого проступал силуэт Алешки.
– Пошли ко мне, заценишь.
Мысленно чертыхнувшись, журналист поплелся за настойчивым соседом в его жилище, уныло готовя набор стандартных фраз для выражения своего одобрения чему бы то ни было. Он ждал новой порнухи, но вместо нее обнаружил в соседской комнате двух абсолютно непрезентабельных бомжей, один из которых имел великолепные косматые брови и находился в гораздо большей степени опьянения, чем его собутыльники. Второй бомж постоянно чесал у себя под длинной бородой, вынудив Самсонова боязливо поежиться.
– Видал? – гордо спросил Алешка, предъявляя гостю бутылку White Horse. – Как тебе коньячок?
– Виски, – уныло ответил репортер.
– Чего?
– Это виски, а не коньяк. Где сперли?
– Чего это сперли?
– Если бы купили, то знали бы, что это такое.
– А может, нам подарили?
– Отчетливо представляю себе эту яркую картинку. На улице стоят три алкоголика, рядом останавливается "Лексус", из него выходит человек в костюме от Армани и преподносит им бутылку хорошего виски. Или у вас бутылка паленая?
– Чего это паленая? "Лексуса" не было, но чувак на улице подошел и подарил.
– И вы его не знаете?
– Не знаем. Нам какое дело, кто он такой? Поднес – и ладно.
Алешка всей своей влажной физиономией выражал уверенность в непогрешимости заявленной позиции и крутил в руках бутылку с жидкостью чайного цвета, словно надеялся найти в ней хоть какой-нибудь изъян. На лбу у пытливого алкоголика сияла обширная свежая ссадина, и репортер периодически косился на нее, борясь с желанием задать естественный вопрос о ее происхождении.
– Ну что, раздавим на троих? – спросил наконец со страстью алкоголика в голосе счастливый обладатель чудесной бутылки.
– Почему на троих? – удивился Самсонов. – А меня зачем позвал?
– Как это зачем? – встречно удивился Алешка. – Это Йоська пролетает, как фанера над Парижем. Поллитру один выжрал, скот. А ты как раз в доле.
Радушный хозяин принялся собирать по всей комнате импровизированный сервиз, и в итоге получился диковинный набор из щербатой чайной чашки, мутного желтого стакана и складного туристического стаканчика из пластмассы.
– Я вроде не собирался, – угрюмо попробовал защититься журналист.
– Долго что ли собраться? Все готово уже, – не терял оптимизма главный виночерпий вечера.
Бородатый бомж робко приблизился к центру событий и остановился, не сводя глаз с заветной бутылки. Косматобровый Йоська проявлял мало признаков разумной жизни и только обводил комнату бессознательными очами в поисках известной ему одному вещи.
– Чего зыришь, сука? – беззлобно поинтересовался у него Алешка и принялся искать подручные средства для откупоривания заветной бутылки. Предпринятые усилия завершились ужасным кошмаром: он просто расковырял пробку лезвием перочинного ножа, пролив на завершающем этапе несколько глотков эликсира на замызганный пол и длинно выругавшись. Бородатый заранее схватил стакан, сочтя его наиболее привычным и почти престижным, чашку Алешка великодушно уступил Самсонову, пока тот взирал на все происходящее с неприличным равнодушием. Даже увидев перед глазами наполненную до краев чашку, журналист не двинулся с места и не протянул за ней руку, только беспомощно огляделся, словно боялся, что его застанут за предосудительным занятием. Настроение пришло внезапно и без предупреждения: Николай Игоревич принял свою законную порцию виски неизвестного происхождения, выслушал традиционный тост типа "будем здоровы" и осушил посуду, даже на подумав предварительно о припасах для закуски. Благодатная влага обожгла вкусовые рецепторы во рту и наполнила теплом внутренности журналиста, через несколько минут слегка замутив ясность его мировосприятия. Алешка с удовольствием крякнул, словно осушил флакон "Анютиных глазок", бородатый зажмурился и завязал свою физиономию в один морщинистый узел.
– А почему этот ваш Йоська так распоясался? – спросил вдруг Самсонов, которому стало жалко обездоленного.
– Трагедия у него, – неожиданно серьезно и литературно высказался Алешка. Репортер молча удивился диковинному вокабуляру неприхотливого соседа.
– Какая трагедия?
– Лет десять дома не был, а вчера сходил в гости.
– Куда? Домой?
– Домой.
– Неописуемая трагедия.
– А то нет? Сестра с мужиком в одной комнате, а в другой – мать. Голая и голодная, еле живая. Кричит все время.
– Чего не случается с людьми, – утвердительно кивнул Самсонов и внимательно посмотрел на бутылку, в которой еще много осталось.
– Давай по второй, – угадал желание гостя хозяин и щедро наполнил его чашку. Бородатый окончательно потерял ориентацию в пространстве и полностью утратил свою ценность в качестве собутыльника. Алешка налил себе, молча чокнулся с журналистом, и они выпили. Затем под какой-то старой газетой обнаружилась вскрытая банка селедки в винном соусе, и Николай Игоревич впервые в жизни сдобрил виски этой варварской закусью.
– Ты где их подобрал-то? – спросил он Алешку, мотнув головой в сторону бомжей.
– На улице, – простодушно ответил тот и замолчал, словно дальнейших объяснений не требовалось.
– Зачем?
– Для компании.
– Зачем тебе компания? И если зачем-то нужна, почему не женился вовремя?
– На хрена мне жениться? Жена и дети – это не компания, это обуза.
– Много ты счастья нажил без обузы.
– Много. Живу, как хочу. Хожу, куда хочу. Смотрю, чего хочу.
– Не чего хочешь, а на что денег хватает. А хватает их тебе на немногое, я думаю.
– Мне хватает. А из того, на что хватает, беру, что хочу. Хорошо живу. А была бы жена – ни на что бы не хватало. Вон, эти двое, все время друг с другом собачатся, и всегда – из-за баб. Один на них жизнь попортил, другому – жизни нет без большого траха.
– И что, ему есть из кого выбирать?
– А то! У него каждый месяц – новая. Все время с разбитой мордой ходит.
– Причем здесь морда? Женщины его бьют?
– Не, мужики. Он их у них уводит, а они ему – в морду.
– Но он все равно через месяц находит новую и снова получает свое?
– Ну да. Остановиться не может. Некрофил.
– Некрофил? Надеюсь, ты что-то путаешь.
– Ничего не путаю. Без баб жить не может.
– Причем же здесь некрофилия? Откуда ты слово-то такое услышал?
– Он сам так грит. Я, грит, некрофил. Без бабы помру.
– Некрофилы трупы пользуют, а не помирают без секса.
– Чего-чего?
– Некрофилы пользуют покойниц. Он, наверное, просто дурак.
– Может, дурак, а может – пользует. Раз сам грит.
– Если бы он был некрофилом, то живые бабы его бы не интересовали.
– А может, он двуствольщик.
– К черту таких двуствольщиков. А чем же он баб берет? Вроде не красавец.
– Да бабам разве морда нужна? Им мужик нужен.
– И что же – он мужик?
– А то нет! Бабам-то лучше знать.
– Они не знают, они чувствуют.
– Да хрен их разберет, что они делают. Думать еще о них.
– А чем они перед тобой-то провинились? Ты ведь сам свободы хочешь.
– Свободы хочу. А перестать думать о бабах – не могу.
– Понятно. Но только что ты сказал, что не хочешь о них думать.
– Не хочу. Но не могу перестать.
– Известный человечеству тупик. Кто-то впадает в тихое помешательство, кому-то крышу сносит по полной, кто-то начинает убивать каждого встречного или каждую встречную с опостылевшим ему цветом волос или глаз. Некоторые в конце концов женятся. От них еще никто ноги не унес.
Разговор о женщинах между не самыми трезвыми из мужчин быстро принимал отталкивающие формы и перерастал в состязание сквернословов. На этом поприще Самсонов далеко отставал от собеседника и скоро совсем замолчал, лишь изредка поддакивая особо чудовищным обвинениям со стороны последнего. Оба полагали себя безвинными жертвами половых отношений и выстраивали на этом фундаменте хрупкую конструкцию женоневастничества, которая наверняка не смогла бы выдержать самого ничтожного испытания близостью с какой-нибудь заманчивой прелестницей, созданной специально для мщения со стороны Евиного племени роду Адама за все его преступления против чувственности и искренней веры.
– А этот, сексоголик, – с трудом управляясь непослушным языком спросил Николай Игоревич, – говорил, за что баб так обожает?
– Грил, – коротко и отрывисто кивнул Алешка. – Грил, за хороший трах все им прощает, а они им пользуются в хвост и в гриву.
– И его это устраивает?
– Угу.
– А тебе кто рожу разукрасил? Не за бабу, случаем?
– Не, – энергично замотал головой убежденный бирюк. – Так, отморозки какие-то.
– Отморозки? Просто шли мимо и от нечего делать заехали тебе по лбу?
– Ну. Я и грю, отморозки.
– Может, не просто так? Давай, колись.
– Не, просто так. Я им ничего не делал.
– Точно?
– Точно. Ничего.
– Совсем-совсем ничего? Молчал и смотрел в другую сторону?
– Ну, – замешкался с ответом прохиндей, – не молчал.
– Выступил перед ними с речью о пользе обезжиренного молока?
– Не, на хер послал одного. А че он выкобенивается?
– По какому же поводу он выкобенивался? Просто так?
– Подумаш, задел слегка.
– Что задел?
– Да бабу его плечом задел.
– Сильно задел? Она на ногах-то устояла?
– Да что ей сдеется! Устояла. А этот кобель давай в бутылку лезть.
– Здесь ты его и послал.
– По полной послал. Не хрен из себя целок строить.
– Сколько там мужиков-то было?
– Да не помню. Когда бы я их там посчитал?
– Больше двух?
– Куда там, больше. Одному я точно челюсть сломал.
– Откуда знаешь?
– Почувствовал, когда бил. Хорошо так пошло, с хряском.
– А это не твоя рука хряснула?
– Не, рука целая. На, смотри.
Алешка покрутил перед носом у Самсонова растопыренной пятерней в доказательство истинности беспардонного утверждения.
– Ну и как, ты доволен?
– А чего мне? Вишь, лоб только ободрали. Жлобье гребаное.
– На фига ж тебе понадобилась вся эта катавасия?
– Ничего мне не понадобилось. Я ж те грю – я им ничего не сделал!
– Как же не сделал? Мужчины всегда нервно реагируют, когда прикасаются к их женщинам. Здесь врубается первобытный инстинкт, и любые дискуссии становятся совершенно бесполезными. Проблему решает только кровь.
– Да че там! Подумаш, бабу слеганца зацепил. Делов-то! Грю те, отморозки.
– А не приходила в твою голову мысль, что ты и есть тот самый отморозок? Баба, наверно, выразила тебе свое негодование, а ты ее обматерил?
– Ну и че? Тоже мне, целка нашлась! Кто ее трогал-то? Рукав зацепил, и все.
– А не порвал рукав, когда зацепил? Чем ты его?
– Не, не порвал. Вроде не порвал. Чего там рвать-то?
– Мало ли что? Во что она была одета? Случаем, не в норковую шубу?
– Я откуда знаю, в какую! Шуба – и есть шуба.
– Не скажи, шуба шубе – рознь. Я подозреваю, тебя еще пожалели. Могли и в ментовку сдать, да компенсацию ущерба тебе вчинить. Так до пенсии на них бы и ишачил, с твоими-то доходами. Чем ты там занимаешься – пивные банки сдаешь?
– Сдаю. А тебе чего?
– Мне-то ничего. Я говорю, сколько банок нужно сдать, чтобы набрать на норковую шубу?
– Тебя колышет? Чего ты ко мне лезешь?
– Не лезу я к тебе, очень нужно. Просто интересно: ты дерешься с первыми встречными от скуки или искренне не понимаешь, за что можно получить по морде?
– Чего это я не понимаю? Не хочу просто, чтобы на меня наезжали. Че я, смотреть должен?
– Ты попробуй для начала сам ни на кого не наезжать. Ты ведь по улице идешь – и то от тебя прохожие шарахаются. К мату у нас народ привычный, но детей многие еще берегут. А мужики могут и ради женщин тебя к порядку призвать.
– Чего меня призывать-то? Хочу – и матюкаюсь. Кому какое дело?
– Как это – кому? Всем есть дело. Между прочим – это правонарушение, штраф полагается.
– Как хочу, так и грю, и плевать я хотел на твой штраф. Шагу без ментов ступить некуда. Что – я с корешами языки почешу, и нам за это штраф полагается?
– Не за чесание языков, а за нецензурную брань в общественном месте.
– Ничего себе дела! А задницу в общественном месте можно почесать без штрафа?
– Можно, если штаны не снимать. Ты, наверно, предпочтешь штраф или мордобой, но продолжишь изъясняться так, как привык?
Алешка кивнул и забыл поднять голову, сохранив странную позу противоестественного языческого божка. Казалось, он отрекся навсегда от общения с миром, отвращенный от него великим множеством несовершенств.
Самсонов безнадежно задумался о путях спасения из болота повседневности, поглощавшего его с каждым днем, хотя бытовые заботы остались в далеком прошлом вместе с Фимкой и ее матерью. Нельзя же назвать бытом пребывание в этом бомжатнике, где он докатился уже до закусывания виски селедкой. Унылый и потерявший интерес к жизни, журналист покинул впавших в анабиоз собутыльников и вернулся в свое скромное обиталище, в котором ему не принадлежала даже раскладушка. Там он предался тяжелому сну опытного грешника.
Сны не беспокоили репортера, совесть не шевелилась и не делала ему больно, но забытье все равно показалось Николаю Игоревичу противным, словно ниспосланным в наказание. Пробуждение получилось гораздо худшим: не от пения птиц и волшебного аромата благовоний, а от остановки дыхания вследствие удушья. Толком еще не проснувшись, Самсонов сел на заскрипевшей раскладушке, раз за разом хватая ртом воздух и смутно осознавая печальную реальность, а именно – полное отсутствие воздуха. С каждым судорожным зевком легкие наполнялись не живительным кислородом, а удушливым дымом, как будто квартира за ночь успела провалиться в преисподнюю. С трудом встав на ноги и предпринимая нелепые усилия защититься от дыма потными ладонями, Николай Игоревич начал мелкими шажками перемещаться в сторону двери в общий коридор. По крайней мере, ему казалось, что он движется именно в этом направлении, хотя нащупав в темноте препятствие, журналист понял, на его пути стоит стена, лишенная какого бы то ни было намека на дверь в том самом месте, где дверь имелась еще несколько часов назад. Мистические настроения никогда не овладевали Самсоновым с такой впечатляющей силой, и попытки привлечь здравый смысл для овладения собой не приносили результата. Пока лишенный надежды журналист шарил руками по глухой стене, кто-то стал жестоко барабанить в наружную дверь, ведущую в подъезд. Видимо, соседи уже вполне осознали нависшую над ними опасность и пытались принять посильные меры. Оставалось только понадеяться, что и пожарных они не забыли вызвать. Сознание, без всякой охоты вернувшееся было к сумрачной личности несостоявшегося скандального репортера, игриво и беззаботно стало покидать его, словно найдя себе более важное предназначение. Опираясь обеими руками о стену, Самсонов медленно опустился на четвереньки и в таком положении, оставаясь в одних трусах и футболке, отправился в долгий путь через комнату в предполагаемую сторону окна. Добраться до желанной цели оказалось сложно: журналист по-прежнему ничего не видел и ориентировался только по дуновениям свежего воздуха сквозь не заклеенную на зиму раму. По крайней мере, ему казалось, будто он ощущает эти дуновения.
Тем временем соседский стук в дверь коммуналки перерос в характерные звуки взлома. Заскрежетал металл, затрещало и застонало дерево, что-то упало в коридоре, и квартира наполнилась топотом множества тяжелых ног. Самсонов, казалось, уже разглядел светлый квадрат окна в дымной темноте и упорно полз к нему на четвереньках, повинуясь великому инстинкту выживания. Его разум окончательно сдался обстоятельствам непреодолимой силы, и даже звуки выламывания двери в комнату не привлекли внимания журналиста в той мере, в какой он всецело и самозабвенно отдавался продвижению вперед, в сторону, противоположную правильной. Репортер пытался добраться до окна, даже когда его грубо схватили сзади за футболку и поволокли прочь из квартиры. Тянул руки назад и скоблил голыми пятками пол, пытаясь всеми силами затормозить движение прочь от поставленной цели.
Все усилия Самсонова пропали даром, и спустя несколько минут он стоял на улице, босой, на снегу, укутанный в чье-то одеяло, и усиленно дышал в прозрачную маску, надетую на его недовольную жизнью физиономию. Глаза его пожирали второй этаж скромного желтого дома на два подъезда, из окон которого уже начали вырываться языки пламени. Крутились маячки на крышах пожарных машин и "скорой", пожарные в касках и в куртках со светоотражающими полосками ходили взад-вперед, кричали и ругались. Близлежащий колодец на тротуаре был открыт, из него торчал гидрант, и толстый шланг тянулся в распахнутую дверь подъезда. То ли крепление шланга было негерметичным, то ли сам он прохудился, но тонкая струя воды била далеко в сторону из этой конструкции и поблескивала в осеняющем ее с противоположных сторон разнокалиберном свете.
Злые жильцы продолжали выбегать из обоих подъездов пострадавшего дома и громко кляли на чем свет стоит алкоголиков вообще и Самсонова в частности. Бедолага совсем замерзал, ему дали пожарную робу и сапоги, он облачился в них, натягивая дрожащими руками грязные штаны на дрожащие ноги, и тоже тихо ругался. В отличие от всех окружающих, он не адресовал свою ругань кому-нибудь конкретному, а проклинал, надо полагать, свою несчастную жизнь в целом.
Наконец, из подъезда вынесли друг за другом трое носилок, прогибающихся под тяжестью тел Алешки и его своеобычных гостей. Физиономии всех троих казались совершенно черными, но лица были открыты обозрению, и вынесли их головами вперед, из чего Николай Игоревич вынес умозаключение о сравнительно удачном исходе приключения. Носилки проплыли сквозь толпу зевак к машинам скорой помощи и исчезли в них, затем и сами машины тронулись с места и исчезли за поворотом.
– Ну, алкаш, богу молись, – весело крикнул журналисту проходящий мимо пожарный в закопченной и мокрой робе. – Еще пять минут, и с архангелами бы сейчас общался!
"Я бы, может, и не отказался с ними поболтать", – угрюмо подумал журналист, продолжая глубоко дышать. Нечаянная мысль, сама собой возникшая в его бестолковой голове, засела там глубоко и надежно, снова и снова напоминая о себе. В самом деле, какой же конец можно счесть удачным: тот, который случился, или летальный исход? Лучше всего, конечно, кончина во сне, без пробуждения и медленного удушения с каждым вдохом новой порции угарного газа. Но печальный вариант был уже почти достигнут, во время пожара задыхаться репортеру явно оставалось недолго – двери он не нашел, до окна добраться не успел бы. Так стоило ли проделывать в обратном направлении пройденный с таким трудом путь? Ради чего? Чтобы утром снова отправиться в редакцию, увидеть прежние лица и делать прежнюю работу?
В больницу журналиста привезли в состоянии духа решительном и бескомпромиссном – даже лиса готовит запасные выходы из своей норы и выскакивает через них, когда охотники выкуривают ее дымом. Чем же он, разумный человек, хуже бессознательного животного? Запасные выходы существуют не сами по себе, они созданы в интересах человечества. В противном случае слишком многие индивиды слишком часто избирали бы метод срезания неудобных углов на пути от рождения к смерти.
В приемном покое было холодно и не очень светло – Самсонову там не понравилось. По миновании медицинского обследования и некоторых бюрократических процедур, не успевший задохнуться репортер оказался в одной палате с Алешкой. Тот смирно лежал с кислородной маской на лице, глаза его были полузакрыты, поэтому лицо не выражало никаких мыслей. Левая рука, красная, покрытая большими прозрачными волдырями и блестящая не то от какой-то мази, не то от вазелина, лежала поверх одеяла.
Журналиста госпитализировать не стали. В качестве наименее пострадавшей жертвы обстоятельств ему просто позволили побыть некоторое время на глазах у медперсонала на всякий случай. Мало ли, как отразятся на его самочувствии минуты героической борьбы с вездесущим дымом. Ситуация сложилась благоприятной для медитации: репортера больше не дергали многочисленными профессиональными вопросами, зато позволяли без особых ограничений обозревать окрестности. Оба бомжа изрядно обгорели и надышались ядовитого дыма, к ним журналист доступа не получил – оставалось только созерцать беспомощного коммунального соседа и делать предположения о дальнейших судьбах квартиры, Алешки и самого журналиста, которые замысловато переплелись между собой в последние месяцы.
Предаться размышлениям Самсонов не успел: в палату ворвалась незнакомая женщина в накинутом на плечи белом халате. Она не отличалась изяществом черт лица или примечательными формами. Вообще ничем не выделялась из толпы на улицах своего города, в котором, судя по всему, и прошла ее скупая на события жизнь. Женщина остановилась над Алешкой со сложенными перед грудью ладонями, словно молилась на него, затем тишина прервалась ее причитаниями.
– Какой же дурак, ну какой же дурак! – без конца повторяла посетительница таким тоном, словно пыталась доказать несчастному свое желание видеть его всю жизнь ежедневно с утра до вечера и постоянно радоваться этому зрелищу.
Алешка открыл глаза и скосил их на женщину. Сначала в его взгляде проявилось удивление, затем некое подобие страха. По мере нарастания волны ласковых ругательств, пострадавший временами как бы в смущении отводил глаза, затем с новым обожанием вперялся в свою словоохотливую гостью. Обоженный внутри и снаружи, пациент не мог разговаривать из-за трубки в горле, разветвленная медицинская сбруя вообще сковывала его движения, и несколько попыток полуживого протянуть к женщине не обоженную левую руку, со стороны которой и стояла нарушительница спокойствия, а бездельную правую, обернулись ничем. Алешка только издал несколько беспомощных пыхтящих звуков, а затем в упадке сил откинулся на подушку.
– Как он? – обернулась женщина к Самсонову, ища в его ненадежном лице успокоения.
– Насколько я понимаю, скоро оклемается, – ответил репортер, всеми силами изобразив участие. – Дымом только надышался. А рука – пустяки, ожог от силы второй степени. Честно говоря, плохо в них разбираюсь, но до обугливания тканей дело точно не дошло. Извините за хамство, но не могу смолчать: кем вы ему приходитесь?
– Какая вам разница? – гневно вспыхнула женщина и вновь обратила все свое внимание на жертву печальных обстоятельств.
– Просто я с ним знаком больше полугода, и за это время не слышал от него ничего хорошего о женщинах. Видимо, он на вас в большой обиде?
– На кого это "на вас"? – обратила женщина раздраженное лицо к журналисту. – О ком вы говорите? О женщинах вообще или обо мне?
– Видимо, и так, и этак. Честно говоря, не могу представить вас рядом.
– Хотите сказать, во мне ни кожи, ни рожи?
– Да что вы, наоборот. Он ведь спился совсем. Бомжей вон начал домой приводить.
– По-вашему, приютить бездомного – преступление? Или верх глупости?
– Боюсь, он не собирался никого ютить, а хотел только в очередной раз напиться в компании. Хоть в какой-нибудь.
– Напрасно боитесь. Настоящий интеллигент – скорее умрет, чем признает душевное благородство русского человека. Что вы вообще об Алексее знаете? Полгода он с ним знаком! Вы с ним ели, спали, веселились и тосковали?
– Никакой я не интеллигент. Даже очков не ношу. А спать с Алешкой мне точно не довелось. Пить и есть – время от времени. Вообще, мое общее впечатление о нем – это человек с невероятно большой коллекцией порнографии, которую он страстно желает продемонстрировать максимально возможному количеству людей. Он и меня постоянно ей завлекал, с перерывом на месячишко после того, как по харе мне съездил.
– И что дальше? У него в коллекции есть детское порно?
– Не замечал. Но согласитесь, в его возрасте так увлекаться созерцанием – не нормально.
– Вам какое дело? Что вы вообще от него хотите?
Алешка замычал в свою маску и замахал здоровой рукой, привлекая к себе внимание спорящих. Те не сразу остановились, войдя в раж и не исчерпав полностью аргументацию, но в конечном итоге все уже утихомирились. Они мысленно сошлись в убеждении, что дискуссия у постели пострадавшего выглядит странно и даже отталкивающе. В конце концов, нехорошо обсуждать и тем более осуждать человека в его присутствии, как будто он уже труп. А он ведь все видит и слышит, только сказать ничего не может.
Николай Игоревич, так и не найдя ответов на свои вопросы, сделал шаг из палаты и неожиданно наткнулся на Дашу. Она наскочила на него с разгону, всполошенная и взволнованная, словно вернувшаяся с торжественной встречи инопланетян.
– Самсонов, живой? – с радостным недоумением закричала она. Казалось, секретарша не ожидала найти журналиста почти в добром здравии.
– Живой, – раздраженно буркнул он, – не дождешься.
– И правда, живой, – наивно согласилась девица и погладила Самсонова по груди. – И шутки такие же дурацкие.
– Не такие уж и дурацкие. Ты здесь откуда взялась, радость моя?
– Как откуда? Весь город гудит! Не каждый день у нас дома горят. Я, как услышала про твою воронью слободку, так сразу сюда.
Даша заглянула в палату, увидела безмолвного Алешку и сидящую на краю его постели женщину и перевела взгляд на Самсонова:
– Сосед твой? А кто это с ним?
Ответов взбалмошная девица и не думала ждать, ей достаточно было ставить вопросы.
– Слушай, Самсонов, ты, кажется, не очень пострадал?
– Не очень, – согласился репортер, расслышав в вопросе нотки нетерпения. – Спешишь куда-то?
– Да, спешу – знакомую встретила. Там у нее… неприятности. Я побегу, ладно?
– Беги, не силой же тебя держать. Егоза.
Последнее слово Николай Игоревич добавил, когда Даша уже отдалилась на достаточную для злословия дистанцию. Он смотрел ей вслед со скучающим видом и внезапно обнаружил в поле своего зрения знакомо аппетитную фигуру жены. Или бывшей жены? Нет, жены. Не только по закону, но и по здравому смыслу. По прошествии нескольких месяцев после скандала Лиза все еще не подала на развод, каждым днем оттяжки возбуждая в своем муже нездоровое чувство самодовольства.
Лиза стояла в дальнем конце коридора и смотрела на Самсонова внимательно и не мигая, словно желая высмотреть в его безалаберной физиономии хоть какой-нибудь сермяжный смысл. Николай Игоревич поспешил оглядеть себя сверху вниз и убедился в приемлемой благопристойности своего внешнего вида. После больничного душа, облаченный в некое подобие больничной пижамы и халата, он ощущал себя королем. Ведь, ко всему прочему, он еще и пострадавший, женщины его жалеют. Не все, похоже.
Лиза неторопливо двинулась по коридору в сторону непутевого. Оба не спускали друг с друга глаз и, спустя короткое время, стояли уже в полутора метрах, зацепившись взглядами.
– Как живешь? – тихо спросила суровая жена.
– Терпимо, – чуть пожал плечами бестолковый муж. – Вот, живой остался.
– Вижу. Знатное достижение. Много выпил?
– Не чрезмерно, – с легким раздражением заявил Самсонов. – Пожар не я устроил, а бомжи. Курили, наверно, в постели, спьяну заснули и матрасы подожгли. Их здесь нет, они в ожоговом – там все серьезно. А я, видишь, стою перед тобой, как конь перед травой.
– Вижу, – повторила Лиза свою простую констатацию. – В горле першит?
– Немного. Ерунда.
– Ерунда, если легкие хорошенько провентилировать. Ты сейчас можешь домой пойти, а по дороге или уже на месте сознание потерять. Тебя обследовать надо.
– Обследовали уже.
– Как следует надо. Я сейчас вернусь, подожди.
– Лиза, постой! Не уходи. Побудь со мной.
– Зачем? Не нагляделся на меня в супружеской постели?
– Нет, – признался Самсонов и робко взял жену за обе руки. – Не уходи. Где Фимка?
– Думаешь, я ради тебя бросила ее дома одну? Она у мамы останется ночевать.
– Я не думал, что ты бросила ее одну. Просто я давно ее не видел.
– Да, какой ужас! Не собираюсь отпускать ее на твои свидания со своей проституткой.
– Она меня давно бросила.
– Я про новую проститутку. Не знаю уж, какая она у тебя по счету.
– Тоже мне, святая нашлась. Я, по крайней мере, уголовницами не интересуюсь.
– Выходит, ты хуже уголовника. С чем тебя и поздравляю.
– Неужели ты ради этой фразы и затеяла всю бодягу? Думаешь, твоя связь с зэком унижает меня? Чепуха. От брошенной жены большинство людей ждет экстравагантных выходок, поскольку в общественном сознании одинокая женщина выглядит более неприличной, чем женщина преступника. Думаю, в эти месяцы многие перемигивались за кухонным столом по твоему адресу и острили на тему о том, как же сильно достало тебя одиночество.
– Мели, мели, – внешне равнодушно отбивалась Лиза от мужниной агрессии. – Я просто променяла тебя на человека, который не мог без меня жить. Тебе, наверное, не понять его. Никогда.
– Наверное. Знаешь, на зоне с женщинами напряг. Думаю, он охотно набросился бы на любую другую, попавшуюся ему по дороге к отчему дому.
– Чего ты добиваешься, Самсонов? Чего ты ждешь от меня? Слез, раскаяния, просьб о возвращении? Забудь раз и навсегда! Я не брошенная жена, я сама тебя бросила. Ты прекрасно это помнишь, поэтому и ходишь такой ушибленный. Совсем по-бабски пытаешься уязвить меня как женщину. Ты ведь себя самого унижаешь, неужели не понимаешь таких простых вещей?
– Ну конечно, я себя унижаю, а ты высоко и гордо несешь мое имя.
– Не несу я твоего имени, дурак! Очень нужно! Сам его носи, как сумеешь. До сих пор у тебя не слишком хорошо получалось. На сегодняшний день главное твое достижение – слава похотливого кобеля.
– А твое главное достижение на сегодняшний день?
– Мое? Фимка, конечно.
– Здрасьте, приехали! А я к своей дочери никакого отношения не имею?
– Имеешь. Чисто утилитарное. Ты свое дело сделал, можешь быть свободен.
– Типично женская точка зрения. Как вы все уверены в своем праве частной собственности на детей! Если тебе кажется, будто девочке не нужен отец, это еще не значит, что она думает так же.
– А ты, разумеется, знаешь ее мысли.
– Любой ребенок хочет иметь обоих родителей и ходить между ними, взявшись за руки. Все это знают, и ты тоже. Но ты хочешь сделать Фимке больно, чтобы мне стало стыдно. Не находишь такое поведение чудовищным?
– Фимка прекрасно без тебя обходится, не надейся на нее.
– В каком смысле "не надейся"?
– Она не поможет тебе вернуться, вот в каком смысле.
– Замечательно, вот ты и проговорилась, прямо по Фрейду. Это для тебя родная дочь – орудие мести, и ты обо мне судишь по себе. Мне дочь нужна, а без возвращения как-нибудь обойдусь.
– Интересно, как? Твое логово ведь сгорело.
– Не твоя забота, придумается что-нибудь.
– Само собой придумается? Ну-ну.
– Не само собой, а как-нибудь без тебя. Дочь бы пожалела, ее ведь скоро во дворе дразнить начнут, если уже не начали.
– Интересно, с каких пор тебя стал интересовать мой моральный облик? Ты же себе подстилку нашел, какое тебе до меня дело?
– Я не про тебя говорю, а про дочь.
– А ты, когда со своей проституткой путался, думал про дочь?
– Ни с какой проституткой я не путался и домой никого не водил, в отличие от некоторых.
– Так все дело в осквернении супружеского ложа? Двадцать первый век на дворе, а ты со своими первобытными инстинктами носишься, как с писаной торбой. Наверное, мечтаешь меня вожжами выпороть, но не знаешь, где их достать.
Самсонов замолчал, словно захваченный врасплох на месте преступления. Мысли его, одурманенные дымом пожарища, ворочались в голове нудно и бесцельно, время от времени выдавливая на поверхность сознания вовсе не нужные ему воспоминания. Журналист действительно мечтал, но не о вожжах, а о жене и дочери. Мечтал так, будто никогда их не имел, а только надеялся обрести. Будто никогда не видел своих девочек, а придумал их идеальные образы в своем воображении.
Больничный коридор давал мало простора для отвлеченных мыслей. Некоторые из ламп дневного света на потолке не горели вовсе или мигали и гудели, создавая несколько фантасмагорическую обстановку. Стояли рядком вдоль стены койки с больными, не поместившиеся в палаты, мимо ходили озабоченные врачи, медсестры с инструментами и лекарствами в руках, санитарки с утками из-под пациентов. Чету Самсоновых иногда толкали, на них часто косились с неудовольствием и всячески демонстрировали осуждение их бесцеремонному стоянию там, где люди ходят.
– Я тебе одежду принесла, – сказала вдруг Лиза. – Сдала в кладовку. Кстати, почему ты при регистрации дал им мой телефон?
– Чей же еще телефон я мог дать? Редакции, что ли? Ты у меня одна, не надейся.
– На что мне не надеяться?
– На то, что я проживу без тебя.
– Даже так? Нам ждать тебя из больницы дома? Тебе при пожаре голову напекло?
– Нет, огня я даже не видел. Но квартира моя, и мне надоело жить на улице.
– Мало ли, что тебе надоело! Ты сам из семьи ушел, а теперь плачешься мне в жилетку?
– Я не уходил из семьи.
– Ну конечно! Ты просто гулял налево, воплощение невинности. Тебе никогда не приходило в голову, что взрослый человек обязан нести ответственность за свои поступки, тем более такие, которые ранят других людей?
– Я никого не ранил.
– Даже так! Ты просто счел себя правоверным мусульманином и решил по такому случаю обзавестись гаремом. Только ты и жену с ребенком не слишком баловал из своих сказочных доходов, куда уж тебе наложниц содержать.
Самсонов чувствовал себя как в переполненном общественном транспорте, когда человек стоит в проходе, и все его обходят, толкая других людей, которые в проходе не стоят. Николай Игоревич не стоял в проходе, а Лиза упорно, слово за словом, толкала его и смотрела ему в глаза, проверяя, злится он или нет.
– Какая тебе разница, кто у меня есть на стороне? Это никак тебя не задевало. Мне нужна ты, нужна Фимка, я ни единой минуты не мыслил себя без вас, хочу наряжать вас, как на картинке, хочу прикасаться к вам, чувствовать ваше тепло, хочу видеть вас во сне и наяву. Хочу и всегда хотел. И чем я хуже мужей, которые воспринимают семью, как помеху в личной жизни?
– Ты унизил нас с Фимкой, оскорбил, вытер о нас ноги, выставил нас на позорище и теперь делаешь морду кирпичом? За ненормальную меня держишь?
– Ты сама выставила себя на позорище, когда учинила публичный спектакль с моим выселением. Вот соседушки порадовались: такой сериал в натуральную величину!
– А когда соседушки друг другу на ушко пересказывали твои похождения, я, по-твоему, ходила в ореоле славы? У тебя совсем головы нет, или ты просто априори считаешь себя всегда и во всем безвинным просто потому, что лучше тебя нет человека в целом свете?
– Ты просто нашла повод свести со мной счеты за то, что я не сделал тебя королевой. Не знаю, каких благ ты ждала о нашего брака и на каком основании, но я никогда ни полусловом не намекал тебе на возможность материального благополучия в нашем совместном бытии. Возможно, ты каким-то образом разглядела во мне черты будущего Креза, но жестоко ошиблась. И теперь делаешь меня ответственным за твою ошибку.
– Не смеши людей. Никто никогда не ждал от тебя выгоды. Ты только чужие деньги умеешь не отдавать, где уж тебе свои заработать. Я за тебя вышла, потому что по молодости сдуру приняла за светлую личность. Думала защитить тебя от низменных земных забот и тем самым дать миру твой талант обличителя общественных язв. Сейчас и вспомнить смешно.
Из дальнего конца коридора донесся истошный девичий вопль:
– Самсонов! Самсонов!
– Девушка, не шумите! – закричала на Дашу в ответ за Николая Игоревича какая-то санитарка.
– Чего тебе? – спросил журналист нарушительницу тишины, когда она пробралась поближе к супругам и торопливо извинилась перед Лизой за создаваемую помеху в общении.
– Ты должен пойти со мной, – безапелляционно заявила девица.
– Ничего себе заявочки! А что я еще тебе должен?
– Статью. Или очерк. Что хочешь, но ты должен уничтожить одного мерзавца.
– Какого мерзавца?
– Есть один такой. Ларечник.
– Всего-навсего? – язвительно усмехнулась Лиза. – Лучшее перо районной газеты могло бы замахнуться и на кого-нибудь покруче.
– Чем же этот ларечник перед тобой провинился? – деловито поинтересовался Самсонов, игнорируя саркастический комментарий жены.
– Он подлец.
– Охотно верю, но для очерка нужно больше материала.
– Ладно, пойдем. – Даша схватила репортера за широкий рукав халата, вновь извинилась перед Лизой и повлекла Самсонова за собой по коридору. Они спустились по лестнице на другой этаж, прошли еще несколько коридоров и остановились у закрытой двери.
– Здесь лежит моя подруга, – объяснила Даша свое поведение, – и ты должен с ней познакомиться. Тебе все станет ясно.
Девушка открыла дверь и втолкнула Самсонова в палату. Там обнаружилась женщина на больничной койке. Ее спутанные русые волосы рассыпались по подушке, а лицо хранило печать всеведения и полного безразличия. Рядом на полу играл пацанчик в джинсиках, а на стуле сидела санитарка с грудным ребенком на руках.
– Наконец-то! – недовольно воскликнула санитарка и посмотрела на Дашу с категорическим осуждением. – Я вам не нанималась в сиделки!
– Извините, раньше не получилось, – сухо отрезала та и взяла ребенка у недовольной служительницы милосердия.
Санитарка ушла, женщина на койке смотрела на вошедших так, словно они не существовали. Ребенок на руках у Даши захныкал, она принялась его укачивать и одновременно запретила пацанчику в джинсиках поднять с пола что-то непонятное.
– Лариса, ты как себя чувствуешь? – спросила самозванная нянька у больной. Та молча смотрела на нее, словно впервые видела.
– Ты не против, я заберу детей, пока ты в больнице?
Ответом вновь послужила тишина.
– Ты чего-нибудь хочешь?
Ни слова, только равнодушный взгляд.
– Ее накачали чем-то, – объяснила Даша Самсонову, который по-прежнему ничего не понимал в происходящем. – Она была совершенно невменяемой.
– И за это следует уничтожить какого-то ларечника?
– А кого же еще?
– Эту логическую связь следует хорошенько разъяснить.
Даша сбивчиво и раздраженно принялась объяснять репортеру свою логику, а тот тем временем продолжал бесцеремонно рассматривать равнодушную женщину и ее детей. История оказалась банальной, как трагедия Шекспира в бытовом переложении. Муж бросил беременную с маленьким ребенком, денег почти не стало, начальник предложил лечь под нужного ему человека за изрядную для матери-одиночки сумму, та через три дня после ночи платных утех стала кричать в потолок разные непонятные глупости и плакать. Теперь вот лежит, обколотая наркотиками и равнодушная ко всему на свете, включая собственных детей.
– Я не мог видеть ее раньше? – задумчиво произнес Самсонов.
– В нашем городе ты мог видеть кого угодно. И ее тоже – она обычно гуляет с детьми возле пруда, где кафе "Лунная дорожка". Дети еще маленькие, на площадку боится с ними идти. Старшему захочется в песочницу или с горки кататься, а он там чуть не самый маленький. Толкнут, глаза песком запорошат. И вообще, кругом алкоголики битых бутылок накидали.
– А ты при ней кем состоишь?
– Тебе какая разница? Подружки мы, с детства.
– Она вроде постарше тебя.
– Постарше, ну и что? Какая тебе разница? Хочешь проверить мою информацию из другого источника? Пожалуйста, сколько угодно. Кто-то тебе расскажет, что она святая, кто-то – потаскушка, одни – что она замечательная мать, другие – что мужики ей дороже детей. Пожалуйста, собирай свою информацию. Мне только интересно, как ты будешь выуживать из нее правду и с помощью какого источника подтвердишь ее.
– Дашенька, правда у каждого своя. Она соответствует мировоззрению, убеждениям человека и доступной ему информации. Проблему информированности можно подрегулировать, прочее – затруднительно. Если речь идет о человеке взрослом, а не юноше бледном.
– Самсонов, я не понимаю, о чем мы с тобой разговариваем. Говорю тебе: я знаю этого подонка, он за мной ухаживал, даже в театр водил, а не только в рестораны. И я говорю тебе все, как было.
– Подозреваю, родная моя, что это все поведал тебе не твой знакомец, а некто иной. Видимо, сама жертва обстоятельств.
– Ну и что? Тебе не все равно, кто мне что рассказал?
– Нет, не все равно. Как минимум, сам мерзавец должен изложить свою версию.
– Замечательно! Просто прекрасно! Отличный повод спрыгнуть с подножки! Так он тебе и изложит свою версию. Да он вообще с тобой разговаривать не станет. Кто ты такой? Полиция нравов, что ли? Закон он не нарушал. А про совесть с ним разговаривать бессмысленно. Да и не будет он о ней разговаривать. А если будет, то так, будто он самый нравственный человек в целом свете. Все ведь отлично понимают, что такое плохо и что такое хорошо.
Ребенок на полу сделал какое-то великое открытие и завопил от восторга, ребенок на руках у Даши заплакал в ответ, а она вновь принялась его баюкать и неразборчиво мурлыкать колыбельную.
– Ты пока забираешь детей? – спросил Самсонов. – А как это оформляется?
– Что оформляется? Я ведь их не усыновляю.
– Все равно, должен быть какой-нибудь официальный опекун. Ты говорила со здешними больничными властями?
– О чем?
– О том, чтобы забрать детей. Тебе ведь не имеют права просто так их отдать, если ты не родственница.
– Даже если мать мне доверяет?
– Матери самой не доверяют. Сначала она была неадекватной из-за нервного срыва, теперь – из-за лекарств. Плохая рекомендация.
– Ну ладно, хватит! Юрисконсульт нашелся. Без тебя как-нибудь разберусь.
– Разбирайся. Тут нужно быть поосторожней. А то знаешь, как бывает? Берется человек разобраться в том, в чем ничего не смыслит, и выходит одно сплошное недоразумение. Вот, например, Ногинский. Слышала о нем последние новости?
– Нет, кажется. Ничего особенного. А в чем дело?
– Женится.
– Как женится?
– Очень просто. Как люди женятся? Разобрался со своей личной жизнью. Дожил до пенсии без единого брака – и на тебе. Зачем, почему? Пытался с ним разговаривать – все бессмысленно. Не представляю, как можно впервые жениться на седьмом десятке.
– Да на ком он женится? Она ведь, кажется, замужем?
– Да не на ней, на другой. Тоже коммунистка, из той же ячейки. Их всех вместе в милицию загребли на каком-то пикете, но я их вызволил. Помахал корочкой перед носом начальника ОВД.
– Да кто она такая?
– Так, ничего особенного. Вдова какого-то мелкого партийного функционера советских времен.
– Идейная партийка, вдова функционера, собирается замуж за Ногинского? Она с ним знакома вообще?
– Насколько я понимаю, в некоторой степени. Месяца два-три он с ней общался. Он ведь вступил в наше местное литературное общество, слышала?
– Господи, да что это с нашим Ногинским? – Даша была готова всплеснуть руками, но ребенок ей не позволил. – Что он делает в этом лито? Они ведь должны были возненавидеть его после первой встречи. Разве он не язвит по поводу их творческих достижений?
– Насколько я слышал, язвит. И избранница его тоже в обществе состоит, и по ней он тоже прошелся своим паровым катком. Потом разговорился с ней раз, другой, третий, она прошлась по нему со всей партийной принципиальностью, и кончилось тем, чем кончилось. Правда, я всю историю излагаю со слов самого Ногинского, поэтому за абсолютную достоверность поручиться не могу. Давно собираюсь это лито посетить и поводить там носом – может, узнаю дополнительные подробности.
Ребенок на полу снова торжествующе закричал, неуклюже поднялся на ноги и принялся победоносно размахивать в воздухе чем-то маленьким и незаметным, но определенно вредным для здоровья. Даша одной рукой принялась отнимать у негодника находку, другой прижимая к себе грудничка. Самсонов попытался ей помочь, вспомнил про Фимку и расстроился. Про равнодушную женщину в больничной койке все забыли.
– Ладно, Самсонов, хватит. Совсем мне голову заморочил со своим Ногинским, – раздосадованно заявила Даша. – Мне пора. Договорились насчет ларечника?
– Если смогу добыть другую точку зрения. Может получиться хороший материал по женскому вопросу. Или о трудовых отношениях. А может и ничего не получится. Я не хочу становиться рупором пропаганды любого рода.
– Ну и проваливай отсюда. Тоже мне, пример неподкупности.
Даша решительно заграбастала детей, попрощалась с их матерью, лишь обратившей к ней безразличное лицо, и так уверенно направилась к выходу, что никто не задал ей ни одного вопроса о степени ее родства с уводимыми детьми.
Самсонов почесал в затылке, бросил прощальный взгляд на отрешенную от материнства женщину и побрел назад в свою палату. Добравшись до нее, он обнаружил там необъяснимо большое скопление людей. Лизы нигде не было видно, зато гостья Алешки стояла рядом с его койкой. На ее лице застыло выражение благоговения, в глазах светилась вера. Спиной к журналисту в центре палаты стоял священник, даже со спины были видны его белые кудри, еще несколько незнакомых женщин осторожно суетились вокруг.
– Здравствуйте, – настороженно сказал Николай Игоревич, лихорадочно пытаясь предположить последствия происходящего лично для него.
– Здравствуйте, – обернулся священник. – Не буду вам мешать, желаю скорейшего выздоровления.
Нежданный гость неторопливо покинул палату в сопровождении своей свиты, а Самсонов с молчаливым вопросом в глазах смотрел на Алешкину женщину.
– Это отец Серафим, – пояснила та. – Он часто в больницу приходит.
– Зачем?
– Как зачем? Больные не могут посетить церковь. А он считает своим пастырским долгом принести им утешение, совершить таинства, если нужно. Неужели непонятно?
Журналист пожал плечами:
– Не знаю. Я вообще не понимаю, как можно быть священником. Слушать всякую дрянь на исповедях. Я бы, наверное, через пару месяцев такой работы возненавидел человечество.
– К счастью, вы не священник. А отец Серафим не только человечество не возненавидел, он всю жизнь людям отдал. Видимо, вам такого не понять.
– Да, куда уж мне. Не собираюсь ничего отдавать никаким людям, тем более жизнь. Она у меня одна, единая и неделимая. Какая ни есть, вся моя. Уж не обессудьте.
– Ничего. Я думаю, ваша жизнь никому и не нужна.
– Спасибо на добром слове. Смогу теперь спать спокойно. Знаете, я об этом отце Серафиме слышу время от времени всякие чудесные вещи. Вы можете объяснить, откуда в нашем время, да еще в нашем городе, взялся настоящий святой? Ему бы патриархом быть – и борода подходящая, прямо как на картинке.
Борода отца Серафима действительно поразила Самсонова – он никогда в жизни не видел такого роскошества. Густая, совершенно белая, она покоилась на груди священника, закрывая ее вместе с животом. По краям пряди волос завивались колечками, придавая бороде законченный живописный вид и вселяя в душу репортера странные нотки черной зависти. Видимо, подсознательно он пожелал возыметь такое же зримое свидетельство достоинства, простоты и чистоты помыслов, но понимал неосуществимость своего желания. Репортер только подумал не ко времени: священнослужитель почтенного возраста должен хранить в памяти встречи с сотрудниками милиции, работниками райкомов, а может и более серьезных контор. Московского прихода не выслужил, хоть и обретается в столичной епархии – священноначалие его не жалует? За прегрешения перед церковью или за неприятие компромиссов? Ничего не знаешь о человеке, проходящем мимо тебя – только о том, кто остановится и заговорит, можно делать выводы.
– Отец Серафим уже полвека провел на разных приходах, и не такому проходимцу, как вы, над ним иронизировать.
– Ну вот, я уже и проходимец! Я ведь не сказал о вашем священнике ничего плохого. Просто так, безобидные мысли вслух…
– Оставьте ваши мысли вслух при себе. Человек всю жизнь, без шума и гама, без саморекламы и претензий на руководительство, тянет на себе тяжелый воз. И тут является какой-то типчик и начинает корчить из себя скептического наблюдателя. Что вы знаете об отце Серафиме? Что дает вам право относиться к нему пренебрежительно?
– Ровным счетом ничего не знаю и никого из себя не корчу. Почему вы решили, что я отношусь к нему пренебрежительно? Просто мне и прежде доводилось слышать восторженные отзывы о нем, и всегда в исполнении женщин разного возраста и убеждений.
– Ну вот, опять! На что вы намекаете?
– Не намекаю я ни на что! Просто хочу понять причину власти приходского священника над женщинами нашего славного города. Вполне обоснованное журналистское любопытство.
– Хотите понять причину?
– Хочу. Вы меня за это осуждаете?
– Нет, могу вам посодействовать. Причина очень простая: мужчины восхищаются только звездами хоккея и футбола. Они не общаются со священниками за ненадобностью, поскольку душа у них не болит и ответов на поставленные жизнью вопросы они не ищут. Просто брякаются на диван и глушат водку вместе со своими дружками, такими же неудачниками.
– Сочувствую вам.
– Почему?
– Видимо, вам сильно не повезло с мужчинами. Можете не верить, но существуют на этом свете счастливые женщины и души на чают в своих, так сказать, спутниках жизни. Простите, не смог придумать определения покрасивей. "Партнеры" прозвучали бы совсем уж погано.
– Какой у вас бедный словарный запас.
– Да нет, в общем не жалуюсь. Ладно, пусть будут "избранники". Если вы намекаете на определение, предполагающее наличие сугубо личных эротических чувств, то я не согласен, поскольку не во всех счастливых парах они двусторонни и вообще не во всех присутствуют. Как хотите, но чувства – далеко не все. Далеко не то, что нужно для долгого безунылого счастья. Возможно, они вовсе противопоказаны. Нужно взаимопонимание и взаимопроникновение, отсутствие отвращения и неприятия любого рода.
– Что означает наличие чувств.
– Нет, не обязательно. В молодости – может быть, но в молодости чувства зачастую выгорают за пару лет по законам биологии, и для превращения в основу долговременного счастья их пепел должен оказаться чем-то большим. Ладно, мы оба не прожили на свете достаточно долго для разговоров на скучные темы, лучше вернемся к нашему отцу Серафиму. Вы полагаете, женщины тянутся к нему за истинной верой, и он искренен в своем деле?
– Конечно. Он служит Господу Богу, а не зарабатывает себе на хлеб насущный. Живет с семьей в коммуналке, но без всяких скандалов и шоу отказался от долевого участия с Полуярцевым в выколачивании денег на ремонт церкви из предпринимателей, хотя мог бы сколотить в такой операции неплохой капиталец. Так и стоит церковь обшарпанная, без колоколов. Пока в людях совесть не проснется, и они дадут деньги сами, без всякого рэкета.
– Откуда же вы знаете о его подвиге, если он отказался тихо?
– Вы не верите, что среди моих знакомых имеются бизнесмены или сотрудники администрации?
– К сожалению, я не знаю о вас ничего, даже имени, и никак не могу судить о вашем круге общения.
Самсонов всеми силами стремился принять вид вежливого и обходительного интеллигента, хотя внутренне уже давно закипал. Сдерживать нарастающее давление стресса становилось все труднее, в поисках опоры он принялся блуждать взглядом по палате и как бы заново заметил Алешку в его неудобной позе. Он напряженно следил за препирательствами парочки незнакомцев над его койкой и, казалось, ждал от исхода дискуссии неких последствий для себя. Почему – репортер не понял и сильно удивился.
– Так вот, я вам говорю: мне было от кого узнать о происходящем в стенах администрации, помимо отца Серафима. Он не сказал ни слова, даже мимоходом, даже когда ему начали угрожать какие-то обиженные мерзавцы.
– Охотно вам верю. Просто я, будучи человеком циничным, всегда с трудом принимаю утверждения о чьей-либо честности, искренности и неподкупности.
– Напрасно. Таких людей много. Их даже большинство. Просто вы, надо полагать, предпочитаете иное общество.
– Возможно, возможно. К сожалению, я журналист, а ваши неподкупные не делают новостей.
– Это зависит от того, что считать новостями. Отец Серафим совершил человеческий и гражданский подвиг, тем более выдающийся на сегодняшнем общем фоне, но вы не увидели здесь информационного повода. Это ваша проблема или отца Серафима?
– Это проблема общественного сознания. Событие – это то, что случилось, а не то, чего не было.
– То есть, если бы он взял деньги, вы бы написали, а так – незачем?
– Конечно. Честный и искренне верующий в Бога священник – это нормально. Так должно быть всегда и везде. Если где-то так и есть, значит там все в порядке, и нет причины бить в набат.
– Но все вокруг ведь совершенно уверены именно в ненормальности всего происходящего. И уверенность эта проистекает, в том числе, и из нежелания вашей шайки-лейки замечать все доброе и совершенное вокруг нас.
– Благодарю вас за комплимент, но повседневную свою жизнь люди оценивают из личного опыта, а не по сообщениям средств массовой информации.
– Ошибаетесь! Мы не в Лихтенштейне каком-нибудь живем. Человек замечает положительные явления вокруг себя, но не имеет никакого личного представления об их распространенности. А вы и вам подобные день и ночь показываете беспросветную тьму, якобы упавшую на страну, и не оставляете ни гроша надежды, заставляете опустить руки или взяться за бутылку от безнадежности.
– Ну, знаете! Многие расскажут вам в ответ много поучительного о нашей журналистике с выбитыми зубами, давно пошедшей в услужение власти. Если содержание нынешней прессы видится вам чернухой, каково же в вашем представлении царство Беспредельного Положительного Мнения?
– Поразительно! До какой же степени вы ненавидите собственный народ! Он причинил вам какое-то зло? У вас отняли фабрику или другое предприятие? Вас лишили детства, не позволили отучиться десять классов в школе, не пустили в институт или университет? У вас ведь высшее образование, признавайтесь?
– Высшее.
– Вы потратили на него все ваши сбережения и влезли в долги?
– Я не понимаю, о чем мы говорим.
– Зато я прекрасно понимаю! Мы говорим о человеке, бесплатно получившем высшее образование и бросившем все свои скромные силы на осквернение всякой чистой души, которая только ему подвернется.
– Мне самому от себя страшно стало. У вас здорово выходят ужастики. Не пробовали заняться творчеством? По-моему, можете рассчитывать на коммерческий успех.
Алешкина женщина ответила репортеру презрительным молчанием и даже бросила на него ледяной взгляд, а затем склонилась над койкой своего избранного, поправила ему подушку и стала тихо шептать на ухо не нужные никому другому слова.
Репортер посмотрел ей в затылок и задумчиво произнес:
– Кажется, я знаю виновника сегодняшнего приключения.
Женщина молча подняла выжидающий взгляд на журналиста.
– Это тот тип, который всучил Алешке бутылку виски посреди улицы. Я сразу задумался: что за странное происшествие. Ведь никогда и никому таких подарков просто так не делали. Он знал последствия.
– Кто он?
– Говорю же, тип на улице.
– Вы его знаете?
– Подозреваю.
– Кого подозреваете? И как он мог предвидеть последствия?
– Чего проще! Поднести группе алкоголиков бутылку дарового пойла – все равно что всучить гранату обезьяне.
– Так кого вы подозреваете?
– Скорее, предполагаю.
– Кого?
– Имя назвать не могу, просто думаю – это рок.
– Что?
– Судьба. А уж свершилась здесь воля сил зла или добра, сказать не могу. Ответ можно только вылежать, долго глядя в белый потолок.
– Идиот, – бросила суровая женщина и вновь обратила все внимание на своего избранного.
Самсонов вздернул брови, хмыкнул, лицо его приняло безразличное выражение, а сам он без всякой цели шагнул в коридор. Со стороны его движение могло показаться преднамеренным, хотя в действительности оно таким ни в коей мере не являлось. Просто таинственная сила и мистическое стечение обстоятельств сделали шаг из палаты единственно возможным в одну конкретную секунду действием. В результате журналист с искренним удивлением натолкнулся на спешащего по коридору Петра Никанорыча. Если физиономия репортера успела к моменту столкновения принять беззаботную мину, лицо предпринимателя несло в своих чертах высшую степень озабоченности.
– Привет! – машинально гаркнул Николай Игоревич.
– Привет, – бросил на ходу несчастный отец и на скорости проскочил дальше. Прозорливый репортер крикнул ему в спину:
– Жену ищешь?
– Жена давно уже дома, с ребенком сидит, – махнул рукой Никанорыч. – Дочь у меня здесь. А я заблудился. Занесло неизвестно куда.
Самсонов тактично промолчал, поскольку в своем серьезном возрасте все еще считал гинекологию понятием неприличным, но Сагайдак думал иначе и продолжил повествование сам, без всякого внешнего понуждения.
Милку положили на сохранение, делать аборт она не желает, с отцом демонстративно не разговаривает, зато рассказывает всем встречным-поперечным о своих свадебных планах. Пятнадцатилетний возраст беременной невесты производит на слушателей неизменно яркое впечатление, и они зачастую собираются вокруг рассказчицы в живописные группы, разнося затем приблизительно пересказанную историю по всем углам и закоулкам.
– Хочет меня позлить, – уверенно разъяснил поведение дочери мрачный отец.
– Может, действительно мечтает о замужестве? – робко предположил Самсонов.
– Ты еще будешь о том же!
– Ну, куда же тебе деваться с подводной лодки. Назвался отцом собственной дочери – полезай в свадебный лимузин. Ты можешь потратить остаток жизни на препирательства с ней, а можешь тихо склонить главу и заняться рассылкой приглашений. И подготовить церемонию, которая приведет твою дочь в поросячий восторг. Она бросится тебе на шею, расцелует и забудет всю чепуху, которую ты успел ей наговорить, пока был дураком.
– Я не дурак! Ей пятнадцать лет, какая свадьба?
– Ну, подожди годик-другой, пусть школу закончит. И пусть все это время она ни на минуту не усомнится в неизбежности обещанного тобой будущего.
– Я бы подождал годик-другой, да она не желает. Приспичило ей, видите ли!
– Хочешь накинуть на нее паранджу, связать и спрятать в квартире, под надежным присмотром?
– Твоей сколько лет?
– Шестой идет.
– Шестой?
– Шестой.
– Ты серьезно?
– Вполне. А в чем дело?
– Твоей дочери нет еще шести, а я стою и слушаю твои мудрые советы? Что, книжки читаешь?
– Читаю и не вижу в этом ничего предосудительного. Хочешь собрать все книги и сжечь?
– Хочу, чтобы ты не строил из себя знатока. Ты смотрел когда-нибудь в глаза самца, пользующего твою несовершеннолетнюю дочь? На меня его родители уже заяву в прокуратуру накатали.
– За то, что ты посмотрел в его глаза?
– Нет, за то что сделал выводы из увиденного.
– Он тоже малолетка?
– Почти. Жених хренов.
Сагайдак раздраженно помотал башкой, прощально махнул рукой собеседнику и пустился дальше по коридору в поисках гинекологии. Самсонов проводил его долгим задумчивым взглядом и некоторое время продолжал смотреть в закрывшуюся за будущим дедом дверь, словно не терял надежды разглядеть в ней что-нибудь новое и необычное, помимо тысячелетней драмы отца, ищущего отмщения за неожиданно раннее взросление дочери. Николай Игоревич подумал о далеком будущем, когда замуж засобирается Фимка, и хмыкнул. Затем подумалось, что будущее это не так уж далеко, и смешливое настроение само собой ушло в небытие.
Репортер решил не мешать больше больничному народу шастать по коридору, а также не препятствовать Алешкиной женщине наслаждаться тихим общением со своим незадачливым предметом. Принятые решения потребовали бесцельного брожения по длинным коридорам примерно в темпе всех остальных, перемещающихся по ним в своих медицинских и околомедицинских целях. Внешность бездельника вполне соответствовала образу больного, ему осталось только принять смиренное выражение лица и отправиться в путь. Он так и поступил – пустился в бесцельное путешествие по больнице, обозревая по дороге окрестности под предлогом накопления частных впечатлений.
Самсонов искренне полагал свой променад бессмысленным, но очень быстро убедился в собственной беспросветной наивности. Маршрут оказался предначертанным свыше – репортер снова встретил собственную жену, на сей раз у самого выхода из заведения. Он намеревался поскорее пройти мимо, потому что в дверь сквозило, но увидел Лизу. Одетая в длинное пальто и серьезная, она смотрела на бестолкового мужа так, словно ждала его появления. Получалось, Николай Игоревич воплотил в жизнь предчувствие жены, совершенно того не желая.
– Ты еще здесь? – с хамской бесцеремонностью поинтересовался он.
– Здесь. Мечтаешь поскорей меня выпроводить?
– Я о многом мечтаю.
– Чересчур о многом. В твоем возрасте можно и в чувство прийти, не всю же жизнь в подростковых штанишках бегать.
Самсонов желал бы пройти мимо жены, притвориться невнимательным или злым, но не смог превзойти себя. Напротив, он захотел продлить общение, словно в мазохистском бреду увидел свет там, где царила тьма. Всякий раз, пытаясь ночью заснуть в безуспешной борьбе с собственными страхами, Николай Игоревич заново понимал демоническую женскую природу. Он прозревал необходимость держать женщину на расстоянии или в подчинении, поскольку иначе она возобладает и околдует холодными чарами, заставит пить испанское вино из ее туфельки. Рассказы знакомых, а также разного рода знаменитостей о женщинах-друзьях и женщинах, вступающих в животворящий союз с единственным мужчиной ради счастья произвести от него детей, не вызывали в душе журналиста ни малейшего доверия. Сам он таких божественных фемин не встречал, все больше – желающих устроить за его счет собственную жизнь либо просто использующих его для секса. Утром, отойдя от тревожного забытья, он с унылой готовностью принимал реальность во всей ее печальной простоте: женщина неодолима. Понимай ее до самого дна, вычерпай ее душу нетерпеливыми горстями – она остается царицей. Чуть шевельнет бровью, дрогнут невольно губы, скользнет укромный взгляд, вроде бы предназначенный спрятаться от избранника в смущении, а в действительности как бы разоблачающий желания стервы – и мужчина впадает в безвольные мечтания. Разум его гаснет надолго, он начинает чувствовать, чего с ним прежде не случалось, и сразу гибнет, как воробей в пятидесятиградусный мороз. Надо бы пройти, миновать искушение, но вот он стоит в холодном больничном холле, недовольная уборщица тычется шваброй в его ноги, а он утонул в глазах своей женщины и все не может выплыть, влекомый на дно генетической памятью предков о бессмысленности сопротивления. Потому и живо человечество – женщина тащит его в будущее на себе, преодолевая сопротивление мужчин. Тащит, пока не упирается в свирепую толпу феминисток, желающих выморить свои народы дотла и отдать их земли людям, не ведающим слов "эмансипация" и "карьера", почитающих только Бога и его вечные заветы. В храмах они прячут женщин от мужчин, потому что знают: мужчина выберет женщину, а не Бога, если ему предоставить возможность.
– Хочешь что-то сказать? – спросила Лиза.
– Что еще можно сказать? Ты и так все знаешь.
– Знаю. Тебе негде жить.
– Придумаю что-нибудь. Вообще-то, моя комната, наверно, не сгорела. У меня деньги и документы остались. Правда, пожарные там все равно побывали – возможно, я действительно остался у разбитого корыта.
– Ты совсем никому не веришь?
– Ну почему же. Фимке верю. Она если и попробует обмануть, все равно не сможет.
– А мне?
– Что тебе?
– Мне тоже не веришь?
– Конечно, нет. Спрашиваешь еще.
– Я тебя когда-нибудь обманула?
Самсонов даже опешил от жениной наглости:
– Скажешь, не обманывала? Весь город все знает о твоей честности.
– Но я тебя не обманывала. Ты сам меня предал, и Фимку тоже.
– Вот уж Серафиму я точно не бросал и не предавал.
– Серьезно? Даже когда спутался со своими бабами?
– Я тебе уже объяснял: они не имеют ни к тебе, ни тем более к Фимке ни малейшего отношения. Я не собирался от вас уходить.
Самсонов был способен долго и со всеми подробностями описывать жене свои чувства и надежды. Хотел рассказать о желании видеть ее по утрам заспанной и непричесанной, даже с отпечатком подушки на щеке. Мир становится таким маленьким и теплым, когда твоя жена просыпается летним утром у тебя на глазах. Когда лучи первого света проходят сквозь шторы и осеняют ее лицо, превращают ее растрепанные длинные волосы в одеяние развратной языческой богини. Самсонов многое хотел сказать, но промолчал, ведь поблизости толклись люди, которых все это никоим образом не касалось, а в левом его ухе настырно звенел несуществующий комар и мешал слушать голос стоящей перед ним женщины.
– Больше ничего не хочешь мне сказать? – очень вовремя спросила Лиза.
– Хочу, – смиренно ответил журналист. – Но не здесь и не сейчас.
– На нет и суда нет, – вынесла свой приговор суровая жена, задержала взгляд на бывшем муже, развернулась и вышла на улицу, хлопнув дверью. Стук ее каблучков еще долго отдавался в суетных мыслях Самсонова, как тиканье часов в камере смертника навсегда остается в памяти приговоренного к новой жизни. Наверное, после казни насильно переселенный в иной мир человек еще долго слышит и даже видит этот медленный мерный стрекот, беспомощно пытаясь постичь его высший смысл. Но особого, личного, смысла нет – просто время течет, никогда не останавливаясь и не поворачивая вспять.
Эпилог
Пустая электричка двигалась в темноте, воруя у новогодней ночи пространство светом своего прожектора. Самсонов сидел в ней, как в карете, но вместо деревни, глуши или Саратова ехал в Москву, где его никто не ждал. Он понятия не имел, сколько народа намерено встретить праздник таким же нелепым образом, но в его вагоне, рядом с ним, сидела только веселая беззаботная проститутка и рассказывала ему историю своей короткой жизни. "Может получиться неплохой роман", – думал время от времени журналист, за всю жизнь не сотворивший ни единого рассказа. Проститутка честно пыталась осчастливить своим присутствием несведущих провинциальных родителей, но не дождалась рокового часа и среди ночи кинулась назад, к прожигающим жизнь подружкам.
– Хоть бы чокнулась разок с родителями, а потом бы и сорвалась, – укорил собеседницу Николай Игоревич.
– На чем бы я потом сорвалась? – резонно отвечала девица. – На ковре-самолете? Кто бы меня довез в новогоднюю ночь?
– Пожалуй, никто. Ну и осталась бы до утра.
– Вот еще! Совсем невмоготу стало. Просто даже страшно. Показалось – если сейчас останусь, то всю оставшуюся жизнь там и проторчу.
– Это так страшно?
– А то весело?
– Родители все же.
– Вот именно! От одного слова скучно становится. Девки там сейчас оттягиваются по полной, а тут такая жесть! Знаешь, у меня здесь сосед есть, смешной такой. Его даже зовут смешно: Саша Колокольцев. Учится где-то, вроде в Москве. Мне тут летом надоело, что он при каждой встрече мне в вырез заглядывает, но ничего не говорит, а только облизывается. Короче, пришлось его почти изнасиловать, так он заплакал, представляешь? Вот моя деревня, вот мой дом родной!
– В каком смысле заплакал?
– Да в самом прямом! Отвернулся к стенке и заплакал, даже трусы забыл натянуть.
– Ужас какой.
– Вот и я говорю. А ты спрашиваешь, чего я среди ночи в Москву сорвалась. Вот только подумала, куда попала на праздник, так сразу и сорвалась. Чего тут непонятного?
Самсонов все понимал, но думал о другом. Как в старой советской песне, он вспомнил то, чего с ним никогда не случалось. Под раскаленным добела небом на горячей земле стоит запыленный БТР, рядом с ним в короткой тени сидят солдаты. Все одинаковые, на почерневших лицах поблескивают только зубы и белки глаз. Они смеются, разговаривают, машинально поглаживают лежащие на коленях автоматы и ничего не знают о своем будущем. Они даже "Мастера и Маргариту" не читали, не только Библию, но все равно не планируют свою жизнь даже на час вперед. Они на войне, поэтому свято верят в собственное бессмертие.
Горячий, будто из печки, ветер вздымает пыль и несет ее по земле в волшебную страну, которой нет и никогда не было. Все ее жители молоды и счастливы, не знают о жизни ничего грустного и страшного, читают стихи великих поэтов, плачут от восторга и поют под гитару песни у туристских костров.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




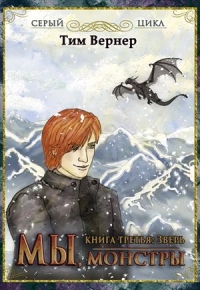



Комментарии к книге «Несовершенное», Пётр Самотарж
Всего 0 комментариев