Юлия Власова СОНАТА ДЛЯ ПИНА И БАРА
Глава 1, в которой…
…буфеты города Соль терпят значительный убыток.
— Пусть мои клавиши рассыплются в порошок, если этого выскочку не поставят на место! — в сердцах воскликнул Пин и со всего размаху уселся на табурет. Табурет заскрипел, но выдержал.
— Чего это ты с утра не в духе? — поинтересовался Бар, начищая перед зеркалом свои позолоченные тарелки. Когда Бар ходил, они качались и легонько бряцали у него на голове. — Звенишь, как расстроенные цимбалы.
— Репетиция длилась всю ночь. И мало того, что дирижер отчитывал нас за огрехи, так еще и Рояльчик невесть кого из себя строил. Знаешь, что он заявил? Он сказал, что в оркестровой яме держать партию гораздо важнее, чем на сцене. Потому что участников оркестра не видно, и внимание зрителя целиком сосредотачивается на звуке!
— Ну, и правильно он сказал, — отозвался Бар. — Вы напрасно завидуете Рояльчику. Пусть он сейчас на сцене, но ведь никто не поручится, что он пробудет там вечно. Однажды нам всем придется с треском провалиться.
— Решил примерить на себя роль философа? Не выйдет, это моя роль, — усмехнулся Пин. — Ладно, я больше не злюсь. Вот дай только выпить стаканчик «антимоля»…
* * *
В музыкальной стране Афимерод… Нет, не так. В музыкальной стране под названием Яльлосафим… Ох, опять не то. Никогда со мной такого не случалось, чтобы пот градом лил уже на первых строчках. Понимаете, какая штука: мой приятель Пин (а полностью — Пианинчик) ни за что не станет читать повесть, если увидит, что его родину назвали в басовом ключе — Яльлосафим. А Бар, тоже мой закадычный друг (его полное имя Барабанчик), сочтет меня последним предателем, если обнаружит, что страну музыкальных инструментов обозвали Афимеродом (в скрипичном ключе). Пин и Бар по этому поводу ссорятся регулярно, каждые несколько дней. Удивительно, как при подобных обстоятельствах они еще уживаются под одной крышей!
В общем, думаю, никто не обидится, если впредь я буду вести рассказ о Стране Музыкальных Инструментов. Итак, в этой стране, в городе Соль, жили да поживали (не всегда дружно)… сами знаете кто. Разные Скрипки, Виолончели, Арфы, Гитары и прочий народ. А также единственный и неповторимый злющий Треугольник.
Порой, когда сезон концертов и выставок подходил к концу, они расслаблялись и величали друг друга не иначе как:
— Эй, ты, Струнный!
— Эй, ты, Духовой!
— Эй, ты, Удар…
Ударные фамильярности в свой адрес не терпели. У них не было жил и, тем более, крови, но всё-таки что-то в них такое бурлило. Что-то боевое. В их число входил и Бар. Если кто-нибудь позволял себе колкость по отношению к нему или к его кузенам Литаврам, он тотчас пускал в ход барабанные палочки, и тарелки у него на голове начинали угрожающе позванивать.
Но, в большинстве своем, жители музыкальной страны были вполне миролюбивы. Разве только старый Баян, подвыпивши, становился чересчур прямолинейным и резал правду в глаза каждому встречному.
Музыкальные инструменты были охочи до импровизации. Они импровизировали днем и ночью. И лишь в оркестре Оперного театра импровизировать запрещалось. Оркестрантов держали в черном теле.
— Мы не оркестранты, а настоящие арестанты, — возмущался Гитарчик, который не мыслил себя без бардовских песен.
Но мало того, что за самодеятельность наказывали, так существовало еще и неравенство: тех, кто выступал на сцене театра, холили и лелеяли, а вот тех, кто работал под сценой и за кулисами, не ценили ни на грош. Вернее, так считали сами «обитатели» закулисья. «Обитатели» оркестровой ямы (или просто Ямы) мыслям предпочитали действие.
— Свергнуть Рояльчика! Свергнуть Рояльчика! — скандировал злющий Треугольник во время одного из антрактов. Скрипки и Виолончели нарочно создали в Яме шум, чтобы дирижер не услыхал бунтарей. Треугольнику вторили. Треугольника уважали. К мятежникам примкнул даже Пин, хотя клавишные инструменты искони считались элитой. И к тому же, где это видано, чтобы клавишный восставал на клавишного?!
Ох, как Рояльчика ненавидели! Его презирали за то, что он красуется на подмостках. Ему завидовали оттого, что он белый, начищенный и громкий. А Рояльчик всех любил. Он свято верил, что все до единого сладкозвучны и что ничьи струны не могут лопнуть от злости. Добрый и успешный. Семейство Роялей могло бы им гордиться…
* * *
После очередной репетиции Пин вернулся домой с каким-то настораживающим блеском в глазах.
— Долой рабовладельческий строй! Хотим равноправия! — с порога сказал он.
— Если кто из нас и раб, то уж точно не ты, — заметил Бар. — Вон мне сегодня так вкалывать пришлось — о-го-го! Проверка баров — это, знаешь ли, не сахар. Я полгорода с бумагами оббегал. Устал, как набат при стихийном бедствии.
— Мы свергнем устои Оперы и напишем свою пьесу. Отныне Рояльчику не жить! — захохотал Пин, и струны у него внутри напряженно загудели.
— Даже не думай об этом! Я знаком с Рояльчиком, и заявляю с полной уверенностью: он кристальной души инструмент. Если вы его обидите, я… Я… Уеду жить в провинцию! В город Ре!
Пин оторопел.
— Неужто уедешь?
— Слово Барабанчика нерушимо! Раз сказал, значит, так и сделаю.
— Ну, а я поступлю по-своему, — заупрямился Пин. Он сыграл минорный аккорд и протянул руку к буфету. Когда он был недоволен, он частенько налегал на бутерброды с фетром.
* * *
Когда на следующий день Пин пришел к «товарищам по несчастью», дирижера еще не было. В Яме царило упадочное настроение, и только злющий Треугольник странно улыбался.
— Запаздывает, — хмуро заметила какая-то скрипка, осматривая свой смычок. — Больно запаздывает. Ты, Пин, его случайно не видел? У нас в городе лишь один такой тощий дирижер. Как он вообще до сих пор не сломался?!
— Слишком много слов, дорогая Скри, — отозвалась из темного угла виолончель Четыре-Струны. — Не всякая тросточка способна управлять симфоническим оркестром.
— А только та, которая мнит себя шибко талантливой, — ядовито сказал Треугольник, не переставая улыбаться. — Сегодня на концерте, друзья мои, справедливость восторжествует.
Он бросил косой взгляд на Рояльчика, который дремал у края сцены.
— Сегодня хвастуны и фанфароны на своей древесине ощутят, каково это — потерпеть неудачу.
— Что ты задумал? — хором воскликнули флейты. А робкая флейта Флажолет от страха издала звук, похожий на уханье совы.
— То, что я задумал, я уже исполнил. Нам предстоит презабавный концертик, — гнусно прохихикал Треугольник и занял свое место среди оркестрантов.
Зрителей в театральном зале всё пребывало. Именитые Арфы шелестели разноцветными лентами и мелодично переговаривались с соседями. Упитанный желтый Барабан с оранжевым приятелем Виллом спорили о происхождении нотной грамоты. Виолончель Вилл утверждал, что ноты изобрели еще до возникновения письменности.
Старому контрабасу по кличке Гамба приходилось слушать такие разговоры изо дня в день, и он уже выучил их наизусть. Осторожно выглянув из Ямы, Гамба поежился.
— Брр! Сколько роскоши и суеты! Нет, не по душе мне эти выступления. На пенсию пора, на пенсию…
Наконец явился запыхавшийся дирижер, вернее, дирижерская палочка Баккетта. Вид у Баккетты был такой, словно его основательно поваляли в пыли. Зато глаза его сверкали задором — он предвкушал успех и бурные овации.
Гамба забасил первым. Его партию уверенно поддержала виолончель Четыре-Струны, а потом к ним подключились флейты и валторны. Вот-вот должен был вступить Рояльчик. Никто из Ямы не обратил внимания на то, как он хмурится и что-то осторожно проверяет под крышкой. Только дирижер Баккетта неодобрительно поморщил нос.
Пин и думать забыл о заговоре против Рояльчика. Он целиком «ушел» в свои диезы и бемоли и опасался лишь того, что споткнется в решающий момент. Зрители в зале затихли совершенно. Эта благоговейная тишина отчего-то всякий раз нагоняла на Пина страху.
Когда подошла очередь солиста, Баккетта застыл, точно его заморозили, и в испуге уставился на Рояльчика. Тот не мог издать ни звука, и в его мимике было столько выражения, что самые сметливые зрители подумали, будто здесь играют пантомиму. Рояльчик старался изо всех сил, но клавиши его не слушались. Дирижер, казалось, вот-вот свалится в обмороке. А злющий Треугольник торжествовал победу.
Вечером, после выступления, Рояльчика выдворили из театра, и многие из Ямы предрекали, что теперь путь в искусство для него закроется навсегда.
Этим вечером Пин не вернулся домой. Он хорошо помнил слова Бара: «Если вы его обидите, я уеду».
«Уедет, — потерянно думал он. — Бар уедет, и я останусь один-одинешенек».
Сегодня вечером домашний буфет Пина избежал горькой участи, потому как опустошенный буфет — зрелище жалкое. Да и к тому же, зачем уничтожать собственные припасы, если в городе полным-полно закусочных? И почти в каждой предоставляют неограниченный кредит. А расплатиться за бутерброды с фетром можно и потом.
Глава 2, в которой…
…оперный оркестр лишается еще одного участника.
Пин уныло брел вдоль магистрали, мимо столетнего парка с долговязыми осинами. Этот парк был таким же мрачным и безжизненным, как музыкальная душа Пина. Его мучили угрызения совести. Если бы он отказался поддержать Треугольника, если бы сумел настроить товарищей против злодея, Рояльчику не пришлось бы с позором покинуть театр. Ведь Рояльчик не так уж плох. На самом деле он никогда не задирал нос и говорил лишь то, что сказал бы на его месте любой другой. Оркестранты попросту завидовали ему. А Пин? Он был уверен, что Рояльчик приходится ему или троюродным, или четвероюродным, или сколько-нибудь-юродным братом. Они же Клавишные! А Клавишные славятся взаимопомощью. Клавишные никогда не ударят исподтишка. Пину страшно хотелось забыться.
На противоположной стороне дороги мигали вывески, светились витрины с модными запчастями. Всеми цветами радуги переливался рекламный щит с изображением бутылки полироля. Пин уже успел под завязку наесться фетра, а потому тащился, еле-еле переставляя ноги. Он кое-как перешел дорогу, по которой неутомимо носились на электромашинах Фаготы-лихачи, и заглянул в кафе. Это кафе приманило цветными огоньками уже достаточное количество посетителей, и Пин едва нашел себе место за барной стойкой. Рядом кто-то крупногабаритный щедро заправлялся антимолем, время от времени издавая ужасный скрип.
— Я подавлен! О, как я подавлен! — с натугой просипел незнакомец. И тут Пин понял, что судьба никогда не позволит ему играть в прятки. Она любит сталкивать нос к носу тех, кому нечего друг другу сказать, но которых так и тянет на откровенность. Незнакомцем был не кто иной, как Рояльчик.
— Мне жаль, что всё так вышло, — проронил Пин, барабаня пальцами по своей запылившейся крышке. — Но я знаю, кто виноват в твоей беде.
— А, это ты, дружище?! Как я сразу тебя не приметил? — прошептал Рояльчик, опрокинув еще одну кружку антимоля. — Послушай, я не хочу знать имен. Ведь это всё равно ничего не изменит. Лучше давай, присоединяйся ко мне. Мы отпразднуем сегодняшний день на славу!
Они пили и производили посильный шум до тех пор, пока у хозяина кафе не истощилось терпение. Матерый Ксилофон со зловещими глазками вышиб их своей ножищей прямо на тротуар и пригрозил, что в следующий раз вызовет отряд Саксофонов из музыкальной тюрьмы.
— Ну, мы с тобой наделали долгов, приятель, — хрипло проговорил Рояльчик. — Теперь нас даже работа в Оперном не спасет.
— Верно, — согласился Пин. — Мы выхлебали столько антимоля, что никакая моль и на километр к нам не подлетит.
— А я, к тому же, и расстроился, — продолжал тот. — Мне бы настройщика. Да только где хорошего настройщика найдешь? Один лишь Мастер способен вернуть мне силы.
— Что еще за Мастер? — сощурился Пин.
— А ты слыхал когда-нибудь про Людей? — шепотом, словно бы для пущей таинственности, спросил Рояльчик. — Среди них встречаются Мастера. И они делают… нас.
— Сказки! — буркнул Пин, с трудом удерживаясь, чтобы не завалиться на бок. — Мы появляемся из дупла Кряжистой Сосны в дни летнего и зимнего солнцестояния. Все это знают. Я бы не забивал себе голову чепухой насчет Мастеров.
Они вразвалочку шагали по бульвару Гармонии, долго и с упоением споря о существовании Людей. Рояльчик заикался и невнятно бормотал. Он непременно хотел отыскать своего Мастера. А Пин рассеянно глядел по сторонам, шатался, а один раз чуть было не полез в драку со своим отражением в витрине магазина. Хотя по натуре он был весьма спокойным и философски настроенным фортепиано.
Когда на следующее утро он пришел в театр, в глазах у него немножко плыли декорации, а левая педаль по непонятной причине заедала. Стало известно, что на освободившуюся должность солиста взяли новый рояль. Он был чванливый, как сотня разнеженных королей. «Обитатели» Ямы пребывали от этого далеко не в восторге, и никто даже не поприветствовал Пина. Ирландская Волынка сидела надувшись, скрипка Скри нервно пощипывала свои струны, а контрабас Гамба сновал по Яме в поисках клея — у него опять что-то не ладилось с усами.
— Говорят, Он спесив и не терпит пререканий, — шептал Флейте Гобой. — Уж с ним мы точно наплачемся.
— Клей, у вас не найдется клея? — шумел Гамба, топоча, как стадо носорогов.
Тут наверху кто-то кашлянул. А потом еще и еще раз. Пин осторожно поднял глаза на сцену. Там, во всём своем блистательном великолепии, возвышался Рояль, которого оркестранты уже успели прозвать Павлиньим Хвостом.
— Лопни моя резонаторная пластина, если подо мной не сборище третьесортных инструментов! — воскликнул Павлиний Хвост, хлопнув огромной черной крышкой. Инструменты мгновенно заметили разницу: у Рояльчика крышка была белая. И он не позволял себе утробно хохотать, как хохочет сейчас этот.
Сегодня оркестр разбирал новую программу.
— Работайте, работайте! — взвизгивал дирижер. — Премьера не за горами!
Павлиний Хвост вел себя исправнейшим образом, однако у всех без исключения после репетиции остался необъяснимый осадок. Новый рояль играл грузно, как играют похоронные марши, и в его партии время от времени проскакивали неприятные обертоны. Струны внутри его чугунной рамы угнетающе вибрировали, что напоминало Пину о самых безрадостных минутах в его жизни.
Домой он вернулся удрученный донельзя. И обнаружил записку. В записке говорилось следующее:
«Ваше поведение непростительно.
Уехал в город Ре.
Ужин в холодильнике.
Бар».
По большому счету, этого и следовало ожидать. Бар никогда не отступался от своих слов.
На ужин Пин съел немного древесной стружки, закусил шелком и примостился в уголке. Перед сном он обыкновенно упражнялся, поигрывая гаммы и этюды. Сегодня его этюд получился скомканным, неровным и больше походил на джаз. Сон никак не шел. Пин всё припоминал слова Рояльчика, припоминал и размышлял:
«Рояльчик говорил, что Мастера очень трепетно относятся к своим творениям. И если однажды он найдет своего Мастера, между ними навеки установится крепкая, нерушимая дружба».
Пин проиграл арпеджио на правой педали и, пока затихало звучание аккорда, он думал, думал, думал. А потом снова играл — и снова думал. И мысли у него были путаные и бесцветные.
* * *
Он проснулся гораздо раньше, чем просыпаются неугомонные Дудуки и начинают заунывно свистеть верхом на водосточных трубах. Солнце без тени смущения полыхало на востоке. Ну, еще бы ему смущаться! Оно же не играет в каких-нибудь оркестрах. Его музыку не оценивают все, кому не лень. Светит себе и светит.
«На репетиции вполне справятся и без меня», — внезапно решил Пин. Очень уж погожий выдался денек. О, если бы можно было взять и запихнуть солнце в темную оркестровую Яму!..
Он накупил кучу всяких вкусностей, пчелиного воска, проволоки и отправился со всем этим скарбом в гости к Рояльчику. А Рояльчик, как выяснилось, слег. Причем без надежды на скорейшее выздоровление.
— Как же тебя так угораздило? — ахнул Пин. — Ты на себя не похож!
— Я разваливаюсь на части, — прохрипел тот, и его струны зарыдали каждая на свой лад.
— В таком состоянии ты не можешь искать Мастера, — резонно заметил Пин. И, не задумываясь, добавил: — С этой задачей я вполне мог бы справиться сам.
Действительно, что ему терять? Бар уже, наверное, на полпути в свою «провинцию», а дом в отсутствие хозяев послужит пристанищем для бедняков: кого-нибудь вроде подгулявшего Баяна или громкоголосой, сварливой Бандуры.
— Я слыхал, в городе Ре живет мудрец, — откашлявшись, проговорил Рояльчик. — Он знает, как попасть в мир Людей. Зовут его Клавикорд Пизанский.
— В городе Ре? — переспросил Пин. «Какое совпадение! — подумал он. — И какая удача, что Бар отправился туда же!»
Он поплотнее обвязал Рояльчика шерстяным шарфом, наказав ему откусывать от шарфа по кусочку, по ниточке. Поставил сумку с проволокой у окна и еле сдержался, чтобы клятвенно не пообещать найти Мастера в ближайшие несколько дней. Всё-таки пара-тройка дней для таких грандиозных поисков — срок маловатый.
Путешествие намечалось из ряда вон выходящее. И уж не пойму как, но Дудуки, которые поют на водостоках, прознали о нем раньше, чем кто-либо еще. Даже раньше, чем любопытные соседи Рояльчика. Эти «ранние пташки» рассвистели о походе в мир Людей на весь город, и когда Пин поравнялся с оградой своего домика, то не на шутку удивился. У плетня толпилось несметное число музыкальных инструментов. И все что-то пищали, бренчали, трубили. Большой желтый Барабан самозабвенно барабанил по собственной голове и, по-видимому, получал от этого занятия немалое удовольствие.
— Мне говорили, за границей продают качественный клей! — гремел старый контрабас Гамба. — Будь другом, привези три бочонка!
— А я слышала, у них производят стойкий лак! — визгливо кричала какая-то скрипка.
— И мне лаку, и мне лаку! — неслось из толпы.
— Не сочти за труд, купи мне новые струны! — выкрикивал Гитарчик, который любил бардовские песни.
Пин быстренько нырнул в дом, захлопнул дверь и заперся на все засовы.
— Вот приставучие! — посетовал он. — Придется выдвигаться поздно ночью, чтобы не вздумали меня сопровождать. Иначе этот парад протянется за мной до самой городской черты.
Бесстыжее солнце сияло на небосводе и никак не желало спускаться за горизонт. Остаток дня Пин провел за сбором багажа, припрятыванием ценностей на заднем дворе и сочинением объявления. Объявление гласило, что дом становится приютом для нищих до возвращения владельцев.
Когда он с котомкой за плечами выглянул на крыльцо, листву садовых деревьев ворошил теплый ветерок, а в черной выси мягко мерцали звезды. Уютно горели окошки домов, у кого-то из печной трубы валил густой дым. Стояла такая тишина, что было слышно, как зевают Саксофоны из патруля.
«Верно изрек мудрый Орган: как путь начнешь, так его и закончишь. Значит, начинать следует без спешки», — рассудил Пин и двинулся вперед, по мощеной камнем дорожке.
Глава 3, в которой…
…Бар рискует попасть под колеса.
Поезда в город Ре ходили каждый час. Они гудели и жужжали, как настоящие поезда из мира Людей, только Пин об этом пока не знал. Ему пришлось напрячь ноги и порядочно пробежать, прежде чем заскочить в последний вагон уходящего состава, где расположилась громкая компания Гитар. Они нестройно бренчали и хором пели дорожные песни. А когда вагон кренился и раскачивался на поворотах, они тоже раскачивались, дружно обнявшись. И фальшиво голосили:
Дрожи, струна, родная, Мы уезжаем прочь! Звени, звени, седая. Осеребри нам ночь!Пин залез на заднее сидение и уставился в почерневшее окошко. Пролетали мимо рогатые кустарники, с характерным шумом убегали назад оплетенные проводами электрические столбы. А деревья молчаливо провожали путников растопыренными ветвями. Пин сам не заметил, как прикорнул. Новая песня, которую затянули Гитары, была похожа на колыбельную и здорово усыпляла. В преддверии сна ему отчего-то вспомнилось море Фортиссимо, что на юго-востоке страны. Какие свирепые там были шторма! Как бушевало море в непогоду! И какой покой устанавливался внутри, когда ты смотрел на вздымающиеся волны. Наверное, во всей стране Афимерод не сыщется более умиротворяющего места.
«Наверное, во всей стране Яльлосафим не сыщется более упрямого и медлительного ишака», — с негодованием думал Бар, понукая тощего, костлявого осла. Стояла глухая ночь. Впереди простиралась широкая глиняная дорога. Огни города Ре светились где-то там, в недосягаемости, и Бар уже успел тысячу раз пожалеть, что сгоряча «упорхнул» из теплого, насиженного гнездышка.
Ослом он обзавелся совершенно случайно и, к тому же, против своей воли. А всё началось с тарелок. Видите ли, дело в том, что тарелки на голове у Бара, также против его воли, бились одна о другую и постоянно дребезжали. А в пустыне, по которой ехал Бар, жили ужасно нервные бандиты. До того момента, как его остановили, он был счастливым обладателем красного автомобильчика на упругих шинах и тихонько насвистывал песенку «Ох, вы палочки ударные, барабанные мои!». Его тарелки весело позванивали, что довело одного из бандитов до белого каления. Этот бандит устроился у огромного валуна рядом с дорогой, собираясь вздремнуть после утомительного ночного погрома. Но только он сомкнул глаза, как вдруг — нате вам — дребезг! Он выскочил из-за валуна, точно ошпаренный петух, и бросился на автомобильчик с таким воплем, как будто машины уже давно сидели у него в печенках. Бар приготовился защищаться. Но он слишком долго раздумывал: оглушить ли противника барабанным боем или попросту использовать кулаки. Когда он, наконец, решил в пользу барабанного боя, то обнаружил, что катится по песку в неопределенном направлении, а разбойник усердно ломает его автомобильчик.
Этот разбойник звался Одноглазый Ксилофон. В свое время его исключили отовсюду, откуда только можно было исключить, потому что его вечно что-нибудь раздражало. А раздражение свое он скрывать даже и не думал. Не нравился ему, к примеру, школьный звонок, так он лез на стену, вырывал звонок со всеми проводками и потом яростно топтал его на полу. Одноклассники в музыкальной школе страшно боялись вывести его из себя, ибо тогда он становился неуправляемым. В такие минуты из его единственного глаза сыпались искры, и не какие-нибудь, а настоящие. Старушка-ксилофониха, у которой он снимал комнату, выгнала его, когда он случайно спалил ее курятник. А однажды, по его милости, сгорел дом музыкальных собраний.
В общем, Одноглазый Ксилофон был типичным изгоем. Даже в разбойничьем притоне его побаивались. Однако, при всех его бандитских достоинствах, у него имелся один крупный недостаток: Одноглазый Ксилофон не сразу понимал, откуда исходит звук. Это-то и спасло Бара. Когда он откатился на порядочное расстояние и застрял макушкой в песке, то предпочел не шевелиться. Его тарелки испуганно замолкли, что им надлежало сделать гораздо раньше. Бар был вне себя от злости. Как он продолжит путь? Ведь, кроме разбойников, в пустыне живут дикие звери, таятся в земле смертельные воронки и бездонные дыры! Свернешь с дороги — и твоя песенка спета. А ему рано или поздно придется свернуть, чтобы не попасться в лапы к злодеям.
Скрестив руки и метая рассерженные взгляды в сторону Одноглазого Ксилофона, Бар торчал из земли, как куст, ногами к звездам. Торчал и злился. С дороги до него доносился скрежет, кряканье клаксона и ругань, от которой у диких зверей, бродивших по округе, шерсть вставала дыбом. Все звуки вместе составляли чудовищную какофонию. Неудивительно, что другой бандит по кличке Дырявый Камыль, у которого был тонкий, музыкальный слух, разнервничался и поспешил надавать Ксилофону тумаков. С собой он прихватил целую банду.
Ну и заваруха тут началась! Искры теперь сыпались из глаз у всей честной компании. Поднялась пыль, слышались ожесточенные крики. Дырявый Камыль дубасил по Одноглазому Ксилофону, как ни один ксилофонист в мире. Разбойник Сурнай, который всегда был не прочь пересчитать косточки своим дружкам, истово колотил Дырявого Камыля отвалившейся выхлопной трубой, когда тот давал себе передышку. Еще трем злодеям вздумалось заняться дележом машинных запчастей, и на этой почве у них разгорелась ссора. Бар получил поистине королевское наслаждение, наблюдая за сварой издалека. Его, к счастью, никто не заметил. Когда пыль улеглась, а разбойники разбрелись восвояси, он перекатился на ноги, выбил песок из ушей и на цыпочках подкрался к дороге. От его начищенного автомобильчика остались лишь винтики да гайки. Утащили даже колеса.
— Погодите-ка… — Бар прислушался.
Если кто-то скажет, будто музыкальные инструменты не имеют понятия о том, что такое мороз по коже, он сильно ошибётся. Потому как Бар был сделан из настоящей телячьей шкуры. И сейчас он явственно ощутил, как по его спине побежали мурашки.
Кто-то хрустко топтался совсем рядом с ним. И тихонько постанывал. Тот, кого Бар поначалу принял за очередного бандита, оказался всего-навсего ослом. Причем ослом, основательно заморенным и истощенным. Удивительно, как он до сих пор не издох.
— Откуда ты такой взялся? — изумленно спросил Бар. — Неужто разбойнички?..
Тут он вспомнил, что один из негодяев (среди своих он, вероятно, считался чудаком) приехал верхом на осле. И точно, на шее у ишака болталась деревянная табличка, на которой значилось: «Собственность Сурная. Кормить морковкой строго по расписанию».
Бар решил не углубляться в выяснение вопроса, откуда в пустыне морковка. Одно он знал абсолютно точно: на морковке далеко не уедешь. А сухими травами да кактусами, каких в пустыне росло предостаточно, сыт не будешь. Бар похлопал осла по спине.
— Я-то продержусь без воды и еды хоть год, а вот ты… Ты уже одним копытом, почитай что, в могиле.
Сначала он тянул осла за уздечку, однако результатов это не принесло. Упрямая скотина упиралась и ревела, точно ее вели на убой. В конце концов, уздечка не выдержала и порвалась. Бар на ее месте сделал бы то же самое. Если бы не жалость, он бы уже бодро шагал к городским воротам… Или послужил бы обедом какому-нибудь голодному шакалу. Если что и отпугивало диких тварей, так это, наверное, ослиный рев. Он и на рев-то похож не был. Ну, точь-в-точь пароходная сирена!
В город Ре Бар отправился не из пустого каприза. Там у него жила сестренка Дойра, которая отличалась непоседливостью и с каким-то болезненным рвением выискивала чудеса в обыденных мелочах. Ей совсем недавно исполнилось сто лет — по человеческой мерке все равно, что десять. В таком возрасте все порядочные Дойры уходят из дому и начинают странствовать — а она не ушла. Бросают вызов устоявшимся обычаям — а она не бросила. Бар в ее годы уже гордился своей самостоятельностью, а что она? Она по-прежнему сидит в ногах у своей матушки и играет с тряпичными куклами. Капли росы на листьях Дойра называла слезами Царицы-Ночи. А круги на глади пруда принимала за сигналы бедствия, обращенные исключительно к ней, и нередко в таких случаях бросалась в воду, чтобы освободить «дух пруда» из плена. В общем, Бар совсем не горел желанием встретиться с нею снова. Но он и без того слишком долго не навещал свою семью. Он знал: первым делом его пристыдят и нотаций прочтут на десяток лет вперед. А потом дед-старожил примется за семейные альбомы с фотографиями. Станет расписывать, каким был отец Бара, когда уходил на войну, в мир Людей. Бар часто слышал от деда о мире Людей, но никогда не принимал его слов всерьез. Басни, думал он, басни — и ничего больше. Ведь с войны его отец так и не вернулся, и Бар подозревал, что от него просто скрывают позорную истину.
Некоторое время он ехал на осле верхом, но проку от такой верховой езды было еще меньше, чем от катания на черепахе. С каждой мыслью о скорой встрече с родней Бару становилось всё тоскливей и тоскливей.
«Может, оно и к лучшему, что осел так плетется, — подумал он. — Плетись, дружок, плетись. Мне ох как неохота выслушивать очередную ложь об их благополучии. А еще больше неохота лгать самому. Они-то полагают, будто я преуспевающий барабан. Полагают, что у меня каждый месяц гастроли — а я обычный, рядовой инспектор».
Путь им пересекла линия железной дороги, над которой, обступив полустанок и задумчиво склонив головы, горели оранжевые фонари. Бар остановился, чтобы дать отдых ногам и покормить осла.
— У меня во фляге осталось немного антимоля, но тебе, боюсь, антимоль придется не по вкусу, — сказал он. — Пожуй вот лучше кактус.
Бар очистил кактус от колючек одной левой — даже не поморщился. Колючки ему были нипочем. Осел пожевал-пожевал, выплюнул и резво припустил к чугунке. Видно, горький попался кактус.
— Эй, ты куда! — спохватился Бар. — Из-за одного несчастного кактуса счеты с жизнью не сводят!
И тут вдруг предрассветную тишину прорезал паровозный гудок. Лязгая и грохоча, к полустанку мчался поезд. По всему было видно, что тормозить на этом полустанке машинист не намерен. А осел — ослище ты эдакое! — взял и уселся на шпалах. Бару словно воздух изнутри выпустили. Он выругался словами Одноглазого Ксилофона и поспешил четвероногому другу на выручку.
— Друг ты мне или не друг, а? — спрашивал Бар, белея от натуги. Но, как он ни бился, сдвинуть с места упрямое животное ему оказалось не под силу. А состав несся прямо на них, сигналя, что есть мочи. Осел ревел в ответ, прядал ушами, и, судя по всему, не возражал против того, чтобы его превратили в лепешку.
До полустанка поезду оставались считанные метры.
Глава 4, в которой…
…Пин и Бар падают с дерева.
У машиниста, который был отставной военной Трубой, при виде скорчившегося на путях Бара глаза полезли на лоб.
— Что еще за доброволец-смертник! — завопил он и, испустив душераздирающий хрип, рванул тормозной рычаг. На его веку еще никто не бросался под колеса.
В этом поезде мирно ехал Пин. Он мечтал о том, как найдет Мастера для Рояльчика, а заодно, быть может, и своего Мастера. Когда произошла экстренная остановка, он свалился с сидения и, ударившись об пол, зазвучал испуганным септ-аккордом. Пассажиры повскакивали со своих мест и бросились к окнам.
— Эй, глядите, там, впереди! — кричали они, высовываясь наружу.
— Какой-то полоумный барабан в обнимку с ослом! У этой парочки явно не все дома! — насмешливо прокряхтел дряхлый Кантеле, потрясая бородой из древесных опилок.
— Барабан? — оживился Пин. Он выпрыгнул из вагона и бегом пустился вдоль рельсов.
* * *
Удивительно, что никто не заметил, как в вагон пробрался безбилетник. Нет, всё-таки Бару в последнее время решительно везло! Чтобы не попасться контролеру на глаза, он всю дорогу вынужден был прятаться под сиденьем Пина. Потому как «зайцев» из поезда вышвыривали без лишних разговоров.
— Ты все еще злишься, что Рояльчика прогнали? — спрашивал Пин. Его соседки Арфы думали, что он разговаривает сам с собой, и шушукались друг с дружкой, искоса поглядывая на него.
«Тук!» — раздавалось снизу. Это означало «да». Бар злился. Он, конечно, хотел бы выразить свое негодование как-то по-другому, но при нынешних обстоятельствах благоразумнее было молчать и не шевелиться.
— А знаешь, я ведь раскаялся, — вслух заметил Пин.
«Тук-тук-тук!» — прозвучало из-под сидения, что можно было истолковать как «Не верю!» или «Врешь!».
— Честное слово! Мы с Рояльчиком даже подружились. Видел бы ты, как мы шатались по улицам в день его ухода. А потом он заболел, и я еду по его просьбе… В город Ре. Ты ведь, кажется, туда же направлялся? Я собираюсь в мир Людей, и только мудрец Клавикорд Пизанский может указать мне путь…
… - Милостивые бемоли, да как же так?! — возмущался Бар, когда они сошли на вокзале города Ре. — Даже тебя втянули в эту секту! Они верят в существование мира Людей. А знают ли они, кто такие, собственно, Люди?
Пин сыграл нисходящую гамму. Нет, он понятия не имел, кто такие Люди.
— Вот именно, нет! — продолжал Бар. — И я не знаю. Вполне возможно, что твой Клавикорд всего лишь баламут, возмутитель спокойствия, местный проповедник. И отправит он тебя не в мир Людей, а в какую-нибудь далекую колонию, где нас, музыкальных, разбирают на части, а потом продают эти части за большие деньги. Ты так жаждешь расстаться со своей декой? Или, быть может, с каподастрами?
— О, нет! Только не каподастры! — взмолился Пин. — Я не хочу, чтобы меня разбирали! Пускай лучше разбирают на мне Баха или Моцарта. Это я еще стерплю.
— То-то и оно. С умом надо к делу подходить, — авторитетно сказал Бар. — Клавикорда мы, так и быть, навестим. Но не советую тебе доверять каждому его слову.
Клавикорд Пизанский жил на узкой улочке, где дома были сплошь покрыты плющом. На балкончиках тут и там красовались фиалки, бархатцы и другие непривередливые цветы. Улица уходила вверх и терялась за нагромождениями строений. Над крышами беззаботно плыли облака, сверкало голубизной обласканное ветрами небо.
— Знаешь, мне даже чуть-чуть любопытно, каков из себя этот мыслитель, — сказал Бар, с предвкушением звеня тарелками. — У меня накопилось уже столько доводов, что я в два счета уложу его на лопатки… Или на что там обычно укладывают. Вся его теория о мире Людей разрушится, как карточный домик. Разлетится на осколки! Ох, не могу дождаться.
Пин считал двери длинного-предлинного здания, сложенного из необтесанных камней.
— …Четвертая, пятая, шестая… Восьмая, девятая…
Рояльчик говорил, что стучаться следует в двенадцатую дверь. На этой ветхой, исцарапанной дверце были вырезаны какие-то символы. Музыкальная детвора размалевала ее цветными мелками — то ли в знак благодарности, то ли в отместку Клавикорду. Иной раз он любил поучить малышей уму разуму.
— Я стучать не буду, — заявил Бар. — Меня здесь вообще быть не должно.
— Ну, а я не рассыплюсь, — сказал Пин.
Стучал он долго, так долго, что у него чуть не отвалилась рука. Похоже, Клавикорд под старость совсем оглох и утратил чувство ритма, такта, а также все прочие чувства. Наконец дверь отворилась, и сквозь щелочку просунулся длинный-предлинный нос. Дряхлый Клавикорд был гораздо ниже Пина, так что нос этот едва не уперся ему в клавиатуру.
— Будят тут всякие, — пробурчал мудрец. — Спать мешают.
— Не время спать, дедушка, — как можно вежливей ответил Пин. — Мы к тебе за советом.
— И за напутствием, — вставил Бар. — Да и вообще, сам путь узнать было бы неплохо. Только ты, дедушка, не юли.
Последнюю фразу он произнес так угрожающе, что «дедушку», который чудом держался на своих витых ножках, от страха чуть не хватил удар.
— Эх, молодежь, — прошамкал он. — Вы проходите, устраивайтесь. А я вам какой-нибудь смазки приготовлю. Да войлока.
В гостиной Пин осторожно опустился на мягкий диван — и тотчас утонул в нем целиком.
— Диваны-поглотители, — осуждающе проговорил Бар. — Диваны-глушители. Держу пари, что и стены у этого дома звуков не пропускают. А сейчас он заговорит нам зубы, собьет с панталыку — и мы поведемся на его бредни, как последние балалайки.
Пин что-то промычал из своего дивана-поглотителя.
— И смазка у него, небось, ядовитая, — со зловещим видом предрек Бар.
Но Клавикорд Пизанский вовсе не собирался никого травить. Он принес из кухни чайничек со смазкой, тосты с фетром и принялся расспрашивать гостей.
— Зачем, — спросил он надтреснутым голосом, — зачем вам понадобилось в мир Людей?
Пин, который к тому моменту выбрался из диванного кокона, чуть ли не на дюйм подскочил к потолку. Откуда Клавикорду известно, что он собрался в мир Людей?!
— Нечему дивиться, друзья мои. Я вижу вас насквозь, — беззубо улыбнулся тот. — И знаю, что у вас на уме. Ты, — сказал он Бару, — фома неверующий. Ты поверишь только тогда, когда убедишься, что мир Людей не сказка. А ты, — обратился он к Пину, — спешишь исполнить просьбу друга, и это похвально. Но не кидайся в омут с головой. Тебе нужен Мастер, а Людей в том мире миллионы и миллионы. Ошибиться так легко!
— Я справлюсь, — уверенно сказал Пин.
— Трудно будет без попутчика, — раскачиваясь, проворковал мудрец. Глаза на его расписной крышке словно бы улыбнулись. Пин заметил, что глаза эти жили какой-то отдельной, непостижимой жизнью. Зрачки вращались сами по себе, а иногда даже и в разные стороны. Сейчас один зрачок был устремлен на него, на Пина, а другой — на Бара.
Бар сидел с надменным выражением лица, и его начищенные тарелки горделиво сверкали в свете люстры.
— «Куда ты, туда и я». Помнишь? — шепотом подсказал Пин, когда Клавикорд поковылял на кухню за очередной порцией войлочных бисквитов.
— Помню, — буркнул Бар. — Ладно уж, так и быть, не брошу тебя. Но учти, если что пойдет не так, виноват будешь ты.
Утаивая детали (как и полагается мудрецу), Клавикорд сказал, что им нужно всего-то навсего взобраться на пригорок Бекар и залезть на сухое дерево, которое растеряло свои листья давным-давно. Это скрюченное дерево стояло у самого края холма, там, где холм был странным образом скошен (как хлеб, от которого отрезали горбушку).
— И что, вот отсюда нам прыгать? — скептически осведомился Бар.
— Клавикорд сказал, прыгать надо с дерева, — поскреб свою крышку Пин.
— Ну да. А если б он сказал бросаться с моста, мы бы тоже бросились?
— С моста — расшибешься, а со взгорка — нет. Тем более внизу песок, — рассудил Пин.
— Эх, была не была! Прыгну с тобой за компанию. Хоть разомнусь маленько, — вздохнул Бар.
Добравшись до верхушки дерева, они чувствовали себя, как последние балалайки. Именно так, как предсказывал Бар. На них, позвякивая, таращилась малышня. Взрослые инструменты осуждающе смотрели наверх и что-то с нравоучительным видом втолковывали малышне. Что-то вроде: «Видите этих чудил? Не берите с них пример, они плохо кончат».
Бар и без того догадывался, что «они плохо кончат». Верхняя ветка, на которую они влезли с горем пополам, предательски трещала. Нет-нет да и обломится.
— Чем быстрее мы прыгнем, — с натугой сказал Пин, — тем быстрее избавимся от толпы поклонников.
— Это не поклонники, — сказал Бар. — Это критики и судьи.
Кто знает, сколько бы друзья тянули резину, если б ветка под ними не хрустнула. Хруст был оглушительный, и Пину даже показалось, что роковой. Они рухнули вниз под аккомпанемент рокового хруста и рокового смеха детворы. А потом последовало роковое приземление… Только не на песок, а в открытый кузов грузовика.
Глава 5, в которой…
…директор театра начинает верить в привидения.
Кузов был порядочно набит сеном, пьянящий запах которого подействовал на Пина как успокоительное. Во всем своем теле он ощутил тяжесть, какой не было раньше. Он словно одеревенел — руки и ноги стали как ватные. А у Бара засвербело в носу. Но когда он сдвинул зрачки к переносице, то оказалось, что никакого носа нету и в помине. А потом Бар начал слепнуть.
— Что за дела?! — попытался вымолвить он, но язык его не слушался, а в горле точно ком застрял. — Пин! — из последних сил позвал он.
С Пином тоже творилось неладное. Когда он попробовал пошевелить конечностями, выяснилось, что конечности исчезли. Испарились, словно их отрубили топором. Испугавшись, Пин, по своему обыкновению, быстро-быстро заморгал, но вот незадача! Моргать вскоре оказалось нечем!
Грузовик несся по ухабам, и всякий раз, как он подскакивал на кочке, Бар с Пином тоже подскакивали. Шофер грузовика, настоящий шофер из мира Людей, невероятно удивился, когда в кузов прямо с неба свалились пианино и барабан. Удивился и возликовал. А возликовав, подбросил над головой свою кепку. Вот так удача! Теперь его не лишат зарплаты и начальник не будет честить его на все корки, потому что пропавшие инструменты внезапно вернулись на свои места.
Этот шофер был очень совестливый и ответственный. И когда ему поручили важное задание, он отнесся к нему со всей серьезностью. Перевезти музыкальные инструменты из одного города в другой, доставить их в театр и передать лично в руки директору — это вам не шутки шутить. А дорога шоферу предстояла дальняя, извилистая. Она убегала в горы, стелясь змеистым серпантином. На одном из крутых поворотов машину занесло, и ценный груз с грохотом полетел в пропасть. Было от чего ухватиться за волосы. Водителю грозили крупные неприятности, и остаток пути его грузовик тащился так медленно, точно у него разом лопнули все четыре шины. А сам водитель предавался беспросветной печали. Как он посмотрит в глаза шефу? Чем оправдается?.. То, что Бар и Пин угодили именно в его грузовик, было поистине счастливым стечением обстоятельств.
Но сами Пин и Бар думали иначе. Теперь они только и могли, что думать да слушать (однако здесь нельзя не признать: слух у них был отменный). Ни рук, ни ног, ни лица — они чувствовали себя, точно две колоды. И Бар опять начал злиться.
«Всё из-за тебя, приятель, — раздраженно думал он. — Не послушай мы этого Клавикорда, этого шарлатана, сидели бы сейчас спокойненько в какой-нибудь гостинице да попивали бы коктейль».
«Он вовсе не шарлатан, — подумал Пин в ответ. — А невозможность двигаться лишь подтверждает, что мы попали в мир Людей».
«Но ведь это же сущая мука! — мысленно закричал Бар. — И я не согласен ее терпеть. Я хочу домой!»
«Прости, что подвел тебя, — горестно подумал Пин. — Никудышный я инструмент». Он так разжалобился, что даже всплакнул. Но вместо слез с примесью железа и меди, текущих у всех порядочных Пианинчиков, в уголках пропавших глаз у него выступила чистейшая смола.
«Тебя оценят по достоинству, — попытался утешить его Бар. — Ты звучный. А по мне будут бить. Причем нещадно. Меня наверняка будут брать на парады и в военные походы. И однажды я сгину, как мой отец».
Они тряслись в грузовике еще примерно час, слушая мысли друг друга. Теперь, как бы им ни хотелось, они не смогли бы врать, потому что вся их ложь тотчас бы открылась.
«Интересно, что за народ эти Люди? — задумался Пин. — И способны ли они понимать, что у нас на уме?»
Он проверил свое предположение на первом же представителе человеческого мира — на директоре театра, который встретил шофера недовольной миной и заявил, что тот изрядно опоздал. Потом директор театра подошел к нему, к Пину, и распорядился, чтобы его тщательно наполировали. По Бару же он просто ударил кулаком.
«Не смей бить моего друга! — подумал Пин, вложив в эту мысль всю свою волю. — Извинись и погладь его!»
Казалось, ничто не в состоянии поколебать самоуверенность очерствевшего директора. Им попеременно владели только два чувства: либо злоба и неприязнь, либо равнодушие. И Пин разглядел это сразу, хотя у него не было глаз. Но, как ни странно, мысленный приказ повторять не пришлось. Директор икнул и стал испуганно озираться.
— Что это сейчас было? — спросил он у шофера. — Вы что-то сказали?
— Я — ничего, — помотал головой тот. — Может, привидения?
— Сроду в привидений не верил, — пробормотал директор и снова икнул. Он был наслышан о привидениях, которые обитают в театрах, но ему еще никогда не приводилось с ними сталкиваться.
— Говорят, они мстительные, — словно бы между прочим упомянул шофер, покручивая кепку на кончике пальца.
Директор вздрогнул и шумно сглотнул подкативший к горлу комок.
— П-прости меня, — дрожащим голосом сказал он, обратившись к барабану, как будто барабан был его домашним питомцем. Сказал — и со священным трепетом погладил Бара по гнутому деревянному корпусу.
«Действует! — обрадовался Пин. — Внушение действует! Теперь мы сможем управлять Людьми! Ну не замечательно ли?»
«Не замечательно, — мысленно возразил Бар. — У него шершавая и потная ладонь. Больше не вынуждай Людей гладить меня. Уж лучше пускай бьют».
Театр был огромный, холодный и пыльный. На театральной сцене пахло совсем как в родном оркестре Пина — бумагой и стружками. «Родной оркестр» — Пин часто повторял про себя эти слова, словно пробуя их на вкус. Как не хватало ему родины, со всеми ее заносчивыми Павлиньими Хвостами, кичливыми дирижерами и надменными злющими Треугольниками! Как не хватало старого контрабаса Гамбы, который вечно носился со своим клеем; самовлюбленного Арфа, норовистых Скрипок, которые нет-нет да и заигрывались.
Инструменты в новой оркестровой яме были мертвы. Их уж нельзя было вызвать на разговор, даже мысленный. Они были обычными, бездушными деревяшками. Простаивать в этой сумрачной яме часами на одном и том же месте, без возможности пошевелиться Бару с Пином было невмоготу. У Пина жутко чесалась правая педаль, и он ничего не мог с этим поделать. Бару хотелось опрокинуть стаканчик антимоля, но это было невозможно.
Однако самое худшее наступало, когда за Пина садились играть, а по Бару стучали палочками и колотушкой.
«Может, поэтому инструменты из ямы предпочли умереть?» — спрашивал себя Пин во время первой репетиции. Чьи-то холодные пальцы неумело, механически касались его клавиш. Кто-то с холодными пальцами играл ноктюрн, не вкладывая в него чувств. Не выкладываясь. Вот что было для Пина мучительнее всего. И главное — он не мог заставить пианиста играть с душой.
А по Бару стучали, не соразмеряя силы ударов, и поэтому у него скоро начала болеть голова (ведь барабанили-то именно по голове!).
«Всё, я больше не могу, — пожаловался он Пину, когда театр закрыли на ночь. — Нет, честное слово, я умываю руки! Надо заставить этих Людей отказаться от барабанов. По крайней мере, от меня».
«И от меня!» — послышался чей-то тонкий, серебристый голосок. Вернее, не голосок, а тонкая, серебристая мысль.
В прежние, добрые времена Бар и Пин разом бы подскочили, выпучили бы глаза, а Бар снабдил бы этот эпизод смачным комментарием: «Разрази меня форте!».
Но на сей раз подскочило только музыкальное сердце у них внутри. Кто это там, во мраке оркестровой ямы?
«Когда они щиплют мои струны, мне становится ужасно щекотно, так щекотно, что хоть плачь. А смеяться я разучился. Вот ведь несправедливость!» — прозвучала всё та же серебристая мысль.
«Кто ты?» — спросил Пин.
«И каким, прости, аллегро, тебя сюда занесло?» — недоверчиво вставил Бар.
«Я арфа, а зовут меня Киннор. Не подумайте, будто я авантюрист какой. Меня в мир Людей сослали, это вроде бы как в ссылку».
«Ну, уж точно не за примерное поведение, — критически заметил Бар. — Ты что, преступник? Знай: все преступники — авантюристы».
Киннор вздохнул: «Вот всегда так, обвиняют не разобравшись. Меня приняли за другого, за беглого каторжника. Половина каторжников в стране Афимерод, как известно, беглая. Потому как на каторге их заставляют переправлять бездарные музыкальные произведения, а это ох какой труд! Тех каторжников, которых находят после побега, ссылают в мир Людей, чтоб наверняка. Из мира Людей уже не сбежишь», — обреченно добавил он.
«Не Афимерод, а Яльлосафим», — рассерженно подумал Бар. Перечить ему не стали.
«А ты знал, что на Людей можно воздействовать мыслью?» — спросил у Киннора Пин, который проникся к нему дружеским расположением сразу, как услыхал название «Афимерод».
«Вот оно, однако, как! — изумился Киннор. — Я уж год в этой яме томлюсь, а о воздействии мне рассказали впервые. Значит, наша судьба всё-таки в наших руках?»
Да, судьба музыкальных инструментов, которые, вопреки трудностям, не отчаялись и не упали духом, действительно находилась в их собственных руках. Даже несмотря на то, что у них не было рук.
Глава 6, в которой…
…Пин получает негласное признание.
Однажды в мир Людей пришли морозы. Пин сроду не слыхал о морозах, а потому решил, что речь идет о каких-то злодеях-разбойниках. Причем мнения об этих Морозах разделились. Люди-оркестранты с голосами позвончее утверждали, будто Морозы помогают поддерживать форму и замедляют старение. Другие, напротив, заявляли, что от Морозов одни беды. И это было больше похоже на правду. Потому что у всех без исключения виолончелей и скрипок в оркестровой яме замерзли колки. Как ни бились Люди, как ни старались, а настроить инструменты не могли. Одно слово — Морозы.
«Кем бы они ни были, — подумал как-то Пин, — пользы от них никакой. Сплошной вред».
«Такой ли уж вред? — мысленно отозвался из угла Киннор. — Не сегодня-завтра директор объявит о внеплановом отпуске. А значит, какое-то время нас не будут щипать, по нам не будут бить и нас не будут донимать однообразными гаммами».
Услыхав, что не будут бить, Бар оживился.
«А знаете что, пускай Морозы приходят почаще», — подумал он. Ему, по старой привычке, захотелось отправиться на Музыкальный курорт, к морю Стаккато, где можно развалиться на пустынном пляже и греть свои тарелки до умопомрачения. Греть, пока плавиться не начнут.
Морозы среди Людей прослыли жестокими и бесчеловечными узурпаторами. Бар мог бы добавить еще и «безынструментальными», потому как после нашествия Морозов в оркестровой яме начался такой холод, что иней оседал даже на многострадальных виолончелях. Тарелки Бара тоже покрылись инеем, клавиатурная крышка Пина разукрасилась витиеватыми белыми узорами. А поежиться-то нельзя. Ни поежиться, ни попрыгать с ноги на ногу. Ни даже постучать зубами.
На третий день внепланового отпуска Пин пожаловался, что у него заледеневают мозги.
«Да, — подтвердил Киннор. — Если замерзнет ум, пиши пропало. Ты должен быть стойким, иначе станешь как они…»
«Жмуриком? — уточнил Бар. — Если честно, мы тут и так словно на кладбище».
«Но должен же быть способ выбраться отсюда! — не сдавался Пин. — Пусть нас перевезут в теплые края!»
«Для этого нужны Люди, — веско заметил Киннор. — А с наступлением Морозов их точно метлой смело. Так что придется нам, друзья, дожидаться».
Он всё-таки поведал Пину об одном беспроигрышном способе покинуть мрачную яму. Для Бара этот способ не годился уже потому, что Бар не мог расстроиться. А Пин мог.
«Немного усилий — и твои струны провиснут, как провода на столбах. Поэкспериментируй с глушителем, подпорти войлок на молоточках. Сделай так, чтобы западали клавиши, и очень скоро тебя отправят к мастеру».
«К Мастеру? — приободрился Пин. Он надеялся, что это будет тот самый Мастер. — Расстроюсь, — решил он. — Расстроюсь, во что бы то ни стало. Пусть лютуют Морозы. Я выдержу — и добьюсь своего».
Бар дулся на Пина добрых трое суток и старался не думать в его адрес никаких мыслей, хотя мысли всё же проскакивали.
«Бросишь меня на произвол судьбы. А говорил, куда ты, туда и я!» — возмущенно думал Бар в мертвящей тишине ямы. Киннор даже не пробовал их помирить — пустая затея.
«Найти Мастера важнее, — думал Пин. — Если я найду Мастера, всё вернется на круги своя».
«Почем знать? Твой Мастер может загнать нас в ловушку почище этого „склепа“, — горячился Бар. — Никто не станет бросать друзей из-за неведомых Мастеров».
У Пина было время, чтобы взвесить все «за» и «против», чтобы решить, расстроиться ему или не расстраиваться. У него был вагон, нет, целый поезд времени, потому что Морозы-узурпаторы обосновались в том краю надолго. Хотя горбатый уборщик, который приходил мыть сцену каждое утро, бранил их на чем свет стоит.
Бару чудились горячие пески и обжигающее солнце далекой страны Яльлосафим, между тем как с его тарелок свисали сосульки. Пину тоже чудилось обжигающее солнце, но он всё чаще представлял, как возвратится домой с Мастером, как Мастер исцелит Рояльчика и тот станет самым ярким инструментом на свете.
«Прости, дружище, — подумал Пин. — Можешь считать меня предателем».
Он твердо решил расстроиться и теперь только ждал удобного момента. Но момента всё не представлялось.
Спустя много недель (что по меркам музыкальных инструментов — сущие пустяки) Морозы, наконец, убрались восвояси. Отдохнувшие, пахнущие духами оркестранты вернулись в театр — и тут уж Киннору досталась новая порция щипков, Бару — ударов, а Пину — несносной игры. Пину приходилось прилагать все силы, чтобы ослабить натяжение струн, и с каждым днем гармонические интервалы звучали на нем всё грязнее и грязнее. Но пока это мог уловить лишь очень тонкий слух.
Случилось так, что один одаренный юноша сорвал его планы. Когда пальцы молодого пианиста коснулись клавиатуры Пина, того вдруг охватило неведомое доселе чувство: точно внутри у него заменили все старые детали. Паренек играл до того хорошо, до того упоительно, что Пин волей-неволей сам стал принимать участие в этой игре. И совершенно без умысла выучил весь его репертуар.
— Талант! — сказал пареньку концертмейстер, отложив после репетиции свою скрипку. — Талантище! Но чего тебе недостает, так это уверенности. Ты почему-то всегда теряешься перед большой аудиторией. Запомни: все эти разнеженные гранды и бароны, избалованные девицы и напыщенные дамы оценят тебя лишь в том случае, если ты покажешь на сцене высший класс. Лишь тогда ты сможешь прославиться. Завтрашнее выступление — твой шанс, мальчик.
«Шанс!» — повторил про себя Пин. Он очень переживал за этого юношу. Он впервые переживал за кого-то, кроме себя и своих музыкальных друзей. И так распереживался, что даже не заметил, как его водрузили на подмостки. Надо же! В прежние времена он счел бы себя счастливчиком. Ведь это такая честь — оказаться на месте солиста!
Перед концертом он с волнением вспоминал такты из арии, которую должны были исполнять первой. В оркестровой яме скрипачи и виолончелисты водили смычками по холодным струнам мертвых собратьев Пина. Когда их настраивали, они стонали совсем так, как стонут живые.
«Того юношу зовут Сверр. Когда объявят его выход, надо будет подготовиться и не оплошать. Хотя я так или иначе пойму, кто на мне играет», — подумал Пин.
Шуршали платья напыщенных дам и избалованных девиц, от разнеженных грандов и баронов пахло табаком. Один за другим продребезжали три звонка, а потом кто-то громкий, совсем как гитары в поезде, попросил зрителей отключить мобильные телефоны. «Повелитель звонков», — подумал Пин.
Когда Сверр сел на крутящийся табурет и вытер руки носовым платком, Пин тотчас догадался, что паренек бел как мел, дрожит как осиновый лист и, вообще, вернее годится для того, чтобы стать сапожной подметкой, нежели успешным дебютантом.
«Соберись, — приказал ему Пин. — Успокойся. А я тебе подсоблю».
Сверру словно хороший подзатыльник дали: так он подтянулся, так выпрямился. И начал.
Пин руководил его эмоциями, точно радиоуправляемой машинкой. Оркестр в яме то взвивался ввысь девятым валом, а то затихал до плеска одинокой волны. О, если бы только Бар мог слышать, как умело Пин отдает команды! Но Бар был на него в обиде, а потому предпочитал не напрягать свой и без того утомленный слух. Во время концертов оркестровая яма оживала, но так бывало редко, и Бар втайне мечтал о том, чтобы последовать за Пином, к неведомому Мастеру. Лишь бы не оставаться в этой пыльной «гробнице».
«Будь легким, — диктовал Сверру Пин. — Расправь локти! Голову выше! Порази их! Порази! Порази!»
Он слегка переусердствовал со своим «Порази!», и на двадцатом такте юноша сбился. Любому музыканту вдалбливают со школьной скамьи: если забыл ноты, начинай с ближайшей репризы. Всегда можно сделать вид, будто так и должно быть. Но Пин чувствовал, что одним повтором на сей раз не обойтись. По всему было похоже, что продолжение арии просто-напросто вылетело у Сверра из его высоко поднятой головы.
«Что ж, вспомним молодость», — решил Пин. Ибо сейчас он ощущал себя тысячелетним стариком. Куда дряхлее Клавикорда Пизанского. Когда он усилием воли заиграл выученную наизусть арию, заставляя нужные клавиши опускаться и время от времени пуская в ход правую педаль, бедняга Сверр чуть не свалился со стула. Но потом быстро сообразил и — хитрец эдакий! — сделал вид, будто это его пальчики бегают по клавиатуре и рождают такую замечательную мелодию.
Кто-то из зрительниц разрыдался от избытка чувств, кто-то из баронов крикнул «браво!». Оркестр по-прежнему обрушивался волнами на податливые берега человеческих эмоций, а Пин пребывал в восторге от собственной виртуозности. Это его, его триумф! Половину успеха составляет качество инструмента — уж Мастера-то спорить не станут! Теперь его точно заметят. Будут холить и лелеять. А если он расстроится, его отправят к лучшему Мастеру мира Людей.
Бар страшно завидовал Пину. По окончании концерта в зрительном зале поднялся такой гвалт, а на сцену посыпалось столько цветов, сколько Бару и не снилось. Да, похвалы были обращены к Сверру. Он, потерянно улыбаясь, раскланивался перед восхищенной аудиторией и мямлил слова благодарности.
Но Пин и Бар знали наверняка: ни одному человеку не под силу выжать из музыкальных инструментов то, что инструменты выжимают из себя сами.
«Мои кузены Литавры как-то заикнулись, — вспомнил Бар, — что могут выбивать на себе все мыслимые и немыслимые ритмы. И птицы, которые обычно не переносят шума, слетаются на их дробь, словно на призывную трель. Но какое же необходимо умение, чтобы затрагивать потаенное в сердцах Людей! Ведь они-то уж точно посложнее птиц устроены».
В зале долго не смолкали аплодисменты. Усатый дирижер, пользуясь случаем, кланялся направо и налево. И если бы Пин мог видеть выражение его лица, то сказал бы, что оно точь-в-точь как у дирижера Баккетты, когда тот заискивал перед Павлиньим Хвостом.
Глава 7, в которой…
…Пин попадает не к тому мастеру.
В одно прекрасное утро обнаружилось, что фортепиано, которое недавно доставили из-за границы, пришло в негодность. Поэтому утверждать, что утро прекрасное, мог бы, наверное, только Пин. А вот директор театра уже подсчитывал убытки, какие неминуемо возникнут, если отправить Пина на починку к мастеру Фолки. Во всей округе Фолки был единственным, кто знает толк в колках и молоточках. Он жил на другом конце города и был так стар, что дожидаться его у себя дома не имело особого смысла. Ибо передвигался он со скоростью улитки. Поэтому все возили свои неисправные инструменты к нему в мастерскую. Руки у него были хваткие, глаз — на удивление зоркий. Ему доверяли, его ценили, но он всегда ценил себя больше и всякий раз назначал за свою работу такие заоблачные суммы, что у его клиентов дух занимался. Чтобы как-то смягчить их негодование, Фолки пугал их длинными словами. Например такими, как «вирбельбанк». Чуть он произнесет это слово, как клиент тает, становится мягче самой мягкой ваты и идет на попятный. Благодаря своим магическим словам-«запугивателям», Фолки так разбогател, что отстроил себе под старость пышный особняк. И комнат в том особняке было видимо-невидимо. Как истинный ценитель садово-паркового искусства, Пин непременно похвалил бы очищенные от снега дорожки, ровно подстриженные кустарники и скульптурный фонтан во дворе. На бордюре этого фонтана Фолки любил посидеть да почитать книжку. Но, разумеется, летом, а не в лютую стужу.
Когда налетала пурга, он уединялся в одной из своих необъятных комнат, глотал таблетки и нередко налегал на кофе. Заняться в такие дни ему было решительно нечем. Если у кого-нибудь и расстроится инструмент, этот кто-нибудь подождет, пока не стихнет вьюга. Никто не поедет к Фолки в этакую даль по сугробам. Никто, кроме директора театра. Из его слов Пин понял, что восвояси убрались только сильные Морозы. Морозы-силачи отступили, зато слабенькие Морозы, похоже, с отбытием не торопились. Но они, эти хлипкие холода, директора ничуть не пугали. Он распорядился, чтобы Пина погрузили в трехтонку, запрыгнул в кабину и был таков. Директор задумал собственноручно доставить Пина к мастеру Фолки.
Добрых два часа проплутав по бездорожью, машина наконец-то ввалилась во двор достопочтенного мастера. Но навстречу не выбежала, не прошаркала и даже не проковыляла ни одна живая душа. А всё дело было в том, что Фолки малость переборщил с кофе.
Когда грузчики протиснули Пина в проход, директор пулей взлетел на лестницу, по которой суетливо сновали врачи. Один молодой врач покрутился-покрутился рядом с Пином, а потом сказал, что мастер, скорее всего, возьмется за ремонт не раньше, чем через неделю.
У Фолки зашкаливало давление и раскалывалась голова. На тумбочке, возле кровати, стояла чашка недопитого кофе и валялись использованные шприцы.
— Меня искололи, как подушку для булавок! — пожаловался Фолки директору театра и протянул руку так, словно просил подаяния.
— Значит, я напрасно вез к вам пианино? — промямлил тот.
— Что вы, что вы! Оставляйте! Когда-нибудь да починю, — неопределенно сказал Фолки и страдальчески закатил глаза.
Так Пин у Фолки до оттепели и простоял. Сначала мастеру было попросту не до него: то поступит заказ на починку бешеной скрипки, то попросят настроить рояль. Пин был невзрачный на вид, и его, скромного, оставили пылиться в сторонке.
Бешеная скрипка была из разряда тех, кому до крайности противна посредственная игра новичков. Она непременно хотела, чтобы на ней играл профессионал, и на этой почве разнервничалась. А с нервной скрипкой, сами понимаете, обращаться совершенно невозможно.
«Подумаешь, нервишки шалят. Зато она живая», — обрадовался Пин. Какое-никакое, но общество. Однако скоро от этого общества он был готов денно и нощно исполнять похоронный марш Шопена. Больно уж крикливая оказалась скрипка.
«Они у меня узнают, — вопила она с верхней полки, — почем фунт лиха! Я им покажу, как мой смычок держать надо!»
Никто из людей ее воплей, разумеется, не слышал. А вот Пину приходилось туго.
«Откуда ты такая взялась?» — полюбопытствовал он, предвидя, что в ответ ему достанется очередная порция брани.
«Из музыкального театра в Сиднее. Бывал там когда-нибудь? — вскинулась скрипка. — Не бывал? Ну, так молчи в тряпочку! Я создана для величия и славы!»
Еще в мастерской стоял рояль, и он тоже мечтал о славе. А характер у него был такой же скверный, как у злющего Треугольника и Павлиньего Хвоста вместе взятых.
Скрипка и рояль уже довольно долго пробыли в мире Людей, и Пин не мог понять, почему они до сих пор не усвоили такую простую истину: музыкальным инструментам в этом мире славы не снискать. Музыкальные инструменты служат для славы тех, кто на них играет.
В один из сырых весенних дней Пин наконец-то осмелился завести разговор с роялем.
«Ты, случайно, не дальний родственник Рояльчика?» — осторожно спросил он.
Рояль оставался глух и нем, хотя совсем недавно до накала педалей спорил со взвинченной скрипкой о каких-то пустяках.
«А знаком ли ты с Мастером, который тебя сделал?» — упорствовал Пин.
Рояль по-прежнему делал вид, что его не существует.
«Может, тебя создал мастер Фолки?» — предположил Пин. Тут въедливая скрипка не выдержала, и от негодования у нее даже лопнула струна.
«Тысяча косых дирижеров! — взорвалась она. — Кто вбил тебе в крышку подобную чушь?! Нас никогда и никто не создавал! Мы появились сами…»
«Ага, из дупла Кряжистой Сосны, — подхватил Пин. — Только вот, знаешь ли, с трудом верится».
«Ты заблуждаешься, моя беспокойная подруга, — подал „голос“ рояль. — Нас действительно создают мастера. Но Фолки не мастер, он всего лишь настройщик. Настройщик, бесспорно, талантливый. Но на этом его возможности кончаются. Надо искать в среде высоких художников и мастеров мирового уровня. А это — прямой путь в Северную Америку».
«Далековато», — заметила скрипка.
«А где она, Северная Америка?» — спросил Пин.
«За океаном, — многозначительно сказал рояль. — За много-много миль отсюда. Сначала нужно добраться до пристани, потом — сесть на пароход. И плыть, пока тебя не одолеет качка, а корпус твой не разбухнет от влажности».
«А еще, — зловеще вставила скрипка, — пароход может утонуть. Ты утонешь вместе с ним и станешь прибежищем для рыб».
Пин с удовольствием бы поежился, если б мог. Тяжела жизнь в мире Людей. Тяжела и непредсказуема. Сегодня ты — любимец публики, а завтра — бесформенная груда на морском дне. Как при таком непостоянстве можно вообще что-то планировать?!
Пин решил, во что бы то ни стало, посоветоваться с Баром. Посоветоваться — и склонить к очередному путешествию. Уж если и погибать, то вместе.
Фолки кое-как справился со своим вечно скачущим давлением. По дороге на кухню он ненароком налетел на Пина, который томился в мрачном углу, и по такому случаю настроил его, сверяясь с камертоном. Спустя несколько дней увезли сумасшедшую скрипку. Назад, в музыкальную школу. Там ее снова будут мучить бездарные ученики, и она снова будет надрывно плакать. Бедная, бедная скрипка! Она никогда не расстанется с мечтами о блеске и славе.
Затем увезли рояль. Не сказать, чтобы Пин ему сочувствовал. Насколько он мог судить, рояль был натурой довольно уравновешенной, несмотря на частые «приступы» мнительности и манию величия. А уравновешенной натуре куда проще приспособиться к переменчивой погоде.
Позднее настал и черед Пина покинуть душную мастерскую. Накануне какого-то грандиозного события, о котором без умолку вещало радио, за Пином приехал директор театра.
— Говорят, будет война, — беззубо прошамкал старик Фолки. Он прошамкал это с таким воодушевлением, что Пин, который знал о войне лишь понаслышке, окончательно отбросил сомнения. Да, конечно, война — это праздник с фанфарами и салютом, с барабанным боем и конфетти!
— Много наших поляжет, — без энтузиазма заметил директор театра.
«Поляжет со смеху?» — предположил Пин.
— Если на фронт заберут моего сына, — продолжал между тем директор, — ох нагорюется, ох наплачется жена! Да и я уже стар. Что будет, если Альвисс умрет?!
«Умрет? — задумался Пин. — Значит, война вовсе не праздник? Значит, на войне гибнут? Но у нас никогда не устраивали войн. Мелочные ссоры, пустячные склоки — это еще куда ни шло. Но намеренно лишать жизни своих друзей и соседей — как такое вообще может прийти кому-то в голову?!»
Вернувшись в театр, Пин долго ощущал необъяснимую тревогу и какую-то пустоту внутри. Он звал Бара, но Бар не откликался. Неужели всё еще дуется?
«Бесполезно, — послышался из глубины оркестровой ямы знакомый голос Киннора. — Его забрали на войну вместе с трубами и валторнами. Он сопротивлялся, он пытался остановить людей — я свидетель. Но люди словно оглохли! Они были как одержимые: все на войну, все в бой! Ох, боюсь, много прольется крови».
«Но как же так?! — опешил Пин. — А я собрался в Америку…»
«Если собрался, то сейчас самое подходящее время, — отозвался Киннор. — Попробуй убедить директора. Для пущей сохранности тебя, быть может, туда и переправят. Потому что скоро наш театр, как пить дать, разлетится на осколки».
«А что же будет с Баром?..»
«Он инструмент воинственный, не пропадет», — утешил Киннор.
Так-то оно так, Бару палец в рот не клади. Он за себя постоит. Но вот как бы от его «стояния за себя» ничего худого не вышло…
Глава 8, в которой…
…Бар находит и теряет друга.
Даже солнце сегодня отказалось светить. Оно закуталось в кокон из туч и посылало оттуда на землю мутный свет, хотя сквозь туманный кисель этому свету всё равно было не пробиться. Сама природа восставала против войны. На дорогах лежал наполовину растаявший снег, колеи развезло, а в почернелом, неуютном лесу у обочины дороги кричали вороны. Бар слышал их назойливое карканье, и ему хотелось швырнуть в них какой-нибудь здоровенный булыжник, чтобы умолкли раз и навсегда.
«Вот, что такое война, — подумал он. — Ты убиваешь из прихоти. Только потому, что кто-то тебя не устраивает. Только потому, что кто-то мешается у тебя под ногами».
Его везли в багажнике пропахшего бензином грузовика, у которого барахлил мотор и в котором чувствовалась каждая выбоина. Жестяная багажная заслонка билась о кузов, и внутрь залетал сырой, холодный ветер.
«Я уже довольно стара, а значит, я в форме», — донеслось до Бара из дальнего конца багажника. Там, зажатая между ящиками, неторопливо мыслила виолончель.
«Я уже достаточно стара и теперь буду звучать, как самый глубокий тенор. Попасть бы только в приличное заведение. Беда лишь в том, что на одно приличное заведение в этой стране насчитывается с десяток балаганов».
«Эй, — мысленно окликнул ее Бар. — Ты кто?»
Раздумья виолончели прервались.
«Прежде чем отвечать, я должна видеть, с кем говорю, — немного погодя подумала она. — Но в последнее время я почему-то ничего не вижу. А у вас, часом, нет знакомых из города До?»
«Из города До нету. Зато есть один проходимец из города Ре, — буркнул Бар. — Клавикорд Пизанский».
«Надо же, какое совпадение! — удивилась виолончель. — Мне тоже довелось с ним повстречаться. Совершенно случайно, вот не поверите!»
«Еще как поверю! Дай-ка угадаю: он заморочил тебе голову рассказами о мире Людей?»
«Он поведал мне столько всего интересного!»
«И ты прыгнула с дерева…» — продолжал Бар.
«Ну, прыгнула — это уж очень громко сказано. Свалилась, если точнее. В моих летах как следует не прыгнешь. Чего доброго, гриф свернешь — струн не соберешь».
Поскольку виолончель так и не ответила на его первый вопрос, Бар решил применить свои дедуктивные способности:
«Выходит, ты Струнная. Скрипка, что ли?»
«Не скрипка, а виолончель, — обиделась та. — Скрипкам до нас расти и расти. Ах, слушайте, как вы переносите эту ужасную тряску?» — сменила она тему. Таить обиду было не в ее правилах.
«У меня внутри пустота. А пустоте тряска нипочем, — ответил Бар. — Ты, вроде бы, тоже полая?»
«Опять обзывается», — вздохнула виолончель.
Если не считать тряски, то пока всё шло относительно гладко. Бар старался не думать о плохом. Он представлял, что могло бы быть и хуже. Что его могли бы выбросить на помойку, как непотребный мусор. А так он примет участие в сражении. В своем музыкальном детстве он частенько играл с приятелями в войнушку. Почему бы не поиграть в нее и сейчас?
«Ты знаешь, куда мы едем?» — спросил он у виолончели.
«На концерт? О да, разумеется, на концерт! В мире Людей устраивают просто грандиозные концерты».
«А еще здесь устраивают грандиозные войны, — мрачно прибавил Бар. — Нас везут на войну, и уж не пойму, как Люди умудрились погрузить тебя вместе с трубами и барабанами. Ведь ты инструмент не военный».
Виолончель страшно огорчилась, услыхав, что их везут не на концерт. Но потом, поразмыслив, воспрянула духом:
«Ничего, я и для войны сгожусь! На родине у меня здорово получалось играть марши. А еще я громкая и бесстрашная».
«Какая жалость, что Люди обращают внимание на форму, а не на содержание, — как можно тише подумал Бар. — Они выбирают тех, у кого детали крепятся к нужным местам, кто правильно скроен. А тех, у кого правильно скроено сердце, отсеивают, как сор и шелуху».
Путь на фронт был не близок, и солдаты часто делали привал. Во время одного из таких привалов им вздумалось произвести инспекцию груза. Сперва проверили машину с боеприпасами.
— Гляди, как бы там ничего не рвануло, — насмешливо сказал кто-то.
Потом наступила очередь машины с провизией.
— Консервы просрочены, — констатировал осмотрщик. — От них мы протянем ноги вернее, чем от вражеской пули. — И выбросил злополучные консервы на обочину, вместе с гнилыми овощами и заплесневелым хлебом.
Бар никак не ожидал, что Люди доберутся до фургона с музыкальными инструментами.
— Э, вы только гляньте: какой-то умник догадался всунуть нам контрабас! — Этот молодой солдат совершенно не видел разницы между виолончелью и контрабасом. — К чему загромождать пространство?! Сюда мы могли бы сложить лекарства и теплые шинели.
Или Бару послышалось, или у виолончели действительно дрогнула струна. Он напрягся из последних своих музыкальных сил: надо дать солдатам отпор. Нельзя позволить, чтобы они избавились от виолончели! Она ведь такая добрая и доверчивая. Неужели же ее бросят на дороге, одну, посреди луж и грязи?
«Верни ее на место», — приказал солдату Бар. Но звонкая пустота внутри мешала ему сосредоточиться и заострить мысли. Все они попадали мимо цели. Солдат вынес виолончель из фургона и даже с каким-то состраданием опустил ее на землю.
— А вы уверены, что так будет лучше? — спросил кто-то.
— Контрабасу не место на фронте, — отозвался солдат. Ах, если бы только виолончель могла сказать ему, что она никакой не контрабас, что она бесстрашная и громкая!
«С трубой у меня получился бы хороший дуэт! — кричала она. — Я хочу поехать с вами!»
Но ее мольбы оставались безответны. Люди лишь заметили, что струны ее как-то странно дрожат на ветру.
По Бару били уже много раз. Его колотили по-всякому — и палкой, и кулаком. А однажды ему попало даже ботинком. Но от этого, последнего удара оправиться ему было гораздо сложнее. «Если весь мир Людей состоит из лишений, — думал он, — то зачем вообще чего-то ожидать? И почему Мастера, если они и в самом деле создают нас, до сих пор не сбежали из этого мира?» Сначала Бара разлучили с лучшим другом, а теперь — с виолончелью, которая вполне могла бы заменить ему лучшего друга. Бар готов был лопнуть, как накачанная до предела шина.
…По дороге полз туман, а где-то там, за тучами, алело рассветное солнце. Сейчас солдаты мало чем отличались от Бара — они почти ничего не видели и были столь же беспомощны. Колеса грузовиков тяжко месили глину, нескончаемой чередою тянулись черно-белые верстовые столбы. Слышалась отдаленная канонада.
Внезапно — точно ткань разорвали пополам — совсем рядом прогремел взрыв. Бара подбросило так, что он ударился о верх фургона и шлепнулся обратно — прямо на «голову» валторне. И тут началась такая свистопляска, что хоть стой хоть падай. В основном Бар падал. Он бился о стенки и налетал на безмолвных Духовых. А Духовым ни жарко ни холодно. Они то наваливались на Бара всей кучей, а то — передавая эстафету — поодиночке.
«Когда же это закончится?!» — обреченно думал он. Кутерьма улеглась несколько мгновений спустя. Если бы у Бара имелся опыт в таких вещах, он бы уже определил, что за беда с ним приключилась. С ним и со всеми «насельниками» кузова. Сила взрыва была столь велика, что машины вылетели из колеи и угодили прямиком в овраг.
«Цел ли мой деревянный корпус? — думал Бар. — Не погнулись ли тарелки?»
На его счастье, кое-кто из солдат выжил — голоса двоих он различал однозначно. И в этих голосах слышались испуг и удивление. Удивление, граничащее с восторгом. Они невредимы, руки и ноги на месте. Что это если не чудо?
— А! — сказал кто-то. — Всё равно рано или поздно станем пушечным мясом.
Среди всего нагромождения труб и валторн Бар был единственным, кто еще мог как-то управлять своей судьбой. Он звал человека настойчиво, звал до тех пор, пока не был услышан.
«Вот так оно всегда, — думал Бар, покачиваясь за плечами у одного из солдат. — За другого заступиться силенок недостает, а как себя любимого пристроить захочешь — наизнанку вывернешься. Кто бы научил меня выворачиваться наизнанку ради друзей…»
Небо рвалось на куски и оглушительно трещало — того и гляди, обрушится и придавит. Повсюду грохотали снаряды, свистели пули, но — странное дело — в этом невообразимом хаосе Бару было спокойно. Стрельба заглушала хор его путаных мыслей.
Глава 9, в которой…
…Бар побеждает врагов, а Пину удается проучить кота.
Попав в мир Людей, Бар разучился спать. Он всё время бодрствовал, однако не сказать, чтобы при этом чувствовал себя бодрым. Временами он впадал в какую-то липкую и тягучую, как мёд, дрёму, и тогда запахи и звуки переставали для него существовать. Так же случилось и в этот раз. Когда Бар очнулся, то почуял перемену. Теперь он уже не висел за спиною у бравого (а может, и не бравого) солдата. До него донеслось чужое наречие и сочная ругань. Враги! Он попал в лагерь к врагам!
Нет, не к своим врагам, конечно. К неприятелям того маленького народца, который мужественно встал на защиту родины. Но кто развязал эту войну? Кто начал первым? Вот что интересовало Бара больше всего. Вдруг «враги», у которых он очутился, вовсе не враги? А те, в чьем грузовике он трясся, вовсе не «кроткие овечки»? Но нет, сомненья прочь! От Людей, которые окружают его сейчас, исходит слишком много злобы и желчи. Ошибиться невозможно. Они пришли, чтобы забрать у мирных жителей кров и землю, чтобы лишить их жизни и завладеть их краем.
А что может он, маленький барабанчик? Неужели он спокойно закроет глаза на эти бесчинства?! Решение созрело в нем незамедлительно. В положенный час он вывернется наизнанку.
Враги вели себя слишком уж беспечно. Наверное, победа была не за горами. Они пели развязные песни и хохотали так, что палатка, в которой лежал Бар, дрожала, словно лист на осеннем ветру.
«Нет, — думал Бар, — надо дождаться ночи. Ночью здесь будет тихо, и я смогу собраться с духом».
«Хорошо бы, в лагере оказался их предводитель, — мечтал он, — тот, кто заварил всю эту кашу. Ох, какую бы я службу тогда сослужил тем, другим Людям…»
Он не мог видеть, как закатилось за лес багряное солнце, зато уханье сов различал вполне отчетливо. Враги еще долго гомонили, жгли хворост и хлебали пиво. Оно выплескивалось из кружек прямо в костер, и тот недовольно шипел. Наконец все разбрелись по своим палаткам. Человеку, который забрался в палатку Бара, долго не удавалось заснуть. Бар внушал ему, что спать рядом с музыкальными инструментами небезопасно, и добился-таки своего. Человек пинком вышиб его из палатки — на самую середину поляны. А Бару того и нужно было.
«Ну, сейчас я им устрою веселенькую жизнь», — злорадно подумал он.
Такого грохота, какой раздался посреди ночи, солдаты лагеря прежде никогда не слышали.
«И уж больше не услышат», — обязательно добавил бы Бар. Этот «раскат грома» он извлек из себя самостоятельно, чем очень гордился. Так оглушительно не взрывалась ни одна бомба. И ни одна ракета, ни один реактивный самолет не стартовали с таким шумом.
Враги были побеждены. Они выскочили из своих палаток, как ошпаренные, и до зари носились потом по лагерю, натыкаясь на предметы и друг на друга. Среди них действительно оказался предводитель армии. Он кричал какие-то приказы, но его приказов не слышали. Ему тоже что-то кричали, но он не мог разобрать, что именно. Бар положил все силы на то, чтобы оглушить этих людей.
«Сворачивайте лагерь, и чтобы духу вашего здесь не было!» — мысленно приказал он, и уж этот приказ поняли все до единого.
А Пин тем временем бороздил морские просторы. Сперва морские, потом океанские. Директор театра поддался на «уговоры» и отправил Пина в Северную Америку, к своей престарелой родственнице, пока не нагрянуло лихо.
«Становится всё проще и проще, — думал Пин, стоя в пароходной каюте. — Убедить директора было раз плюнуть. А уж убедить какую-то старушенцию — это даже не раз плюнуть, а раз чихнуть».
Редкие счастливцы на пароходе избежали последствий качки. Лайнер проделал уже добрую половину пути, и все живые существа на нем, включая корабельных крыс и палубных кошек, ждали берега, как ждут избавления. Раза два начинался шторм, но не проходило и пяти минут, как небо светлело, а океан из бурлящего котла превращался в тихую заводь. Казалось, кто-то невидимый замахивался, но никак не решался нанести удар по одиноко плывущему судну.
Пин ужасно волновался за Бара. Как он там, на войне? Не погиб ли? Не попал ли в плен? Хотя кому в этом странном мире понадобится брать в плен барабан?
Девушка, которая играла на Пине вчера вечером, исполняла какую-то песню об исполнении желаний. «Достаточно лишь захотеть, — пела она. — И твои желания сбудутся». У нее был приятный, мелодичный голос, и Пин с удовольствием взял бы ее в страну Музыкальных Инструментов, если бы она только согласилась.
«Верь, — напевала она, — и твои желания сбудутся».
«Хотеть и верить, — подумал Пин. — Но я и так хочу, чтобы Бар очутился здесь, на корабле. Остается лишь второе. Немного усилий, вот сейчас…».
Он честно пытался поверить, что Бар свалится с неба прямиком на палубу. Но ему помешал кот. Люди зазевались, и кот проник в каюту этаким махровым привидением. Спрятался под кроватью, а когда все ушли, вылез, потягиваясь и зевая. У него была серая короткая шерсть, и лежала она какими-то странными завитками, как если бы над котом тщательно поработали парикмахеры. Звали его Мраком — и было за что. Он любил извозиться в саже, а потом забраться в камбуз и набезобразничать там. Бедняга кок! Он уже давно мечтал сварить из Мрака суп.
— Мрр-мяу, — сказал Мрак, потершись боком о полированную деку Пина. — Ты не против, если я поточу об тебя когти?
«А почему бы тебе, приятель, не поточить когти, к примеру, вон об ту половицу?» — услужливо предложил Пин.
— Половицы скрипучие-мяу, — капризно заметил кот. — К тому же, они сделаны из грубого дерева. Можно засадить занозу. А ты гла-а-аденький.
Казалось, Пин сдался.
«Ну, точи, коль уж приспичило, — вздохнул он. — Только не обессудь, если я тебя случайно придавлю».
— Придавишь-мяу? — опешил кот. Он явственно представил себе, как на него обрушивается трехсоткилограммовая громадина, и ему совсем это не понравилось.
«Видишь ли, дело в том, что я безумно боюсь щекотки, — соврал Пин. Если бы при переправе в мир Людей у него сохранилось лицо, то оно бы сейчас ухмылялось. — Как только об меня начинают точить когти, я начинаю трястись — нет-нет, да и придавлю кого-нибудь. Троих котов уже на тот свет отправил».
— Ну и дела, — пробормотал Мрак. Он выгнул спину дугой, зашипел, после чего спешно ретировался из каюты через открытый люк.
Вечером та же девушка вновь пела свою обнадеживающую песню, и Пин получал такое удовольствие, что мог бы, наверное, вспорхнуть сейчас, как птичка, и улететь в закатные дали. В нем всё более крепло убеждение, что эту девушку в стране Афимерод приняли бы с распростертыми объятиями.
Глава 10, в которой…
…Бара крадут на виду у всего честного народа.
Берег Северной Америки пестрел флагами, оглашался звонкими криками и гремел наспех сколоченным духовым оркестром. Чьи-то мужья и жены, отцы и матери, братья и сестры возвращались из дальнего и трудного плавания.
— Такое хорошее пианино, — говорила девушка, гладя Пина по крышке. — Куда его доставят? По какому адресу?
— К миссис Томпсон, — ответил кто-то. — Это на Мэдисон Авеню.
— Как бы рад был такому подарку мой отец, — со вздохом сказала та. — Он чахнет от беспросветной тоски. А врачи, все как один, заявляют, что ему уже не помочь. Но я-то верю…
«Веришь? — неожиданно для себя спросил Пин. Действительно, а отчего бы не отблагодарить ее? Ведь на пароходе она скрашивала долгие часы его одиночества. — Если веришь, не сдавайся. Прояви характер!»
«Выкрасть тебя, что ли? — подумала девушка в ответ. — Но я тебя даже не подниму».
«Не надо красть. Зачем тебе дана речь? Одними жалобами да причитаниями дел не поправишь. Я тебя научу. Просто слушай и повторяй…»
Они с Пином на пару урезонили всех, кого только можно было урезонить. Заговорили зубы грузчикам, обвели вокруг пальца ответственных за доставку. И в тот знаменательный день, вместо роскошной усадьбы миссис Томпсон, Пина отвезли в захудалый домишко на окраине города — к Мастеру по изготовлению музыкальных инструментов. Потому что отцом девушки был именно он, Мастер из Мастеров. Но Мастер отчаявшийся, утративший всякую надежду на этот мир. Мир Людей, считал он, непоправимо испорчен и катится в тартарары.
— А я не хочу катиться вместе с ним! — бывало, по-детски вскрикивал он и ударял кулаком по столу. Если бы не его упадочное настроение, он бы еще был хоть куда. Ему совсем недавно перевалило за шестьдесят, и старичком он был довольно крепким. Только вот ворчал больше положенного. Нечего мне, говорит, здесь делать. Пора, говорит, на тот свет. На какой именно «тот свет», он не уточнял, но дочь его боялась, что Мастер рано или поздно наложит на себя руки.
Попав в каморку к этому ворчуну, Пин сразу смекнул, что к чему. Мастеру просто-напросто негде было развернуться. Ему не хватало свежего воздуха, свежих ощущений и свежего взгляда на жизнь.
«У нас в стране, — шепнул Мастеру Пин, — подобного добра навалом. Я имею в виду свежий воздух и свежие ощущения».
Оказалось, Мастер точно так же, как и девушка, понимал Пина с полумысли.
— Где, — спросил он, не задумываясь, — где находится твоя страна?
Вот он, вопрос на засыпку. Клавикорд Пизанский ни словом не обмолвился о возвращении. А застрять в мире Людей Пин не пожелал бы даже злющему Треугольнику.
Мастер между тем пригорюнился.
— Так ты не знаешь… — проронил он. — Или это всё мои старческие бредни? Насочинял чепухи и поверил в нее. Так недолго и с катушек съехать.
Пин был с ним не согласен. Много кто выдумывает разные истории и верит в выдумку так, как если бы она была правдой. Но таким «сочинителям» еще далеко до умопомешательства.
— Полагаешь? — оживился Мастер, услыхав мысли Пина. — Значит, я всё-таки не спятил и мы действительно понимаем друг друга?
«Ясное дело!» — подтвердил Пин.
У этого, настоящего, Мастера он простоял с месяц, если не больше. Но закоснеть и покрыться пылью, как у Фолки, ему не давали. Каждый вечер девушка исполняла на нем прелюдии, сонаты, вальсы и этюды. Сколько веселья вошло в старый, покосившийся дом с появлением Пина! Пин и сам веселился бы от души, если бы не одно обстоятельство: Бар так и не свалился ему на голову. Ни на голову, ни в печную трубу, ни даже на крышу.
«Врет всё твоя песня, — обидчиво подумал Пин, когда девушка играла на нем блюз. — Ну, та песня, где говорится, что желания сбываются».
— Почему врет? — спросила та. — Неужели не сбылось?
«Разлучить нас с Баром — разлучили, а соединить никто почему-то не догадывается. Вот у нас на родине, например, действует закон притяжения. Если твой друг заблудится в лесу, стоит тебе лишь позвать друга по имени, как он отыщется. Здесь, по всей видимости, такого закона нет и в помине».
— Может, ты неправильно загадал желание? Может, не от всего сердца?
«Ну, если учесть, что мое сердце со дня на день превратится в труху, то здесь и гадать нечего».
— Давай, я за тебя пожелаю, — предложила девушка. — У меня хорошо получается. Как звать твоего друга?..
Она думала о Баре денно и нощно, даже во время еды. И вот однажды, в погожее весеннее утро Пин услыхал барабанную дробь. Эту дробь он не спутал бы ни с чем на свете. Он уже успел привыкнуть к маршам, которые устраивались на улицах города в честь какой-то победы. В отличие от Мастера, Пин относился к гимнам и степенному гудению труб довольно терпимо. Мастер же бушевал, как сотня разъяренных терьеров. Впрочем, нет, до сотни он недотягивал. Как один разъяренный терьер.
— Кому, — разорялся он, — нужны эти праздники, когда половина населения пухнет с голоду?! Но им нет дела до бедняков, они грохочут и в дождь и в вёдро!
На сей раз грохот был особенный.
«Бар! — обрадовался Пин. — Бар вернулся!»
— Вернулся? — переспросила девушка.
«Он там, в марширующей толпе! — прозвучал большой терцией Пин. — Беги, беги туда! Я не выдержу, если нас снова разлучат!»
— Но как определить, который из барабанов он?! — взволнованно спросила девушка, накидывая пальто и впопыхах обувая туфли.
«Красный, с двумя золотыми тарелками. Ты нипочем не ошибешься!»
Ей повезло, что Бар оказался в руках у мальчишки, а не у какого-нибудь матёрого солдата. Мальчишка вышагивал важно, в его глазах светилась гордость, а смешная шапчонка съехала набекрень. Эта шапчонка была тон в тон с красным корпусом Бара. Похоже, Бар уже смирился со своей участью: по нему теперь вечно будут бить, и он больше никогда не встанет на ноги. Он помнил, как его подобрали на «бранном поле», как кто-то тяжелый и высокий произнес невнятные слова, после чего Бара сунули под мышку и зашагали прочь от вражеского лагеря. Затем — бесконечное, унылое плавание, пронизывающие ветра и пенистые брызги. И раскатистые, просторные, точно прерии, голоса. Он слышал крики чаек, возгласы Людей, рев моторов да шипение волн и старался не вспоминать ту тишину страны Яльлосафим, от которой благоговейно замирало всё внутри.
На сегодняшнем параде ему знатно помяли макушку — один бойкий генерал постарался. Перекочевав к мальчишке, Бар надеялся, что тот не будет сильно по нему лупить. Но малец оказался хоть куда — почище бойкого генерала.
…«Так меня отделал, маму родную не вспомню! — рассказывал потом Пину Бар. — Вовремя ты подмогу послал».
«Подмога» сидела на табуретке и смущенно улыбалась. Не всякий решится преследовать воровку, особенно если она молодая девушка и если, к тому же, идет парад. Поэтому операция по вызволению Бара удалась на славу.
— Молодец, молодец, — похвалил девушку Мастер. — Какая ты у меня расторопная! Теперь мы все в сборе. А значит, можно переезжать. Как там называется ваша страна? — обратился он не то к Пину, не то к Бару.
«Афимерод!»
«Яльлосафим!» — дружно отозвались они. И тотчас умолкли. Пин, если б мог, просверлил бы Бара глазами. А Бар одним сверлением уж точно бы не ограничился. Всыпал бы Пину по первое число.
— Будет вам из-за всякой ерунды ссориться! — сказал Мастер. Он уже достаточно поднаторел в психологии музыкальных инструментов, чтобы различать, когда кто-то из них недоволен.
«У нас в стране ссорятся все поголовно. Даже улитки!» — буркнул Бар.
— Ну, так я это… Я вас быстро мириться научу, — закатывая рукава, рассмеялся Мастер. Впервые за долгое время он выглядел беззаботным и чувствовал себя лет эдак на двадцать моложе. — Давайте-ка, ребятки, махнем к вам в гости. Люди в нашем мире слишком поглупели. Они устраивают бессмысленные войны, празднуют невесть что и живут — совсем как я — в какой-то серой тине.
«Махнуть-то не проблема… — протянул Пин. — Если б я только знал, как».
— Махнёте, махнёте, — потирая деревянные руки, сдавленно рассмеялся Клавикорд Пизанский. Он уже который день околачивался возле пруда неподалеку от легендарного пригорка Бекар. В этом пруду ему иногда удавалось разглядеть незадачливых своих клиентов. А разглядев, поддеть за шиворот да вытянуть из мира Людей.
Клавикорд стал помешивать пальчиком воду у берега.
— Сюда, сюда, на край пруда, замету следы движеньем воды, — бормотал он. Кто-то из малышей-гитар, вконец обнаглевший, бросил в него веточку, но он словно в транс погрузился. И ни веточки, ни малышня его сейчас не занимали.
Глава 11, в которой…
…Бар и Пин возвращаются домой.
Пин почувствовал, что его куда-то уносит. У него закружилась голова, хотя кружиться там было нечему, и завибрировали струны. Бару тоже стало как-то не по себе.
«Что происходит?!» — мысленно спросил он.
— У-ху-ху! — лихо прокричал Мастер. — Давненько меня так не прихватывало! Весна, видать!
— Плывет, — сосредоточенно произнесла девушка. — Перед глазами плывет.
Внезапно всю честную компанию закрутило-завертело в непонятно откуда взявшемся водовороте. Мастер вопил, как школьник на американских горках. Девушка держалась за обшлаг его потрепанного пиджака и старалась не наглотаться воды.
Через минуту Бар увидел Клавикорда Пизанского. Тот стоял на своих гнутых коричневых ножках и хитро поглядывал на каждого по очереди. Правый его глаз блуждал по деке Пина, левый удивленно взирал на Мастера, после чего глаза «менялись местами»: правый изучал ботинки Мастера, а левый неуверенно скользил по клавиатуре Пина. Сейчас, когда в поле зрения оказался Бар, глаза Клавикорда косили самым невозможным образом.
— Ты подлец и негодяй! — высказался Бар. И как у него только язык повернулся?!
Клавикорд пропустил оскорбление мимо ушей. Сам факт, что язык, наконец, повернулся, был куда важнее и требовал осмысления.
Бар полежал-полежал, пораскинул мозгами, а потом как вскочит на ноги да как набросится на Клавикорда! Только не с кулаками, а с дружескими объятиями.
— Ох, и натерпелись мы в мире Людей! Спасибо, что вытащил нас оттуда!
— Я вытаскиваю лишь тех, кто готов, — отстраняясь, прошамкал Клавикорд. — Вы своей цели достигли. А таким в чужих мирах делать нечего.
Пин между тем протирал прозревшие глаза, шевелил руками и ногами и самостоятельно пробовал играть гаммы. Он был счастлив вновь оказаться дома. Здесь, так же как и в мире Людей, пели, заливаясь, птицы. Но отличие было в том, что Пин мог птицам подпевать. Точно так же здесь плыли по небу кучевые облака. Но Пин эти облака видел, радовался и удивлялся им, как непостижимому чуду.
Мастер осовело огляделся по сторонам, сел, как ребенок, и шумно втянул носом воздух. А девушка молчаливо сидела на корточках у кромки воды, и по ее щекам медленно текли слезы. Слюдяная гладь пруда блистала на солнце. Новые ароматы гнездились в древесных кронах. Песчаный бережок пах ракушками и летом.
Где-то вдалеке перебирала свои серебристые струны Арфа. С перерывами пел Рожок.
— Неужели мы это заслужили? — вслух мыслила девушка. — И почему одни только мы? Почему не тысячи других, измотанных проблемами людей?
— Вот ты и ответила на свой вопрос, — сказал ей Клавикорд. — Потому что эти, другие, люди измотаны проблемами. Некоторым бывает очень непросто отложить заботы даже на минутку. А ведь большинство забот мы создаем себе сами… Но не будем о грустном. Вы призваны в наш мир, чтобы лечить музыкальные инструменты. С вами мы зазвучим совсем по-иному.
— А что же станется с Виолончелью? — подал голос Бар. — С той, которую я встретил в кузове грузовика? Неужто так и пролежит в грязи до скончания века?
— Я не провидец, — кашлянул Клавикорд. — Но я почему-то уверен, что у этой легкомысленной Виолончели не такая печальная судьба, как у рояля Клоузиуса. Припомни-ка, Пин, кто посоветовал тебе плыть в Америку?
— Рояль Клоузиус?! — От удивления Пин даже привскочил. Дело в том, что именно так звучало настоящее имя всеми презираемого Павлиньего Хвоста. Павлиний Хвост тоже всех презирал, поэтому с некоторых пор оперный оркестр города Соль сами оркестранты прозвали «оркестром презрения». Находиться в театре зрителям становилось невыносимо. Они ощущали безразличие всеми волокнами своей древесины, и спустя полчаса концерт оканчивался из-за того, что зал совершенно пустел. Дирижер Баккетта упорно бился над этой загадкой и даже пытался нанять детективов. Но стоило детективам приблизиться к оркестровой яме, их всякий раз точно ветром сдувало. По городу уже начали расползаться мелкие, скользкие слухи, и бездействие грозило обернуться катастрофой, когда Павлиний Хвост внезапно сдал позиции. Он заявил, что не желает знаться с кучкой сброда из Ямы и торжествующе удалился. Поговаривали, что Павлиний Хвост подыскал себе местечко в уютном оркестре города Фа. Но зазнайка замахнулся на большее. Он прослышал, что за пределами его родины есть театры, с которыми простенькие заведения страны Музыкальных Инструментов ни в какое сравнение не идут. Разыскал Клавикорда Пизанского — и давай требовать, чтобы тот отправил его в мир Людей. И Клавикорд, разумеется, отправил. Точным пинком, без всяких там деревьев на пригорке Бекар. Старый мудрец был не совсем еще развалиной, однако тщательно скрывал это от других.
— Так значит, мы с Павлиньим Хвостом попали к мастеру Фолки в одно и то же время? — поразился Пин. — И не узнали друг друга?… А всё-таки дельный оказался совет, — добавил он, помолчав.
— Будем надеяться, что невзгоды в мире Людей исправят скверный характер вашего Павлиньего Хвоста, — вздохнул Клавикорд.
— А знаете, что я сейчас подумал? — сказал Бар, глубокомысленно чертя на песке закорючки. — Место в оркестре — оно ведь освободилось. Теперь нашему другу Рояльчику будет, куда вернуться. Но только после того, — Бар многозначительно посмотрел на Мастера, — как вы его настроите.
— Да-да, — нетерпеливо встрял Клавикорд. — Но сначала и прежде всего — обед.
Клавикорд Пизанский затащил всю компанию к себе домой и на радостях чуть не накормил Мастера шелком. Но, как выяснилось, ни шелка, ни фетра, ни даже опилок Мастер не ест.
— Что за странные существа эти Люди! — изумлялся Клавикорд. — Скажите еще, что вы не употребляете антимоля!
— А что такое антимоль? — поинтересовался Мастер.
— Мы пьем его специально, чтобы защититься от моли. У многих это уже вошло в привычку.
— А-а-а! — заулыбался тот. — Ну, мне всё понятно! Нас-то моль не ест.
Клавикорд запутался окончательно: Люди не едят фетра, Людей не ест моль. Чудеса! Пин и Бар тихонько покатывались со смеху на своем диванчике. А девушку, имя которой наконец-то удосужились узнать (ее звали Адель), усадили в то самое кресло, в котором некогда «утопал» Пин. И теперь она тоже «утопала».
— Нам вполне подойдет чай, — глухо прозвучало из кресла-«поглотителя».
Чай для музыкальных инструментов оказался настоящей находкой. После того как Мастер собрал в ближайшем лесу листочков чабреца и мяты да научил, как их надо заваривать, Клавикорд Пизанский на чае буквально помешался. Жители городка Ре валом валили поглядеть, как готовят диковинный напиток. И Мастер вскоре сам был не рад, что затеял всю эту катавасию. Правда, одно он признавал бесспорным: музыкальные инструменты были гораздо покладистее и дружелюбнее некоторых Людей.
Потом он часами возился с местным Пианино, парой-тройкой расстроенных Гитар да огромной, неповоротливой Арфой. Адель сначала лезла к нему со своей помощью, но, убедившись, что Мастер неплохо справляется в одиночку, убежала в сосновый бор, вместе с Пином и Баром. Бар шел по лесу, и его начищенные тарелки звенели, как прежде. Он рассуждал о том, что барабаны, хоть и в тени, а ритмы задают поуверенней многих.
— Метрономы нам и в подметки не годятся, — самодовольно говорил он. — Ума не приложу, почему композиторы до сих пор не написали произведений, предназначенных исключительно для барабана. Для скрипки — есть, для фортепиано — пожалуйста! Честное слово, меня прямо досада берет!
— Я спрошу у отца, — сказала Адель. — В прошлом ему весьма удавались экспромты. Может, он что-нибудь и придумает.
Пин шел, заложив руки за спину, и подбивал ногами мелкие камешки да опавшие иголки.
— Раз так, пусть и для меня чего-нибудь напишет, — попросил он.
— Ага, не рассыплется, — коварно подхватил Бар. В последнее время он почему-то чувствовал себя очень коварным и часто поглядывал по сторонам: не замечают ли его коварства остальные. Ему казалось, что физиономия у него более чем бандитская, и то и дело старался подловить себя на какой-нибудь крамольной мысли. Но похоже, что крамольные мысли прятались где-то в закоулках его извилин и вылезать на свет не спешили. Чем больше Бар понимал, что неприятности мира Людей здесь, в стране Яльлосафим, до него не доберутся, тем больше росла в нем уверенность, что он бросит честную жизнь, сделается разбойником и пойдет бродить по пустыням. Но, по правде говоря, пустыни не особенно его привлекали. Быть может, в нем так своеобразно бурлила радость. На самом же деле его интересовало только одно: когда будет готово его собственное, неповторимое произведение.
— Пин, а Пин? — спрашивал он. — Ты ведь столько лет играл в оркестре. Вот скажи, неужели тебе никогда не хотелось выступить с сольной программой?
— Хотелось, — признавался тот. — Кому ж не хочется? Бешеной скрипке и роялю Клоузиусу тоже мечталось о славе. Но знаешь, дружище, слава приходит и уходит, и слишком уж много суеты из-за этой самой славы. Я предпочитаю быть незаметным. Незаметные часто счастливее знаменитых.
— А если разделить славу пополам, ну, с кем-нибудь? — допытывался Бар.
— Тогда ее будет чуть-чуть полегче нести, — задумчиво говорил Пин. И с тех пор Бар решил, что незачем ему кичиться и что произведение должно быть написано для двоих. Для него и для Пина.
Глава 12, в которой…
…Рояльчик возвращается в оркестр.
На следующий день Бар пристал к Мастеру и не отлипал от него, пока тот не согласился сочинить сонату.
— Только соната должна быть особенная, — упирал Бар. — Волшебная.
— Будет тебе волшебная соната, — пообещал Мастер. — Для пианино и барабана… Правда, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь писал подобное. Для виолончели и клавесина — да, для скрипки и флейты — еще куда ни шло. Но знаешь, вы меня вдохновили. Ваш народец просто чудо как хорош!
— Погодите хвалить. Познакомьтесь перво-наперво с нашими соседями… — с загадочным видом сказал ему Бар и отправился покупать билеты на поезд до города Соль. Очень уж ему не терпелось поглядеть, во что превратился их с Пином домик. Не испачкали ль бедняки золотистые гардины на окнах, не позарились ли на бесценные пейзажи, развешанные по стенам?
«Если Пин не спрятал коллекцию дядюшки Клавесина, я за себя не ручаюсь», — думал Бар, шлепая по лужам на станции. Ливень, который успел пролиться за ночь, вымочил в округе абсолютно всё, включая станционного смотрителя-флейту. Смотритель сонно бродил вдоль путей в своем мятом берете и вглядывался в даль заспанными глазками. Но поезд всё не шел.
— Вам чего? — вылупился он на Бара, когда тот осторожно постучал пальцем по оцинкованному клапану смотрителя.
— Мне бы билетов до города Соль, — неуверенно проговорил Бар, изучая лицо флейты. — Эй, а не та ли ты флейта-Флажолет, о которой мне рассказывал Пин? — спросил он.
— Ну да, та самая, — проронил Флажолет. — В оркестре я больше не работаю. Подался в родные осины.
— Что, неужели уволили?
— Оркестр на грани гибели, — понуро сказал Флажолет. — Новый Рояль от нас отвернулся, старый захворал. А что мы без Рояля? Пустое место. Билеты — в кассе, — всё так же понуро и безучастно указал он.
— Ага, ага, — пробормотал Бар. — Ты только не раскисай, ладно? Мы Рояльчика вылечим, и ваш оркестр снова зазвучит.
— Да ну? — недоверчиво спросил Флажолет. — Неужто в самом деле вылечите?
— С нами Мастер из Мастеров. Обязательно, — подтвердил Бар.
— Тогда и мне билет, в один конец! — оживился смотритель, швыряя под ноги свой и без того грязный берет. — Эх, в оркестре играть было сущим удовольствием!
Уже вечером друзья (а в их числе и Флажолет) резались в «нотные карты» за столиком паровозного купе.
— Доминантсептаккорд бьет минорное трезвучие, — сосредоточенно говорил Бар. — Мастер опять продувает.
— А вот ничего я и не продуваю, — в шутку обижался Мастер. — Глянь на свои карты, братишка. У тебя там сплошные тоники да малые терц-децимы.
— Еще и подглядывает, — буркнул Бар.
— Отец, как думаешь, — спросила девушка шепотом, — помнит ли нас кто-нибудь там, дома? Скучает ли?
— Наш прежний хозяин, полагаю. Мы ему за квартиру не уплатили, — слабо рассмеялся он. — Да и, может, та бездомная кошка, которую ты подкармливала по утрам.
…В итоге, партию в карты выиграл скромный и незаметный Флажолет. Он каким-то образом умудрился обставить Бара, хотя Бар по праву считался одним из лучших игроков города Соль.
Об исчезновении Мастера и его дочери в мире Людей действительно никто, кроме хозяина квартиры, не сожалел. Ну, жили когда-то в квартале Бронкс два неприглядных бедняка, ну сгинули куда-то. Кому какое до этого дело?! Зато про Пина чуть ли не оды сочиняли.
— Ах, какой звучный был инструмент! — хлюпал носом директор театра. — С ним не сравнится ни одно пианино!
А солдаты, которых оглушил Бар, теперь объяснялись между собой исключительно с помощью рук и частенько вспоминали Бара недобрым жестом.
В городе Соль Пина и Бара встретили довольно равнодушно. Не получив своего клея, контрабас Гамба удалился, разочарованно покручивая колки. Гитарчик, которому не достались новые струны, горестно вздохнул и поплелся слагать печальные куплеты о том, каково это — остаться без подарка из-за границы. А те, кто ожидал Пина с возом банок сверхустойчивого лака, оккупировали крыльцо его дома и долго гомонили да балабонили, пока не появился внушительных размеров Мастер. Он, правда, несколько поубавил в росте и ширине плеч с момента, как попал в страну Музыкальных Инструментов, однако всё равно был на голову, а то и на две выше соседей Пина.
— Кого из вас мне починить? — невозмутимо поинтересовался он. Шумные Скрипки и суетливые Гобои, толпившиеся у дверей, мгновенно испарились. Никому из них не хотелось лечиться раньше времени.
Но пора было не откладывая приступать к делу: дирижер Баккетта угрожал, что если театр простоит без концертов еще неделю, то он, Баккетта, умоет руки. А без него театр уж точно развалится — и даже Рояльчик положение не спасет. Так что следовало действовать быстро.
Рояльчик кашлял малыми секундами и септимами, чихал грязными аккордами и представлял собой такое печальное зрелище, что волей-неволей прослезишься.
— А вот и мы, — объявил Пин, виновато заглядывая в зал, где, закутанный в наполовину съеденный шарф, стоял страдалец. — Мастер, приступайте.
…Мастер утверждал, что с Рояльчиком он провозился всего-то четыре часа. Но, по собственным подсчетам Пина, настройка длилась ни много ни мало полдня.
— Что это за странные железяки вы использовали, когда меня лечили? — спрашивал у Мастера Рояльчик. — Они съедобные?
— Даже и не думай, — назидательно говорил Пин. — Если ты слопаешь его инструменты, как он остальных чинить будет?
Возвращение Рояльчика стало настоящим праздником для оперного оркестра и вызвало шок у злющего Треугольника. Как так? Рояль, которому ты столько лет рыл яму, вдруг взял и заявился в театр, да еще под звуки торжественного марша! Не для того он, Треугольник, разрабатывал хитроумные планы, не для того восхищался своим злодейством. Но ничего не попишешь. Все ликовали, и ему пришлось ликовать. Так, для виду. В действительности же он опять изобретал хитроумный план. Но этот план провалится, как и все прочие его планы. И однажды Треугольник наверняка поймет, что он не такой уж и злющий и что ему вполне под силу делать добрые дела.
Написание сонаты для пианино и барабана заняло у Мастера целых трое суток просиживания за Рояльчиком — с карандашом и нотной тетрадью. Он почти ничего не ел и совсем мало спал. Иногда к нему заглядывала Адель — чаще всего посреди ночи. Ругалась, что он себя в могилу сведет, что о здоровье думать надо. Но Мастер был тверд, как скала. Только просил принести кофе, да чтобы покрепче. Он проигрывал мелодию, после чего, весь в испарине, хватался за карандаш. А потом снова проигрывал — и снова увлеченно строчил в своей тетради. Поглядели бы на его старание Пин и Бар!
Но Пину и Бару было некогда. Они, как угорелые, носились по городу и скупали все возможные вкусности, чтобы организовать праздничный стол в честь возрождения оперного театра. Дирижер Баккетта за ними едва поспевал. Он хотел лично проконтролировать этих «сорви-голов»: вдруг, чего доброго, обнаружится на застолье древесный паштет или консервированные стружки.
Когда соната была, наконец, готова, явились заказчики: Бар скептически оглядел Мастера, скептически пробежался глазами по нотам в тетради и вроде бы остался доволен. А Пин своего восторга не скрывал.
— Вот это вещь! — восхитился он. — Необычная!
— Даже слишком, — подхватил Бар. — Знаете что, надо нам сперва потренироваться на слушателях неискушенных. На какой-нибудь отдыхающей публике.
Отдыхающую публику они застали в главном парке города — она, то есть публика, бренчала на все лады, гудела, пищала и налегала на коктейли.
— То, что доктор прописал, — одобрительно сказал Бар, и они с Пином взошли на помост.
Первые звуки сонаты произвели на расслабленную публику странный эффект: у стоящего рядом с подмостками задиристого Саксофона задергался глаз, и забияка нечаянно выплеснул содержимое своего стакана на пожилого Баяна с жиденькой бородкой. Баян взбунтовался (это был тот самый Баян-выпивака, который считал себя защитником правды и защищал ее так неумеренно, а главное, неумело, что уже до смерти надоел всем в округе).
— Молодежь! — гневно прошамкал он. — Артисты! Пришли, понимаешь, шо швоими новшествами. Народ тормошат. Нечего нас тормошить! Мы и шами потормошимся, когда нужно.
— А по-моему, весьма даже недурно, — заметил стоявший поодаль Кларнет-интеллигент. — И напоминает джаз.
— Катитешь вы шо швоим джазом! — хрипло крикнул Баян. — Долой!
— Прочь! Долой! — стала вторить толпа. Кто-то швырнул в Бара тухлый помидор.
— Вот так номер! — рассердился Бар, избавляясь от остатков помидора, который шлепнулся прямиком на его начищенные тарелки. — Если уже здесь возмущаются, то как, в таком случае, отреагируют театралы?
Эпилог
Бар решил — и Пина убедил в том же, — что творение Мастера они представят миру, что бы там ни кричали всякие Баяны-грубияны. Позор позором, а проявить уважение — важнее.
— С Мастера, небось, семь потов сошло, — говорил Бар, задумчиво облокотившись о столик кофейни. — А мы, кайраки неблагодарные, нос воротить будем? Э, нет, приятель. Раз уж напросились, по окопам прятаться поздно.
— Напросился, между прочим, ты, — заметил Пин. Он прихлебывал из чашки антимоль и время от времени поглядывал на большие часы над барной стойкой. Чтобы собственное выступление не проворонить. — Но я провала не боюсь. Я боюсь, что Мастер может расстроиться. Он, как-никак, на концерте присутствовать будет.
— Это да, — вздыхал Бар. — Но, думаю, наши слушатели посдержаннее отдыхающих. Всё-таки, элитное общество.
На концерт в честь возрождения театра Мастер пришел вместе с Адель. Адель в театре, да еще столь богато убранном, оказалась впервые. Она глазела по сторонам, без умолку восхищаясь всем подряд. Сановитые Виолончели и надутые Тубы шикали на нее и просили не мешать.
Аудитория в зале шелестела таинственно и заговорщически. А Бар с Пином стояли, зажмурившись, на сцене.
«Вот, сейчас — первый такт, — волновался Бар. — Давай же, Пин, не трусь! Не подводи Мастера. Он ведь так трудился — из кожи вон лез, чтобы сочинить для нас эту сонату, будь она неладна!»
Пин играл стиснув зубы и обливался смолой не меньше, чем Мастер обливался потом. Напряжение витало в воздухе, и казалось, что возгласы «фу!», «долой!» и «вон со сцены!» вот-вот сорвутся с уст. Праздник сейчас зависел только от того, как примут сонату слушатели. Потому что если они, недовольные, разбредутся по домам, то никакого пира на весь мир не состоится. И театр больше никогда не будет таким популярным, как прежде.
Участники оркестра наконец-то покинули холодную Яму и, повязав черные бабочки, заняли места в первом ряду. Треугольнику бабочку прицепить было некуда, поэтому он раздобыл где-то черную шляпу-цилиндр и совершенно в ней утонул, посверкивая из-под полей злющими глазками.
Пин смог свободно вздохнуть лишь на последнем аккорде. Хотя аккордом это, по правде говоря, назвать можно было с натяжкой. Непонятное переливчатое трезвучие.
«Интересно, что припасли дамы-Скрипки и бароны-Тробмоны для таких „виртуозов“, как мы? — подумал Пин. — Если меня сшибут с ног кочаном капусты, я всем буду говорить, что вмятина у меня на деке осталась от игры в баскетбол».
Зал молчал, и молчал подозрительно долго.
— Давай-ка, пока они не спохватились, смоемся за кулисы, — шепотом предложил Бар.
Эта идея пришлась Пину по душе. Но едва он приготовился «смываться», как зал взорвался аплодисментами.
«Прямо как на войне», — подумалось Бару. Только на сей раз взрыв неприятностей не сулил.
— Браво! Браво! — кричали со всех сторон. Мастер, опьяненный успехом, хлопал сам себе и даже вслух хвалил себя за находчивость.
— Ну, я молодец! Ну, молодчина! Недаром три дня потел!
На сцену сыпались цветы, а кто-то особо изобретательный пустил в ход хлопушки с конфетти и серпантином. Оперный театр возрождался…
Много чего могли бы порассказать о том знаменательном дне Пин и Бар. Бар, например, упомянул бы о тортах со смазочным кремом. А еще он непременно бы похвастался, что его взяли в оркестр и что он отныне не Барабан-инспектор, а Барабан-ударник. Главный из всех Ударных! У чувствительных дам от его невообразимых ритмов будет кружиться голова. А у разнеженных лежебок и дармоедов — сердце уходить в пятки. Конечно, только в том случае, если эти лежебоки и дармоеды посмеют сунуться в театр.
А Пин мог бы, наверное, вспомнить, как они выдворили из своего домика сварливую старуху-Бандуру и как искали потом с лопатами коллекцию дядюшки Клавесина, закопанную на заднем дворе.
К Пину и Бару на огонек часто заходил Рояльчик, и они, бывало, до самой ночи обсуждали, как лучше играть то или иное место в партитуре. А поутру их, задремавших, будило многоголосое пение Дудуков.
И всё бы хорошо, если бы не потянуло друзей на новые приключения.
Правда, это уже совсем другая история.


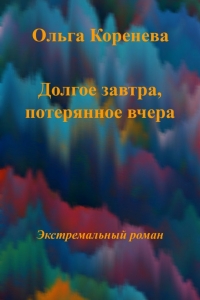




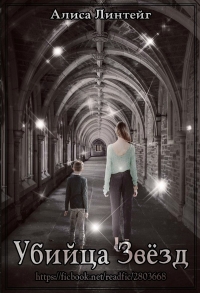


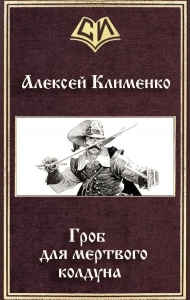
Комментарии к книге «Соната для Пина и Бара», Юлия Андреевна Власова
Всего 0 комментариев