Трамвай без права пересадки
Судьба моих вещей
Случилось так, что я отстал от поезда.
В Штрабахе я вышел на вокзал, чтобы дать телеграмму супруге. Как выяснилось потом, часы мои отставали на четыре минуты, поэтому пока я стоял в очереди у почтового окошка и думал, что у меня ещё масса времени, мой поезд ушёл.
Начальник вокзала успокоил меня, сказав, что я смогу уехать следующим экспрессом, через четыре часа.
— Я передам начальнику вашего поезда, — сказал он, — что один из его пассажиров отстал. Так что проводник побеспокоится о ваших вещах, они будут в целости и сохранности, не волнуйтесь на этот счёт. По приезде в пункт назначения вы сможете получить их в бюро находок.
Меня смутила подобная перспектива. Дело в том, что я не очень находчив, не люблю всяческих мелких бытовых неурядиц и неприятностей. Я не отличаюсь твёрдостью характера, необходимой для строгого разговора с теми же, например, вокзальными служащими, случайно потерявшими мой багаж. А такое уже случалось. Но тогда рядом со мной была моя жена.
В общем, самым неприятным в сложившихся обстоятельствах была утрата вещей и необходимость некоторых непростых шагов по их возвращению. Тем не менее, я поблагодарил начальника вокзала и стал думать, как мне провести время.
Я много слышал о красотах Штрабаха, поэтому вариантов времяпрепровождения у меня было ровно один — пешая прогулка по Штрабаху, поездка в его знаменитом трамвае и чашечка кофе в одном из его не менее знаменитых кафе.
Осуществлению моего непритязательного плана мешало только одно — заунывный дождь, который моросил и моросил, а всё небо было затянуто серой студенистой массой туч до самого горизонта. Впрочем, дождь никогда не пугал меня, я люблю дождь. А красо́ты такого города как Штрабах несомненно только выигрывают, если ими любоваться вот в такую погоду. Воображение живо рисовало мне узкие улочки, мокрые мостовые, в лужах которых отражаются изящные фонари, свет в окнах, за которыми идёт своим чередом уютная размеренная жизнь провинциального городка: хозяйка хлопочет на кухне, готовя ростбиф и черничный пирог; хозяин сидит у жаркого камина с трубкой во рту и газетой в руках; их миловидная дочь–гимназистка штудирует в своей по–девичьи милой комнатке французские глаголы… Ах, как мне захотелось немедленно увидеть всё это!
И я отправился, несмотря даже на то, что зонт мой покинул Штрабах вместе с остальными вещами. Что ж, подумал я, куплю себе новый в ближайшем же магазинчике. Заодно познакомлюсь с его хозяйкой, которая наверняка пригожа, немного картавит, и несомненно захочет провести полчаса за ни к чему не обязывающей болтовнёй с заблудившимся проезжим.
Моим тихим, согревающим душу планам не суждено было сбыться, потому что буквально после второго поворота я заблудился. Это моя характерная черта — я совершенно не умею ориентироваться в пространстве. Ругая себя за то, что не сел в трамвай, излишне положившись на свои способности к блужданию по незнакомым городам, я петлял и петлял по однообразным улочкам, в которых уже загорались фонари, несмотря на то, что было ещё совсем светло, хотя и пасмурно. Дождь не переставал, а зонта у меня по–прежнему не было, как не видать было и ни одного открытого магазинчика, в котором ждала бы меня пригожая и утомлённая бездельем хозяйка с лёгкой картавинкой во рту. Вот так банально и обыденно разбиваются в прах самые даже непритязательные человеческие мечтания.
И тут в очередной узкой улочке, в которую я повернул, произошла неожиданная и в некотором роде судьбоносная встреча.
Господин пожилого возраста с трудом волочил по мостовой, держа его под мышки, другого господина, у которого я смог на первый взгляд рассмотреть только бородку, торчащую к небу, да покосившуюся шляпу на безвольно откинутой голове.
— Рановато же он напился, — улыбнулся я, приподнимая шляпу и стараясь придать голосу больше шутливости, чтобы меня не поняли неправильно. — Только не подумайте, что я говорю это в укоризну, — добавил я на всякий случай.
— Да я и не думаю, — пропыхтел господин, который, кажется, был рад возможности передохнуть, возникшей у него благодаря моему появлению. — К тому же он не напился.
— А что с ним? — полюбопытствовал я.
— Он мёртв, — отвечал господин и представился, приподняв шляпу: — Торф. Франц Иоахим Торф. С кем имею честь?
Я назвался. И поспешил выразить своё удивление:
— Мёртв, вы сказали? Мне не послышалось?
— Вам определённо не послышалось, — улыбнулся господин Торф. — Этот господин мёртв. Уже не менее двух часов кряду, я думаю.
— Вот как… — я не нашёлся, что сказать. Я впервые попадал в такую ситуацию и не знал, что принято говорить в подобных случаях.
— Вы только не подумайте, что это я убил его! — забеспокоился господин Торф.
— Что вы! — удивился я. — У меня нет никаких оснований подозревать вас в чём–либо.
— Да, это верно, — согласился он. — Не знаю, почему он пришёл умереть именно в моём доме.
— То есть… — опешил я. — То есть, вы хотите сказать, что он умер у вас в доме?
— Именно это я и сказал, молодой человек, — подтвердил господин Торф. — Когда я пришёл домой, он сидел в кресле у камина, совершенно мёртвый, вот как сейчас. Только тогда он был значительно суше. Дождь, — и господин Торф осуждающе покосился на небо. — Этот дождь льёт уже третий день почти без остановок, — посетовал он.
— Но… — растерялся я, — но вы уверены, что пришли в свой дом, а не, предположим, в его?
— Да что вы, молодой человек, — улыбнулся господин Торф. — Я же не умалишённый, как вы, похоже, подумали. Конечно я пришёл к себе домой. А он, — господин Торф кивнул на тело, — сидел в кресле у камина. Мёртвый. Наверное, незадолго до того он курил сигару, потому что у его ног валялся окурок, а брюки были усыпаны пеплом. «Эй, Марта, — спросил я жену, — ты что, давала ему мою сигару?» Марта — это моя жена, — добавил господин Торф, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений на этот счёт. — «Нет, — сказала она, — он курил свою».
— Но позвольте, — оживился я. — Значит, это ваша жена впустила этого господина?
— Ниппельмана? — господин Торф посмотрел на тело. — Ну да, а как бы ещё он мог войти ко мне в дом — ключа–то у него не было.
— Так вы его знали? — спросил я.
— Нет, с чего вы взяли, — пожал плечами господин Торф.
— Но вы только что сказали — Ниппельмана.
— Я совершенно его не знал, — покачал головой мой собеседник. — Но все звали его господин Ниппельман. Да, все именно так его и звали. Моя жена так и сказала, когда я пришёл: «Тебя дожидается господин Ниппельман». «Что ему надо?» — спросил я. «Не знаю, — ответила она. — Он сидит уже часа два, у камина». «Ты предложила ему выпить?» — спросил я. — «Он отказался», — отвечала супруга.
— Ах, вот как, — кивнул я. — Теперь понятно.
— Вам понятно? — произнёс господин Торф. — А мне вот совершенно непонятно, почему он пришёл умереть именно ко мне.
— Ну, может быть, у него это вышло непреднамеренно, — предположил я в оправдание господина Ниппельмана.
— Надеюсь, что так, — согласился мой собеседник. — Не хотелось бы думать о нём плохо.
Пока мы так беседовали, дождь не только не ослаб, но даже и набрал силу, так что я чувствовал себя совершенно промокшим и уже начинал жалеть о своей прогулке. Хотелось побыстрей сесть в тёплый и сухой трамвай, доехать обратно до вокзала и взять себе комнату в гостинице. А осмотр достопримечательностей города Штрабаха отложить на следующий раз. Быть может, на обратном пути я специально сойду в Штрабахе, чтобы ненадолго затеряться в его тихих улочках.
А ещё меня беспокоила судьба моих вещей, оставшихся в поезде, и та нелёгкая битва с железнодорожной бюрократией, которую мне вероятно придётся выдержать.
— Да, — сказал я тоном, который давал понять господину Торфу, что я, кажется, заболтался с ним и должен идти дальше по своим делам, — но что же вы намерены делать с… телом?
— Как это что, — пожал плечами господин Торф. — Похоронить конечно. А что ещё принято делать с мёртвыми?
Вопрос был сугубо риторическим, поэтому я только покивал головой с глубокомысленным видом и приподнял шляпу, готовясь проститься.
— Послушайте, — внезапно обратился ко мне господин Торф с некоторой горячной поспешностью, — а вы не поможете мне? Признаться, я уже не в том возрасте, когда способен был вот так запросто тягать мёртвые тела на любые расстояния.
— Хм… — произнёс я, несколько, признаться, ошарашенный. — Хм…
Но он смотрел на меня с такой надеждой и мольбой, что я просто не мог не сказать:
— Ну что ж… У меня ещё есть немного времени… У меня, видите ли, поезд… Я проездом здесь, случайно отстал от своего поезда и… А что самое неприятное — мои вещи остались в купе, и теперь… В общем, почту за честь немного вам пособить.
Я совершенно не умею отказывать людям в просьбах. Жена говорит, что это признак моей слабохарактерности. Может быть.
Господин Торф горячо поблагодарил меня и предложил взять покойника за ноги. Я взялся и мы понесли.
— А далеко ли ещё до кладбища? — спросил я после того как мы прошли пару улиц.
— Кладбище у нас в пригороде, молодой человек, — кряхтя отозвался господин Торф. — Довольно далеко, да.
— Так может быть, — осторожно предложил я, — нам лучше взять такси? Вы не подумайте, что я устал — нисколько, — добавил я, чтобы не обидеть его, — но похоже, что вы несколько утомлены ношей.
— Весьма утомлён, признаться, — не стал отнекиваться господин Торф. — К счастью, мы не понесём его на кладбище.
— Не понесём на кладбище? — удивился я.
— Нет. В нашем городе не принято хоронить самоубийц вместе с остальными покойниками. А в том, что господин Ниппельман покончил жизнь самоубийством у меня нет никаких сомнений. Поэтому мы похороним его у насыпи.
Говорил всё это господин Торф отрывисто, его утомлённые частым дыханием лёгкие то и дело требовали передышки и глотка свежего воздуха.
— У насыпи? — переспросил я — признаться, не столько для того, чтобы уточнить, сколько для того, чтобы осторожно выяснить, далеко ли ещё идти.
— У насыпи, молодой человек. Это совсем рядом, вон за теми домами, у железной дороги.
У него был такой утомлённый несчастный вид, а я почувствовал такой прилив сил оттого, что идти осталось совсем немного, что мне стало жаль его и я предложил ему отпустить руки господина Ниппельмана — дальше, мол, я донесу его один.
— Спасибо, молодой человек, — поблагодарил господин Торф. — Вы очень любезны. В наше время молодые люди редко бывают столь любезны.
Воодушевлённый его незатейливой благодарностью, я взвалил тело на спину и понёс. Было тяжеловато, но я улыбался, когда господин Торф участливо заглядывал мне в лицо и спрашивал: «Вам не тяжело?»
Гораздо хуже было другое: мало того, что я и сам весь промок, так ещё и с мокрого господина Ниппельмана на меня низвергались буквально потоки холодной воды. А перед глазами моими стояла любимая ручка с золотым пером, оставшаяся там, в поезде, вместе с другими вещами. Каково–то мне будет без этой ручки! А ведь это был подарок жены.
Надо сказать, я довольно легко простываю — просто необычайно легко. Стоит мне побыть несколько минут на сквозняке или оказаться под проливным дождём без зонта, — всё, можно считать, что ближайшие дни я проведу в постели, с градусником под мышкой, с тёплым шарфом на шее, и Мадлен — это моя супруга — будет отпаивать меня горячим чаем с лимоном и пичкать всевозможными снадобьями. Вот кому мои простуды в радость, так это моей жене: она, хлебом не корми, любит кого–нибудь выхаживать. Собственно, мы с ней и поженились после того, как она неделю выхаживала меня после очередной простуды.
Вот и сейчас я уже чувствовал, как в горле першит, а где–то внутри меня разгорается пожар.
— Вам не тяжело? — в очередной раз участливо вопросил господин Торф. — Быть может, хотите передохнуть?
— Нет–нет, — отвечал я, — нисколько не тяжело. Господин Ниппельман был на удивление лёгкий человек.
— Да, — согласно покивал господин Торф. — Все говорили, что когда он умрёт, хоронить его будет нетяжело, потому что господин Ниппельман отличался на редкость лёгким, сговорчивым, покладистым характером. Говорят, тяжелы в гробу те, кто много грешил.
— Забавно, — сказал я и чихнул. — Наверное, так оно и есть.
Когда мы наконец добрались до насыпи, я был уже буквально измождён усталостью и разгорающейся во мне простудой.
— Бог ты мой! — воскликнул я, сражённый внезапной мыслью. — У вас же нет при себе лопаты!
Мне даже представить себе было жутко, что сейчас господин Торф всплеснёт руками, засуетится, и после тысячи извенений побежит домой за лопатой, а я буду битых полчаса мокнуть здесь, у насыпи, рядом с телом господина Ниппельмана.
— Зачем бы я нёс с собой лопату, — до странности спокойно отозвался господин Торф. И улыбнулся, показывая мне на инструмент, валявшийся у самых шпал железной дороги. — Тут часто кого–нибудь хоронят, — пояснил он, — поэтому лопата лежит здесь всегда.
— Замечательно! — не удержался я от вздоха облегчения.
Лопата была всего одна, поэтому работа шла не споро. Могилу копал, конечно, я, поскольку господин Торф едва держался на ногах от усталости, да и к физической работе был, кажется, не очень приспособлен. Копать было трудно, потому что непрекращающийся дождь глубоко промочил землю, и она тяжёлыми комьями налипала на лопату. К тому же было скользко и мокро, а вдобавок стремительно темнело. «Не опоздать бы на поезд ещё раз», — думал я, работая без остановки и только ежеминутно чихая.
— Завидую я вам, — вздыхал иногда господин Торф. — Вашей молодости, силам… Столько времени нести тело, а потом ещё и с такой энергией копать могилу… Эх, были ведь и у меня годы!..
Я улыбался его грустным тирадам и чувствовал, что вот–вот рухну от усталости в выкопанную могилу, и господин Торф засыплет меня землёй вместе с господином Ниппельманом.
Время тянулось медленно, яма почти не увеличивалась, но к чести господина Торфа следует сказать, что это не вызывало у него никакой досады, он не сердился на мою нерасторопность и то и дело интересовался, не устал ли я, и предлагал отдохнуть. А я копал и думал о своих вещах — не забыл ли начальник вокзала связаться насчёт них с начальником поезда. А может быть, лучше было бы, если бы он забыл… Тогда отпала бы необходимость объясняться со всем этим сонмом железнодорожных служащих…
Наконец, могила была готова. Мы взяли окончательно промокшего господина Ниппельмана (слава богу, простуда ему уже не грозила) за руки и за ноги и как могли осторожно опустили тело в место его вечного упокоения.
Закапывание могилы прошло значительно быстрее, потому что господин Торф как мог помогал мне, ногами сталкивая комья и целые пласты мокрой земли и грязи вниз.
— Надо бы как–то отметить могилу, — сказал я, когда с делом было покончено. — Потом вы, наверное, положите сверху плиту или поставите памятник, но чтобы не потерять могилу надо что–то придумать.
— Да просто воткните в изголовье лопату, — с лёгкостью нашёлся господин Торф.
И правда! Я подивился его находчивости и сделал как он сказал. Но сначала мы кое–как отскребли лопатой наши туфли от налипшей грязи.
Потом господин Торф прочитал над могилой молитву и сказал краткую речь: «Покойтесь с миром, господин Ниппельман. Я не сержусь на вас за то, что вы решили покончить с собой в моём доме».
Я посчитал себя обязанным тоже сказать пару слов о покойном, но я, к сожалению, ничего о нём не знал, поэтому вымолвил только: «Надеюсь, вы не в обиде на меня, господин Ниппельман. Я старался как мог, но разве в такую погоду выкопаешь настоящую добротную могилу».
— Зря наговариваете на себя, молодой человек, — пожурил меня господин Торф. — Могила вышла отличная, я бы и сам был доволен такой могилкой.
Потом он как по волшебству извлёк из кармана тонкую фляжку и мы выпили по глотку доброго коньяку, после чего отправились восвояси. Господин Торф вызвался проводить меня до вокзала, и это привело меня в восторг, поскольку уже ощутимо стемнело, и я совершенно не представлял себе обратной дороги.
Через двадцать минут мы с господином Торфом раскланялись на площади. Он ещё раз поблагодарил меня за помощь и удалился.
А ещё через полчаса я сел на другой поезд и первым делом попросил у проводника горячего чаю и две таблетки аспирина.
Впрочем, чай и таблетки мне не помогли, а жены рядом не было, и к вечеру, под стук колёс, я умер в горячке от острой простуды.
В общем, я так и не знаю ничего о судьбе моих вещей, но теперь она мне безразлична.
Десять заповедей Лемке
Электрик Яков Генрихович Лемке, пятидесяти восьми лет отроду, имел философский склад ума, практически несовместимый с его профессией, поэтому был многоразно и чувствительно бит электричеством самых разнообразных напряжений и сил тока. Задумается бывало Яков Генрихович — ну, скажем, о смысле и роли вопросительного знака в литературе, как зеркале человеческого разума, — а электричество и радо.
Яков Генрихович на электричество философски не обижался, понимая, что каким бы ручным оно ни было, а всё же — дикость полнейшая.
Впрочем, речь не о том; оставим электричество его проводам и перейдём–ка непосредственно к сути.
Домострой Яков Генрихович решил написать как–то совершенно внезапно, после того, как его тряхнуло хорошо во время плановых работ на подстанции. Буквально потрясло. То есть, он по своему обыкновению задумался (в этот раз — над глубинной природой женской любви к чистоте) и забыл надеть перчатку. Электричество не дремало. Напарник–стажёр успел перехватить Якова Генриховича в его неконтролируемом отскоке к трансформатору, а не то был бы нашему электрику полный sic transit.
Вот после осознания того, чего ему удалось, благодаря милому юноше Костику, избежать, и решил Яков Генрихович как–то увековечить своё имя в памяти потомков, создать для них некую непреходящую ценность. Причём конкретика этой обтекаемой «ценности» родилась в его голове сразу — домострой. Ведь все беды людские — все эти разводы, конфликты поколений и прочие несчастия человеческие — исходят от недопонимания сути и смысла совместного проживания в одном доме, неверного осмысления взаимоотношений полов. И Яков Генрихович, побледнев от тёплого гудения трансформатора у самого уха и едва отойдя от удара, решил это осмысление и понимание людям дать.
Придя с работы, он наспех огорчил супругу плохим аппетитом, отказался от идеи выпросить у неё рюмочку клюквенной и поспешил уединиться в туалете–ванной. Нет–нет, никаких интимных подробностей мы описывать не собираемся. Просто туалет заменял Якову Генриховичу личный кабинет. Там он много курил и ещё больше думал; там, на стареньком унитазе, рождались едва ли не все его неординарные и порой парадоксальные мысли. Там, на стиральной машине, всегда лежала пара общих тетрадей в клетку, блокнот и ручка с карандашом. Воспользоваться листами из этих тетрадей для каких–то посторонних неблагозвучных целей приравнивалось к преступлению против философской мысли. Так же как и засунуть куда–нибудь пачку папирос «Беломорканал» или прилагаемые к папиросам спички.
Итак, уединившись в своём «кабинете», Яков Генрихович закурил и торопливо взялся за общую тетрадь в коричневом переплёте. Недолго думая, на новой странице он вывел печатными буквами заголовок «Домострой» и приписал ниже фамилию автора. Вышло хорошо. Некоторое время он сомневался, нужен ли предлог «по», то есть следует ли написать «Домострой по Лемке» или просто так. В конце концов он решил, что просто так будет благозвучней.
Следующей страницей стало оглавление. Оно далось Якову Генриховичу легко и непринуждённо. Первой главой явилось «Общее наставление к образу жизни, дабы во здравие своё прожить её». Повторив заглавие в начале новой страницы, философ отступил пару клеток и поставил жирную единицу.
Что есть домострой, Яков Генрихович представлял себе слабо, поэтому долго думал, прежде чем перейти от легко и быстро составленного оглавления к делу. Чернила в цифре «один» уж и высохнуть успели и поблекнуть, а он всё терзался неготовностью передать свои прозрения бумаге.
В конце концов, электрик собрался, поджал клеммы в характере, подёргал провода души…
И начал так.
Диавол входит в жену снизу, а исходит сверху. Посему, жена, всегда держи ноги и рот сомкнуты.
Начало было положено, и Якову Генриховичу оно показалось вполне себе благоразумным, конкретным и в то же время многозначным. Почувствовав прилив вдохновения, он торопливо записал следующую цифирь:
Диавол входит в мужа сверху, а исходит снизу. Посему, муж, чаще наказывай жену свою.
Получалось как–то больше похоже на евангелическую проповедь, но Яков Генрихович смущался этим не более полуминуты. Из–под пера его выходил уже следующий завет.
3. Питие определяет сознание, а посему знай меру.
Дух перехватило от грандиозности сего откровения. Даже рука задрожала на минуту, а на глаза навернулись слёзы. Яков Генрихович и не ожидал от себя такой прыти — знал, конечно, что человек он далеко не глупый и склонный к наблюдениям над законами жизни, но чтобы так…
«4. Грибы тоже употребляй вмеру, ибо чреваты они», — вывела его рука далее и почти без остановки, едва только дрожь улеглась. Яков Генрихович отрыгнул вчерашним вечерним переедом маринованных рыжиков, торопливо перекрестил рот.
А в голове его, грозя напряжением в триста восемьдесят вольт, уже искрила новая мысль и ложилась торопливой неровной строчкой вслед за цифирью «пять».
Там где поставишь розетку, там будет телевизор и жена твоя, посему, муж, отнесись к выбору места для розетки как к выбору места для жены своей.
Цифирь шесть прошла за пятой почти без остановки, хотя жадно, до дрожи в руках, хотелось раскурить новую беломорину.
Диавол сбирает рабов себе обольщением, посему, муж, чаще наказывай жену свою.
Пару минут Яков Генрихович благоговейно трепетал над этой сентенцией и припоминал обольщения, коими пытался поработить его диавол. Таки да, по всему выходило, что мысль родилась правильная и глубокая.
Седьмая цифирь зарождалась не так вдохновенно, и Якову Генриховичу пришлось выкурить две папиросы, а супруга его уже трижды намекнула, что туалет является общесемейным достоянием, а не принадлежит лишь мыслителю.
Как раз тут семёрка и явилась миру.
7. Чадо, прежде нежели сочетаться узами брака, вспомни мудрость, гласящую: замыкание — короткое, но иногда может оказаться длиннее жизни.
И следом:
8. Диавол не терпит любомудрия, посему муж, чаще наказывай жену свою.
— О господи! — донёсся из прихожей суровый голос супруги. — Дай мне сил вынести этого ирода кочерыжечного!
Яков Генрихович покачал головой.
«9. Никто не проси у Бога того, чего сам дать не можешь», — записал он споро.
Десятая цифирь отчего–то не пошла. Чтобы завершить главу, она нужна была, как десятая заповедь, без которой скрижаль не скрижаль, но переутомлённый мозговым штурмом Яков Генрихович чувствовал полное опустошение и совершенно напрасно грыз ручку.
— Ну ты долго сидеть–то будешь там, сыч ты окаянный?! — призвала супруга с подспудной нервозностью, которую уже не могла скрывать.
— Я сейчас, лапушка, — угодливо улыбнулся Яков Генрихович туалетной двери. — Уже иду, уже иду.
И быстро, спешными смазанными росчерками записал явившуюся десятку.
Диавол всегда у двери, а посему, муж, чаще наказывай жену свою.
Положив тетрадь на место и торопливым махом подразогнав беломорный дым, он тощим шагом покинул туалет, в который немедленно и бурно ворвалась супруга, пальнув на ходу в философа молниемётным взглядом. Другой на его месте был бы тут же испепелён одним этим многотысячевольтным ударом, но ведь незря Яков Генрихович подвизался на поприще электрических энергий.
Ночь он почти не спал — прислушивался к храпу супруги и думал вторую главу своего «Домостроя», в которой намеревался изложить для юношества основы симметрий и асимметрий в отношениях полов.
Уснул Яков Генрихович кое–как уже под утро. Ему снился диавол.
«Домострой» так и не был дописан, не был издан, потому что утром наступившего дня на подстанции продолжались профилактические работы, а Яков Генрихович как раз задумался о значении классического образования для укрепления института семьи. А может быть, он просто задремал после бессонной творческой ночи. Как бы то ни было, Костик не успел его перехватить.
А я так думаю, что ведь не зря снился мыслителю враг рода человеческого…
В общем, цельного кодекса не случилось, но его единственная глава обрела широкую известность, ходит ныне в списках и известна как «Десять заповедей Лемке». А я хотел лишь коротко рассказать о том, в каких борениях духа зарождался сей философский труд. Не многие философские труды могут похвастать столь драматичной историей своего создания.
Sic transit.
Потом была зима
* Снег *
Тот день начался снегопадом. Снег медленно и густо опускался с хмурого неба на Город, словно белый беспробудный сон.
Потом стали падать куры. В белой сумятице снежинок, пуха и перьев, в сутолоке и гвалте ошалевшие птицы падали с неба и тут же, громко квохча и хлопая крыльями, уносились по первому снегу в сторону птицефабрики. Конвейеру в тот день пришлось потрудиться.
К полудню резко похолодало. И тогда птицы стали падать замороженные — тщательно упакованные в целлофановые пакеты с маркировкой «Doux».
Люди в улыбчивых масках комедии вышли на улицы с корзинами, хозяйственными сумками и мешками.
У многих семейств была в тот день курятина на обед. Многие, однако, не дожили до обеда, попав под куропад.
«А что, зима — не такое уж скверное время», — говорили люди, собирая урожай курицы, и маски их улыбались ещё шире.
«Да–да», — говорили они.
А дети смотрели на куропад и не улыбались — у них не было масок, потому что они ещё не умели их носить.
Похороны
На кладбище хоронили трамвай. Это был последний городской трамвай, очень старый, очень заслуженный и очень красный, с жёлтой крышей. Большинство считало, что он умер своей смертью, от старости, но поговаривали и так, будто его убило особо большой куриной тушкой. Отрикошетив от трамвая, говорили они, тушка травмировала ещё и двух людей, что стояли на остановке.
При жизни старый трамвай всех доводил до белого каления своей скрипучей медлительностью, необязательностью, несносным характером и крикливыми кондукторами. Но теперь все остро ощущали горечь утраты и не стыдились слёз. Слёзы вытекали через прорези для глаз в масках трагедии и струились по картонным щекам. От этого многие маски размокли, так что горожанам, особо самозабвенно предавшимся скорби, пришлось досрочно покинуть траурную церемонию. Их утешало то, что они могли посмотреть её в вечерних новостях.
Мэр Города говорил речь. Он говорил о том, что с уходом последнего трамвая жизнь не кончается. С доброй улыбкой, — говорил мэр, — трамвай будет смотреть на нас с небес, благословляя Город и его горожан, а также автобусы, троллейбусы и велосипеды.
Речь была долгой, а крупный пушистый снег всё падал и падал, так что к концу церемонии из могилы уже не видно было жёлтой трамвайной крыши.
Наконец все слова были сказаны, и люди в масках трагедии потянулись скорбной процессией мимо могилы, чтобы бросить на тело усопшего горсть земли.
«Вот и умер наш старый трамвайчик», — вздыхали люди.
«Да–а–а… Но пожил он хорошо, обижаться на бога ему было бы грех», — кивали они.
И ещё они говорили: «Только в такие дни и замечаешь, что время не стоит на месте».
А дети ничего не говорили и только плакали. Они очень любили трамвай.
* Снег *
Снег продолжал идти и после полудня, когда из окон потянулись ароматы куриного бульона, цыплят табака, куриной лапши, хе, курников и ещё много чего из того, что может предложить Большая Поварённая Книга, раздел «Блюда из курицы». Сугробы подступали к карнизам первого этажа, заглядывали в окна, переползали с места на место и шептались, шушукались.
В переулке Энтузиастов лавина, сошедшая с крыши бани № 1, накрыла двух лыжников. Они стали легендой.
У торгового центра сугробы загнали автобус девятого маршрута и замуровали в нём полтора десятка пассажиров. Пассажиры грустно смотрели в заиндевелые окна на пустынную площадь, на белое безмолвие, и взгляды их не находили утешения.
Бродили слухи, что на окраинах видели йети. Якобы он попросил закурить у рыбака, дремлющего возле лунки.
После обеда пили чай. А снег всё шёл.
Люди выглядывали в окна и говорили: «Ты посмотри, как сразу — мигом — началась зима».
«Да, — говорили они, — такого снегопада давно не знали здешние места».
А дети ничего не говорили — отказавшись от чая, они играли в снежки и лепили снеговика. Лицо у снеговика выходило хмурое. Наверное, у него было предчувствие, что зима ещё и не начиналась. А может быть, у него просто резались зубы.
Персы
После чая с неба начали падать персы, и это было уже настоящее стихийное бедствие. В руках персы держали персики, персиками были набиты карманы пёстрых халатов, в каждой чалме было спрятано по дюжине персиков. Длинные тощие бороды нервически подёргивались, когда персы недовольно смотрели на снег и раздражённо ругались. Персики выпадывали из переполненных карманов и жёлтыми солнышками катились по улицам, набирая на себя липкий снег и становясь большими колобами. Дети собирали колобы для сотворения новых снеговиков. А персы выспросили у прохожего дорогу на рынок и, гомоня по–персидски, шумной толпой двинулись в указанном направлении по переулку Энтузиастов.
До рынка, говорят, они так и не дошли. И больше их никто не видел.
Переулок Энтузиастов был переименован в Фермопильский проезд, а баня № 1 стала персидскими банями хаммам.
«Странные люди персы, — говорили горожане, — с этой их идиотской привычкой говорить по–персидски».
«Да уж», — говорили они.
А дети слепили множество снеговиков. Почему–то все они были похожи на персов в чалмах.
Люди в засугробленном автобусе смотрели на снеговиков сквозь заиндевелые окна и им было холодно. Они пели грустную песню. У них не оказалось при себе трагических масок, и улыбчивые маски комедии в замерзающих окнах, на фоне грустной песни, выглядели странно и особенно зябко.
* Снег *
А снег всё шёл и шёл, шёл и шёл, шёл и шёл…
И вместе с ним дело шло к ужину. В пе́чи закладывались дрова. Размораживались куры. Нарезалась лапша.
На войну со снегом вышел отряд из семи снегоуборочных машин под командованием заместителя мэра по благоустройству.
Громко сигналя, поблескивая отвалами, машины ринулись в бой. В первую минуту казалось, что сопротивление снега будет сломлено, но сугробы ответили неожиданным ударом с флангов и вылазкой в тыл. Машины были окружены и заблокированы, водители взяты в плен, начальник по благоустройству вместе с женой пропал без вести. Говорят, их видели на Ривьере.
Люди, собравшись в сторонке, наблюдали за сражением, курили и качали головами.
«Не так–то он прост, этот снег», — говорили они.
И ещё они говорили: «А у нас на ужин куриные тефтели».
А дети воевали со снегом — они расстреливали сугробы залпами снежков.
Балерины и овсянка
После ужина с неба посыпались балерины. Поговаривали, что над городом, из–за снегопада, потерпел крушение самолёт, перевозивший балетную труппу на гастроли.
Балерины легко опускались на снег, делали па и фуэте и тут же замерзали, потому что были в одних пачках и балетках на босу ногу.
Те, кто ещё мог выйти из своих домов, выходили, чтобы собрать окоченевшие тельца, замершие на снегу в разных балетных позах, и принести их домой. «Вот, дети, — говорили они детям, — смотрите, это настоящая балерина. Видите, какая она вся худенькая и холодная? Это потому, дети, что она тоже отказывалась по утрам от овсяной каши». Дети смотрели на замёрзшие тела и в глазах их читалось обещание полюбить овсянку.
Самые сообразительные лавочники выставили найденных балерин в витринах своих магазинов — вместо манекенов. Это наверняка подняло бы посещаемость и продажи, если бы не снег.
«Как ей идёт эта шляпка!» — восторгались люди, разглядывая балерину–манекен.
«Ты купишь мне такую же?» — спрашивали они.
А дети пачками лепили снеговиков в пачках и учили их танцевать танец маленьких лебедей.
* Снег *
Снег шёл без передышки, и даже на близкую ночь ему, кажется, было наплевать.
Люди уже не выходили на улицу, потому что не могли открыть двери. Самые отчаянные выбирались через печные трубы, чтобы добежать на лыжах до универсама. Но универсам не работал. Они бежали до универмага, но и универмаг не в силах был распахнуть перед ними свои гостеприимные двери. Тогда люди в панике направлялись к ТРЦ «Парус», но выяснялось, что торговый центр захвачен снеговиками в пачках и чалмах, и несколько человек были взяты ими в заложники. Тогда некоторые, доведённые до отчаяния, брали ружья и уходили в лес, на охоту. Никто из них не вернулся. Впрочем, говорили, что был один, который вернулся, но позже выяснилось, что он и не уходил. Потом поймали ещё одного вернувшегося, но то оказался йети и его пришлось отпустить.
Сугробы росли и росли, так что вскоре город покинули все птицы, потому что им не на чем было сидеть — деревья утонули в снегу.
«Что–то снег разошёлся не на шутку», — говорили люди.
«Хорошо, что мы живём на девятом этаже», — говорили они.
«А снег поднимется до неба?» — спрашивали дети. И не получали в ответ обычного «да ну тебя с твоими дурацкими вопросами», потому что взрослые наконец–то поняли, что на самом деле у детей не бывает дурацких вопросов. «Интересно, что будет, если снег поднимется до неба?» — думали они.
Труба
Город медленно впадал в зимнюю спячку. Только высотки в холмистом новом микрорайоне ещё таращились на белое безмолвие глазами–окнами в шестнадцатых этажах.
Самым высоким строением в городе была стометровая заводская труба. По решению мэра трубачи из городского духового оркестра трубили в неё день напролёт, подавая сигнал бедствия. Однообразные звуки SOS очень быстро надоели горожанам, и тогда, по требованию общественности, трубачам было велено расширить репертуар. Теперь труба играла утром «Пробуждение», в течение дня то «На сопках Манчжурии», то «Полёт шмеля», то «Адажио», то ещё что–нибудь, на заказ, а по вечерам — «Спи, моя радость, усни».
Однако, над городом последнее время не пролетал ни один самолёт, так что никто не мог услышать этот зов.
«Это же надо, какая снежная нынче зима!» — сетовали люди, пробираясь холодными и тёмными подснежными туннелями на маскарад у Новогодней ёлки, устроенной под сугробами на Главной площади, и поверх жизнерадостных комедийных масок на их лицах золотились домино.
«То ли ещё будет», — многозначительно кивали они, танцуя под заводскую трубу Венский вальс.
А дети продолжали верить в деда Мороза и ждали Нового года с подарками.
* Снег *
Вскоре уже и самые высокие крыши и заводская труба скрылись под белыми завалами, а снег всё шёл и шёл. Откуда–то прилетел сильный ветер, и позёмка вылизала своим языком всё вокруг, так что место, где был похоронен Город, уже ни за что нельзя было отличить от любого участка Западно—Сибирской равнины.
Были зима, мороз и тишина. И только песочные часы на башне ратуши шуршали, отмеряя быстрые дни и долгие ночи.
Но однажды они остановились.
И наступила вечность.
Черта
Вчера её не было, — Глеб помнил совершенно точно, потому что каждый день ходил этой дорогой в булочную и на работу. Совершенно определённо выходило, что линия появилась в период с после ужина вчерашнего дня до после завтрака сегодняшнего. Она делила тротуар на две неравных половины; не было видно ни начала её, ни конца. Белая краска уже успела высохнуть за ночь.
«Странно, — подумал он. — Что это за новшества?»
Прохожие, кажется, тоже обращали внимание на невесть откуда взявшуюся полосу. По крайней мере, они опасливо косились на неё и старательно держались правой половины тротуара.
«Да, очень странно… А интересно, что будет если…» — Глеб даже похолодел при мысли о том, как заступит за черту, а из–под мышки стекла по рёбрам щекотная струйка.
«Нет, но всё же странно. Что это за новшества?» — вернулась назойливая мысль.
Какая–то женщина предпенсионного возраста остановилась рядом, тоже уставилась на белую линию.
— Вот так, — сказала она с призвуком таинственной конспирологической опаски в голосе. — Урезали.
— Что? — не понял он.
— Жизненное пространство, — добавил мужчина в шляпе — кажется, супруг той женщины.
— Надо заступить за неё, — сказал Глеб.
— Да избави вас бог! — прошептала женщина. — Они же ни перед чем не остановятся.
— Кто? — перешёл на шёпот и он.
Но женщина уже уходила. За ней неловкой походкой направлялся её супруг. Они жались к бордюру и, кажется, старались не смотреть на линию.
Какой–то мальчик лет пяти хотел было играючи поставить на полосу ногу, но встревоженная мать так дёрнула его за руку, что ребёнок едва не упал.
— Это тест, — улыбнувшись, сказал проходящий мимо мужчина.
— Тест? — удивился Глеб.
— Ну да, — мужчина остановился. Кажется, он был непрочь поболтать. А глаза его как–то сухо и лихорадочно блестели. — Знаете, на склонность к психастении.
— Не знаю.
— Ну это же элементарно. Вопрос: «Стараетесь ли вы не наступать на трещины в асфальте?» Или: «Пересчитываете ли вы голубей, прежде чем пересечь площадь?»
— Глупость какая, — недоверчиво помотал Глеб головой.
— И тем не менее. Говорю вам: это тест.
— Но откуда вы знаете? У вас психастения?
Мужчина нервно дёрнул головой и обиженно удалился.
«Но всё же хотелось бы знать, что это за новшества? — подумал Глеб. — А ещё интересно, откуда они знают, какая сторона правильная, та или эта. Быть может, мы все как раз по ту сторону, а думаем, что — по эту».
— На самом деле всё гораздо проще, — произнёс строгий молодой человек, который некоторое время прислушивался к разговору Глеба с тем мужчиной. — Это — разделение. На чёрных и белых. На тех, кому можно и кому нельзя. На вечно правых и всегда виноватых. Удивлён только, почему эта черта — не красная.
— Вы недалеки от истины, молодой человек, — сказал остановившийся неподалёку седой гражданин. — Боюсь, вы и сами не подозреваете, насколько вы недалеки от ужасного смысла этой черты.
— Очень даже хорошо подозреваю, — возразил молодой и протянул Глебу красно–голубую визитку: — Общество спасения общества от внутреннего врага, — добавил он заговорщическим шёпотом. И торопливо удалился.
— Знаем мы ваше общество, — бросил ему вслед седой. И, обротясь к Глебу: — Нет никаких врагов, поверьте. Это общество по защите — просто сборище параноиков.
— Да, мне тоже он показался странным.
— Угу.
— Но что это за черта, как вы думаете?
— Эксперимент, — седой бросил на Глеба взгляд через прищур. — Над нашим сознанием ставят очередной эксперимент. Как над какой–нибудь курицей — это известный феномен: перед ней проводят черту, за которую глупая птица не смеет заступить. Сколько бы вкусного зерна не насыпали по ту сторону. Да–да, это всё эксперименты над нашим сознанием, уверяю вас.
— Так давайте заступим, — предложил Глеб. — Ведь мы — не глупые птицы.
— Нет… — покачал головой седой гражданин. — Нет. Чёрт их знает, что у них на уме…
Он сердито плюнул на ту сторону дорожки и отправился дальше, сторонясь, однако, белой черты, как упомянутая им курица.
А в конце тротуара появилась шумная группа людей. Человек восемь–десять шли по большой половине. Они несли плакаты с надписями «Нет коррупции!», «Все люди рождены равными» и «Оставьте нам хотя бы надежду!».
— Присоединяйтесь! — окликнул Глеба некто, по виду студент.
— К сожалению, я должен идти на работу, — отозвался он.
— Да проснитесь же вы! — настаивал студент. — Вы видите эту линию?
— Вижу, — пожал плечами Глеб.
— И вы спокойно пойдёте на работу, будете сидеть в офисе, писать бумажки, потом обедать бомжпакетом «Ролтон», пить чай в пакетике, читать в интернете новости, а после звонка пойдёте домой, чтобы посмотреть зомбоящик и лечь спать? А наутро опять пойдёте на работу, и так по кругу.
— Боюсь, что да, — кивнул Глеб.
— И вы забудете об этой черте. Привыкнете к ней. Смиритесь… Так не удивляйтесь, если завтра эта черта отхватит ещё один кусок вашей жизни и свободы. Если она пройдёт через ваш дом. Разделит пополам ваше супружеское ложе.
Студент хлопнул Глеба по плечу, бросил «Проснитесь же!» и отправился догонять процессию, которая уже пополнилась двумя новыми демонстрантами и, гомоня, удалялась в сторону площади.
— Я не женат, — крикнул ему вслед Глеб.
— Теперь уже и не будете, — усмехнулся скрипучий голос за спиной.
Обернувшись, Глеб увидел пожилого гражданина интеллигентного вида, туфли которого и бахрома на штанинах брюк указывали на весьма невысокий размер пенсии.
— То есть? — с подозрением вопросил Глеб.
— Черта проложена, — задумчиво произнёс пенсионер. — Аннушка уже разлила масло, знаете ли.
— Что вы хотите сказать? — настаивал Глеб.
Пенсионер не ответил, а только с сожалением покачал головой и двинулся в сторону булочной.
— Что вы имели в виду? — окликнул Глеб, но пожилой гражданин даже не обернулся.
Утро обещало тёплый солнечный день, но, кажется, обмануло: на небе быстро собирались невесть откуда взявшиеся тучи.
По улице, с воем сирен и вспышками маячков, пронеслись в сторону площади полицейская машина и карета скорой помощи.
Глеб вздохнул, огляделся и пошёл дальше. Не хватало только опоздать на службу — последнее время начальник и так смотрит на него косо.
Однако он не сделал и пяти шагов, когда на него налетел оператор с кинокамерой. Мужчина был довольно грузен, бородат и пузат, что не оставляло Глебу никаких шансов.
Отлетев от пивного пуза бородача мячиком для пинг–понга, он устремился к черте, мелко перебирая ногами в попытках не упасть и размахивая руками. Из расстегнувшейся папки белыми голубями вспорхнули бумаги и бумажки, отчёты и доклады.
Ему удалось остановиться у самого края, едва не заступив за ту линию, за которой его ждала бездна. Но инерция тянула его дальше, требовала сделать ещё шаг, чтобы не упасть затылком в пропасть неведомого.
Завизжала журналистка, что шла с бородатым оператором к площади.
— Держите его! — вскрикнула пожилая женщина, всплеснув руками.
— Упадёт же! — подхватил кто–то.
— Черта! — истошно завопил ещё чей–то голос.
Спортивного вида молодой человек бросился на помощь. Так показалось Глебу. Но помогать ему, кажется, не входило в намерения спортсмена — он лишь выхватил из ослабевшей Глебовой руки барсетку и рванул к ближайшим дворам. Впрочем, Глеб всё равно был благодарен грабителю, поскольку рывок помог ему сохранить так необходимое сейчас, жизненно важное, равновесие. Ну а барсетка… Разве это деньги — пятьсот рублей?
— Кому война, а кому — мать родна, — посочувствовала та женщина.
— Извините, — пробасил оператор.
— Хотите, возьму у вас интервью? — смущённо предложила журналистка. Она была весьма миловидна, а от её предложения веяло таким ароматным эротизмом, что Глеб готов был ради её вопросов сто раз опоздать на работу.
— Какое интервью! — оператор не позволил зародиться в душе у Глеба сладкой мечте. — Там площадь кипит. Бежим!
— Простите! — уже на бегу оглянулась журналистка.
Глеб раздумывал больше минуты. В конце концов очаровательное личико журналистки, так сладко берущей у него интервью, уступило место суровому и недовольному лицу начальника. Глеб с сожалением покачал головой, провожая взглядом удаляющуюся фигурку в джинсах и белой блузке.
Пошёл дождь.
— Вот так–то, молодой человек, — всё тот же интеллигентного вида мужчина — обладатель скрипучего голоса — возвращался из булочной. Буханку хлеба он прятал от дождя под бортом ветровки. — Аннушка уже пролила масло.
— Интересно, кто–нибудь знает, где начинается эта черта? — задумчиво произнёс Глеб.
— Тут–то как раз нет ничего интересного, молодой человек, — покачал головой мужчина. — Начинается она там же, где и всегда — в умах. Там же, впрочем, и заканчивается, уж поверьте моему опыту. Все болезни — от нервов.
— То есть… — растерялся Глеб. — То есть, вы хотите сказать, что этой черты не существует? Она нам только кажется?
— Что–то вроде этого, — кивнул интеллигент.
— Тогда переступите её! — с победной улыбкой произнёс Глеб.
— Как можно переступить то, чего не существует? — быстро нашёлся с ответом дяденька и поторопился уйти, делая вид, что усиливающийся дождь очень его беспокоит. Но за черту при этом аккуратно не заступал.
А Глеб дождь любил, поэтому совсем не беспокоился. Постояв немного в задумчивости, он присел на корточки у самой линии, опасливо заглянул за неё.
Это была самая обычная полоса, начерченная самой обычной белой краской. Не было в ней ничего загадочного, таинственного или угрожающего. Но… но то, как она делила тротуар на две неравные части, с какой непререкаемой уверенностью она это делала…
Муравей, спасавшийся от дождя, добрался до черты. С замиранием сердца Глеб ждал, когда насекомое зайдёт на линию и минует её. Но маленький чёрный трудяга словно почуял что–то: он замер на мгновение у самого края, а потом повернул и посеменил вдоль полосы.
— Вот как! — выдохнул Глеб.
Муравей забрался на листок, валявшийся у черты — лист аналитического отчёта, выпавшего из папки Глеба. Чёрные строки, оставленные струйным принтером, расплывались по бумаге мутными кляксами — дождь превращал анализ деятельности фирмы за целый месяц в нечто расплывчатое, несуществующее. Наверняка он был против статистики и заодно с чертой.
— Человек покончил с собой, а вы тут сидите, — произнёс кто–то над его головой, — бумажки разглядываете.
Глеб поднял голову. Толстая женщина, строго поджав губы, смотрела на Глеба неприязненно и сердито. — Вот потому так и живём, что всем друг на друга плевать.
— Я не знал же, — попытался оправдаться он.
— Так по сторонам смотреть надо, а не мусор разглядывать. Уж убрали бы тогда хоть, — недовольно сказала она и пошла дальше по своим делам, держась от черты подальше.
Глебу почему–то вспомнился старый мультик «Ёжик в тумане».
Внемля наставлению недовольной женщины, он огляделся по сторонам и действительно увидел самоубийцу.
Довольно грузный мужчина сидел на газоне, под тополем. На шее его видна была петля и болталась оборванная верёвка, вторая часть которой свисала с тополиной ветви — лопнула, видимо, не выдержав тяжести. На груди самоубийцы покоился небольшой плакатик, к которому приклеена была фотография участка тротуара с разделяющей его чертой. Надпись ниже гласила: «Меня вычеркнули».
Глеб не успел осмыслить увиденное, когда заметил ещё одного, точно такого же самоубийцу (только без лишнего веса и одетого иначе) под другим тополем. Под третьим прикорнула худенькая девушка в очках. Её тоже вычеркнули.
«А–а… — с облегчением подумал Глеб, — похоже, ребята акцию протеста проводят».
Его мысль подтвердилась, когда четвёртый «труп» ожил, чтобы попытаться раскурить под всё усиливающимся дождём сигарету.
«А ведь я совсем на работу опоздал, — с тоской подумал Глеб в следующий момент. — И меня, пожалуй, тоже сегодня вычеркнут. Из штатного расписания».
Ну что ж… Значит, торопиться ему теперь некуда. И следовательно, он должен сделать то, что должен — дойти до конца этой черты. Дойти, чтобы выяснить, в чём её суть и причина. Дойти, чтобы остановить назревающие безумие, или хотя бы попытаться остановить. Дойти, чтобы… дойти.
И он поднялся и пошёл.
Дождь, словно проведав его намерения и желая остановить, прибавил, ударил, накликал тяжёлый раскат грома, вызвал откуда–то молнию. Вскоре прибежал и ветер, записался в соучастники.
Глеб шёл.
А с городом творилось что–то неладное, небывалое, невообразимое. Большие магазины один за другим оказывались закрытыми на учёт или просто закрытыми. Хозяева мелких лавочек и забегаловок опускали на окна и витрины металлические шторы, закрывали двери, вешали таблички «Закрыто». Вид у них был то угрюмый, то испуганный.
Куда–то подевались все машины — улицы пустовали; лишь изредка бесцельно проезжало пустое такси или хмурая машина ГИБДД. Прохожих не было совсем, зато во множестве явились откуда–то бомжи и бродячие собаки. Пахло апокалипсисом.
Глеб никогда ещё не удалялся по этому тротуару так далеко — обычно он доходил только до остановки. И эта часть города, виденная им впервые не из окна троллейбуса, а вживую, была для него теперь словно часть неведомого мира — безнадёжно больного мира, больного то ли одиночеством, то ли небытием.
Скрипел в стороне рекламный щит, с которым игрался ветер. Проносились иногда мимо набрякшие влагой обрывки газет и пластиковые стаканчики. Трепетала на столбе плохо приклеенная мокрая афиша. Тоскливо выла где–то собака. Шумел и шумел непроглядный дождь.
Наверное, ему придётся идти не час и не два, — думал Глеб. — А может быть, даже и не день и не два. Быть может, он будет брести так, под этим бесконечным дождём, месяцы и годы…
— Эй! — окликнули его.
Глеб повернулся на голос.
У мусорного бака в ближайшем дворе стоял тощий небритый бомж.
— Не заступай за черту! — сказал он в ответ на вопросительный Глебов взгляд.
— Да, я в курсе, спасибо. А вы не знаете, что будет, если заступить?
— Знаю, — нахмурился бомж, принюхиваясь к недопитой бутылке пива, извлечённой из бака.
— И что же? — порывисто вопросил обрадованный Глеб.
— Нихрена хорошего, — многозначительно отозвался клошар. — У нас один перешагнул…
— И что с ним сталось?
Бомж отхлебнул из бутылки, одобрительно кивнул.
— Хочешь вмазать? — спросил у Глеба.
— Нет, спасибо. Так что стало с вашим товарищем?
— Да какой он мне товарищ! — бомж рассмеялся, прежде чем сделать ещё глоток. — И не товарищ он мне вовсе.
— Ладно. Но с ним всё в порядке?
— А я откуда знаю, — развёл руками клошар.
Тут из ближайшей подворотни явился второй бомж. Увидев в руках первого бутылку, он набросился на него с явным намерением отобрать добычу. Завязалась потасовка.
Глеб с сожалением покачал головой, поняв, что так и не получит больше никаких сведений о заступившем за черту. Пошёл дальше.
Старый центр кончился, остался позади парк культуры и отдыха, начался район новостроек.
Чем дальше шёл Глеб, тем всё более малолюдным становился город — даже бомжи и собаки попадались теперь крайне редко. А черта, разделившая тротуар, по которому он шёл, всё не кончалась.
Вдали, на шоссе, уходящем вокруг Химгоры за город, слабо виднелся сквозь дождевую пелену поток машин — видимо, жители покидали город.
«Может, война началась? — подумал Глеб. — А я иду тут и ничего не знаю. Или авария какая–нибудь…»
Вскоре захотелось есть. Взгляд на часы показал, что время близится к обеду. Глеб с удовольствием купил бы бутерброд или порцию пончиков, но все закусочные были закрыты точно так же, как и магазины. И даже пивные — пивные! — стояли под замком. Да и взятые на день пятьсот рублей остались в барсетке, выхваченной грабителем.
«Хаос… Запустение… Апокалипсис…» — всплывало в его голове.
Обогнув строящийся развлекательный центр на улице Даргомыжского, он упёрся в перекрёсток.
Светофор не работал. Машин не было. Неустанно шумел дождь. Черта обрывалась.
Это был конец тротуара. Или его начало.
Тот, кого никто не знал
Город проглотил его. Скользнув по пищеводу улиц, он замер в желудке — на площади Ратуши — несчастный рачок, проглоченный китом.
Здесь было по–вечернему тихо, пустынно и предзакатно. Часы на башне сонно пробили девять как раз в тот момент, когда он замер перед странным памятником. Странность его заключалась в том, что памятником он, собственно, не был, а представлял собой лишь постамент, весьма, впрочем, искусно выполненный из тёмного мрамора. Мраморная же плита, наклонно вложенная в основание постамента, гласила позолоченными буквами: «Тому, кого никто не знал».
— Тому, кого никто не знал, — прочитал он вслух, смакуя размер стиха и заключённый в нём необъятный смысл. Камни мостовой впитали упавшие слова, мудро нахмурились трещинами и щербинами. Откуда–то с севера надвигались на город едва заметные пока тяжёлые облака.
Показался из переулка в правой стороне площади господин в строгом плаще и шляпе. Постукивая ножкой зонта о мостовую приблизился и молча встал рядом. Седоусое лицо его было благодушно и лучилось сытостью недавнего запоздалого ужина, потребовавшего, вероятно, прогулки.
Некоторое время они безмолвно созерцали памятник — гость с не прошедшим ещё удивлением, которое плавно переходило в восторг, а человек с зонтом — равнодушно, но не без почтения, к которому чувствовалась некоторая уже привычка.
— Забавно, — произнёс наконец гость. — Я бывал во многих местах, но подобного не видел ещё нигде.
— Хотя, казалось бы, такие памятники должны встречаться на каждом шагу, — кивнул почтенный господин, охотно вступая в беседу.
— И всё же, кому этот памятник?
— Тому, кого никто не знал.
— Совсем никто?
— Никто. Он появился в городе на закате, в час, когда последние лучи солнца медленно таяли в листве клёнов и лип. Говорят, впервые его увидели на Харальдвейен, но некоторые утверждают, что встретили его часом раньше в Кёнигпарке, где он сидел на скамье, поглощённый чтением. Находились, впрочем, и те, кто готовы были поклясться на святом Евангелии, что видели его в городе гораздо раньше, задолго до описываемых мною событий. А фру Камераль божилась, что давно знала того, кого никто не знал. Скажу вам по секрету, ей не поверили. Ни один человек. Потому что фру Камераль… как бы это вам сказать… немного чудачка.
Итак, он появился в городе на закате, в час, когда сонные голуби покидают площадь, когда поднимается в пригороде перестук закрываемых ставень, и наступает время кошек. Никем не узнанный, бродил по аллеям, посидел у пруда, любуясь утками и бросая лебедям кусочки купленной тут же булки, постоял под часовой башней — вон она, видите, на углу ратуши… Поговаривали, что он был как будто не в себе немного, и что вид у него был такой, словно город ему совсем не по нраву. Не знаю. Городок наш, конечно, не столица — маленький и тихий, но — чистый, ухоженный; и люди здесь живут вполне себе. Но ведь насильно мил не будешь, правда? Тем более тому, кого никто не знает.
А наутро его уже не было в городе. Только и осталось от него — томик Шиллера, забытый на скамье вот как раз на этом самом месте, где теперь стоит памятник. Скамейку потом убрали, а книгу сдали в музей. Городской скульптор, герр Хеннекен, по заказу муниципалитета изваял этот памятник. Уместней было бы назвать его лишь постаментом к памятнику, кхм… Герр Хеннекен склонен к авангардизму — знаете, все эти современные выходки и штучки… Сначала граждане удивлялись такому решению, были даже требования убрать заготовку, как они это называли, или дополнить фигурой того, кого никто не знал. Может быть, так и сделали бы потом, но никто не мог вспомнить его фигуру, а герр Хеннекен лично с ним не встречался. Пришлось оставить как есть. Впрочем, с течением времени присмотрелись, вникли и поняли, что именно таким и должен быть этот памятник — в том–то вся его соль и прелесть. Так и стоит с тех пор.
Господин в плаще кивнул, словно подтверждая окончательную истинность поведанной истории.
— Давних? — спросил гость.
— Простите?
— С давних пор?
— А–а… вы знаете, нет. Довольно свежо ещё предание. Точнее сказать не могу, как не сможет, пожалуй, никто в городе. А ведь, казалось бы, столь примечательное событие не должно бы так скоро стереться из памяти. И тем не менее…
Он взглянул на гостя, улыбнулся своим мыслям.
— Приятно было побеседовать.
— Спасибо за рассказ.
— Ну что вы, какой там рассказ… Пойду слушать Шуберта. Вам нравится вторая симфония Шуберта?.. Нет?.. А я хотел бы умереть только под неё… Прощайте.
Благодушный господин улыбнулся, приподнял шляпу, откланиваясь. Прежде чем скрыться в переулке, из которого появился, он оглянулся на гостя и ещё раз приподнял шляпу.
Небо тяжелело, вызревало густой сероватой синевой. Часы негромко, будто осторожно, пробили десять. Голуби, словно услышав команду, поднялись, пронеслись над площадью быстрым облаком, дали круг, и растаяли в сумерках — отправились, наверное, в пригороды, на покой. Он остался совсем один в этом странном и тихом городе.
Тогда, замирая сердцем и почему–то дрожа, он взобрался на постамент. Долго не мог определиться с позой: одна была излишне проста, другая — неестественна, третья — несколько театральна, а та — и вообще уподобляла Наполеону. А ведь он всего лишь тот, кого никто не знает, и значит, ему пристала поза поскромней.
Наконец, перепробовав не меньше десятка всевозможных положений, он просто сел, обхватив колени руками, глядя на часы под островерхим куполом башни, в правом углу ратуши. Мрамор постамента был довольно холоден, но вскоре согрелся его теплом, а каменная жёсткость, доставлявшая поначалу некоторое неудобство, быстро перестала чувствоваться.
Упала на ботинок первая капля уютного неторопливого дождя. Откуда–то — кажется, из окна ближайшего дома, — донеслись звуки вступления ко второй симфонии Шуберта.
Прежде чем рассвет
Странник, расскажи, расскажи мне ещё что–нибудь,
прежде чем рассвет перережет горло ночи
А. Сарамельо— Душа покоя просит, слышь, это, ага. А всё чего–то нет его никак.
— Завтра будет.
— Ну, это да…
Двое сидят во мраке сарая, на корточках, голова к голове — один нечёсанный, всклокоченный, рыжий. Другой — седой уж совсем, хоть и не старый ещё — тот, чья душа требует покоя.
Ветер свистит в щелях дощатых стен, тревожит наваленную на пол грязную стоптанную солому, играет незапертой дверью, вынуждая её душераздирающе скрипеть.
— Дверь прикрыть бы — уж больно противно скрипит, — говорит седой. — Надоела. Да и сквозит.
— Ну, попробую ещё раз, погодь.
Рыжий, кряхтя, встаёт. До двери два шага — сарайчик–то маленький, тесный. Но кажется, что рыжий решил добраться до неё не раньше рассвета.
Дойдя, он долго пытается сковырнуть провисшую дверь с места, прикрыть. Кое–как ему это удаётся. Но не до конца — кажется, она утратила способность закрываться ещё лет несколько тому назад.
— Покурить бы… — бормочет он, возвращаясь на место, снова опускаясь на корточки рядом с седым.
— Ой не говори про курево, а то слюна набегает.
— Я бы и поел.
— Ну ты уж…
Седой почти осуждающе качает головой, смотрит на дверь, за которой, в прорехи, уже видно линию горизонта — там, далеко, за лагерем, за рощей, за бегущими к дальним холмам полями, будто невидимый пока рассвет провёл по небу острой–острой бритвой, оставляя тончайший, назревающий кровью надрез.
— Недолго осталось, — задумчиво говорит седой. — Светает скоро.
— А будто и не жил, — качает головой рыжий. — Быстро всё так…
— Ну, ты только не это, слышь… Самого кручинит, а что ж теперь…
— Так ничего.
— Ничего.
Ветер, залетая в оконце, шуршит в соломе. А может быть, это мышь.
Рыжий смотрит на седого, разглядывает морщинистое лицо, бородавку на подбородке.
— А ты, вроде, не из нашей деревни, — говорит полувопросительно.
— Я странник, — отзывается седой тут же, будто давно ждал этого вопроса. — Калика перехожая.
— Эво ж ты как. А и тебя туда же.
— И меня. Чем я лучше, что ли, слышь.
— Ну, оно, да… Так ты это, расскажи, что ли, чего. Всё не так муторно будет ждать. Побаску какую, али быль. Ты ж, оно, поди, много чего повидал.
— Не вспомню ничего, — качает головой седовласый. — Как отрубило.
— Во–во, — охотно соглашается рыжий. — У меня то ж само. Хочу рожу бабы моей вспомнить, а — не могу. Будто и не жил, говорю же. Будто не было ничего. А у меня ж и дети есть. Были. Двое, вроде.
— А ты как попался? — спрашивает седой.
— А так — сдался.
— У–у–у. Ну, они не любят, кто не сдаётся. Почём зря убивают, слышь.
— Ага. Петро вон на штык надели, и богородицу вспомнить не успел… Ну, и где теперь Петро? А я — жив покуда.
— Да уж… Ничего нынче жизнь человеческая не стоит.
— Не–а. Какая там жись… Они как пришли, никто и глазом сморгнуть не успел, уж и всё. Бабу мою снасильничали, а меня — вот… Бабам оно вообще легче: их под ружьё не ставят, не закапывают, даже в морду не дают, коли не бузует… Ну, на край снасильничают; испортят, коли девка… так это ж не смерть… А если ты мужик, так уже — всё, почитай пожил.
— Ну, это да, слышь.
В оконце, в дверь, которую ветер, едва не сорвав с петель, снова распахнул почти настежь, вползает издалека рассвет. Исподволь вползает, с оглядкой. Может, боится, что тоже расстреляют.
Рыжий снова поднимается, подходит к оконцу. Кое–как, с опаской, просовывает в него голову. Озирается с минуту, потом возвращается, садится рядом с седым, улыбаясь, покачивая головой.
— Чего там? — интересуется седой.
— Спит солдатик.
— Это часовой–то?
— Он, ага. На ружьё припал да и встопорщил губы–то. Только посвист идёт.
— Ишь ты как…
— Ага. Да весь лагерь спит. Тишина.
Долго молчат, поглядывая на оконце, которое всё отчётливей прорезается на стене светом.
Потом седой:
— Я вот думаю: небось, не сразу расстреляют–то. Я чай, заставят яму копать себе.
— Как пить.
— Так что, поживём ещё.
— Поживём. Оно и покурить, может, дадут.
— Так дадут, а чего ж, оне не люди, что ль. Перед расстрелом, я слыхал, — полагается. И покушать дают, слышь, это, ага.
Лицо рыжего выражает недоверие, но уверенность во взгляде седого заставляет его просветлеть. Он даже улыбается.
— Щец бы! — говорит с вожделением. — Горяченьких. Кислых оно бы.
— А и пашенца бы. С сальцем.
— Оно!
— Эх!..
Умолкают, пережёвывая жестковатое сало всё в жёлтых крапинах пшена. С прихлюпом всасывают с облезлых щербатых ложек щевую кислость.
Время ползёт медленно–медленно, капает росой, опадающей с непроснувшихся васильков.
А и правильно, пусть не торопится. Поспешишь, оно, людей насмешишь, знамо же.
И то, слышь.
А сна как не было ни в одном глазу, так и нет. Часовому хорошо — дрыхнет себе, уперев ружьё прикладом в булыжник, а стволом — в грудь, чтобы подпорка была, чтобы не завалиться, чтоб не увидел кто. Дурень малохольный. Оно ж пальнуть может.
— А у тебя баба была? — спрашивает рыжий, сглатывая голодную слюну.
— Ну, как у всех. Я ж не лишайный какой, слышь.
— А как же ты калика? Бабу оставил и пошёл, что ли?
— А чего ей сделается. Оставил да и пошёл.
— Эва ж ты как… А если влезет кто под сарафан?
— Не влезет.
— Это почему ж? Страшная, что ли?
— Да нет, баба как баба.
— Так отчего ж не влезет?
— А нет её. Померла два года тому.
— А–а–а, — кивает рыжий. — Ну, тоже хорошо. Мою, вон, снасильничали. А лучше б, думаю, помереть ей было.
— Помрёт ещё.
— Ну, так–то оно да.
И снова тишина. Только сопит в сарайные щели ветер, да шуршит в соломе мышь. Точно — мышь. Может, приплод у неё там, вот и шуршит беспокойно.
А сонное время вздрагивает вдруг, непонимающе хлопает глазами: а? что? пора, что ли?
— Эй, вы! — в притвор незапертой двери просовывается девятнадцатилетнее заспанное лицо часового. — Выходи давай.
Они послушно выходят.
Рассвет назревает, набухает перетянутой артерией, что вот–вот лопнет; и разольётся по седому небу кровушка.
Гора
Он уже и не помнил, который день поднимался на эту гору, будь она неладна. Второй? Третий? И хоть бы один дождь.
Вон, камешек на тропе лежит, хороший камешек, интересный, красненький такой…
Да зачем ему этот камешек, не о камешках надо думать, надо сосредоточиться и думать о главном! А что главное? Да кто бы его знал, что́ тут главное. Говорят, на горе всё не так, как внизу, всё не так. А уж на вершине, говорят…
Да, нужно думать о вершине.
Нужно думать. О вершине.
Так, вершина… Что она?.. Она — вершина.
Вершина — чего? Вершина жизни? Вершина мира?
Нет. Вершина горы.
Никто не знает, когда и откуда взялась эта гора. Местные болтают, что её не было, не было, а потом вдруг — раз! гора. Бывает ли так? Горы — эти бородавки на теле Земли — образовывались и прорастали миллионами лет, а так, чтобы не было, не было, а потом стала — это враки. Но ведь говорят же, что это неземного происхождения гора… Враки, скорей всего, тоже враки.
Ладно, гора. Гора — бог с ней. О вершине нужно думать…
О вершинах думать хорошо — там, у их подножий. А чем ближе к самой вершине, тем сложнее становится о ней думать. Лучше уж и не думать вовсе, а просто идти. Идти и наслаждаться тем, что и ты сопричастен. Вон сколько нас, — он повёл взглядом вокруг, по плечам, головам, ногам бредущих впереди и рядом людей. Оглянулся назад и вниз, пробежал глазами по бесконечной извивающейся змее людского потока. — Вон сколько нас… И все — туда, к вершине, в едином порыве… Вместе.
Сбоку, метрах в пяти от тропы, под присмотром трёх полицейских расположилась дамочка–корреспондент в джинсах и канареечно–жёлтой футболке, а с ней — матёрый потный оператор в очках, в рубахе, распущенной до пупа.
Дамочка тараторила что–то в одетый синтетическим мехом микрофон.
Тараторила она явно не по–русски, но на горе странные вещи происходят, это Андрей заметил в первый же день. Да, вроде, по–английски она говорила. Или по–немецки? Француженка, как пить дать, — по распутным глазкам и фривольному взгляду видно, что француженка… Чёрт её знает, в общем, но Андрей всё понимал. Голос её доносился слабо и прерывался гулом многоголосья, то и дело поднимающимся над толпой паломников подобно волне прибоя, так что слышал он лишь обрывки репортажа, который передавала она глазу телекамеры.
— …ячи паломников со всего… ежедневно преодолевают тяжёлый … …ршины … ры. Учёные не могут … а … и выдвигают гипотезу … имеет инопланетное проис… Гло… …дра ш…ко буд…ла бок… и кур…чит …нка. Так это, или… … Но … же … что дума… …ти люди, че… хотят они, чего ждут … …го восхождения? Давайте спросим у … …ков.
Журналистка повернулась к веренице паломников и глаза её с профессиональной хваткостью побежали по лицам. Укусили взглядом одного, другого, остановились на Андрее.
Не надо! — мысленно попросил он. — Иди к чёрту! И даже, кажется, непроизвольно натянул на лицо угрожающую гримасу, подобно тому как насекомое демонстрирует свою предупреждающую окраску.
Но его мольба осталась незамеченной, или не подействовала в нужном смысле, или наборот привлекла — дамочка с микрофоном устремилась к нему. За ней, отдуваясь, телепался потный оператор.
— Это ваше первое восхождение? — взяла репортёр быка за рога, едва приблизившись, и поднесла мохнатый микрофон ко рту Андрея. Синюшный глаз камеры уставился в лицо.
— Да, — неохотно отозвался Андрей, всем своим видом давая понять, что смертельно устал и вообще недолюбливает прессу.
— Скажите, а что вы ожидаете увидеть на вершине? — не отставала дамочка.
— Не знаю, — пожал он плечами.
Глупый вопрос. Ожидай, не ожидай, всё равно увидишь совсем не то.
— С какими мыслями вы идёте туда, к пику? Какие чувства помогают вам преодолевать этот тяжёлый путь?
— Мыслей нет, — вяло солгал Андрей. Ну, чего эта канарейка пристала! — А чувства… чувство гордости, наверное. За людей, не побоявшихся трудного пути. За…
— За свою страну, да? — подсказала репортёр, почуяв заминку.
— Да, да, — кивнул Андрей. — Безусловно.
— Спасибо, — и дамочка, бросив его, вцепилась в какую–то толстую женщину справа.
Андрей собрался было прислушаться к тому, что будет отвечать толстуха, но его отвлекли.
— Франтишек! — услышал он визг. — Франтишек, не трогай! Я кому сказала, скотина ты этакая!
Он повернулся на голос и увидел сухонькую старушку, лет восьмидесяти с гаком, в солнцезащитных очках, которая легко и бодро поднималась по тропе. А её внучек — толстенный верзила–дебил с отвисшими до колен, сквозь улыбку, слюнями — остановился у обочины и тянулся к мохнатому розовому цветку.
— Ничего не понимает, — покачала головой старушка навстречу взгляду Андрея. — Глупый он у меня.
— Внук? — улыбнулся Андрей.
На кой чёрт он задал этот дурацкий вопрос? И так всё понятно, а старуха возьмёт сейчас да разразится историей своей жизни — не переслушаешь.
Но старушенция не разразилась.
— Сын, — ответила она коротко и шлёпнула Франтишека по руке, которой тот потянулся к её очкам.
— Угу, — почему–то смутился Андрей, кивнул и прибавил шагу, торопясь отойти подальше.
Тропа огибала мощную глыбу. Под сотнями обутых ног скрипели камешки, клубилась пыль. Те, кто нахватались дурацких слухов о горе и значении её для здоровья и кармы, шли босиком и теперь мучились, терзались и поблёскивали слезами на ресницах от того, что то и дело попадались под голую подошву острые камешки. Острые и горячие. Солнце и так пыхало зноем, а тут ещё и от горы поднимается странный жар, будто идёшь по воспалённому фурункулу на коже вулкана, который вот–вот прорвётся огненной лавой.
Андрей положил руку на шершавый бок глыбы. Бок был горяч, как батарея поздней осенью, когда топят ещё не на полную мощность.
— Не трогать!
Удар пришёлся на предплечье. Этот молодой, совсем ещё мальчишка, полицейский правильно выбрал место дислокации — притаился за камнем, так что предугадать его появление было невозможно. Наверняка это — хлебное место, здесь его резиновой палке есть где разгуляться, потому что едва ли не каждый из проходящих положит ладонь на булыгу. Хотя бы для того, чтобы опереться и не рухнуть, подскользнувшись на камешках, что брызжут из–под подошвы во все стороны.
— Проходи, проходи, не задерживай! — поторопил полицейский, бросив значительный взгляд на Андрея, который с шипением растирал предплечье. И смилостивился, пояснил: — Здесь нельзя ничего трогать. И останавливаться нельзя.
Пользуясь положением пострадавшего от полицейского произвола, Андрей хотел спросить, правда ли, что внутри горы обнаружен какой–то реактор неземного происхождения, но страж порядка уже замахивался на идущего следом за Андреем очкарика.
— О боже, боже! — простонал кто–то впереди. — Да когда же наконец?
— Скоро, — утешил другой голос. — Сегодня к вечеру дойдём.
Андрей взглянул на утешителя. Это был потный грузный мужчина с полупустой бутылкой минеральной воды в одной руке и недоеденным коржиком в другой. Заметив взгляд Андрея, он кивнул ему, как знакомому:
— Я уже второй раз поднимаюсь, — сказал не без деловитой гордости в голосе. — Знаю.
— И как там, наверху? — полюбопытствовал очкарик, потирая отшибленное полицейским плечо.
Бывалый пожал плечами, сплюнул.
— Увидите, — самодовольно бросил он в конце концов. И добавил с неопределённой интонацией: — Увидите.
Позади взвизгнул слабоумный Франтишек — видимо, досталось от полицейской дубинки и его жирной спине. Послышался дрожащий голосок старушки: я же говорила тебе, говорила, скотина ты безрогая, чтобы не трогал ничего! И примиряющий голос полицейского: трогать нельзя, малый.
Вскоре солнце пошло под уклон, но и паломники не стояли на месте, а поднимались всё выше и выше, к солнцу, поэтому легче не становилось. Зной по прежнему опалял, а гора, кажется, становилась всё горячее по мере приближения к вершине, так что спасения от жара не было.
Давно обрыдли все эти камни, непонятные цветки со странными узорами, указатели «Руками не трогать!», пыль и дурацкое солнце. «Зачем, ну зачем я попёрся на эту чёртову гору?! — думал Андрей. — Ведь читал же, видел по телевидению… А, ну да, вру, не видел, потому что там, на вершине, не позволяют снимать… Но слышал же от очевидцев… Постой, постой… А что говорили очевидцы?.. Так они же ничего толком не говорили, в том–то и дело. Вот и этот, с бутылкой — идёт уже второй раз. А сам, похоже, не знает ни черта. А может, врёт, что второй… Да нет, зачем же ему врать, какой смысл… И ведь второй раз идёт зачем–то. Значит, есть там что–то, наверху — что–то такое… Или нет?»
Вязкие мысли медленно, киселём, перетекали от затылка ко лбу и обратно; мозги слипались, им хотелось спать, и чтобы спала жара.
Незадолго до вершины прикорнул у тропы киоск закусочной. Андрей не стал ничего есть, взял только бутылку кумыса. Плоское и бессмысленное, без выражения, лицо киоскёра намекало, что он тоже служит в полиции.
Останавливаться было нельзя, поэтому те, кто осмелился на шашлык или пластиковую тарелку салата, вынуждены были торопливо жевать на ходу. А сил и желаний, кажется, уже ни у кого не оставалось, так что многие тарелки и шашлыки полетели в урны, стоящие вдоль тропы чуть ли не на каждом шагу.
Кумыс оказался невкусным и тёплым. Конечно, откуда взяться в этом киоске холодильнику. Едва початую бутылку Андрей тоже бросил в урну.
Шли ещё часа два или три — время растворилось в закатном мареве, потеряло значение и смысл, так что на часы даже смотреть не хотелось — зачем? какая разница?
А потом подъём вдруг оборвался, земля выровнялась. Вершина.
Она была тесная и совершенно лысая. Если нагота тела горы была прикрыта глыбами камня, скудной зеленью и непонятными цветами, то здесь, на её голове, не было ничего, кроме жёлтой песчано–глинистой лысины.
Андрей оглянулся по сторонам. Паломники брели в полумраке — усталые, притихшие, сосредоточенные. Никто уже не гомонил и не оглядывался с интересом по сторонам. Ни один не попытался обратиться к полицейским с вопросом. Кто–то хромал на избитых, изодранных о камни подошвах, кто–то постанывал, кто–то матерился сквозь зубы, а тот, бывалый, с пустой бутылкой, вяло разговаривал по мобильному: да… да, на вершине… дошёл, а куда б я делся. Да ничего, всё то же…
И только дебил Франтишек улыбался — ему всё было нипочём.
Стояли, выстроившись наподобие коридора, молчаливые и хмурые полицейские, поигрывали дубинками, шарили безучастными взглядами по бредущим в образованном ими коридоре людям.
Ну, вот и всё, — подумал Андрей. — Вот и вершина. Вот она какая.
Тропа, почти не видимая на жёлтой лысине, едва начав спускаться, снова обретала контуры, хорошо видные в стремительно наступающих сумерках. Отороченная пожухлой травой, она устремлялась вниз по крутому склону, петляла, сулила скорый конец пути. Трава по мере спуска набирала силу, обретая всё более контрастные в своей густой, зелёной сочности очертания. И чем больше становилось зелени, чем ближе к подножию, тем реже и реже втречались стражи порядка и тем расхлябаннее и сонливей они становились — сидели на земле за партией в карты, или дремали в траве, побросав там и тут части своей амуниции, или сквозь ленивую отрыжку потягивали из фляжек. Андрей заметил, что на спуске дислоцировались в основном уже взрослые полицейские, отяжелённые возрастом и службой, растратившие былые амбиции и приобретшие взамен любовь к комфорту. Да, а вот по ту сторону, на подъёме, располагались молодые и рьяные, почти мальчишки, наподобие того, что ударил Андрея дубинкой. Предплечье всё ещё побаливало, и боль ограничивала подвижность руки. Старательный пацанёнок…
Идти вниз было много легче, чем подниматься, разумеется. А ещё под конец уклон был так крут, что передвигались паломники почти всё время бегом. Кто–то падал, но останавливаться было нельзя, и, хотя полицейских ближе к большой земле почти уже не было видно, никто не останавливался. Там и время шло по–другому, совсем по–другому летело время — аж свистело в ушах.
В общем, спуск занял всего–то сутки, так что уже к вечеру следующего дня Андрей обессиленно ступил в прохладу гостиницы, где снял номер.
В тесной, даже по одноместным меркам, комнатушке он, не раздеваясь, не бреясь и не смывая с себя дорожной пыли, повалился на кровать.
На цыпочках подступающего сна подкралась мысль: он поднимется на эту гору ещё раз, обязательно. А может быть, и не раз…
Потом нахлынул тяжёлый, без сновидений, сон и не кончался до полудня следующего дня.
А потом, наконец–то, пошёл дождь.
Шайтан
Мать его матери — Айума её звали — ушла на рассвете. Я слышал, как она охнула и засопела и вытянулась. Так мы с ним остались вдвоём, и я стал главным.
С утра он сидит возле неё. А глаза у неё закрыты веками, зрачков не видать, поэтому он всё раскачивается и твердит:
— Мамка ослепла. Ослепла мамка. Слепая. Дай есть.
Она не даёт, конечно, и тогда он идёт к мусорной куче и роется в ней. Но в этой куче уже рылся я, и ему нечего там искать. Он находит несколько зёрен кукурузы и ест их. А потом жуёт голый початок, плюётся и злится.
Находит в той же куче рыбьи глаза. Рыбу ели через день назад от сегодня.
Их он не ест, они слишком воняют. Садится над головой Айумы. Кладёт один рыбий глаз на один её глаз, второй — на второй. Улыбается.
— Вырастут, — говорит он. — Мамка будет глядеть. Уахр ахт саб эхтамим. Дай есть.
А она ему и не мамка вовсе, она мамка его мамки, но та изошла кровью две зимы назад, выплевала из себя всю кровь так, что нечему стало греть её, и она остыла…
Вечером пришли двое вонючих и хотели забрать старую, но я даже к двери их не подпустил. Тогда они стали звать:
— Ягнат, эй, Ягнат, ты живой?
А он прижался к «мамке» и сосал её грудь и не отозвался.
— Ягнат, говорили они, — выйди к нам. Мы отведём тебя в Хавшарет, там у тебя дядька есть.
А он сосал и будто не слышал их. Да и услышал бы — что толку.
И они прокляли меня и ушли.
А он сосал. Но мёртвая грудь не могла ничего ему дать, и он стал злиться и бить Айуму по животу и по груди и по лицу, и говорил: «Плохая мамка. Плохая. Дай есть!»
От ударов один рыбий глаз выпал из её глазницы и закатился за лежак. Тогда он долго искал его, ругал его и плакал. Нашёл и хотел съесть, но глаз уже очень смердел. И он закопал его на дворе в землю и поливал водой.
Пришли соседские мальчишки, братья, и дразнили его, крича:
— Эй, Ягнат, спой нам песню про Кули–абая. Эй, Ягнат, а ты посмотрел, какая у твоей бабки пизда? Если она поперёк, то бабка твоя была ведьмой, и её надо сжечь. Ягнат, Ягнат, принеси нам денег, ведь у твоей бабки где–нибудь припрятаны были дирхемы.
Я прогнал их. Тогда они стали кидать в нас камнями. Ему попали в ногу, и он плакал, и только тогда мы ушли в дом.
Ночью я охотился, но не удалось добыть ничего. Слишком стар я стал для охоты. Я боялся, что крестьяне воспользуются ночью, чтобы забрать их обоих, но нет — они все спали по своим домам. Тогда я пробрался в один двор, где не было собаки, и придушил там курицу. Мы поели.
На другой день вонючие опять пришли и звали его: «Ягнат, Ягнат, ты живой? Мы должны похоронить твою бабушку, а тебя отвести в Хавшарет. Выйди к нам, Ягнат».
Конечно он не вышел к ним. Тогда они стали решать, что́ им делать. И я слышал, как они говорили про меня: «Убьём этого шайтана».
А один из них сказал: «Да пусть его, этого мальчишку, дался он вам. Всё равно его даже работать ничего не научишь». На него стали ругаться и прогнали. И снова принялись решать, как им поступить. И решили, что убьют меня, а иначе в дом им не войти.
Они принесли карамультук и целились в меня, но ружьё не выстрелило, только громко испустило дым. Откуда у этих крестьян взяться настоящему оружию. Я мог бы убить их всех, по одному, но не стал делать этого. Быть может, они будут благодарны мне за свои жизни и не станут больше приходить, чтобы убить нас. Они кричали мне: «Шайтан! Шайтан! Чтоб ты сдох!» Но подойти ко мне с вилами или ножом никто не отважился.
Они стали только осторожно подбираться к дому и звать:
— Эй, маленький Ягнат, выйди к нам.
Но когда они позволили себе заступить за край дороги, я прогнал их.
А он сидел возле Айумы и играл её пальцем.
— Один, мамка. Один, мамка. Один, один, один, — говорил он. И иногда: — Дай есть.
Ночью мне удалось поймать больного зайца и я принёс в дом еду. Мы ели.
Что ж, не так уж плохо быть со мной, хоть и стар я уже. Да, я стар, и слаб, и нет у меня подмоги. И я не хочу думать, что́ будет завтра, когда те снова придут за ними — за малым и старухой. Наверное, мне придётся драться с ними, и у них будут вилы или удавки, а у кого–нибудь найдётся и ржавая сабля со времён войны. Наверняка я умру.
Но что делать. Как ушла Айума, вожаком нашей стаи стал я. И я должен защищать малого. И я буду защищать его, пока цел в пасти хоть один зуб.
Семидневие
День первый
Они всё же начали.
Только–только взялись падать первые бомбы, как сразу отключился свет. Это очень неудобно. Мало того, что приходится писать мой дневник в темноте, так ещё и не видно себя в зеркале. Ну и что такого? — хмыкнет кто–нибудь. А то, что я как раз стоял и брился, когда пропало электричество. А бритва у меня электрическая. Вот и представь теперь, неведомый мой хмыкатель, как я явлюсь на судный день, пред очи Божьи, бритым на одну щёку. И седину проредить я тоже не успел. В последнее время у меня развелось много седых волос и я их ежедневно удаляю — выдёргиваю. Для этого нужны хорошие нервы, но прежде всего — хорошее освещение, а где его взять? Я мог бы заняться этим у окна, если бы они не заставили всех соблюдать светомаскировку. Чтобы сделать окна светонепроницаемыми, я снаружи закрасил их зелёной краской (была ещё синяя и коричневая, но мне больше нравится зелёный цвет). Получилось так зелено, что я не удержался и нарисовал поверх синие васильки с коричневыми стебельками. Изнутри обклеил стёкла пластырем и скотчем, исключив попадание света не только изнутри наружу, но и наоборот. И вот она, благодарность за мою законопослушность — зарасту теперь сединой, как старый лунь.
Долго искал станок для бритья. Нашёл. Но оказалось, что единственное лезвие, которое у меня осталось, заржавело и затупилось ещё лет надцать тому назад.
Бомбы падают где–то в стороне парка. Хм. Какой им смысл бомбить парк, не понимаю. Как всё же глупы наши враги. Мы победим, я в этом нисколько не сомневаюсь. И дабы выразить врагам своё презрение, не стану спускаться в бомбоубежище. Тем более, что толку от этого, говорят, меньше, чем немного, потому что бомбы у врагов какие–то специальные, которые могут разрушить даже глубоко скрытый под землёй бункер. Можно подумать, у нас в городе полно подземных бункеров. Глупцы, глупцы.
Время обеда, а электричества так и нет. Видно, его теперь уже и не будет. Зря Господь сотворял свет. Задаюсь вопросом: есть ли что–нибудь такое, созданное Богом, чего человечество не могло бы разрушить в неудержимом тупоумии своём? И прихожу к ответу, что нет — нет ничего такого.
Слава Богу, у меня есть консервы. Ну и ладно, пообедаю сухпайком, что ж теперь. Хотя, консерванты безусловно вредны.
Опять бомбят. Где–то близко.
Очень скучно без телевизора и компьютера.
День второй
Никак не могу приспособиться прореживать седину. А она, словно почуяв мою беспомощность, расширяет свои владения. Этак я к концу войны бесповоротно поседею. Пытался выщипывать волосы в том полумраке, в котором теперь приходится жить, но через несколько минут понял, что занимаюсь мазохизмом и бросил. Чёрт с ней, с сединой.
Сегодня отключили воду. Видимо, разбомбили водонапорные станции. Интересно, враги это делают специально, или просто валят бомбы куда ни попадя, и их так много, что они просто не могут не разрушить инфраструктуру? Кстати, несколько бомб упало в соседний квартал. Похоже, у врагов есть какой–то план относительно бомбёжек — они не просто сеют бомбы куда попало, а разделили город на участки и бомбят их один за другим поочерёдно. Мне так кажется. Слава Богу, у меня всегда отстаивается пятилитровая бутыль, так что несколько дней мне ещё не понадобится отправляться на поиски воды, если соблюдать режим жёсткой экономии. А выходить не хотелось бы — как–то страшно оказаться совсем ничем не защищённым от этого неба.
Поставил на плиту воду — сварить яйцо. Яйцо стояло минут десять, но вода так и не закипела. Только тут вспомнил, что электричества нет. Смеялся.
Опять бомбят. И опять соседний квартал, только южнее, рядом с тем, что бомбили давеча. Ну точно, они действуют по плану, методично. Не такие уж они и тупые, эти враги. Но зато выходят ещё бо́льшими мерзавцами.
Я, наверное, уже совсем седой. И небритая щека жутко раздражает. На бритой тоже уже, конечно, проклюнулась щетина, но до чего же, всё–таки, неприятно быть вот в таком смысле разносторонней личностью.
День третий
Щетина растёт, растёт ежеминутно и ежесекундно, я прямо чую, как она поднимается над моими щеками и скоро превратится в заросли.
Кстати, говорят, парк окончательно уничтожили — не осталось ни деревца, ни кустика, ни травинки даже не осталось — только выжженная и изрытая воронками земля. И пруда посреди парка не стало — то ли испарился, то ли ушёл в землю… Будь они прокляты, эти враги! Люди, люди, какая же вы всё–таки пакость! Я так любил гулять в этом парке.
А они всё бомбят. Сегодня бомбят квартал рядом со вчерашним, от которого осталось лишь пара огрызков домов.
Седина чувствует себя вольготно. Ненавижу её. Небритость тоже ужасно раздражает.
Разговорился с соседкой из квартиры через одну, направо. Оказалась приятная женщина, одинокая. Кажется, она хотела меня. Да конечно хотела, потому что всё говорила о том, как страшно ей одной переживать весь этот кошмар. Но я не остался с ней. И так во всё время беседы пришлось держаться к ней одной щекой, куда уж тут… И проклятая седина заполонила уже, кажется, всю голову.
Позже она пришла сама. Я не открыл. Смотрел на неё в глазок и слушал, как она настойчиво стучится в дверь. Но не открыл. Нет уж, каждый сам должен хоронить своих мертвецов. И умирать тоже лучше в одиночестве — так я считаю. Да и незачем мне лишний раз переживать из–за неравномерной бритости щёк и седины в волосах.
Бедный, бедный! — услышал я через дверь, прежде чем она ушла.
Всю ночь не мог сомкнуть глаз из–за бомбёжки — ухало и ухало где–то совсем рядом. В бомбоубежище не пошёл, разумеется. Делал бумажные самолётики и запускал. Комната у меня небольшая, поэтому нормального полёта у самолётов не получалось. Тогда я открыл окно и запускал их на улицу. Вот так и летали самолёты: одни сбрасывали сверху на город бомбы, другие — белыми бесшумными пятнышками растворялись во мраке.
День четвёртый
Седина стремительно прибавляется, или мне так кажется в постоянном сумраке комнаты. Когда–то я носил бороду; теперь скоро, кажется, снова буду её носить. Грустно.
Мой рацион теперь состоит из сырых яиц (надо их съесть побыстрее, пока не протухли), консервов и сухофруктов, благо их много — я всегда любил компот. После войны на яичной диете я, наверное, смогу стать известным оперным певцом. Смех да и только…
Режим строгой экономии не удался — вода почти вся вышла (от постоянного навязчивого чувства голода невольно пью больше обычного). Пришлось дождаться перерыва в бомбёжке и выйти на поиски воды.
Оказалось, что на улице ночь. То есть, по времени суток–то было, кажется, немного за полдень, но солнце затянуто тучами дыма и пепла, так что его совсем не видно. Холодно, очень холодно для лета. И ни солнца, ни луны, ни звёзд — ничего они нам не оставили. Как теперь отделять день от ночи? Как времена и годы различать теперь?
Питьевой воды не нашёл. Но зато нашёл лужу. Не знаю, откуда она взялась, дождей–то не было. Может быть, натекло откуда–нибудь. В общем, начерпал пятилитровую бутыль. Дал воде хорошенько отстояться. Потом несколько раз пропустил через марлю. Всыпал пять таблеток активированного угля.
Вкус у воды мерзкий — бензиново–напалмово–горелый, но это всё же лучше, чем ничего.
Говорят, добомбились до того, что река где–то, задолго до города, изменила русло. Так что теперь даже на реку за водой не сходишь. Что ж… По крайней мере, круговорот воды в природе они пока ещё не отменили, а значит можно будет добыть каким–то образом хоть минимум влаги — дождь, роса, конденсат… Ах, как я любил жареную рыбку!..
Невероятная удача! Нашёл две свечки, которые когда–то давно, наверное, купил на случай, если надолго отключат свет. И забыл. И вот — нашёл.
В жухлом свете свечи удалял седину. Её стало непозволительно много. Я уже думаю, не побриться ли наголо. Но вспоминаю, что бриться нечем. В сумраке — почти в темноте — отражаться в зеркале было страшно.
Опять бомбят. Теперь квартал справа от нашего. Наверное, завтра возьмутся за нас. Всё равно не спущусь в бомбоубежище. Пошли вы все…
День пятый
Виски у меня стремительно белеют. Седеть я начал с висков, но пока прореживал седину, она не выглядела такой обильной. Да и сверху головы теперь тоже белым–бело. Надо же…
Жутко чешутся шея и щёки — у меня всегда так, если не побриться дня три–четыре.
Говорят, разбомбили зоопарк. Он располагался как раз за нашим кварталом, севернее. Говорят, кишки львов, медвежьи головы и оленьи ноги находили аж за два квартала. Не видно ни птиц, ни кошек, ни собак — все или погибли, или сбежали в леса. Бог даст — последнее; но надежды мало. От человека, когда у него мозги набекрень съехали, не сбежишь. Всё разрушит, всех убьёт, сожжёт, уморит голодом, пока не останется сам один. И тогда, если не сдохнет, как–нибудь убьёт и себя.
Седина сводит меня с ума. Попробовал обрить её тем самым лезвием, но только истерзал голову свою и выдрал несколько клочков волос там и тут. Причём выдрал нормальные волосы, так что седины стало в процентном соотношении ещё больше.
Бомбят наш квартал. Раскрыв окно, я видел, как соседний дом вдруг просел сначала, а потом поднялся в воздух, словно решил улететь подальше от всего этого безумия. На одном балконе я видел мальчика лет шести–семи. Странно, что родители не увели его в бомбоубежище. Он улетал в небо, раскинув руки, и тоже смотрел на меня. Кажется, ему совсем не было страшно; во взгляде его я увидел только удивление от того, что он вдруг обрёл способность летать, как птица небесная или ангел.
Жутко чешутся щёки и шея — до того, что хочется взять ножницы и скоблить, скоблить, скоблить эту колючую седую мерзость.
День шестой
В городе никого не осталось. Совсем никого. Наверное, те, кого не убило, сбежали. А может быть, какая–нибудь глубинная бомба попала прямо в бомбоубежище и убила сразу всех. Я обошёл весь город — то, что от него осталось (а уцелело, кажется, только два квартала) — и никого не увидел, ни одной живой души. Везде только тьма, дым и смерть. Много тьмы, дыма и смерти. Смерти больше всего. Или дыма. В этой тьме трудно понять.
Ну что ж, значит, я остался один и могу теперь седеть и зарастать бородой сколько мне заблагорассудится. Прекрасно. Хотя и немного грустно.
Очень хочется есть. Остались только горсть сухофруктов, несколько печений и банка рыбных консервов. Если война не кончится в ближайшее время, я начну худеть вдобавок к седине и поросли на лице, превратясь в бомжевидного недочеловека.
Когда я уже подходил к своему дому, неподалёку взорвалась бомба. Осколок едва не размозжил мне голову, но пострадала только шляпа — она оказалась пробитой насквозь. Осколок летел с такой скоростью, что шляпа даже не упала с моей головы. Вот такие дела… Ну, ничего, где–то у меня завалялась ещё одна, старая. Только к моей трости та шляпа, кажется, не очень подойдёт. Зато она глубже и поля у неё немного отвисли, так что седины под ней совсем не будет видно. Только на висках.
Всю ночь не сомкнул глаз из–за грохота бомбёжки. Играл сам с собой в покер и размышлял о смерти. К утру выиграл у себя немного денег. Рассмеялся, открыл окно и медленно высыпал их — монета за монетой — во тьму. Они, посверкивая напоследок во вспышках взрывов, падали во мрак.
День седьмой
То ли утро, то ли день… Да и так ли теперь это важно. В остатках воды развёл немного мыльной стружки и пускал в окно мыльные пузыри. Так и знал, что зрелище будет чудесное, просто волшебное: в сполохах огня от разрывов пузыри вспыхивали всеми цветами радуги.
Внезапно пришла соседка (двери я уже не закрываю)… Вот так дела, она, оказывается, тоже уцелела. Значит, нас осталось двое в этом городе тьмы. А может быть, во всём мире?
Она принесла яблоко. Вот, говорит, последнее осталось. Разрезала его пополам. Угощайтесь, говорит. Самое последнее, говорит. Теперь когда ещё доведётся попробовать, да и доведётся ли… Искусительница! А я — седой весь и небритый. Фу, как стыдно!
Я сказал, давайте сначала попускаем пузыри, а уж потом насладимся яблоком. Но она ответила, что яблоко окислится. Вот съедим, говорит, и будем на сытый желудок пускать пузыри — ведь так приятней.
Я уже съел свою половину, а потом только и подумал: чего это она вдруг? Не отравлено ли яблоко? А то ведь чёрт их, женщин этих, знает… А она словно поняла — улыбнулась: да, говорит, это яблоко с древа забвения добра и зла. Ну а теперь давайте, говорит, пускать пузыри…
Плоскость
Колесо — круглое, окно — прозрачное.
А человек, которого вы видите за окном — выдумка,
его не существует.
К. СтедеборгПлоскость есть поверхность, содержащая полностью
каждую прямую, соединяющую любые ее точки.
Начертательная геометрия1
Паровоз дал гудок и, скрипя колёсами, медленно набирая ход, двинулся дальше.
Йон Венцель провожал его взглядом до тех пор, пока последний вагон не выбрался из–под выгнутой крыши над перроном и, стуча колёсами, не исчез в туманной дымке раннего утра. Напоследок он дал ещё один протяжный гудок, прощаясь с городом.
Только после этого Венцель оглядел опустевшие платформы, зачем–то постучал каблуком по асфальту, словно проверяя его на прочность, и не торопясь двинулся к выходу в город.
Выйдя на площадь, он остановился, чтобы раскурить сигару, а заодно и осмотреть окрестности.
Последнее к сожалению ему не удалось, поскольку город Штрабах утопал в тумане раннего промозглого утра. Видна была только пустынная площадь с каким–то памятником да едва различимые очертания ближайших к вокзалу домов.
Поскольку Йон Венцель прибыл в Штрабах слишком рано, чтобы немедленно отправиться по делам, он собирался хотя бы ненадолго представить себя бесцельно шатающимся праздным туристом. А потому направился прямиком к памятнику. Ничто так не расскажет тебе о незнакомом городе, в который ты попал волею судеб, как памятник, ведь памятник — это память. Только памятник покажет тебе, что чтут и кого помнят в этом совершенно незнакомом тебе месте.
Произведение искусства, на которое обратил свой взор Венцель, представляло собой при ближайшем рассмотрении постамент. Да, невысокий мраморный постамент почти правильной кубической формы — скорее заготовка для памятника, чем сам памятник. Потому что никто на нём не стоял. А мраморная же табличка у подножия несуществующего памятника извещала золотыми буквами: «Тому, кого никто не знал».
«Тому, кого никто не знал!» — Йон Венцель усмехнулся выдумке неизвестного ему скульптора.
— Можете забраться, если хотите, — произнёс приятный женский голос за его спиной.
Он обернулся.
Дама была миловидна, под кокетливой шляпкой и в длинном строгом платье, которое, на взгляд Йона Венцеля, с игривой шляпкой совершенно не гармонировало. Но Йон Венцель был всего лишь мужчиной.
— Забраться? — улыбнулся он.
— Ну да, — улыбнулась дама в ответ. — Многие приезжие так делают. Про это написано даже в путеводителе по Штрабаху: первое, что должен сделать путешественник — это постоять на постаменте памятника тому, кого никто не знал.
— У меня нет путеводителя, — пожал плечами Венцель, словно извиняясь. — Но как вы догадались, что я приезжий?
— Это просто, — коротко ответила дама.
Венцель выждал некоторое время в надежде, что дама объяснит простоту алгоритма, по которому она пришла к выводу о его нездешности. Но дама молчала.
— Так вы полезете или нет? — только и спросила она, когда молчание затянулось настолько, чтобы в следующее мгновение стать невыносимым.
— Думаю, что нет, — вежливо ответил Венцель, слегка удивляясь её настойчивости.
— Жаль, — дёрнула дама плечом. — Очень хотелось посмотреть на вас. У вас мужественное лицо и красивая осанка, вам бы подошёл этот постамент.
— Спасибо, — смутился Венцель, признаваясь себе, однако, что невинный комплимент от этой совершенно незнакомой женщины весьма ему приятен.
А она внезапно и совершенно равнодушно отвернулась и пошла по площади, быстро скрываясь в тумане, будто уходя на дно мутной реки без названия. Уже удалившись настолько, что силуэт её стал едва различим в белом месиве, а Йон Венцель готов был оторвать от неё свой взгляд, она остановилась.
— Я слишком дорога для вас, — услышал путешественник её голос.
— В каком смысле? — отозвался опешивший Венцель после некоторого молчания.
— Двести марок за час, — отвечала дама. — Это ведь вам не по карману, не так ли?
Йон Венцель не нашёлся что ответить. А дама, постояв немного, кивнула своим мыслям и быстро скрылась в тумане. Только глухой стук её каблучков о каменную мостовую ещё некоторое время доносился до ушей ошарашенного Венцеля.
Он ещё несколько минут стоял перед постаментом, сосредоточенно разглядывая надпись посвящения, но не вникая в слова, совершенно потерявшись в собственных мыслях, которые мельтешили в голове, суетились, метались, сталкивались и спотыкались — и всё это молча, не издавая ни звука.
Наконец, так и не придя ни к какому выводу по поводу странной дамы, он двинулся наугад туда, где, по его мнению, из площади брала своё начало какая–нибудь улица.
2
Он бесцельно проследовал по пустынной Вирховштрассе, пересёк в непроглядном тумане Альтерштрассе, миновал кафе «У Карла XII» и остановился на перекрёстке двух улиц, названия которых были ему пока неизвестны.
Здесь его внимание привлекло небольшое собрание, соверешенно неожиданное в столь ранний час, особенно на фоне пустоты, поглотившей другие улицы. Человек двенадцать или пятнадцать стояли в круг вокруг чего–то, что привлекло их внимание. Кажется, они разговаривали вполголоса и перешёптывались, иногда трогая друг друга за рукав, чтобы привлечь внимание.
Забывая о неожиданной встрече у памятника, Йон Венцель неторопливо направил свои стопы к собранию.
Приблизившись и остановившись в шаге от людей, он мог слышать их разговоры.
— Яблоки ужасно подорожали, — говорила какая–то дама, с виду домохозяйка почтенного возраста. — Ещё вчера они были по девятнадцать пятьдесят, а сегодня уже — двадцать две.
— Что же вы хотите, милочка, — отвечала ей другая. — В такое ужасное время живём.
— Вам бы следовало читать газету, — недовольно обратился к ним стоящий рядом солидный господин с тростью и в очках. — В газете ещё третьего дня было написано, что ожидается подорожание. Мэр лично обратился к гражданам с просьбой соблюдать спокойствие. Так что оставьте свои паникёрские настроения при себе, дамы.
— Рубашка–то у него белая, — сказала женщина на противоположной стороне круга.
— Франц Кирхоф всегда любил пофрантить, — отозвался кто–то. — Ничего удивительного, что он в белой рубашке. Хотя… лично я не стал бы надевать с белой рубашкой такой вызывающий галстук.
Минута прошла в молчании. Затем моложавый мужчина, по седым бровям которого и по волоскам, торчащим из носу, виден был, однако, его далеко не юный возраст, сказал:
— Наш мэр никогда не отличался дальновидностью. Впрочем, это не оправдывает поступка Франца Кирхофа.
— А я что говорю! — подхватила дама–домохозяйка. — Быть может, всё это от цены на яблоки. Франц Кирхоф очень любил яблоки, как и мой муж. Бывало когда он заходил к нам выпить рюмочку ликёра, всегда просил у меня яблоко. Наши, штрабахские, зелёные очень любил.
Мужчина в котелке, худой до сухости и нервный до подрагивания подбородка истерично произнёс:
— Я же говорил вам: что–то происходит. Что–то ужасное, но нам ничего не говорят. В лучших традициях тёмных веков… Они хотят всех нас убить, вот что.
— Перестаньте, герр Малер, — оборвала говорящего некая дама в возрасте. — Никто не убивал Франца Кирхофа, вы же знаете. Он сам сделал это.
— Почему вы так уверены? — с подозрением вопросил господин в котелке.
Йон Венцель подошёл вплотную и попытался заглянуть через плечи стоящих впереди, но ничего не увидел. Тогда он довольно невежливо протиснулся между Малером и ещё одним мужчиной и заглянул в пространство, окружённое собравшимися.
Там он увидел тело. Мужчина с окладистой чёрной бородой с проседью лежал на мостовой, неловко подвернув руку, похожую на сломанное крыло сбитой влёт птицы. Голова его была разбита, а одна ступня вывернута в сторону противоположную ествественной. На нём действительно была белая рубашка и тёмно–зелёный галстук, который кто–то назвал вызывающим. Кажется, Франц Кирхоф был ещё жив — по крайней мере, на губах его то и дело надувались кровавого цвета пузыри, что свидетельствовало о дыхании. Дыхание было частым и неровным.
— Кстати, герр Шмидт приглашает нас на партию в шафкопф, — произнёс за спиной Венцеля мужчина, стоящий слева. — Будет ещё господин Литке.
— Литке? — отозвался тот, что был справа от Венцеля.
— Литке, да. Я так и сказал.
— Хм… Я с ним играть не стану.
— Послушайте! — обратился к стоящим Венцель. — Послушайте, ему надо помочь.
Он шагнул к телу, склонился над ним, потянулся к руке, чтобы нащупать пульс.
Кто–то схватил его за рукав, дёрнул, не позволяя коснуться раненого.
— Что вы делаете?! — взвизгнула та дама, что сокрушалась о цене на яблоки.
— Нельзя его трогать! — поддержал тот мужчина, что схватил Йона Венцеля за рукав.
— Но ему нужно помочь, — удивлённо поднял брови Венцель.
— Вы бы лучше вызвали скорую, — сурово поджала губы другая дама.
— Но… я думал, что… — опешил Венцель, — я думал, это уже сделали… Неужели никто ещё не позвонил?
— Нет, вас дожидались, — сварливо отвечала та же дама. — Конечно же позвонили. Но это не даёт вам никакого права трогать несчастного.
— Что с ним случилось? — спросил Венцель. — Его сбила машина?
— Где вы видели машину? — покачала головой та же нервная дама.
— Он прыгнул с башни, — сухой господин в котелке кивнул на башню с часами, стоящую в конце улицы, метрах в ста. — Говорят, давно грозился это сделать, если мэра не переизберут. Оппозиционер.
— Зачем вы говорите о том, о чём ничего не знаете! — вмешался другой господин, тот, что звал собеседника на партию в шафкопф. — Он не с башни прыгнул, а со своего балкона. И не против мэра, а потому, что ему изменяла жена.
Венцель огляделся. Ближайший балкон, с которого можно было бы прыгнуть, находился метрах в двадцати.
Улучив момент, он таки протянул руку и коснулся запястья несчастного.
В тот же момент тело умирающего вздрогнуло, напряглось, а на губах выступила обильная кровавая пена. Захрипев, он попытался что–то произнести, но сил у него уже не достало. Тело Франца Кирхофа обмякло и через мгновенье всё было кончено — он умер.
— Ах! — взвизгнула какая–то из дам.
— Что вы наделали! — воскликнула другая. — Ведь я же говорила вам не касаться его!
— Убийца! — произнёс кто–то из мужчин.
— Что? — опешил Венцель. — По какому праву вы..! Я только хотел пощупать пульс.
— Вы врач? — спросил мужчина.
— Нет.
— Тогда зачем вам понадобился его пульс?
На этот вопрос у Йона Венцеля не было ответа.
Чьи–то руки схватили его сзади за плечи, стиснули, причиняя боль.
— Не удивлюсь, если выяснится, что это он и столкнул его, — тихо произнёс кто–то.
— И явился сюда, чтобы цинично и хладнокровно добить! — подхватил другой голос.
— Это не так! — воскликнул Венцель. — Я только хотел помочь ему!
— Да–да, помочь отправиться на тот свет, — голос принадлежал, кажется, сухому господину в котелке.
— Ужасно! — взвизгнула любительница яблок. — На глазах у стольких людей! Воистину, преступность захлестнула этот мир. Ничего не боятся.
— Полицию! — воскликнула другая дама. — Вызовите полицию, пока он не убил ещё кого–нибудь!
— Пока он не сбежал! — крикнул кто–то.
Ещё пара или две пары рук схватили Йона Венцеля за одежду, за шею. Его оправдания утонули в грозном гуле возмущённых голосов.
3
В полицейском участке, куда доставили Йона Венцеля прибывшие стражи порядка, его долго допрашивал дородный вислоусый комиссар Хольц, напоминавший моржа, обильно потевший и то и дело отдувавшийся, несмотря на ранний час, который не давал пока и намёка на жаркий день. Он пил много кофе, отчего потел и отдувался ещё больше. Венцелю хотелось посоветовать ему снять тёплый китель и пригубить лучше холодной лимонной воды, но он не осмелился. Впрочем, нет, комиссар не внушал ему страха — на вид он был благодушен, немного рассеян и вероятно состоял отцом трёх, а то и четырёх дочерей. Но погоны на его кителе смутили Венцеля и не позволили говорить на отвлечённые темы. К тому же служитель закона мог и обидеться на невинное предложение. Он ведь имел бы полное право подумать, что задержанный смеётся над его полнотой и манерами. А настраивать комиссара против себя было не в интересах подозреваемого в убийстве.
Прошло не менее полутора часов, пока полицейский заполнил кучу формуляров, задал не меньше полусотни вопросов и выпил не меньше восьми чашек кофе.
— Ну что ж, — наконец произнёс он, ласково поглядывая на задержанного маленькими добрыми глазками, — мне всё ясно.
— Да? — затрепетал Йон Венцель. — Надеюсь, вы понимаете, что я задержан по недоразумению, я всего лишь хотел…
— Конечно, конечно, — кивнул комиссар. — Вы не причастны к трагическому происшествию с господином Кирхофом.
— Абсолютно не причастен! — с радостной пылкостью подхватил Йон Венцель и даже схватил комиссара за руку. — Я только хотел помочь.
— Да–да, — досадливо поморщился полицейский, выдёргивая руку. — Не следовало вам трогать его, вот что я скажу, — произнёс он вполголоса, когда ему удалось освободиться.
— Понимаю.
— Да, это было вашей ошибкой.
— Да.
— Попробуйте–ка теперь избавиться от подозрений.
— Да, но… ведь вы только что сказали, что вам всё ясно, — растерялся Йон Венцель. — Что я не причастен.
— Сказал, — кивнул комиссар. — Именно такой первичный вывод я могу сделать на основании имеющихся в распоряжении следствия фактов. Но мы ещё не опрашивали свидетелей. Пилота. Жену господина Кирхофа.
— Пилота? — Венцель уставился на комиссара непонимающим взглядом. — Но там не было никакого пилота. По крайней мере, я не…
— Был, — перебил комиссар.
— Странно… — пробормотал Венцель.
— Самолёты не могут летать без пилота, — веско произнёс комиссар Хольц. — И почему вы решили, что его там не было? А вот фрау Шенкель утверждает, что был.
— Я не знаю, — совершенно растерялся Йон Венцель. — Я не понимаю, о каком самолёте речь.
— Не знаете… — комиссар глянул на задержанного с таким подозрением во взгляде, что по спине несчастного побежали холодные липкие мурашки. — О том, из которого выпал господин Франц Кирхоф.
— Так он выбросился из самолёта? — воскликнул Венцель, прикидывая, чем ему может грозить этот новый факт.
— Со всей очевидностью могу сказать, что именно из самолёта, — кивнул комиссар Хольц. — Из самолёта, который должен был доставить его на международный симпозиум. Только не выбросился, как вы сказали, а — выпал.
— Симпозиум… — как эхо повторил несчастный Венцель.
— Да.
Комиссар вдруг повалился на стол, закрыл руками лицо.
— О господи! — простонал он. — Какой врач был! Какой человек! Вы бы только знали!
— Мне ужасно жаль, — пролепетал Йон Венцель.
— Он лечил меня. И мою жену. Да что там, он лечил весь Штрабах!
— Но… Известно ли, почему он решил покончить с собой? — осторожно спросил Венцель.
Комиссар резко выпрямился, убрал руки от лица, твёрдо и холодно взглянул на подозреваемого.
— Покончить с собой? — повторил он едва ли не угрожающе. — А с чего вы решили, что доктор Кирхоф решил покончить с собой? Или вы пытаетесь пустить следствие по ложному следу? Сначала говорите, что доктор выбросился из самолёта, теперь…
— Что вы! — похолодел Венцель. — Упаси бог, господин комиссар! Я лишь предположил, что…
— Странно, странно, — не слушал его комиссар Хольц. — Это очень странно и подозрительно. Следствие совершенно уверено, что доктор Кирхоф был убит.
— Вот как…
— Именно.
— Простите, господин комиссар, просто я… Я ведь не знаю всех обстоятельств дела. Я прибыл на место происшествия, когда всё уже было кончено. Поэтому…
— Не всё, — покачал головой комиссар. — Отнюдь. Когда вы прибыли, господин Кирхоф был ещё жив. И если бы не вы…
— О боже!
— Впрочем, я не утверждаю, что в ваши намерения входило убийство доктора, которого ваш сообщник (примем это на минуту как версию) вытолкнул из самолёта.
— Нет–нет! — едва не запричитал Венцель. — Никакого сообщника не было. Я вообще не знал господина Кирхофа. Я прибыл в Штрабах буквально несколько часов назад, по делам.
— Это вы уже говорили, да, — комиссар налил новую чашку кофе. — Я лишь хочу показать вам, что расследование этого ужасного преступления ещё далеко от какой–либо окончательной ясности. Поэтому… поэтому я выпущу вас под подписку о невыезде.
— Вот как…
— Вот так, да.
— Ну что ж… Вы комиссар полиции, вам видней, — не решился возражать Венцель.
— Разумеется, — довольно улыбнулся комиссар Хольц, любовно поглаживая петлицы. — Уже четвёртый день. Четвёртый день, как я комиссар. Господин Ахенштерн — это наш прокурор — удостоил меня этой чести за долгую безотказную службу в рядах полиции.
— Что ж… Поздравляю вас, господин Хольц. Несомненно вы достойны своей новой должности, нисколько не сомневаюсь. Я знаю вас два часа, но уже вижу, насколько вы проницательны, как умеете делать логические построения, как преданы вы Штрабаху и делу охраны общественного порядка и безопасности.
— Да, — кивнул комиссар, — это так.
И принялся заполнять бланк подписки о невыезде.
4
Первой мыслью Йона Венцеля, после того, как он покинул полицейский участок, было — бежать. Бежать из Штрабаха срочно, немедленно, ибо никакой уверенности в благоприятном для него исходе расследования у него не было. Слишком очевидны были улики.
Однако от этой мысли пришлось отказаться, по крайней мере — пока. Во–первых, у него были дела в Штрабахе, ради которых он, собственно, и приехал в этот город. А во–вторых, он был почти уверен, что ему не показалось: за ним следили. От самого участка за ним следовал господин в шляпе с широкими полями, глубоко надвинутой на глаза. Дважды Йон Венцель останавливался — то завязать шнурок на туфле, то посмотреть в витрину. И оба эти раза настойчиво подтверждали ему: да, это слежка — господин в шляпе тоже останавливался и то с равнодушным видом поглядывал по сторонам, то раскуривал трубку.
«Вот как! — думал Йон Венцель. — Значит, комиссар совсем не так добродушно настроен ко мне, как хотел показать. Похоже, его подозрения в отношении меня достаточно сильны, коль скоро он приставил ко мне шпика».
Он долго петлял по незнакомым улицам, которые уже наполнялись прохожими, но оставались пока всё так же малолюдны. Он устал и хотел есть, но больше всего ему хотелось исчезнуть — раствориться в чистом воздухе этого красивого мирного города, оказавшегося по несчастью столь немилостивым к своему гостю. Раствориться, чтобы возникнуть далеко отсюда, у себя дома. И чтобы жена пахла утренними хлопотами и вишнёвыми пончиками, а на столе, рядом с горкой картофельного пюре, аппетитно румянилась индейка.
Не сразу Венцелю удалось вспомнить адрес, ради которого он собственно и приехал в Штрабах. Когда же он наконец вспомнил, никого не оказалось рядом, чтобы спросить, где это. Никого, кроме его молчаливого соглядатая.
— Эй, послушайте, — окликнул его Йон Венцель в отчаянии.
Шпик замер на противоположной стороне улицы. Он даже огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никого рядом нет, что Йон Венцель обращается именно к нему.
— Послушайте… — продолжал Венцель. — Да–да, вы, господин полицейский. Не скажете ли, как мне добраться до Майерштрассе, пять?
— Это вы мне? — заупрямился шпик, делая вид, что не верит очевидности.
— Здесь больше никого нет.
— Но я не полицейский.
— Отлично знаю, что полицейский. Вас приставил следить за мной комиссар Хольц.
— Чепуха! — вспылил шпик. И добавил довольно грубо: — Послушайте–ка, что за ерунду городит этот господин!
Слушать было некому, ибо узкая улочка была совершенно пуста и тиха, поэтому полицейский перестал озираться, спрятал усмешку и сказал:
— Вам на трамвай. Номер восемь. Остановка — за углом.
— Спасибо, — кивнул Йон Венцель и направился в сторону, указанную шпиком.
Трамвай подошёл не скоро, так что полицейский успел выкурить трубку (он настойчиво продолжал свою игру, изображая случайного посетителя уличного кафе рядом с остановкой), а Венцель — вспомнить два десятка сонетов Шекспира и памятник тому, кого никто не знал.
В трамвай шпик заскочил в последний момент и едва не отстал. Сидя в кафе, он так увлёкся разглядыванием какой–то девицы напротив, что едва не прозевал восьмой номер. Венцель даже начал переживать за него, пока шпик со всех ног нёсся к трамваю, пару раз споткнувшись и едва не растянувшись на тротуаре.
— Что ж вы так невнимательны! — пожурил он полицейского, когда тот, едва переводя дух, уселся в противоположном ряду и чуть сзади.
— Простите, — смутился шпик.
Наверное, он испугался, что Йон Венцель может пожаловаться на него комиссару.
Трамвай долго грохотал по малолюдным улицам и совсем сонным улочкам. Не меньше четверти часа прошло, прежде чем Йон Венцель увидел название нужной ему улицы на одном из домов. Вагон остановился как раз напротив дома под номером пять.
Некоторое время Венцель плутал по многочисленным коридорам искомого заведения, пока нашёл лестницу на второй этаж. И снова бродил по пустынным и гулким переходам, прежде чем уткнулся в дверь с надписью «Приёмная».
В небольшом и душном помещении сидели в красных, лоснящихся от времени и спин, креслах человек восемь или девять. Они замерли в напряжённых позах, а их по большей части осунувшиеся лица конторских тружеников не выражали ничего, кроме степенного и усталого ожидания. Никто не произносил ни слова.
— Вы к господину Штахельбергу? — обратилась к Венцелю пожилая дородная секретарша.
— Да. Меня зовут Йон Венцель. У меня сегодня встреча с господином Штахельбергом.
— Хорошо. Вам придётся подождать. Господин Штахельберг сейчас очень занят.
— Да.
Венцель нашёл глазами свободное кресло, подошёл, робко опустился в него, оказавшись между бородатым широкоплечим господином скучающего вида и поджарой дамой лет сорока, неистово обмахивавшейся веером.
Не прошло и пары минут, как в приёмной появился шпик. Он пробежал глазами по лицам, нашёл Венцеля, вздохнул с облегчением. Наверное, он потерял своего подопечного, заблудившись в безлюдных коридорах.
— Вы к господину Штахельбергу? — оторвалась от компьютера секретарша.
— А? — удивлённо поднял брови полицейский. — А–а, да–да, к нему!
Он проследовал к последнему незанятому креслу, сел.
— Ваше имя? — обратилась к нему секретарша.
— Моё имя? — шпик покосился на Венцеля, замялся. Подумав немного, ответил: — Я не имею права сказать.
— Хорошо, — улыбнулась секретарша. — Я запишу вас как Карла… э–э… Карла Крухеля.
— Мне не нравится эта фамилия, — покачал головой полицейский.
— Хм… — секретарша почесала ручкой переносицу. — Карл Гессе?
— Нет, умоляю, только не это! — покачал головой шпик.
— Карл Бауэр?
— Как–то очень уж непритязательно, — отозвался полицейский.
— Карл Венцель?
— Венцель — это моя фамилия, — встрепенулся Йон Венцель.
— Ах да, простите, — спохватилась секретарша.
— Карл Гутенштофф, — сказал вдруг широкоплечий господин рядом.
— Гутенштофф? — повернулся к нему шпик. — Хм… Гутенштофф… Пожалуй, а почему бы и нет.
— Карл Гутенштофф, — довольно кивнула секретарша, занося фамилию в журнал посетителей.
Наступила тягучая тишина. Слышно было только пощёлкивание клавиш под ловкими пальцами секретарши, звон мухи, бьющейся в окно, да сопение задремавшего бородатого господина.
Так прошло не меньше часа, а может быть, и больше. Йон Венцель заметил, что ещё двое господ и одна дама погрузились в сон. И даже секретарша, как ему показалось, нажимает клавиши с закрытыми глазами. Он перевёл взгляд на полицейского и с удовлетворением заметил, что тот тоже усиленно борется со сном. «Если он сейчас уснёт, можно будет потихоньку улизнуть», — подумал Венцель.
Но шпик не уснул.
— Да что же это такое! — внезапно и сердито произнёс он. — Можно подумать, у нас нет других дел, кроме как сидеть здесь и ждать!
Секретарша встрепенулась, зашикала, кивая на спящих.
— Тише, — прошептала она. — Будьте любезны не шуметь.
— Не буду, — заупрямился полицейский, поглядывая на Венцеля, словно ища у него поддержки. — Что же это такое?! Рабочий день скоро закончится, а ещё ни одного человека не приняли!
— В самом деле, — поддержал его Йон Венцель. — Я ехал в Штрабах двое суток ради этой встречи.
Приободрённый поддержкой шпик порывисто поднялся, подошёл к массивной, обитой дермантином двери в кабинет господина Штахельберга, резко распахнул её. Секретарша подскочила, замахала руками. Проснулся господин с бородой. Остальные спящие продолжали спать.
Шпик заглянул в кабинет. Потом повернулся к подбежавшей секретарше, удивлённо поднял брови.
— Там никого нет, — сказал он.
Венцель поднялся, подошёл, заглянул через плечо секретарши, которая пыталась оттеснить полицейского. Просторный кабинет был действительно пуст.
— Как же так? — произнёс он.
Секретарше наконец удалось отодвинуть полицейского и закрыть дверь.
— Ведите себя прилично, — сурово сказала она. — У господина Штахельберга очень ответственный пост, а вы… Пожалуйста, не мешайте господину Штахельбергу работать.
— Но там никого нет, — сказал Венцель.
— Да! — подхватил шпик. — Ни–ко–го!
— Вероятно, господин Штахельберг спустился в ресторан. Обычно в это время он обедает.
— Но из кабинета никто не выходил, — возразил Венцель.
— Никто, — подтвердил полицейский.
— А мне кажется, я видел господина Штахельберга, — неожиданно вставил бородатый господин. Кто–то из присутствующих поддакнул.
— Это вы его во сне видели, — не удержался Йон Венцель от едкого замечания. — Говорю вам, из кабинета никто не выходил.
— Там есть другая дверь, — сказала секретарша. — Господин Штахельберг всегда пользуется ею, когда хочет сходить на обед. Чтобы лишний раз не тревожить посетителей, которые могут спать. Прошу вас, сядьте на свои места, приём скоро начнётся. Господин Гутенштофф… господин Венцель… прошу вас.
Шпик с недовольным видом вернулся в своё кресло. Венцелю ничего не оставалось, как последовать его примеру.
Самым неприятным было то, что за тревогами и перипетиями этого дня Йон Венцель, кажется, совсем забыл, зачем он здесь. То есть, он помнил, что должен встретиться с господином Штахельбергом по делу чрезвычайной важности, но по какому именно — не мог вспомнить при всём старании. Он принялся перебирать в памяти события предыдущих дней, пытаясь найти ниточку, которая привела бы его к цели посещения, но что–то важное постоянно ускользало от его внимания. Вспомнить не удавалось.
— Приём окончен, — разбудил его голос секретарши.
Он встрепенулся, обвёл взглядом помещение. Нет, все оставались на своих местах, ни один человек не покинул своего кресла. В том числе и шпик, который тоже протирал заспанные глаза.
— Приём окончен, господа, — повторила секретарша. — Кто не успел попасть к господину Штахельбергу сегодня, тот завтра пройдёт вне очереди. Постарайтесь прийти пораньше.
Посетители молча поднимались с кресел, тянулись на выход. Венцель не торопился, он ждал, что нервы полицейского не выдержат и он последует за остальными. Но тот хоть и встревожился, кажется, однако упрямо оставался в своём кресле, не сводя с Венцеля выжидающего взгляда.
— Господа? — секретарша уставилась на шпика. — Приём окончен, господин Гутенштофф.
Сыщик заволновался. Его глаза забегали с лица секретарши на Венцеля и обратно. Он явно не знал, что предпринять. Приёмная опустела, оставались только они двое.
— Господин Гутенштофф?.. — настойчиво повторила секретарша.
С таким видом, будто готов заплакать, полицейский встал и неохотно направился к выходу. Тогда Венцель внезапно поднялся, подскочил к двери в кабинет, открыл её и заглянул внутрь.
— Приём окончен! — закричала секретарша, бросаясь перекрывать доступ в святая святых. Но Венцель и не собирался вторгаться в эту пустую затхлую тишину. Он только хотел убедиться, что кабинет пуст. Убедился.
— Он что же, так и не появлялся? — спросил у секретарши.
— У господина Штахельберга очень ответственный пост, — расплывчато отвечала та, закрывая дверь. — Он не мог бы не появиться. Прошу вас, господин Венцель, покиньте помещение. Приём окончен.
Ну что ж, по крайней мере у него теперь было время вспомнить, с какой целью он прибыл в Штрабах.
5
Полицейский играл на волынке. Нет, не тот, что сопровождал Йона Венцеля, а другой — в униформе и шлеме. На столике уличного кафе перед ним стояла чашка остывшего кофе, лежал недоеденный рогалик. Гнусавая мелодия, выдуваемая стражем порядка, была протяжной и грустной.
Изголодавшийся Йон Венцель жадно поглощал индюшачью лодыжку с горой картофельного пюре. Неподалёку пристроился Карл Гутенштофф и закусывал студнем с горчицей.
Пережёвывая жёсткую индюшатину, Йон Венцель принял окончательное решение немедленно бежать из этого города. Конечно, он не выполнит задание своего работодателя, не встретится с господином Штахельбергом, наверняка получит выговор, а может быть даже, его уволят… Но он должен бежать из этого города. Ведь пять минут назад он разговаривал с комиссаром Хольцем…
— Вас к телефону, — сказал шпик, через стол протянув Венцелю сотовый.
— Меня? — удивился тот.
— Ну да. Ведь это вы — Йон Венцель?
Испуганный подследственный вытер губы салфеткой, принял из руки полицейского нагретую трубку.
— Йон Венцель слушает, — произнёс он, едва ворочая языком, облизнув сразу ставшие непослушными губы.
— Вам надлежит срочно явиться в участок, — сказал ему голос комиссара. — В деле открылись новые обстоятельства чрезвычайной важности. Необходимо ваше присутствие.
— Что–нибудь плохое? — трепеща спросил Венцель.
— Боюсь, что да, — отвечал комиссар после непродолжительного молчания.
— Меня арестуют?
— Это зависит от результатов очной ставки.
— Очной ставки? С кем?
— С фрау Кирхоф и пилотом.
— Вот как…
— Я жду вас.
— Но могу я доесть индейку? Дело в том, что я обедаю.
— Да, — неуверенно отвечал комиссар, поразмыслив минуту. — Доедайте и сразу в участок. Инспектор Гутенштофф будет вас сопровождать.
— Откуда вы знаете его фамилию? — опешил Венцель.
— Чью?
— Инспектора.
— Это не его фамилия. Это его служебный псевдоним.
— Ах вот как… Понятно.
— Я жду вас, — комиссар дал отбой…
Вот такой был короткий и не сулящий ничего хорошего разговор. А тут ещё этот полицейский с его тоскливой волынкой…
И вот теперь Йон Венцель окончательно утвердился в мысли о побеге. Сейчас он пообедает, сядет на трамвай и отправится на вокзал. И пусть только Карл Гутенштофф попробует ему помешать! Теперь ему, Йону Венцелю, нечего терять. Говорят же, что одно преступление неизменно тянет за собой другое. Сейчас он нисколько не сомневался, что рука его не дрогнет устранить ненавистного прилипчивого шпика, если тот сделает хоть одно движение, чтобы воспрепятствовать побегу.
— Я еду на вокзал, — сказал он, расправившись с индейкой и торопливо выпив кофе.
Гутенштофф недоумённо принял его вызывающий взгляд, пожевал губами.
— Но вы так и не посетили господина Штахельберга, — напомнил он, пораздумав.
— Неважно. И не вздумайте мне мешать, — отвечал Венцель. — Я не остановлюсь ни перед чем!
— Дело ваше, — пожал плечами шпик. — Признаться, мне и самому уже надоела вся эта беготня. А у меня жена вот–вот должна родить.
— Вот и славно, — Венцель нашёл в себе силы улыбнуться ему. — Каким трамваем я могу доехать до вокзала?
— Восьмым номером, — отозвался шпик. — Собственно, других номеров у нас и нет.
— Вот как…
— Это совсем рядом, — продолжал Гутенштофф. — Но я буду вас сопровождать, уж не обессудьте — работа такая.
— Но вы не станете мне препятствовать? — уточнил Венцель.
— С чего бы вдруг. Чем скорее вы исчезнете, тем быстрей я смогу пойти домой.
— Хорошо.
В сопровождении шпика Йон Венцель дошёл до остановки, дождался трамвая номер восемь, доехал в вагоне–погремушке до вокзала, задержался ненадолго у памятника тому, кого никто не знал, проследовал в пустующее здание вокзала.
— Последний поезд ушёл две минуты назад, — отвечала сонная кассирша на его просьбу продать билет.
— И больше не будет?
— Нет. Сегодня — нет.
— А какой–нибудь другой поезд в том же направлении?
— Нет, другие поезда через Штрабах не ходят.
— Никакие?
— Никакие.
Карл Гутенштофф, который с невинным видом занял очередь в кассу за Йоном Венцелем, коснулся его плеча:
— Вы задерживаете других пассажиров, — сказал он.
— Поездов больше не будет, — отвечал Венцель. — Можете не стоять.
— Хитрец, — погрозил пальцем шпик. — Сами–то вы что здесь делаете?
— Хочу купить билет.
— Вот и я тоже.
— Но поездов сегодня больше не будет.
— Не будет сегодня, будет завтра. Отойдите от кассы, не мешайте другим, если вам не нужен билет.
Смущённый Венцель уступил Гутенштоффу место. Выйдя на середину пустынного зала, в котором не было больше ни единого человека, он остановился и стал думать.
Конечно, он мог бы потребовать билет хотя бы на завтрашний поезд, но не сомневался, что комиссар не позволит ему пробыть на свободе до завтра. Наверняка Хольц уже объявил преступника в розыск, и сейчас десятки, если не сотни инспекторов в надвинутых на глаза шляпах шныряют по улицам Штрабаха с фотографиями Йона Венцеля в руках.
Бежать! Любыми путями бежать отсюда, немедленно, пока его не упекли в тюрьму, а то и, чего доброго, не казнили!
Воровато оглядевшись, он устремился к выходу на перрон. Уже открывая дверь, увидел Карла Гутенштоффа, который бросился за ним, так и забыв о желанном билете.
6
Колея тянулась и тянулась среди полей, холмов и редких рощ. Йон Венцель размеренно шагал по шпалам. Он давно устал, но заставлял себя двигаться без остановок — ему очень хотелось оказаться к вечеру как можно дальше от Штрабаха, забыть его как страшный сон. А завтра он будет уже в другом городе. Ведь если есть железная дорога, значит она обязательно рано или поздно приведёт его в какой–нибудь город. Ну или хотя бы на какую–нибудь станцию, где есть гостиница, в которой он сможет дождаться проходящего поезда. Хотя, нет… ведь если комиссар Хольц объявил его в розыск, наверняка его фотография разослана по всем близлежащим населённым пунктам. А быть может, он объявлен в международный розыск, как особо опасный преступник, убивший светило медицины! Тогда ему вообще не скрыться от расплаты…
Эх, и надо же было ему убивать этого доктора Кирхофа! Ведь всё равно тот умер бы сам через минуту–другую…
Карл Гутенштофф следовал позади, метрах в двадцати. Он, кажется, совершенно устал и не мог дождаться того момента, когда наконец Йона Венцеля схватят. Следовало отдать должное этому полицейскому — он был хорошим служителем закона, проявлял завидное упорство в борьбе с преступностью, не боялся оказаться с Венцелем лицом к лицу и один на один, шёл до конца в исполнении приказа своего начальства. Венцелю было бы очень жаль, если бы пришлось в конце концов убить и этого человека, чтобы избавиться от преследования.
Спрятаться здесь, в полях, было совершенно негде, поэтому когда Венцель оглядывался, полицейский немедленно поворачивался и принимался идти в обратную сторону, делая вид, что оказался здесь совершенно случайно. А один раз он принялся гоняться за бабочкой — видимо, для того, чтобы Венцель принял его за энтомолога, невесть как забредшего в эти поля. И хотя сачка у него при себе не было, выглядел он довольно похоже, умело изображая ухватки какого–нибудь страстного любителя насекомых. Как бы то ни было, Карл Гутенштофф проявлял недюжинную находчивость в том, чтобы не позволить Венцелю разоблачить его и догадаться, что за ним ведётся слежка. Йон Венцель старательно гнал от себя мысль о том, что крепко сидит на крючке у комиссара Хольца и что стоило бы, пожалуй, пойти с повинной — ведь за совершённое преступление нужно отвечать. Думал ли он когда–нибудь, что станет убийцей? Нет, конечно нет, и суд обязательно пойдёт ему навстречу, приняв во внимание его законопослушное прошлое…
Обойдя очередной невысокий холм, Йон Венцель вдруг споткнулся на ровном месте и едва не упал. Он удивлённо посмотрел себе под ноги. И растерялся.
Здесь рельсы заканчивались.
То есть, они просто заканчивались и всё. Это был не какой–то разрыв, не поломка, не ремонт — железнодорожный путь просто обрывался и никакого продолжения ему не было видно вплоть до самого горизонта. И даже всё пространство впереди заросло буйной травой, и не было никакого намёка на насыпь, которая говорила бы о том, что железнодорожный путь здесь когда–то всё же проходил.
— Что это? — спросил Венцель, повернувшись к полицейскому.
Карл Гутенштофф успел сделать вид, что давно уже спит в траве в стороне от колеи.
— Что это? — повторил Йон Венцель, приблизившись к полицейскому.
Тот, старательно изображавший из себя спящего, вздрогнул и поднялся. Сев, он принялся протирать глаза и зевать, будто его вывели из состояния глубочайшего сна. Он даже недовольно проворчал что–то вроде «Нигде не дадут поспать!»
— Что это? — в третий раз повторил Венцель. — Где железная дорога?
— Так вот она, — Карл Гутенштофф указал пальцем на колею.
— Да, это я вижу, — нетерпеливо замотал головой Венцель. — Но вы посмотрите вот туда. Видите?
— Не вижу, — отвечал шпик.
— Именно! И я — тоже не вижу. Потому что её нет. Железной дороги нет. Она просто обрывается здесь, посреди поля, и всё.
— Ну и что?
— То есть как это «ну и что»?.. А где же поезд?
— Не знаю. Что вы пристали ко мне, дайте поспать!
— Где железная дорога, я вас спрашиваю? — чуть не закричал Венцель, хватая полицейского за пиджак и встряхивая. — Где поезд?
— Да он сумасшедший, — забормотал Гутенштофф, вырываясь. — Человек мирно спал, никого не трогал… А этот… будит его и требует подать ему поезд… Точно, сумасшедший.
— Если поезда нет, значит он уехал, — сказал шпик через минуту, когда Йон Венцель оставил его в покое, отошёл и уселся на рельс, едва не плача. — Я не стрелочник, но думаю, что раз железная дорога обрывается здесь, значит так нужно.
— Кому? — выдавил Венцель сквозь зубы.
— Что — кому?
— Кому — нужно?
— Откуда я знаю. Министерству путей сообщения Штрабаха, надо полагать.
— Но поезда не умеют ходить без рельсов, вам это известно?
Карл Гутенштофф задумчиво посмотрел на Венцеля.
— Скажите ещё, что самолёты не умеют летать без воздуха, — пробормотал он, подумав.
Тут Йон Венцель понял, что его соглядатай элементарно необразован. Наверняка это был какой–нибудь бывший двоечник из предместий, который не смог найти себе лучшего применения, чем стать инспектором полиции.
Он тяжело поднялся, отёр набежавшие на глаза слёзы и пошёл по колее обратно.
В Штрабах они вернулись, когда по улицам его уже гулял с фонарём вечер.
7
Выйдя на вокзальную площадь, Йон Венцель дошёл до памятника тому, кого никто не знал. Присел на основание постамента и принялся массировать ноги, которые гудели и ныли от усталости. Шутка ли, за этот безумный день он проделал несколько десятков километров!
Карл Гутенштофф устроился неподалёку, прямо на мостовой. Он был совершенно измучен, выглядел подавленным и недовольным тем, что Венцель вынудил его проделать столь большие расстояния пешком.
К вечеру улицы и площадь Штрабаха наполнились людьми. Горожане прогуливались (по большей части молча), сидели в уличных кафе или на принесённых с собой складных стульчиках (тоже всё больше молча), молча читали газеты, молча курили или молча пили из термосов кофе. Милый тихий вечер в приятном городе с прошловековой архитектурой, таком тихом, сонном и добром. Похоже, только Йон Венцель чувствовал себя здесь неуютно, за что уже тридцать раз обругал себя самыми последними словами. Но… сделанного не воротишь, — так, кажется, говорят.
Теперь ему оставалось лишь пойти в полицейский участок и явиться к комиссару Хольцу с признанием: «Да, я совершил убийство и готов понести наказание согласно законам города Штрабаха. Да, это я добил господина Кирхофа, которого мой сообщник выбросил из самолёта… С какой целью я организовал это преступление? С целью жениться на вдове убитого, Эльзе Аннабель Кирхоф, которая давно уже является моей любовницей… Как я осуществил убийство? Очень просто — с помощью иголки, отравленной ядом кураре, которую припас заранее, на случай, если господин Кирхоф останется жив после падения. Я уколол его в запястье под видом того, что хочу пощупать пульс несчастной жертвы. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном, но прошу власти города Штрабаха быть предельно строгими в выборе наказания для убийцы этого замечательного человека, почётного гражданина, светила медицинской науки».
Йон Венцель зарыдал. Он хотел бы подавить плач и всхлипывания, боясь потревожить мирный отдых горожан, но на него, кажется, никто не обратил внимания. Все сосредоточенно курили, читали, гуляли, пили пиво и кофе.
Хорошенько выплакавшись, он посидел ещё несколько минут, отрешённо глядя себе под ноги.
В стороне нетерпеливо курил свою трубку Карл Гутенштофф, бросая сквозь клубы дыма цепкие взгляды на своего подопечного. «Когда же он наконец пойдёт в участок!» — думал, наверное, этот преданный своему делу полицейский. Добрейшей, в сущности, души человек — безобидный, умный, ловкий и не лишённый сочувствия. Ведь он мог запросто пристрелить Венцеля при попытке к бегству, однако не сделал этого даже тогда, когда преступник улепётывал от него по шпалам. Рискуя собственной жизнью, он преследовал убийцу, не теряя его из виду, не отставая ни на шаг. И вот теперь тоже: он ведь мог бы подойти, достать наручники и сказать: «Вы арестованы, господин Йон Венцель, я обязан доставить вас в участок». Но нет, он не делает этого — он даёт преступнику возможность самому явиться за правосудием, он даёт ему шанс вспомнить о своём человеческом облике, он верит в него…
Йон Венцель вздохнул. Поднялся.
«Что ж… нужно идти, пожалуй…»
Он уже совсем было собрался двинуться в участок, когда вспомнил вдруг свой утренний разговор у пустого постамента памятника тому, кого никто не знал.
Обернувшись, некоторое время смотрел на постамент, на основании которого только что сидел. Потом кивнул своим мыслям и стал взбираться на мраморную плиту.
Взобравшись, оглядел площадь.
Кажется, его движение не осталось незамеченным — десятки пар глаз устремили на него свои взоры: удивлённые, растерянные, возмущённые, испуганные, выжидательные.
Потоптавшись на месте, Венцель попытался найти нужную позу — позу, которая олицетворяла бы его нынешнее состояние, его жизнь, его судьбу, его… преступление.
Нужная поза нашлась не сразу, но через минуту–другую она вдруг явилась будто свыше, будто озарение, ниспосланное ему то ли богом, то ли совестью. А может быть, — любовью к этим ни в чём не виноватым людям, один из которых стал его жертвой.
Йон Венцель опустился на колени. Он опустился на колени и в молчаливой мольбе протянул руки к площади, к людям, к Карлу Гутенштоффу…
Над площадью пронёсся многоголосый ропот. Люди устремились к памятнику, забывая о своём пиве, сигарах, кофе и газетах. Заплакал где–то мальчик, которому неловкий грузный господин наступил второпях на ногу. Где–то взвизгнула женщина. У памятника моментально создалась давка. Кажется, весь город Штрабах ринулся на площадь изо всех прилегающих к ней улиц — потоками, готовыми смести всё на своём пути. В абсолютным молчании они приближались, затапливали площадь. Уже не десятки, а сотни (может быть, даже и тысячи) глаз смотрели на Йона Венцеля, на этого преступника, убийцу, наконец–то осознавшего своё злодеяние и готового к раскаянию…
— Немедленно слезьте! — крикнула дама, стоявшая к памятнику ближе всего. — Вы не имеете права там стоять! Это памятник тому, кого никто не знал, но никак не убийце доктора Кирхофа, притче во языцех, страшилке детей города Штрабаха!
— Да–да, — подхватил какой–то господин. — Пусть он сойдёт. Эй, впереди, сбросьте его с пастамента!
— Он сумасшедший, этот господин, — сказала та дама за двести марок, что стала первым человеком в Штрабахе, с которым Венцель удостоился говорить. — Ещё утром он показался мне странным. И я нисколько не была удивлена, когда оказалось, что это он убил доктора Кирхофа.
— Да–да, — подхватил Карл Гутенштофф, — без всякого сомнения сумасшедший! Он требовал у меня поезд и железнодорожные пути, будто я — это министерство путей сообщения.
— И возмущался тем, что через Штрабах ходит только один поезд, — поддержала невесть откуда взявшаяся кассирша с железнодорожного вокзала, припивая кофе из пластикового стаканчика.
— Да вы на лицо его посмотрите, — добавил кто–то сквозь дым курящейся сигары. — У него же взгляд маньяка! Я психолог и физиогномист, и я говорю вам: этот человек — маньяк! Его нужно изолировать от общества, и чем скорей, тем лучше!
— А вы знаете, что пропал господин Штахельберг? — вставила секретарша господина Штахельберга. — Никто не видел его с самого утра. А между тем, этот господин, этот закоренелый преступник, приходил к господину Штахельбергу. И был очень недоволен, что его не приняли. Наглец! Не сомневаюсь, что господина Штахельберга так и не найдут. Живым…
Выкрикнув это, она разрыдалась. Какая–то дама, стоящая рядом, бросилась её утешать.
Йон Венцель растерялся. Он совсем не ожидал, что его искреннее раскаяние вызовет такую реакцию. Невольно он опустил руки. Взвизгнула какая–то дама, опасаясь, наверное, что сейчас убийца достанет из кармана револьвер и начнёт палить во всех без разбору. Кто–то бросил в Венцеля стаканчик с недопитым кофе. Это стало сигналом, и скоро в него полетело всё, что нашлось в руках у возмущённых горожан: газеты, носовые платки, окурки, яблоки, апельсины и бутерброды.
Йон Венцель не уклонялся от летящих в него предметов. Он лишь закрыл глаза и умолял: «Простите! Простите меня!»
Чьи–то сильные руки схватили его за штанину, потянули вниз, угрожая сбросить с постамента на мостовую.
— Да! Да! — закричали в толпе. — Сбросьте его!
— Мало того, что он убил лучшего гражданина города, он ещё и топчет наши памятники! Вандал!
— Господи, господи, накажи его!
— Мерзавец! Подлец!
— Из–за таких вот нелюдей дорожают продукты!
— Да, это потому, что приходится платить больше налогов на содержание полиции.
— Скоро выборы. Голосуйте за оппозиционную партию!
— Да здравствует мэр Штрабаха!
— Да бросьте! Ваш любимый мэр ничего не делает для борьбы с такими вот исчадиями ада!
— Убейте его! Око за око, смерть за смерть!
— Осторожно, вы сломаете мне ногу!
— Граждане, опасайтесь карманных воришек!
— Как он смотрит, как он смотрит, подлец! Да он же презирает нас!
— Ненавидит!
— Да говорят же вам, он сумасшедший.
— Безумец!
— Прочь с постамента!
Ещё десяток рук протянулся к Венцелю, хватая за всё, до чего могли дотянуться…
Он упирался, так что стащить его удалось не сразу и только после того, как на помощь гражданам явился суровый полицейский. Венцель узнал его — это был тот, что играл на волынке в уличном кафе.
К счастью, после того как Венцель свалился с постамента, пребольно ударившись о булыжники мостовой, интерес к нему тут же был утрачен и только поэтому его тут же не растоптали и не разорвали возмущённые горожане. Задние уже не видели его, а передние стеснялись сделать что–либо в присутствии представителя власти.
— Что же это вы?.. — с укоризной произнёс полицейский–волынщик.
— Он сумасшедший, — подсказал явившийся тут же Карл Гутенштофф. — Сейчас я вызову карету скорой помощи.
— Да, поторопитесь, — отвечал полицейский, — а то мало ли что взбредёт в его больную голову.
— Буквально минуту, — уверил Гутенштофф, доставая сотовый.
— А я‑то уверовал, что вы настоящий благородный полицейский, господин Гутенштофф, — с укоризной произнёс Венцель.
— Не знаю, во что вы там уверовали — это не моё дело, — бросил шпик. — Я не имею никакого отношения к полиции, я всего лишь служащий фирмы по изучению предпочтительных форм проведения досуга гостями города Штрабаха. И что за дурацкое прозвище вы мне придумали? Меня зовут Йон Венцель.
— Вы с ума сошли?! Это меня зовут Йон Венцель!
— Вас зовут Карл Гутенштофф. По крайней мере, под этим именем вы значитесь в гостинице, где остановились.
— Я нигде не останавливался, не знаю никакой гостиницы, — пробормотал Йон Венцель, чувствуя, что и правда сходит с ума.
Но Гутенштофф—Венцель уже не слушал его оправданий. «Да, да, на вокзальную площадь… Скорей, он, кажется, буйный», — говорил он в телефон.
Когда через десять минут прибыла карета, Йон Венцель, залитый кофе, усыпанный пеплом, обрызганный апельсиновым соком и запачканный маргарином от бутербродов, уже никого не интересовал, кроме полицейского–волынщика, который не сводил с закованного в наручники преступника грустного взгляда немигающих глаз.
8
Этого господина с бородкой, с приятным баритоном, с по–еврейски черносливовыми глубокими глазами звали Мартин Скорцезе. Он внушал покой и уверенность, с ним хотелось забыть обо всём и терпеливо ждать благоприятной развязки цепи неудач. Йон Венцель уже больше часа отвечал на его вопросы, но так и не смог понять, куда клонит психиатр, что, впрочем, нисколько его не тревожило. Он согрелся, смирился и притих душой.
А господин Скорцезе аккуратно сложил заполненный бланк очередного теста, бросил его в ящик стола и сладко потянулся.
— Нормальный человек не может не протестовать, когда его обвиняют в недостатке благоразумия и неадекватном восприятии реальности. Почему же вы не протестуете, господин Гутенштофф? — внезапно спросил он после того, как несколько минут внимательно и молча разглядывал пациента.
— Но я не…
— То–то и оно, — снисходительно улыбнулся психиатр, не дослушав. — То–то и оно. Впрочем, не беспокойтесь, ваше лечение не продлится дольше предполагаемого срока окончательного выздоровления.
— Я здоров! — почти закричал Йон Венцель.
Господин Скорцезе с выражением бесконечного терпения покачал головой, коснулся рукава несчастного.
— Все мы кажемся себе здоровыми, пока кто–нибудь не откроет нам глаза на истинное положение вещей, — сказал он. — Мы как бы спим. Спим и видим сон, в котором мы — почтенные отцы и матери семейства — ведём нормальную жизнь с её мирными обедами, тихими ужинами, минутами любви и часами ожидания некой горести; с её маленькими неудачами и большими победами (или наоборот), с её росяными рассветами и кровавыми закатами, с её поездами и офисами, друзьями и врагами, кошками и голубями, недосягаемостью целей и безнадежностью мечтаний; с её колодцами, скелетами в шкафах, семейными фотографиями, непослушными детьми, памятниками благоразумию, пречистыми девами…
— Да–да, я понял, — простонал Венцель, не выдержав и перебив. — Я понял, но…
— Вы спите, господин Гутенштофф, — отмёл Скорцезе его возражения. — Я словно трясу вас за плечо и говорю: «Проснитесь! Проснитесь! Всё, что вы видите, слышите, чувствуете — это всего лишь сон. Сон вашего разума, который, как вам известно, рождает чудовищ». Согласны ли вы проснуться, господин Гутенштофф?
— Я?.. Я… Да… пожалуй, да… — Йон Венцель, кажется, совсем растерялся. — Я согласен. Проснуться. Я даже хочу этого. Очень! — добавил он с внезапным воодушевлением и мукой.
— Вот и славно, — господин Скорцезе с довольной улыбкой на лице откинулся в кресле. Он достал из нагрудного кармана сигару, некоторое время нюхал её, перемещая эту зелёную торпеду туда и сюда под носом, словно то была пила, которой он собрался перепелить себе губу. Потом неспеша отрезал кончик щипчиками для ногтей, взятыми тут же, на столе. Ещё более неспешно раскурил. Поплыли к потолку густые ароматные клубы дыма.
— Вот и славно, — повторил он, внимательно разглядывая тлеющий кончик и втягивая носом исходящую от сигары синеватую струйку дыма. Громко чихнул. — Мы поможем вам преодолеть ваше состояние, господин Гутенштофф.
— Да. Надеюсь.
— Мы вылечим вас, обязательно вылечим. Вы убили светило нашей психиатрии, доктора Кирхофа — это очень большая утрата для нас и, разумеется, для вас. Но я тоже обладаю неплохим опытом и квалификацией, и я говорю вам: не всё потеряно, господин Гутенштофф, я разбужу вас.
— Я сплю, — обречённо произнёс Йон Венцель.
Врач кивнул, затянулся новой порцией дыма.
— Спите, — подтвердил он.
— И всё мне снится: Штрабах, вокзал, памятник, вы…
— Не всё, — перебил доктор. — Не всё, господин Гутенштофф, не позволяйте болезни совсем погубить ваше сознание ложными и запутанными импульсами бессознательного.
— Да, конечно.
— Ну что ж… Я рад увидеть определённый прогресс в вашем состоянии. Потребность быть разбуженным — это уже очень хорошо, это весьма благоприятный симптом.
— Спасибо, что пытаетесь мне помочь, доктор Скорцезе. Я могу идти?..
— Идите, господин Гутенштофф, идите. Сегодня на обед как всегда ваша любимая индейка и вишнёвые пончики.
Вожделение
Главный персонаж не является автором романа, об этом следует сказать сразу. Роман будет называться «Вожделение» и начинаться он будет так.
Это же просто удовольствие было смотреть, с каким непосредственным аппетитом Она обгладывает куриную ножку, как уверенно и громко Её белые зубки перемалывают хрящички, и как потом отёртые салфеткой губки касаются чашки белого кофе, втягивая ароматную жидкость, и как надуваются щёчки в выполаскивающем рот движении.
— Чего? — спросила Она между двумя глотка́ми, заметив его неотрывный взгляд.
— А? — смутился он.
— Чего, говорю, — повторила Она.
— Ничего, — он улыбнулся, опустив глаза, уставясь на зубочистку, небрежно брошенную Ею на блюдечко. К острой палочке прилипло волоконце куриного мяса. Вожделение обуяло его при виде этого нежного натюрморта.
— Вожделение обуяло меня, — так и сообщил он, поднимая глаза, но Она уже вставала из–за столика, с лёгким щелчком закрывая дамскую сумочку.
Он замер, со страхом понимая, что всё кончено, что сейчас Она просто уйдёт, оставив его у столика, над тарелкой салата, к которому он так и не прикоснулся — не успел, потому что напротив подсела Она, и, едва увидев Её, он вдохнул небо, да так и не выдохнул — какая уж тут речь о салате. Теперь небо плескалось в груди, распирая, сдавливая и грозя лопнуть его, как воздушный шарик.
А Она, не коснувшись его более ни одним взглядом, быстрым движением оправила юбку и пошла к выходу из кафе.
«Боже, не допусти!» — мысленно простонал он. Но бог, видимо, задохнулся, оставшись без неба и своих излюбленных облаков, или был очень сердит невольной кражей и готов допустить всё что угодно. Во всяком случае, у Неё не сломался по дороге каблук, ни один столик не зацепился острым углом за Её юбку, и ни один хулиган не схватил Её за руку, понуждая искать защиты.
Тогда он быстрым и робким движением схватил с блюдечка зубочистку и, коснувшись её в мгновенном поцелуе, тут же сунул в карман. Поцелуй был столь страстным и неловким, что зубочистка впилась в губу, проколов ткани и став причиной какого–то непопулярного заболевания лимфатической системы. В результате этого поцелуя он умер в свои девяносто два не от старости, а от малоизвестной болезни. По крайней мере, так ему хотелось думать. Но это будет потом и нескоро, а сейчас он даже не обратил внимания ни на укол, ни на проступившую капельку крови. От стыдливого и — главное — томительного поцелуя небо немедленно взорвалось в нём и выплеснулось изо рта наружу, затопив всё вокруг. Лишившись дыхания, он некоторое время по–рыбьи беззвучно шевелил губами, наблюдая, как Она открывает дверь и выходит. И только когда дверь захлопнулась за Нею, о чём возвестил колокольчик, он бросился следом.
— Эй, а заплатить?! — крикнул кто–то, хватая его за рукав.
Не оборачиваясь, он сунул официанту кошелёк и конвульсивно задёргался, вырывая себя из цепких пальцев общепита, всегда готового опустить человека с небес на бренную землю. Однако официант, преградив ему дорогу, неторопливо отсчитал нужную сумму, не поскупился на чаевые и только потом освободил путь. Всё это обязательно должно быть рассказано в деталях.
А о том, как он догонял Её, рассказано не будет — эти малоинтересные подробности не войдут в окончательный вариант романа.
Впрочем, следует поведать о том, как, потеряв Её из виду, он метался по проспекту, забегал в переулки, заглядывал во дворы и даже стал невольным свидетелем интересной сцены между двумя супругами.
Но наконец он увидел Её — Она шла по какой–то тесной боковой улочке к трамвайной остановке.
— Как странно и необыденно я взволнован! — бормотал он, устремляясь следом. — Какое буйство чувствований вершится в груди моей!
Его бормотание, видимо, и привлекло к нему тех двух типов.
Он всегда думал о собственном здоровье (даже когда в свои девяносто с чем–то умирал от редкой болезни лимфатической системы), а потому никогда не курил. Но те два типа курили, кажется, много и часто, потому что пока они били его за то, что он не курит, дыхание у них было тяжёлым, сиплым и прерывистым, и то и дело кто–нибудь из них останавливался, чтобы прокашляться.
Мне немного больно, — думал между тем он, — однако я не могу назвать этих типов бесчестными людьми, поскольку они держатся в рамках приличия: не пинают меня ногами и не бьют во всевозможные интимные места. А счастье жизни зачастую в том и состоит, что тебя не пинают по яйцам. Хотелось бы, тем не менее, чтобы они поскорей закончили бить меня, ибо сердце моё разрывается при виде вон того трамвая, что вывернул с проспекта и теперь спешит к остановке. Ведь Она сейчас уедет!
Он так и сказал им с горечью безнадёжности:
— Ведь она сейчас уедет!
— Да он, кажется, чокнутый, чего его бить, — раздумчиво произнёс один из типов, с сожалением покачав головой. — Не удивительно теперь, что он не курит.
Об этом типе надо рассказать подробней, потому что судьба его в тот день сложилась трагично, и, возможно, если бы он не просил у прохожих закурить, всё повернулось бы иначе. О его печальной участи обязательно будет поведано, ближе к концу романа.
Во всяком случае, эти два типа прекратили избиение и ушли, оставив его лежать на тротуаре. Он, однако, не стал лежать, а поднялся и бегом бросился за Ней, которая уже поднимала свою дивную ножку на ступеньку трамвая.
В трамвае они оказались рядом, лицом друг к другу, отчего сердце его стучало чаще трамвайных колёс, которые — уж поверьте — отстукивали довольно быстрый ритм.
Кстати, только тут он заметил, что глаза у неё по–корейски миндалевидны и черны, как преисподняя, и что, как во тьме преисподней, бьётся на дне этих глаз какой–то дикий огонь. Душа его моментально истлела в глубине Её взгляда.
— Душа моя истлела в глубине вашего взгляда, — признался он.
— Чего? — не поняла Она, незаметно принюхиваясь к подмышке руки, которой держалась за верхний поручень.
Кстати, Её подмышки — это совершенно отдельная история, заслуживающая целой главы. Очень было бы интересно рассказать о них прямо сейчас, но следует воздержаться и отложить рассказ на несколько абзацев, ибо всему своё время и место. А непосредственно сейчас будет упомянуто только о том, что никакого особого запаха подмышки в ту минуту не издавали, хотя в другое время бывало пахли жестью или хлебной корочкой.
— Душа моя истлела в глубине вашего взгляда, — повторил он. — Вожделение обуяло меня, я изнемогаю от любви и предвкушения счастья.
— Чего? — Её взгляд со скукой пробегал по вывескам, мелькавшим за окном. На магазине для новобрачных глаза Её задержались не меньше чем на полминуты, и он понял, что Она согласна.
Он хотел было пояснить свою мысль об истлении, но в этот момент Она заторопилась к выходу.
Выходя следом, он как–то неловко подвернул ногу на последней ступеньке. Теперь одной ногой он шёл в свойственной ему манере, а второй — как Чарли Чаплин.
Лёжа на смертном одре, в свои девяносто то ли два, то ли четыре года, он вспомнит эту ступеньку, когда взгляд его упадёт на левую ногу, которая на всю жизнь так и сохранит комичную поступь. Он будет думать о новых, ни разу не ношеных лакированных туфлях, купленных ещё в те юные годы, когда он готовился к своей первой смерти, в семьдесят шесть. С тех пор ноги его ещё усохнут и заметно уменьшатся, так что туфли будут сидеть на них слишком свободно, и это его огорчит: как–то неприятно будет уходить из жизни в туфлях не по размеру.
Но всё это будет потом, в самом конце романа, из которого герой уйдёт навсегда своей получаплинской походкой, такой весь тихий, сосредоточенный и счастливый.
Увидев, что он хромает за Ней и что–то, видимо, заподозрив, Она прибавила шагу, так что он едва поспевал за стуком Её лёгких каблучков.
В какой–то арке его остановили два стража порядка и предложили показать им документы. Документов у него при себе не было.
— А чего ты к девочке липнешь? — спросил один из стражей. — Она под Фингалом ходит. Она знаешь, сколько стоит?
— Нет, — признался он.
— У тебя деньги–то есть? — поинтересовался второй страж.
Как выяснится минутой позже, денег у него было слишком мало, чтобы «липнуть к этой девочке», но вполне достаточно, чтобы уплатить штраф. Он с радостью уплатил, потому что на этом всё закончилось, и он мог броситься за Ней, которая уже готова была скрыться в каком–то дворе. Стражи порядка не стали препятствовать, удовлетворённые штрафом, но советовали сменить походку и потренироваться в ней где–нибудь в стороне от «этой девочки». Он мог бы задаться вопросом, отчего эти двое внешне так похожи на тех типов, любителей курения. Но он был слишком поглощён своими чувствами и не обратил на лица закона — этого двуликого Януса — никакого внимания.
О походке уже было сказано достаточно, поэтому здесь не будет ещё раз упомянуто о том, что левая нога его с этих пор и до самого памятника, на котором были высечены даты его рождения и смерти, вызывала улыбку у одних почитателей великого комика и нескрываемое презрение у других. Отмечено будет только, что с этой походкой ему было сейчас довольно трудно (да что там, почти невозможно) поспевать за своим вожделением.
На мосту Она остановилась, подошла к перилам и принялась задумчиво смотреть в реку. Он приблизился, стал рядом и тоже перегнулся через холодный чугун, заглядывая в небыстрое течение.
— Река, — сказал он, наполнив это слово глубоким смыслом и хрипотцой вздоха. Хрипотцы ранее не замечалось в его вздохах, тем более, что он не курил, но после того, как те два типа поколотили его, что–то в организме пошло не так. Это бывает.
— Ехал грека, — сказал он.
— Чего? — не поняла Она.
— А? — смутился он её непониманием очевидных вещей.
— Чего, говорю, — повторила Она.
— Ничего, — он улыбнулся, опустив глаза, уставясь на белый носок её правой босоножки, которым она рассеянно почёсывала икру левой ноги. Вожделение с ещё большей силой обуяло его при виде этого полного непредсказуемой женственности движения.
Как хотелось бы мне познать Её душу, — думал он, созерцая стройные ножки. — Познать трепетность Её женского сердца, нежным поцелуем коснуться Её капризно надутых губок, насладиться Её радостью, грустью, злостью. Как замечательно, что всё это у нас впереди, что всё это будет, будет и ещё очень долго будет. Будут продолжительные дни тихого летнего счастья вдвоём, долгие зимние ночи вдвоём, ломберный столик с недоигранной партией, чай со смородиновым вареньем, шутки, интимность шёпота, немного вина, сладость поцелуя… «Ах, кажется, я уже вся мокрая… Давай же чпокаться, милый!»
Учёные утверждают, что примерно каждые пятнадцать минут мужчина обращается мыслями к сексу. Роман подтверждает этот тезис, переводя его в ранг очевидных фактов, потому что с того момента минула ровно четверть часа.
— Ты кто? — спросил, приблизившись, один из двух мужчин неприятного вида.
Главный герой мог бы задаться вопросом, отчего эти двое так похожи на тех типов, что просили у него закурить, но был слишком занят Её тонкой голенью и белой босоножкой.
— Курить есть? — спросил второй верзила.
— Ему впадлу с нами разговаривать, — ухмыльнулся первый, не дожидаясь ответа.
— Он нас не уважает, Фингал, — кивнул второй.
Перебросившись этими короткими и ни к чему не обязывающими фразами, двое быстро обыскали его, взяв на хранение все ценные вещи, которые только смогли найти, чтобы те не промокли (читатель поймёт из дальнейшего развития событий, что именно так и было, и что два эти человека беспокоились о часах главного героя, которому предстояло отправиться в долгое плаванье). После этого они подхватили героя за ноги и споро перебросили через перила моста.
«Я в реке!» — сообразил он, похолодев от страха, пока поднимался с глубины на поверхность. И стал бить руками во все стороны.
Когда он смог вдохнуть воздуха, было по–прежнему солнечно; на мосту, кажется, смеялись, а он даже не знал, где берег.
«Что ж, пускай река сама несет меня!» — решил он.
Решив, он, как мог, глубоко вздохнул, а река с ласковой готовностью подхватила его и понесла.
Она шуршала камышами, бурлила на перекатах, и он чувствовал, что совсем промок и скоро утонет.
Вдруг кто–то (кажется, это была река) сказал:
— Извините, кто вы и как сюда попали?
— Я вожделел, — с искренней готовностью ответил он. — А два человека случайно уронили меня с моста в реку.
— Вынести вас на берег? — предложила река.
— Нет, спасибо, — улыбнулся он. — Я всегда мечтал попутешествовать по реке.
— Хорошо, тогда давайте путешествовать, — обрадовалась река. — Вдвоём веселей.
Нельзя утверждать, что этот диалог происходил на самом деле, а не в где–то внутри героя. Как бы там ни было, река несла его долго — мимо людных пляжей и диких обрывистых берегов, над которыми метались быстрые стрижи; мимо тихих берёзовых рощ и густых лесов, в которых трубили олени и ревели медведи; мимо неведомых городов и совсем уж никому не известных деревень…
Через три дня его прибило к берегу острова Мальта. Спасатели умело и быстро выловили его и доставили в гостиницу. Так он стал гражданином своей новой родины, и так закончилась драма его первой любви, но не закончилась история его вожделения, которое он пронёс через всю свою жизнь, едва ли не каждую ночь видя во сне Её, Её белую босоножку, Её глаза с корейским разрезом. Всё, что оставалось ему от Неё — это зубочистка, чудом уцелевшая в длительном плаванье, и это она будет тем единственным предметом, который он возьмёт с собой, отправляясь в свои девяносто с чем–то лет в последнее путешествие, в туфлях не по размеру и со здоровьем, отягощённым неким редким заболеванием лимфатической системы. Он вложит её — полуистлевшую палочку — в нагрудный карман и будет счастлив, как семьдесят лет назад, когда там, в трамвае, смотрел в Её глаза и оущущал запах Её подмышки, которая всё–таки пахла — пахла прогретой солнцем сыромятной кожей и немного уксусом.
А заканчиваться роман будет так: «и, подарив зубочистке прощальный поцелуй, в последнем вздохе он глотнул неба, которого над островом Мальта хоть отбавляй. И неба было так много, что он с тихой радостью в нём захлебнулся».
Белая корова в красном сарафане
Шоссе ползёт навстречу, исчезает под брюхом «Камаза», словно тот заглатывает бесконечную «кишку». Дым беломорины наполняет кабину едким запахом непомерного акциза. Полуденное солнце жарко ластится к щеке, томит горячими поцелуями до испарины на лбу. По сторонам — поля, поля, поля…
Толик — дальнобойщик; он четвёртые сутки на пути из Москвы в Тюмень. Рубаха на волосатой груди расстёгнута до пупа, взгляд упирается в горизонт, руки привычно и почти равнодушно лежат на рулевом колесе.
На пассажирском месте сидит Людвиг и играет на губной гармошке. Толик не очень помнит, когда и где подсадил этого чудика. Кажется, на сорок первом километре, у деревушки со странным названием Вена.
Толик внимательно слушает и кивает в такт губной гармонике, из которой Людвиг старательно выдувает отрывистые неуверенные ноты. У пассажира получается плохо, отвратительно получается, совсем не то, чего пытается от него добиться дальнобойщик Толя. Шофёр готов бросить руль и сам взяться за инструмент, но вспоминает, что на губной гармошке последний раз играл в детстве — на пластмассовой, за двадцать восемь копеек, из «Детского мира». Да и руль бросать нельзя.
А Людвиг старается вовсю, но… чёрт бы его побрал, глухой он, что ли?!
— Ну куда, куда! — нервничает Толик. — Ты чего, не слышишь, что у тебя «ре» падает?
Людвиг виновато хлопает глазами, робко улыбается, открывая отсутствие пятого зуба слева.
— Вот смотри, — запальчиво продолжает Толик, — у тебя там идёт «та–ти–ту–рим–па–рааам», так?
— Так, — кивает Людвиг и хлопает глазами.
— Ну вот. Вот там у тебя «ре» и проваливается, неужели сам не слышишь? Выше надо на полтона. Ну–ка, давай, возьми с диезом.
— Ага, — радостно кивает Людвиг и подносит гармошку к губам.
«Та–ти–ту–тум–па–пааам» — играет он.
— Тьфу! — в сердцах произносит Толик, удивляясь Людвиговой непонятливости. — Ну что ты заладил, ей богу, а?! Ты можешь ми–бемоль взять?
— Могу, — неуверенно произносит Людвиг.
— Так возьми, чёрт тебя возьми! — сердится Толик.
«Та–ти–ту–рим–па–бааам» — берёт Людвиг.
Нет, нет, всё не то.
«Та–ти–ту…»
— Ну куда, куда ты гонишь, а?! — Толик сердито выплёвывает беломорину в окно, качает головой.
«Та–ти–ту–рим–па…» — выдувает Людвиг.
— Трудно, поди, быть неумехой? — саркастически вопрошает Толик. — Ты сам–то себя слышишь?
— Нет, — чистосердечно признаётся Людвиг.
— Оно и видно, — усмехается Толик. — Дай мне начало.
«Та–ти–ту…»
— Стоп! Слышишь?
— Нет.
— Блин! Вот так надо: «та–ти–та–рам–па». Сечёшь?
— Секу, — покорно соглашается Людвиг.
— Изобрази.
«Та–ти–ту–ру…» — изображает Людвиг.
Толик безнадежно качает головой, плюёт в окно, шевелит губами, беззвучно выдавая непотребные слова.
— Ну ты вообще… — обречённо произносит он уже в голос. — Выбрось свою гармошку и уйди в монастырь с глаз моих.
— Я хотел одно время, — на полном серьёзе отвечает Людвиг. — Но музыка победила.
— Это она погорячилась, — усмехается Толик. — Дай мне «ми–бемоль».
Людвиг послушно даёт требуемую ноту.
— Вот, — кивает Толик. — Запомнил?
— Запомнил.
— Теперь дай вступление.
«Та–ти–та–рам–па–даам…»
На этот раз Толик отчасти доволен. Это почти то, что надо. Но — почти. То есть, не совсем то, но очень близко.
— Запомни, старичок, — говорит он, добродушно щурясь, — в любом музыкальном произведении главное — вступление, зачин. Хорошее начало полдела откачало, как говорится. Но оно, опять же, и самое сложное.
— Да, — соглашается Людвиг. — Вступление — это очень трудно.
— Угу. Как начнёшь, так и кончишь. Начнёшь бодро, и кончишь весело. Начнёшь в миноре, так и кончишь абы как… О чём это я… А, ну да. Давай, ещё разок.
Людвиг даёт.
— Угу… угу… — кивает Толик. Он почти доволен. Доволен до третьего такта, в котором Людвиг ни к селу ни к городу выдувает никому не нужную «ля–бемоль».
Но надо выруливать на поворот, и Толику становится не до Людвига и злосчастной лябемоли — он только мотает головой: не–не–не, давай сначала.
А на повороте стоит белая корова в красном сарафане. Она пасётся и не замечает надвигающейся на неё опасности — синего камаза, в котором Толик, очумев взглядом, пытается нащупать педаль тормоза. А педали — нет. Людвиг тоже ничего не замечает.
«Та–ти–та–рам–па–даам тынц» — выдаёт губная гармошка.
Толик доволен. Если бы не обстоятельства, заставляющие судорожно вцепиться в руль, он бы сейчас непременно хлопнул Людвига по плечу и сказал что–нибудь вроде «Классно, старичок, молодца! Это — то, что надо».
А корова вдруг, выпучив глаза, истошно мычит, снимается, встаёт на крыло и, сшибая верхушки окрестных сосен, воспаряет под облака. Трепещет и стелется по ветру сарафан.
Толик вздрагивает и просыпается. Ровно за три секунды до коварного поворота, в который срочно должен вписаться, если не хочет погибнуть во цвете лет, вместе с напарником, который храпит на лежаке…
В тот момент, когда красная корова встаёт на крыло и, сшибая верхушки окрестных сосен, поднимается в небо, Людвиг ван Бетховен вздрагивает и просыпается. Он недоумённо смотрит на жирную, уже засохшую кляксу, которую оставило перо в партитуре.
Обиженно замер клавесин с провалившейся под локтем задремавшего композитора клавишей. В саду за окном садовник подрезает розовые кусты и витиевато ругается со служанкой, на чистом немецком языке начала девятнадцатого века.
Людвиг пересматривает свой странный сон, но никак не может вспомнить, ухватить ту мелодию, которой учил его во сне Толик. Он морщит лоб, грызёт перо, проклинает звон в ушах, который всё больше и больше мешает слышать, и мучается. Но вспомнить — не может.
В завершение вязкой перепалки садовник обзывает служанку красной коровой (наверное потому, что на ней красное платье и красный же чепец), плюёт и удаляется выпить пива для охлаждения нервов. Вот в этот самый момент Людвигу удаётся вспомнить всё.
Он торопливо вырывает исчирканные нотами, лигами, диезами и акколадами листы нотной тетради с незаконченным ноктюрном, обнажает чистую страницу и на мгновение замирает, проникаясь звучащей в нём музыкой. Потом, вдохновенно улыбнувшись, обмакивает перо в чернила и…
Время останавливается. Время сонно хлопает глазами, задрёмывает. Зато оживляется старый клавесин — он довольно поскрипывает, переминается с ноги на ногу и ждёт того момента, когда горячие пальцы глохнущего гения коснутся его прохладных клавиш.
Людвиг ван Бетховен скрипит пером.
Он пишет свою знаменитую сонату. Там ещё такое вступление — «та–ти–та–рам–па–дааам тынц», ну вы помните.
Трамвай без права пересадки
И бросили жребий, и пал жребий на Иону
Перед площадью Согласия трамвай вдруг повернул налево, в шестую линию. То ли никто из пассажиров этого не заметил, то ли не осознали. А может быть, понадеялись на остановку, которая расположилась сразу за поворотом.
Когда вагон, скрежеща колёсами и не сбавляя скорости, вывернул к остановке и уверенно прошёл мимо, пассажиры, кажется, обеспокоились. Стоящий рядом с Ионой худощавый человек бросил на него удивлённый взгляд и спросил:
— Простите, а это какой номер?
— Восьмой, — ответил Иона.
— Странно. Я тоже думал, что восьмой. Но это, кажется, шестёрка.
— Получается, что так, — пожал плечами Иона.
Ему, по большому счёту, было безразлично, восьмёрка это или шестёрка. Ему было всё равно, куда и каким номером ехать. И ехать ли вообще.
Лицо у худощавого было неприятное: остроносое, небритое, со скользким взглядом. Весь он был какой–то тщедушный и… злой, кажется, да. И по–плохому коварный.
«Маньяк, наверное», — подумал Иона.
Трамвай продолжал упорно двигаться вперёд, как, впрочем, и полагается трамваю. Вот только он проехал уже вторую остановку шестого маршрута, а уж такого трамваям делать не полагается.
На передней площадке возник осторожный ропот. Кажется, там пытались достучаться до вагоновожатого. В средней части салона что–то быстро лопотала растерянная женщина и безостановочно гладила по голове маленькую девочку, стоящую рядом.
На задней площадке вяло целовались двое — он и она, лет двадцати, в одинаковых джинсах и чёрных кожаных куртках с цепями и цепочками, в одинаковых гребенчатых стрижках и с одинаковыми наушниками в ушах, из которых доносилась даже сюда, до слуха Ионы, дикая музыка.
— Молодёжь… — вздохнул Маньяк, отследив направление Иониного взгляда. — Уж их–то, похоже, абсолютно не заботит, каким номером они едут. Жутковатое у нас будущее…
— Меня, собственно, тоже не заботит, — робко улыбнулся Иона. — Простите.
— Вот как? — удивился Маньяк. — А впрочем…
Он не закончил и только безнадёжно махнул рукой.
Трамвай настырно двигался не по своему маршруту. Простучав колёсами на стыках у Тихого парка, он вдруг повернул в девятую линию.
— Да что же это такое–то! — воскликнула та беспокойная женщина. Девочка, которую она так и не перестала гладить по голове, захныкала.
— Успокойтесь, — посоветовал стоящий тут же мужчина в очках с толстыми линзами, со внешностью профессора гуманитарных наук. — Успокойтесь, вы пугаете ребёнка — девочке передаётся ваша нервозность.
— Какое тут «успокойтесь»! — отвечала дама. — Я должна отвезти её к матери, в Старый Город. А как я могу это сделать на девятом номере?
— И всё же постарайтесь успокоиться, — настаивал очкастый. — Всё утрясётся.
— Ведь так? — обратился он к Ионе, почувствовав его взгляд на своём лице.
— Наверняка, — кивнул Иона и отвернулся.
«Ну точно — профессор, — подумал он. — Вылитый. Так и буду тебя звать».
«А что это ты занимаешься выдумыванием прозвищ? — подумал он следом, обращаясь к себе. — Будто собрался всю оставшуюся жизнь провести в этом трамвае».
Аккуратно подстриженные газоны центра сменялись чахлыми и пыльными травяными пятнами правобережного района. Но до правобережья трамвай не добрался. У рынка он повернул налево, в пятнадцатую линию, и уверенно двинулся в рабочую окраину. Теперь за окнами мелькали всё больше серые дома, которые становились ниже и ниже, начинаясь с восьми этажей и заканчивая двумя в рабочем посёлке, в который вскоре трамвай въехал. На задней площадке продолжали целоваться кожаные куртки. На передней назревал бунт — там уже вовсю молотили кулаками в решётку, отделяющую кабину вагоновожатого от салона.
«Глупцы, — подумал Иона. — Они даже предположить не берутся, что вагоновожатый, может быть, мёртв… Ну да, а что: ехал, ехал, а тут — хлоп! — сердце».
— Да что же, в конце концов, происходит? — пробормотал рядом с Ионой Маньяк. Кажется, у него тоже заканчивалось терпение. — Почему он не делает остановок?
— Потому что они не нужны, — произнёс кто–то сзади.
Иона обернулся. За его спиной примостился, повис на поручне Клещ. То, что он Клещ, Иона понял сразу, едва обернулся и бросил взгляд на это лицо с массивными широкими челюстями, неправильным прикусом и маленькими хищными глазками. От вида этого лица по спине Ионы даже пробежал лёгкий озноб.
«Ну и публика собралась», — подумал он.
— Потому что они не нужны, — повторил Клещ. — Процесс эволюции человека не терпит остановок.
— Причём здесь эволюция человека? — усомнился Маньяк.
— Бог, — улыбнулся Клещ. — Просто я хотел избежать слова «Бог» и вслед за учёными назвал его процессом эволюции. Но это Бог, имейте ввиду. И он не терпит остановок.
— Он мёртв, — сказал Иона.
— Кто? Бог? — внимательно взглянул на него Маньяк.
— Да нет, причём тут Бог, — пожал плечами Иона. — Вагоновожатый. Вагоновожатый умер от апоплексического удара, и теперь трамвай едет сам по себе, куда получится. Поэтому и остановок нет.
Его слова в наступившей как раз в это мгновение тишине (только стучали колёса, всхлипывала девочка, да сопели на задней площадке целующиеся кожаные куртки) услышал весь салон.
Тишина стала ещё глуше. Все лица повернулись к Ионе. Три десятка глаз уставились на него. И только кожаные куртки никак не реагировали.
— И что же теперь делать? — спросила женщина, забыв гладить по голове девочку.
«Прачка», — определил Иона. Почему именно такое прозвище получила эта женщина, он не мог бы себе объяснить. В ней, кажется, не было почти ничего от прачки.
— Ничего не делать, — ответил он. — Или что–нибудь. Какая разница.
— Вы фаталист? — улыбнулся Профессор.
— Нет, я клошар, — отозвался Иона.
— А–а, ну я и говорю — фаталист, — кивнул Профессор.
— Но версия имеет право на существование, — поддержал Иону Маньяк.
— Безусловно, — вставил кто–то. — Она объясняет всё.
Снова наступила тишина. Никто больше не пытался стучать вагоновожатому, вся передняя площадка почтительно отошла от решётки и углубилась в середину вагона, рассевшись по свободным местам.
А трамвай въехал в рабочий посёлок.
Воздух становился всё более тяжёл, напитан запахами осени, металла, окалины и горящего угля — зловоньем встающих впереди заводов. Пасмурнело, поднимался ветер, подготавливая сцену для выхода главного действующего лица — дождя.
Потянулись за окном трёх — и двухэтажные бараки с облупившейся со стен штукатуркой. Старики в строгих чёрных костюмах, чинно и неподвижно сидящие на скамейках перед бараками, не обращали на трамвай никакого внимания, словно и не видели его. Быть может, они были слепы. Или — мертвы. Промелькнул чумазый мальчишка, увязший в старой жёлтой луже на очередной пропущенной остановке. Полуразрушенный навес над перроном был заляпан зелёной краской и загажен птицами. Скрипел на поднявшемся ветру ржавый лист жести с остатками надписи жёлтой краской: «П ЕИ П ЯЯ. № 11».
— Номер одиннадцать, — озвучил Маньяк.
— Одиннадцатый идёт до кольца, я знаю, — сказал кто–то из середины вагона.
— А где кольцо? — вопросил Клещ.
— У сталелитейного… — неуверенно отозвался Кот (как назвал его про себя Иона за жидкие торчащие в стороны кошачьи усики и хитрый взгляд). — Кажется, — добавил он, подумав. — А может быть, у металлоконструкций. Не помню точно.
— Тогда не баламутьте народ, — раздражённо сказала какая–то из присутствующих женщин. — Кольца давно нет, его убрали ещё два года назад. Я знаю, я ездила одиннадцатым на работу.
— А где вы работали? — поинтересовался Профессор.
— А зачем вам? — с подозрением покосилась на него Юдифь (почему именно Юдифь, Иона не мог бы объяснить, тем более, что Олоферна в вагоне точно не было).
— Хочу знать, куда мы в конечном итоге приедем, — миролюбиво пояснил Профессор.
— К цемзаводу приедем, — буркнула Юдифь и отвернулась.
— Вот оно как, — дёрнул подбородком Профессор. — К цемзаводу… Хм…
Что это новое знание ему дало, было непонятно, но вид Профессор принял глубокомысленый и даже очки, сняв, протёр клетчатым коричневым платочком.
На задней площадке простонала одна из курток. Иона невольно повернулся к ним, заподозрив, что дело у них дошло до совокупления. Но нет, они по–прежнему равнодушно целовались. Грохотала в наушниках дёрганая жестокая музыка.
«Быть может, — подумал Иона, — они хотят установить рекорд по целованию и попасть в книгу рекордов Гиннеса».
За окном то и дело мелькали заводские цеха, ангары, какие–то кособокие заброшенные строения, столбы пара, бьющего из–под земли, трубы, пустые оконные проёмы, ржавые контейнеры и груды мусора. Не было видно ни людей, ни дыма из труб, ни машин, ни снующих туда–сюда тепловозов. Не слышно было заводского шума, гудков, лязга и грохота.
Кто–то новый явился рядом с Ионой. Повернувшись, он разглядел пассажира, перебравшегося сюда с передней площадки. Сухой, измождённый, со впалыми щеками, он приблизился вплотную, словно решил обняться.
«Чахоточный, наверно, — подумал Иона. — Так и будешь — Чахоточный».
А тот, вдруг прижавшись к Ионе, прошептал чуть ли не в самое его ухо:
— Вот вы давеча сказали про водителя…
— Ну да, — кивнул Иона, поощряя умолкшего Чахоточного продолжать.
— Про удар, — будто неохотно продолжил тот.
— Ну да, — повторил Иона.
Но Чахоточный, кажется, сказал всё что хотел. Он отодвинулся и принялся равнодушно смотреть в окно, за которым виднелось в мареве испарений рукотворное озеро из жёлто–зелёных зловонных сточных вод. К нему со всех сторон опускались сливные трубы. Плавал в мутной жиже всевозможный хлам.
Явился летящий над самой землёй грязно–серый голубь. Несколько секунд следовал параллельно трамваю, пока на всём лету не врезался в трансформаторную будку, отвалился от стены, как обломок штукатурки, упал в кучку полуистлевших воробьиных, вороньих и голубиных тел.
«Отравлен, — подумал Иона. — Или тоже слеп, как те люди, у бараков… И слепы люди, и птицы слепы. И крылья ржавы и ржавы скрепы…»
— И что? — потянул он Чахоточного за рукав. — Ну, удар, и что?
— Ничего, — дёрнул плечом тот и отступил ещё на шаг.
Так и ехали дальше порознь, но не долго. Через пару минут Чахоточный снова приблизился, потянулся губами к Иониному уху, словно вознамерился поцеловать.
— Про трамвай–призрак слыхали? — прошептал он под пристальным взглядом Маньяка.
— Нет, — качнул головой Иона.
— Ну как же! — захлебнулся шёпотом, заторопился Чахоточный. — Трамвай призрак. Года три тому назад… да, года три, точно… сгинул этот трамвай в заводских окраинах. Как раз одиннадцатым номером ходил. Со всеми пассажирами и сгинул как раз где–то в этом районе.
— И что?
— Не понимаете? — удивился Чахоточный Иониной тупости. — Наш трамвай — это же он и есть. Говорят, управляет им мёртвый вагоновожатый.
— А мы, значит, его пассажиры?
— Пропавшие, — радостно кивнул Чахоточный.
— Но я не пропадал в этом трамвае, — возразил Иона, заподозрив в Чахоточном сумасшедшего. — Я только час назад в него сел.
«Поторопился я с прозвищем, — подумал он. — Шизиком надо было его назвать».
— Это вам так кажется, — мотнул головой Чахоточный. — Это вам так кажется, что час назад. А на самом деле мы в нём уже три года едем. Преломление времени. Слыхали?
«Точно шизик, — подумал Иона. — Хотя… Что–то такое про трамвай я действительно слышал…»
— А вот и кольцо! — радостно воскликнул Кот. — Я же говорил!
Иона уже не помнил, что именно Кот говорил про кольцо.
За окном действительно видны были рельсы — ржавые, давно не езженые рельсы, уложенные кольцом. В центре кольца стоял полуразрушенный вагончик диспетчерской. На боковой ветке, в тупике, застыла пара вагонов. Раскрытые двери скалились гнилыми зубами–ступеньками; ни одного человека не было видно ни внутри, ни на перроне. Навес над перроном давно прогнил и почти развалился.
— Сейчас развернёмся, — сказал Маньяк. — Ну слава богу, поедем обратно в город.
— Чёрта с два! — грубовато возразила Юдифь. — Поедем до цемзавода, как я сказала.
И она, похоже, была права. Во всяком случае, вагон уверенно миновал поворот на кольцо и проследовал дальше. Разумеется, без намерения сделать остановку.
— Господи! — простонала Прачка. — Да что же это делается?!
Снова захныкала девочка.
— Мы так и до моря доедем, — неуверенно пошутил Клещ.
— Не порите чушь, — усмехнулась Юдифь, которая, кажется, юмора не понимала и не признавала. — Рельсы кончаются у цемзавода. До моря — только на такси.
— Думаете, здесь можно поймать такси? — поинтересовался кто–то. — Было бы здорово. А то что–то на нервы действует уже этот трамвай.
— Странно, — задумчиво произнёс Профессор. — Ну доедем мы до конечной, до… цемзавода этого вашего…
— … он не мой, — вставила Юдифь.
— … и что дальше? — не обратил Профессор внимания на её поправку.
— Ничего, — прошелестел Чахоточный.
— В смысле? — повернулся к нему Профессор.
— Да вот так, — пожал плечами Чахоточный. — Ни–че–го. Конец. Всему. Небытие.
— Смерть? — кажется, увлёкся этой мыслью Маньяк.
— Что–то вроде, — глянул на него Чахоточный и снова повернулся к Профессору. — Небытие, понимаете? — и Маньяку: — Граница между жизнью и смертью — без времени, без пространства, без…
— Я не хочу умилать! — заплакала девочка.
— Да что ты, что ты, маленькая! — кинулась утешать её Прачка, зло поглядывая на Чахоточного. — Рано ещё тебе умирать. На вот конфетку…
А Чахоточный продолжал:
— Небытие. Без прошлого, без настоящего и будущего, без ветра, без запахов, звуков, чувств… Одним словом — ничего. Лета. Мы будем, но нас не будет. Как сейчас, впрочем. Мы есть, но нас уже нет.
— Бред какой–то, — оценила Юдифь.
— В самом деле, — поддержал её Клещ, — звучит как–то антинаучно.
— Кому как… — произнёс помрачневший Кот.
Середина вагона зароптала. Похоже было, что назревают беспорядки. Кажется, готовы были бить окна и выпрыгивать на ходу. И только парочка на задней площадке неудержимо и обречённо целовалась.
Было тяжело дышать из–за смрадного желтоватого тумана, покрывшего всю территорию заводов, бездушные цеха которых вставали на пути трамвая один за другим, бесконечной вереницей, словно небольшой городок был на самом деле промышленной столицей мира.
«Я и не знал, что у нас так развито производство, — думал Иона. — Впрочем, я вообще ничего не знал об этом городе. Да и знать не хотел. Зачем он мне?.. Зачем я ему?.. Встань, иди в Ниневию, город великий… А потом — на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло…. О чём это я?.. А, ну да, ну да, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой?.. — Он посмотрел на левую свою руку, на правую. — Мне ли не пожалеть… Мне ли… Фу, зловоние какое!.. И солнце стало палить голову… так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить… Лучше… нежели жить…»
— Что вы там бормочете? — строго покосилась на него Юдифь, которая за это время пересела в левый ряд и была теперь в одном шаге от Ионы.
Поскольку он не ответил, а лишь скользнул по ней равнодушным взглядом, она хмыкнула и поманила его пальцем.
Иона пожал плечами, сделал шаг к ней.
— Знаете, что самое ужасное в нашем положении? — спросила Юдифь негромко, почти шёпотом.
— Знаю, — кивнул Иона.
— Да? — она недоверчиво дёрнула бровью, явно не ожидая такого ответа. — И что же?
— Но ведь вы тоже знаете? — улыбнулся Иона.
— Конечно, — она зябко поёжилась. — Но я хочу, чтобы вы сказали. Может, вы знаете не то, что я.
— Тогда то, что знает один из нас — ещё не самое ужасное в нашем положении, если то, что самое ужасное — знает другой.
— Чего? — она недоумевала и бросала на него странные взгляды.
В их разговор вмешался Профессор:
— Вы хотите сказать, что не может быть двух равно ужасных вещей? — обратился он к Ионе.
— Не хочу, — покачал головой тот. — Не хочу я ничего говорить. Оставьте меня в покое.
— Но мы должны выяснить, — вмешался Маньяк. — Выяснить, чтобы из двух ужасных вещей выбрать менее ужасную.
— А надо ли? — нетерпеливо отозвался Иона. — Почему обязательно надо выбирать из двух зол?
— Выбирать всегда надо, — возник тихий голос Клеща. — Всегда. Быть или не быть — вот в чём вопрос. И в этом — высшая точка человеческой свободы. Именно поэтому Бог всегда предоставляет выбор; Бог есть свобода.
Иона вернулся на своё место, демонстративно не глядя на эту троицу.
«Свобода?.. И было слово к нему вторично: встань, иди в Ниневию, город великий… я повелел тебе. И встал он и пошёл в Ниневию… И устроил так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло… Свобода…»
За окном наконец–то начался дождь. Он быстро исчиркал окно неровными линиями и зигзагами, а ветер прилепил к стеклу оторванный где–то жёлто–бурый тополиный лист.
— Скажите мне, — возник у самого уха Ионы шелест Чахоточного. — Скажите, что вы знаете?
— Ничего, — пожал плечами Иона. — Я ничего не знаю. Совсем.
— Но вы верите, что мы выберемся?
— Откуда?
— Из этого трамвая.
Иона задумался.
— Трамвай не может быть бесконечным, — не дождавшись, ответил за него Профессор. — Любой трамвай обязательно конечен, даже если в нём два, три, четыре вагона… да сколько угодно вагонов. Поэтому и наше пребывание в трамвае не может быть бесконечным. А значит, мы рано или поздно…
— Да, да, — нетерпеливо кивнул ему Чахоточный, не дослушав, — всё так, я согласен. Но я хотел бы услышать ответ уважаемого клошара.
Однако Иона ответить не успел. Трамвай вдруг остановился. Резко, буквально в одно мгновенье, так, что все стоячие места едва не повалились на пол, в том числе и Иона.
— Приехали, — дрожащим голосом произнёс Чахоточный.
— Да нет — просто провода кончились, — Маньяк указал на контактный провод, который действительно обрывался — заканчивался на ближайшем столбе.
Наступила тишина. Пассажиры, кажется, даже дышать перестали. Они не дышали, не двигались, не моргали, и лица их не выражали ничего, и глаза неотрывно и обречённо уставились в одну точку — в ту, на которой застала взгляд остановка вагона. И только чавкающие звуки целующихся на задней площадке нарушали гробовую тишину. Им–то точно было всё равно.
«Я бы не удивился, если бы на самом деле их всех и не было вовсе, — подумал Иона. — В смысле — людей. Если бы все они оказались манекенами. Нет, не удивился бы. А эти двое, кажется, самые живые среди нас. Хотя и мертвы давно…»
Вспугнув тишину, скрежеща, пошли в стороны двери; и это было так неожиданно, что все вздрогнули, а кто–то из женщин охнул и сказал «Я отсюда ни за что не выйду!» Пахнуло внутрь салона осенней свежестью, густо настоянной на заводском зловонии.
За раскрывшимися дверьми трамвая замерли, как конвульсивно разжатые огромные челюсти, массивные и ржавые створки ворот, не оставив между собой и вагоном ни малейшего зазора, отрезав пассажирам пути к отступлению или бегству. На огромном полусгнившем щите над воротами значилось: «Завод органоминеральных удобрений». Покосившийся бетонный забор, обтянутый поверху колючей проволокой, окружал пустынную территорию и несколько полуразрушенных строений с выбитыми окнами.
— Не совсем цемзавод, однако, — покосился Профессор на Юдифь.
Та проигнорировала его замечание.
— Что–то не хочется мне выходить отсюда, — сказал Кот. — Я, наверное, поеду вкруговую.
— Не поедете, — разочаровал его Маньяк. — Провода–то кончились, забыли?
— Я подожду, пока их восстановят, — не сдавался Кот. — В конце концов, просто пересяду на другой трамвай. Ведь не единственный же это вагон одиннадцатого маршрута. Рано или поздно пойдёт обратный.
— Не пересядете, — прошелестел Чахоточный. — Это трамвай без права пересадки.
— В каком смысле? — опешил Кот. — Что вы городите?!
— Он прав, — мрачно подтвердила Юдифь. — Это и есть самое ужасное. — И обратилась к Ионе: — Так?
— Так, — кивнул тот. — Но это ещё не самое ужасное.
Истерично всхлипнула женщина в середине вагона. Кто–то из мужчин проскулил:
— Не хочу! Я не хочу! Отпустите меня! Пожалуйста…
— Соберитесь! — сурово бросил ему стоящий рядом мордатый верзила. — Что вы как баба!
— Но–но! — яростно покраснела Юдифь, испепеляя сказавшего взглядом. — Иные «бабы» стоят десяти мужиков.
— Давайте не будем ссориться, — попытался примирить их Профессор. — Никто не знает, сколько нам ещё предстоит пережить вместе, так что нам лучше держаться друг друга.
— Да, — кивнул Клещ. — Да, давайте держаться. Просто — держаться.
Медленно и нерешительно пассажиры потянулись из вагона. Того скулившего мужчину взяли под руки, потому что ноги у него вдруг ослабели и отказались идти. Сомлевшую истеричную женщину вынес на руках мордатый.
Последними вышла целующаяся парочка. Они так и остались бы в вагоне, ничего не замечая, но Иона, уже со ступеньки, потянул парня за куртку и махнул: выходим.
Под моросящим дождём молча миновали ворота, пересекли заводскую ржавую узкоколейку, кое–как перевалили кучу гравия, вспугнув невесть откуда взявшуюся облезлую рыжую собаку с истекающими гноем глазами. Та, завизжав, поджав хвост, бросилась улепётывать, но через десяток метров обессиленно повалилась в грязь. Видно было, как тяжело ходят её бока, слышно сиплое дыхание и натужный кашель.
— Собачка, — сказала девочка, показывая пальцем.
— Издыхает, кажись, — пробормотала Юдифь.
— Откуда вообще здесь собака? — растерянно произнёс Клещ.
— А откуда здесь мы? — усмехнулся Маньяк.
У того места, где они сейчас стояли, расположилась шеренга тачек — десятка полтора–два. Гружёны они были мешками то ли с углем, то ли с удобрениями. Тачки были наполнены, кажется, совсем недавно, поскольку мешки ещё не успели как следует намокнуть. А впрочем, дождь был пока не силён, а мешки заметно пропылены, так что определить, сколько времени тачки стоят здесь, было невозможно.
Впереди притих большой цех, из трубы которого исходил дым. Это была, кажется, первая дымящая, живая, труба, которую Иона увидел за всё долгое путешествие. Не было слышно со стороны цеха ни звука. К его воротам вели деревянные мостки.
— Кажется, мы должны доставить тачки с грузом в цех, — неуверенно предположил Клещ.
— Без взяких «кажется», — хмыкнула Юдифь.
— Что? — растерялся один из мужчин. — С чего бы это вдруг? Я вам не разнорабочий.
— Забудьте «я», — наставительно изрёк Маньяк. — Теперь есть только «мы». Только вместе мы сумеем выбраться отсюда.
— Кто–то из великих сказал: один лишь труд делает человека по–настоящему свободным, — улыбнулся Профессор. И обвёл всех взглядом: — Ну что, берёмся?
— Вы и женщинам предлагаете взяться за эти тачки? — опешила одна из пассажирок.
— Ну да, — снова улыбнулся Профессор. — В этом нет ничего сложного, поверьте.
— Хм… — изрёк Иона.
— А вы не хмыкайте, — повернулся к нему Профессор. — Труд ведь и вправду облагораживает. Ну и потом… посмотрите вон на ту вышку… На самом верху, видите?.. Очень похоже на пулемётное гнездо.
— Ну вы уж… — рассмеялся Маньяк. — Ну вы скажете тоже!
— А вы посмотрите, посмотрите. И подумайте. А подумав, — беритесь за работу.
И Профессор, поплевав на ладони, действительно схватился за ручки, кряхтя поднял, двинул тяжёлую тачку вперёд. Верзила опустил на землю женщину, которую держал на руках; та обессиленно присела на куске бетонной плиты, возле кучи пустых консервных банок и пивных бутылок. Большинство уставилось на вышку и, судя по их испуганным взглядам, склонно было поверить Профессору. Один за другим пассажиры нерешительно потянулись следом за ним. И даже девочка принялась суетливо помогать Прачке. В конце концов каждая из них взялась за одну рукоять тачки. А потом и безостановочно целующаяся парочка оставила объятья, чтобы присоединиться к работе.
Колёса тачек зашуршали по мокрому гравию, выехали на полусгнившие деревянные мостки и, следуя указателям, скрипя и грохоча, двинулись к цеху.
В полумраке «ЦНП № 1» (согласно полустёршейся надписи белой краской на стене) оказалось тепло, даже жарко. Жар шёл от массивных чугунных створок в кирпичной стене, отгородившей от цеха добрую половину пространства.
Мостки вели к большому проёму в полу, от которого металлический желоб уходил вниз, в бункер, расположенный под цехом. Оттуда веяло холодом и застоявшейся химической вонью.
— Туда, — кивнул Профессор, направляя свою тачку к бункеру.
Остальные последовали за ним. Иона со своей тачкой оказался в середине колонны, рядом с Чахоточным, а завершала шествие влюблённая парочка.
— Что такое цэ–эн–пэ? — спросил запыхавшийся Маньяк, обращаясь к Юдифи.
— Понятия не имею, — пробормотала та.
— «Цэ» — это «центр», я думаю, — предположил Чахоточный. — Центр… научного… научной…
— Национального примирения, — хохотнул мордатый.
Больше гипотез не последовало. Да и никого эта тема, пожалуй, не интересовала — всем хотелось побыстрей избавиться от своего груза и вернуться к трамваю.
Прогромыхав колесом тачки по мосткам, спустившись на заваленный мусором цементный пол, каждый подгонял свою повозку к проёму и, наклонив, сбрасывал в него груз. Проём–зев заглатывал мешки, ржавый желоб–пищевод отзывался на проглоченный груз металлическим гулом, потом где–то глубоко под полом слышался тяжёлый шлепок и следовал выброс новой порции холодной химической вони.
Уже когда выгружались последние три тачки, взвыла под потолком цеха сирена. Взвизгнули от неожиданности женщины, выругался кто–то из мужчин.
Массивные металлические створки с громким скрежетом медленно раздвинулись. За ними, в большом помещении с низким потолком, бушевало сине–белое пламя, вырывающееся из десятков сопл в стенах. Пыхнуло жаром так, что лица пассажиров тут же словно превратились в красные натянутые маски. Охнув, люди отшатнулись, закрывались руками, отворачивались. Торопливо отступили к выходу и там сбились в кучу, как стадо испуганных овец.
— Что это за ужас?! — захлебнулась страхом Прачка и, забыв про девочку, заметалась, хватая за руки всех по очереди и с тревогой заглядывая в глаза. — Что это?
— Успокойтесь, — пробормотал Кот, усы которого кажется, то ли съёжились, то ли растаяли и слиплись от сильного жара. — Нам всем страшно.
— И непонятно, — добавил Клещ.
— И мы все хотим обратно, — с намёком взглянул на Профессора Маньяк.
— А вот это — вряд ли, — покачала головой Юдифь. — Назад никто не вернётся.
— Живой огонь, — прошептал Чахоточный. — Слышали?.. А я не поверил, когда прочитал.
— Что за огонь? — повернулся к нему Профессор.
— Сверхсекретный проект правительства. По спасению генофонда нации. Называется «Живой огонь». Лучших людей небольшими группами уводят в секретный бункер «Агни–юга». Когда наступит глобальная катастрофа… ну, там, всемирный потоп или всемирная война, люди из «Агни–юги», при помощи инопланетян, с которыми уже установлен контакт и есть соответствующий договор, станут у истоков нового человечества… В «Агни–югу» спасаемые проходят через «очистительный живой огонь» — новейшую разработку учёных… Да, да! — воскликнул Чахоточный, заметив недоверчивые взгляды. — А почему, вы думаете, так часто бесследно пропадают люди? А вот поэтому.
— Значит, мы все — лучшие? — улыбнулся Маньяк. — Генофонд?
— Ну да, — неуверенно ответил Чахоточный.
— И они тоже? — мордатый верзила кивнул на парочку, которая прислонившись к пыльной стене у выхода, целовалась с ещё большим усердием, словно распалённые жаром из пекла.
— И они, — пожал плечами Чахоточный. — Правительству видней. Кто мы с вами такие, чтобы судить.
— Не судите, да не судимы будете, — вставил Клещ.
— Да. Тут уж правительству видней, — повторил Чахоточный.
— Значит, нам — туда? — Кот кивнул на печь.
— Получается так, — пожал плечами Чахоточный. — Вы же видите: двери открылись. Нас ждут.
— Но это же… — начала было Прачка, но к ней никто не повернулся — все смотрели на огонь.
Смотрели недоверчиво. А потому Чахоточный, желая, видимо, подбодрить спутников, сделал несколько шагов к печи.
Может быть, жар стал нестерпимым, а быть может, он хотел показать другим, что нет ничего страшного — во всяком случае, он обернулся и с улыбкой махнул рукой.
Тогда от группы отделился Кот и последовал за Чахоточным. За ним, пораздумав, шагнул Профессор. Потянулись — вначале нерешительно, а потом всё смелей — остальные.
— Что же вы стоите? — Юдифь взяла Иону за руку, потянула. — Неужели испугались, а? Смотрите, даже я — женщина — не боюсь!
Повернулся на её голос Профессор. Добро улыбнулся, вернулся и взял Иону за другую руку.
Вот тут Ионе вдруг почему–то стало страшно. Впервые за всё путешествие. По–настоящему страшно.
— Вы знаете, пожалуй, я… — заговорил он, но его никто не слушал. Профессор и Юдифь увлекли его к печи, от которой веяло невыносимым жаром.
И тут, словно почувствовав приближение людей, огонь вдруг стих. Газовые горелки — или что там было встроено в стены — сбавили давление до минимума, так что огонь превратился в небольшие очаги едва живого пламени. Пахло раскалёнными кирпичами, металлом и какой–то едкой химией.
— Ну вот, видите! — возликовал Чахоточный. — Нас ждут, я же говорил вам!
— Да, да! — радостно подхватил Кот.
— И правда… — нерешительно улыбнулась Прачка, беря на руки девочку, которая с любопытством и совершенно без страха смотрела на происходящее.
— Отпустите, — пробормотал Иона, пытаясь вырвать руку из цепких пальцев Юдифи. И Профессору: — Наверное, со мной произошла какая–то ошибка. Правительство ошиблось — я не генофонд. Я не избранный. Я всего лишь клошар. Я не хочу.
— Ну что вы, такого не может быть! — возразил Чахоточный. — Вы же видите, нас ждут. Будь здесь хоть один лишний, не наш человек, огонь не угас бы.
— В самом деле, — поддержал его Профессор, останавливаясь, но не выпуская руку Ионы, — вы незаслуженно плохого мнения о себе, уважаемый клошар.
Внутри печи сохранялась высокая температура из–за огня, раскалённых стен, потолка и пола, поэтому на подходе к воротам даже дышать стало трудно. Тем не менее, недавние пассажиры трамвая двигались вперёд, и только лица прикрывали руками от знойного воздуха. Острее запахло раскалённой печью, газом и чем–то кислым.
В последний момент Иона хотел вырваться из рук Профессора и Юдифи, выйти из вереницы людей — рванулся в сторону, но цепкие руки не позволили ему, тут же потянули назад.
— Куда же вы? — окликнул строгий голос Профессора. — Этого нельзя! Погибнете.
— Ну уж нет! — пропыхтела Юдифь, повисая на Иониной руке. — Видали мы таких…
Он кое–как стряхнул с себя эту оказавшуюся довольно сильной женщину. Освободившейся рукой толкнул в грудь Профессора. И, почувствовав свободу, бросился бежать.
— Стой! — крикнула Юдифь. — Стой, дурак, умрёшь!
— Не делайте этого! — вторил ей Профессор.
— О боже, какой глупец! — простонал Чахоточный.
Иона бежал. Остановился, чтобы оглянуться, уже у выхода. Увидел, что его бывшие спутники вошли внутрь горячей печи и смотрят на него оттуда с грустным сожалением, как святые на нераскаявшегося грешника.
И тут зарокотал, загудел какой–то механизм. Створки двери лязгнули и медленно стали смыкаться, отделяя Иону от тех — уходящих в новую жизнь, в иные миры, в Агни–югу. Не менее минуты смотрели они друг на друга: те — жалостливо, Иона — почти безумно. И только парочка в кожаных куртках стояла отдельно от остальных и снова целовалась, не замечая ничего вокруг. Кажется, Профессор хотел что–то крикнуть напоследок — то ли попрощаться, то ли дать краткое напутствие; а быть может, выказать Ионе своё сожаление. Но было поздно.
Перед тем, как створки закрылись окончательно, Иона услышал свист и сопение — давление пламени в печи выросло многократно…
«Цех начальной переработки № 1» — увидел он не замеченную ранее надпись на одной из дверных створок, уже выходя из цеха.
Оказавшись на воздухе, под дождём, хотел позвать собаку, но та всё так же безвольно лежала на боку и только проводила Иону равнодушным взглядом.
Старательно не глядя на вышку, каждую секунду ожидая пулемётной очереди, он перебрался через насыпь и побрёл к воротам. По спине Ионы то и дело пробегали мурашки, и казалось, что они следуют за прицелом, гуляющим по его телу в поисках лакомого места для выстрела.
Но выстрела так и не случилось. Быть может, пулемётчик пожалел патроны. А может быть, он спал. Но скорей всего, подумал Иона, никакого пулемётчика на вышке просто не было.
Трамвай так и стоял за распахнутыми воротами. Двери его были открыты. Двигатель не работал.
Иона поднялся в салон, выбрал кресло, в котором, как он помнил, не сидел никто из его попутчиков. Тяжело уселся, почувствовав вдруг бесконечную усталость и необоримое желание немедленно уснуть.
Щёлкнул, захрипел динамик. Гнусавый голос вагоновожатого произнёс: «Трамвай следует в депо».
«Ну в депо, так в депо», — пробормотал Иона.
Он привалился головой к окну, закрыл глаза. Скрежетнув, закрылись двери. Включился, загудел мотор. Холодное стекло под виском Ионы мелко завибрировало, задребезжало; вагон тронулся.
«Вот и ладно, — подумал он. — А где у них депо?.. Да какая разница… Ехать, главное — ехать. Без остановок. Долго. Всегда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону… Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя… и оделся во вретище, и сел на пепле… на пепле сел… и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его… и вельмож: чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели… не ели, не ходили на пастбище и воды не пили… и чтобы покрыты были вретищем люди и скот… вретищем… люди и скот… люди и скоты…»
Смутные неразличимые видения сна уже вползали в Ионину голову, копошились в ней, лукавили и дурманили, путали мысли.
«И бросили жребий, и пал жребий на… пал… Но это же не я! Я ни при чём!..»
«Значит, ты не Иона — обратился он к себе, пытаясь докричаться сквозь ватную истому навалившейся дрёмы. — Хватит тебе быть Ионой… Что всё Иона да Иона… Будешь ты теперь… Будешь Дамоклом… Почему — Дамоклом?.. Да кто тебя знает… А что это ты выдумываешь себе новое прозвище, будто собрался всю жизнь провести наедине с собой во чреве этого трамвая?..»
Иона не был уверен, что успел додумать эту последнюю мысль, и что она звучала именно так; и не мог бы сказать, на каком её слове окончательно погрузился в сон.
Трибунал, или Семь слов рядового Мирзагалиева на кресте
Рядовой Мирзагалиев покинул пост. Оставил охраняемые мусорные баки с секретными отходами военно–полевой солдатской кухни и ушёл в самоволку. На час ушёл, — как говорил он себе, скрываясь в сонной ночи на дороге к близлежащей деревне Колокше.
А оказалось — на всю жизнь.
Пропажу обнаружили через три часа, когда старшина Лотвин встал по малой надобности, а заодно решил проверить посты. Дойдя до баков с отходами, близ которых располагался импровизированный солдатский сортир, он трижды обошёл вокруг и, убедившись в пропаже часового, дёрнул затвор автомата.
— Тревога! — подал он сигнал.
Были разосланы патрули. Кто–то из солдат припомнил, что в близлежащей Колокше имеется у Мирзагалиева зазноба. Отправили в Колокшу «уазик», возглавляемый лично старшиной Лотвиным.
Самовольщика обнаружили и взяли, по–солдатски не стесняясь ни в средствах, ни в выражениях. В довершение всего, жительница Колокши Сурьмина Наталья, из постели которой патруль и вытащил рядового Мирзагалиева, оказалась агентом западных спецслужб. В тот же день назначили суд военно–полевого трибунала. Трибунал был скоропостижен и по–армейски немногословен: «Казнить б…ское отродье!»
В качестве средства было избрано распятие на кресте, поскольку боезапас не подвезли, а имеющийся в наличии был весь отстрелян на вчерашних учениях. Поступало предложение повесить, но командир части майор Врасов обоснованно запретил: «Нет. Предатель российской армии не может быть повешен, как какая–нибудь героиня войны Зоя Космодемьянская. Да и мы не нацисты».
— Что же прикажете делать, товарищ майор? — щёлкнул каблуками лейтенант Духовицкий.
— Распять, — бросил Врасов, подумав минуту. — Вполне себе позорная и мучительная казнь — как раз для изменника родины.
Посреди лагерного плаца поставили наспех срубленный крест. Пока рядовой Мукасеев и ефрейтор Жальский распрямляли на кирпиче ржавые гвозди, выдернутые из ящика с провизией, рядового Мирзагалиева разоблачили до трусов. Смотрели на его худое скелетистое тело, на выпирающие дуги рёбер, на худосочные ляжки и удивлялись: и что в нём нашла агент западных спецслужб?
— А ей не тело нужно было, — усмехнулся лейтенант солдатской простоте. — Ей нужны были секретные сведения, что хранятся в голове военнослужащего российской армии.
Духовицкий, впрочем, не был до конца уверен, что в голове рядового Мирзагалиева хранились секретные сведения, да и передать их агенту он вряд ли бы смог, поскольку по–русски почти не говорил. Хотя, он ведь способен был и притворяться, что не знает русского. А кроме того, мог втайне свободно владеть английским. «Да и потом, — думал лейтенант, наблюдая как готовят Мирзагалиева к казни, — разве подлинной любви потребен для самовыражения язык?! От любящего сердца к любящему сердцу, на незримых волнах на частоте в столько–то герц поступают чувства, томящие влюблённого и требующие выражения… А с ними поступают и секретные сведения о расположении части».
На плацу собрались все, кто был не в наряде. По распоряжению майора Врасова раздали по сто граммов водки. Дымила полевая кухня. Свежий ветерок уносил в поля аромат гречки с говяжьей тушёнкой, примешивал его к душноватому медовому настою клевера, звонкому припаху синих колокольчиков, игривому благоуханию ромашек.
Солдаты оживлённо переговаривались в ожидании казни. Весело гоготала группа, собравшаяся вкруг Лотвина — старшина травил свои бесконечные анекдоты. От импровизированной полевой курилки донёсся звук гармони, взыгравшей «Не плачь, девчонка» — это рядовой Донцов расторопно бегал пальцами по кнопкам трёхрядки. Расселись, улеглись вкруг гармониста бойцы. На их строгих, но таких ещё детских лицах, задумчиво свешенных на груди, отражались у кого–то — лёгкой грустью — воспоминания об оставленной там, на гражданке, девчонке, у кого–то — гордостью — радость от успешно выполненной, поставленной командованием части, задачи, а у иных — ничего не отражалось, кроме наслаждения и неясной мечтательности, свойственной всякому погружению в музыку, и жевали они задумчиво былинку или вздрагивали вдруг, когда падал длинный столбик пепла с позабытой сигареты.
Взор лейтенант затуманился. Таким родным, таким исконным, армейским, веяло от этой суровой и в то же время идиллической в своей суровости (для тех, кто понимает) картины!
Неслышно подошёл майор Врасов, молча встал рядом, махнув: «вольно, лейтенант, вольно». Кажется, майора одолевали те же чувства и примешивалась к ним сладкой горечью отеческая любовь и гордость за этих вчера ещё мальчишек, а сегодня — бойцов одной из самых непобедимых армий мира.
— Прилично ли будет распять? — тихонько усомнился лейтенант, возвращаясь из лирической задумчивости к событиям насущным. — Фамилия–то у него… Нерусь ведь. Не еврей опять же. Татарва ненавистная.
— Еврей, — лукаво взглянул на него майор. — Я наводил справки. Через гэбэшников. С виду супостат монгольский, а по сути — еврей. Вот такая странность, лейтенант. Вот в таком сраном мире живём. Враг научился умело маскироваться, так что сразу и не определишь, кто свой, а кто — чужой.
Лейтенант нахмурился, кивнул.
Застучали молотки. Закричал рядовой Мирзагалиев, ладони которого Мукасеев и Жальский приколачивали к наспех оструганному кресту. Старые, кое–как выпрямленные, гвозди плохо шли в древесную плоть, норовили вернуть себе ставшее уже привычным гнутое состояние. Мукасеев негромко матерился и выбирал новый гвоздь. Но и тот не желал идти ровно.
Однако, российский солдат привычен к трудностям службы — упрямство гвоздей было таки сломлено. Перешли к ногам.
— И ведь ты посуди, лейтенант, какая странность, — задумчиво продолжал майор Врасов, поглядывая на кричащего Мирзагалиева, — ведь солдат русский — ведь, казалось бы, тот же самый гражданин России, мать и отца имеет, священный, сказать, долг исполняет по охране и защите своей отчизны… То есть, как бы, остаётся личностью при тех же правах и конституциях, да ещё и личностью особого порядка, должной вызывать в согражданах лишь молчаливое почтительное уважение. А на деле — быдло быдлом! Не существует при всём этом скотины более хамской и бесправной, чем наш российский солдат. Не странно ли это?
— Так точно, товарищ майор, — отозвался лейтенант, впадая в философскую раздумчивость, — я тоже много рассуждал об этом. Получается, будто продан человек в рабство на определённый срок, закрепощён, будто; с утратой всех своих и без того немногочисленных прав. Но, думаю я иногда, может быть, так и надо? Так и надо этой скотине, веками приучаемой к молчаливому перенесению всяческого над собой глумления? Хоть и печально всё это русскому сердцу настоящего патриота, коим обязан быть по–дефолту каждый военнослужащий.
— Вот–вот, — вздохнул майор. — В каком сраном мире живём!
Лейтенант задумчиво пожал плечами, не уразумев, к чему относилось последнее высказывание командира части.
Между тем крики стихли, обратившись в бесконечные долгие стоны — Мирзагалиева прибили ко кресту.
Подскочило отделение сержанта Костенко, назначенное в исполнительскую команду; покрикивая, подняли крест, установили в приготовленную ямку и быстро окопали, укрепив.
К стоящим в стороне командирам подбежал живенький старшина Лотвин с хитрыми глазками хохла в третьем поколении, отдал честь:
— Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту, — и, после майорского кивка повернулся к Духовицкому: — Товарищ лейтенант, приговорённый пить просит. Давать?
Духовицкий повернулся ко Врасову. Тот небрежно кивнул.
— Дайте, — бросил лейтенант старшине.
— Есть! — Лотвин весело отдал честь и помчался обратно.
Быстро смочили в столовом уксусе, припасённом для вечернего плова, губку, коей повар Сафаров мыл котлы, навздели её на штык и поднесли к иссохшим устам мученика. Тот жадно захватил губку спёкшимися губами, сжал, потянул. Узкоглазо скривился, глотая кислоту.
Нетрезво икнул, подходя к распятию, прапорщик Порошин, назначенный Врасовым в старшие при исполнении казни. Стихла гармонь на последнем призыве к неведомой — всероссийской — девчонке: «Солдат вернётся, ты только жди!»
«Эх, не всем дано вернуться, — подумал Духовицкий, смаргивая набежавшую слезу. — А ведь пацаны ещё совсем! Будь проклят враг!»
— Бисмилля! — воскликнул вдруг рядовой Мирзагалиев, провисая на кресте тощим телом, почуяв близкую смерть, поднимая тонкое узкоглазое лицо своё к небу. — Бисмилляхи рахмани рахим!
— Чего это он кричит? — тревожно взглянул лейтенант на Врасова.
— Да чёрт его знает, — раздражённо пожал плечами майор. — Бога зовёт.
— Это я понял, — продолжал недоумевать Духовицкий. — Но почему на ордынском?
— Забыл родной еврейский, должно быть, — был ответ.
— Нехорошо как–то, всё–таки, — пробормотал лейтенант, опасаясь, что плеснёт сейчас майорский гнев, ошпарит. — Ордынец на кресте аллаха кличет. Неправильно как–то, товарищ майор.
— Бог един, — неожиданно спокойно отозвался Врасов и по–отечески глубоко, добро и мудро взглянул на молодого лейтенантика.
— Есть! — щеголевато поднёс тот руку к козырьку и щёлкнул каблуками и улыбнулся: сомнения его были развеяны. — Так точно, товарищ майор, бог един! — И добавил уже не по–форме, но с дальним прицелом: — Мог бы я и сам догадаться. Вот что значит опыт старшего боевого товарища.
Майор ласково похлопал его по плечу, улыбнулся:
— Бог–то един, — повторил он задумчиво. — Да люди разные.
Лейтенант задумался, уловив некое противоречие в словах командира. А в майорских глазах лукаво и горестно плеснулась неизреченная мудрость многих поколений российских, потом советских, и снова российских военнослужащих.
Стоя вкруг распятия, притихшие солдаты молча дожидались, когда басурманская душа Мирзагалиева отойдёт к единому богу — не перебрасывались уже шутками, не курили.
А запад вдруг почернел наползающей тучей. Игривый прежде ветерок превращался в разгульного безбашенного степняка, который ещё третьего дня сорвал лейтенантскую палатку, чем вызвал внеочередные наряды для трёх крепивших её бойцов, в том числе и Мирзагалиева.
— Сейчас грянет, — нахмурился на небо Врасов.
— Когда же он почит–то, нерусь! — покачал головой лейтенант, которому вовсе не хотелось оказаться под ударом молнии. Да и палатку надо было проверить — существовало у Духовицкого сомнение в том, что и во второй раз её укрепили как следует.
— Распорядитесь, путь поторопят его, — сухо бросил майор.
— Поторопят? — не понял лейтенант. — Кого?
— Хоть и басурманин, а всё человек, — многозначительно пояснил Врасов. — Негоже мучить попусту.
И поднял в намёке бровь.
— Есть! — подхватил лейтенант его мысль и бросился к прапорщику Порошину, прячущему в кулак нетрезвую отрыжку.
— Велено поторопить приговорённого, — коротко передал он, неприязненно взглянув в бесцветные и мутные глазёнки прапорщика.
— Вас понял, етить, — кивнул тот и выхватил у одного из солдат автомат с примкнутым штыком.
Лейтенант отвернулся от креста, бросил взгляд на майора Врасова. Тот, сняв фуражку, неспешно поправлял свои тронутые сединой пепельные волосы и тоже не глядел на страдальца. До лейтенанта дошло. Он сдёрнул головной убор, вернулся к майору, встал рядом.
Приблизившись к распятому, прапорщик Порошин поднял штык, неуверенно прицелился. Уже приготовясь «поторопить», поскользнулся на измятой сапогами траве, едва не завалился и не приколол торчавшего тут же любопытного солдатика первого полугодия службы. Но выправился, крякнул, выматерил мельтешащего полугодка, отогнал его за круг.
Наконец, стараясь держаться ровно, подошёл и враз отвердевшей рукой поднял штык. С лихой небрежностью кольнул распятого между рёбер, отошёл, кивнул командованию.
Тощее тело поникло, провисло на кресте. Излилась из него выпитая с уксусом вода. Упала на грудь черновласая голова.
Последними из семи слов рядового Мирзагалиева на кресте, кроме уже изреченных, были обращённые к прапорщику Порошину три кратких:
— Пашоль на …!
С запада наползала огромная чёрная туча, погружая лагерь в серую душную хмарь. Готовилась гроза.
Пляс—Пигальский концерт Бетховена
Город дрожал. Скопившаяся в одном месте людская масса грозила перевернуть эту махину, как небрежно брошенный на край блюдца комок картофельного пюре опрокидывает его.
В филармонии Штрабаха давали знаменитый Пляс—Пигальский концерт Бетховена. Цены на билеты были завышены немилосердно, но это не избавило организаторов от недовольства желающих причаститься великой музыки даже за такие деньги, а будущих слушателей не спасло от давки в безумной очереди, чьё тело змеилось по главной улице, а хвост достигал самой ратуши. Город и представить себе не мог, что в нём живёт столько любителей музыки вообще и ценителей Бетховена в частности.
В тесноте и давке погибли несколько человек — от удушья или будучи раздавленными о стены. Два гражданина застряли головами в окошечке кассы, поимев глупость просунуться в него одновременно, подстрекаемые конкуренцией за последнее место в партере. В итоге кассу № 3 пришлось закрыть, что едва не повлекло за собой общественные беспорядки среди тех, кто стоял в очереди к этому окошку и теперь оказался не у дел. Настроение усталой очереди немного скрашивала бесплатная трансляция «Фортуны» из «Кармина Бурана» Орфа. Но её прекратили после того, как в очереди был отмечен случай самоубийства. После этого передавали только минуту молчания.
Было много и других подобных происшествий, достойных описания в колонках «События» и «Казусы» городской газеты Штрабаха.
В конце концов, под давлением общественности, администрация приняла решение продавать приставные места, места в проходе и даже на самой сцене — стоячие, по краю.
В день концерта большой зал филармонии был не просто полон, а чрезвычайно полон. Те несчастные, кому не повезло с билетом, атаковали парапет и (с риском для жизни) карнизы, размазывая лица по окнам и пыль по костюмам. Даже крыши соседних домов, окружающих площадь Филармонии, были оккупированы страждущими музыки.
В удушающей толчее, начинавшейся задолго до входа в филармонию, Зритель едва не упал без чувств, не говоря уж об отдавленных ногах и помятых боках. Хорошо, что он пришёл за час до начала, а не то дверь филармонии захлопнулась бы перед самым его носом. А ведь он специально приехал в Штрабах, чтобы побывать на этом концерте.
В сутолоке, поминутно извиняясь и получая толчки, он кое–как добрался до своего места.
Каково же было его удивление, когда он обнаружил кресло занятым. Зритель ещё раз заглянул в свой билет, чтобы убедиться, что верно определил ряд. Да, определено было верно. Между тем, на его месте сидел худощавый господин и решительно делал вид, что не замечает устремлённого на него вопросительного взгляда.
Не менее пяти минут Зритель стоял перед этим господином, многозначительно поглядывая то в свой билет, то за спину сидящему — на номер места. Господин же яростно увлёкся игрой в «Удава» на мобильном телефоне и совсем перестал замечать Зрителя. Тогда Зритель сел прямо ему на колени, полагая, что худощавый господин наконец поймёт свою ошибку и уйдёт. Но тот сделал вид, что задремал и совершенно не чувствует на своих ногах Зрителя. Зато Зритель остро ощущал его костистые колени. Сидеть на них оказалось не очень удобно, но выхода всё равно не было. По крайней мере, теперь, находясь на некоторой высоте, он мог хорошо видеть сцену — ему не мешали ни головы, ни плечи сидящих впереди. К тому же, как он мог наблюдать, довольно многие точно так же сидели на коленях господ, успевших занять не свои места. Наверняка это была хитрость, проявленная оказавшимися без сидячего места. А быть может, таким образом господа позволяли удобно насладиться концертом своим друзьям.
— Я прихватил карты, — небрежно бросил господин, сидящий слева. — Не угодно ли партию в белот?
— Не сейчас, чуть погодя, — отозвался Зритель и принялся озирать зал, в котором стало к тому времени довольно душно, суетно и шумно.
На приставном сиденье в конце ряда Зритель увидел дальнего знакомого и уже было совсем собрался махнуть ему, но в последний момент подумал, что знакомец может напроситься к нему на колени, и не стал привлекать его внимание.
Между тем, стоявшему в проходе рядом со Зрителем низкому господину, почти карлику, было ничего не видно за спинами толпящихся впереди. Другой господин, рыжий, с добродушным веснушчатым лицом, некоторое время смотрел на его подпрыгивания в попытке что–нибудь увидеть через чужие плечи, а потом улыбнулся и предложил:
— Хотите ко мне на закорки?
— С удовольствием, — отозвался карлик не без стеснения.
Рыжий господин присел, и недоросток резво взобрался ему на плечи. Устроившись на шее доброго господина поудобней, он немедленно принялся аплодировать. При этом он так тесно сжимал ноги, стараясь получше держаться на плечах своего возницы, что тот побледнел. Через минуту бледность его стала столь всепоглощающей, что даже веснушек на лице было не рассмотреть. Тем не менее, он, кажется, был очень доволен детской радостью сидящего на его плечах недомерка и стоически выдерживал недостаток кислорода, улыбаясь до самого конца, пока не потерял сознание от удушья.
Никто, кроме Зрителя, кажется, не обратил внимания на эту сцену. Карлик наверняка больно ударился при падении, тем не менее, у него хватило такта не обидеться на рыжего господина и даже принести ему свои извинения. Однако, Зритель почему–то был уверен, что в душе карлик думает о своём вознице плохо, полагая, что тот специально упал, чтобы выставить на посмешище малый рост своего седока.
Где–то в партере громко засмеялись. Карлик с негодованием повернулся туда (подтверждая подозрения Зрителя), но оказалось, что смеются там совсем другому — это солидный господин в котелке с серьёзным видом рассказывал анекдот.
На галёрке какой–то еврейчик заиграл на скрипке, поставив перед собой шляпу. Ему хорошо подавали.
Стоячие места, окружавшие сцену, то и дело пытались сорвать концерт неуместными шутками: кто–нибудь из них выходил в центр сцены, к фортепиано, и нажимал клавишу. А то и начинал изображать из себя этакого пылкого маэстро: потряхивая головой, со всей силы ударял пальцами по клавишам и закатывал глаза, как бы в экстазе. Эти выходки поначалу неизменно вызывали смех и аплодисменты в зале, но вскоре они перестали забавлять, и на них уже не обращали внимания, так что шутники выглядели расстроенными холодностью публики и принимались бить по клавишам изо всех сил, умоляюще поглядывая в зал. После того, как один оскорблённо удалялся, его сменял другой, полагая, видимо, что у него получится лучше. Так продолжалось до тех пор, пока не явился сердитый распорядитель и не расставил всех по местам, согласно купленным билетам.
Устав наблюдать общество, Зритель повернулся к соседу, уже было согласившись на партию в карты, но его постигло разочарование: откинув голову на спинку кресла, сосед спал. Котелок сполз с его головы и грозил вот–вот упасть на пол, а в углу полуоткрытого рта собралась слюна. Зритель подумал сначала, не разбудить ли спящего, но потом пожал плечами и отвернулся, пытаясь сделать вид, что не очень расстроен. Он даже улыбнулся господину в следующем ряду, который громко разговаривал по телефону, поглядывая на Зрителя. В глазах этого человека Зрителю почудилась насмешка, поэтому он некоторое время беспокойно ёрзал на коленях худощавого господина, а потом наклонился вперёд и сказал:
— Не думайте, что мне хотелось играть в карты. Я не люблю белот.
— Вот как?! — обиженно воскликнул проснувшийся сосед (а может быть, он и не спал, а только притворялся спящим, чтобы подловить Зрителя?). — Так зачем же вы морочили мне голову?
— Простите, — смутился Зритель. — Я просто забыл, что совершенно не умею играть в белот.
— Хм… — сосед саркастически осмотрел Зрителя, поправляя котелок. — Почему бы вам сразу не признаться и не отнимать чужого времени! — раздражённо добавил он, поднимаясь и направляясь к выходу.
На освободившееся место тут же устремился карлик.
Дойдя до выхода, сосед Зрителя остановился и некоторое время укоризненно смотрел на него. Быть может, он надеялся, что Зритель одумается и позовёт его обратно.
В эту минуту по залу прошло оживление, все взгляды устремились на сцену. Видимо, появился Маэстро. Это спасло Зрителя от необходимости как–то реагировать на бывшего соседа — он принялся с интересом смотреть вперёд и даже привстал.
На сцене действительно происходило нечто интересное. Вернее, ничего интересного там не происходило, но Зрителю нужно было сделать вид, что он крайне увлечён происходящим. Его бывший сосед сокрушённо покачал головой и наконец вышел из зала. Зритель почувствовал некоторое облегчение и перестал смотреть на сцену.
И зря, потому что в ту же минуту раздались бурные аплодисменты.
— Что там? — спросил карлик, которому не удалось ничего увидеть даже после того, как он забрался на кресло с ногами.
— Ничего, — сердито отвечал Зритель. Ему не нравился этот маленький человек.
— Почему вы не хотите сказать? — обиделся тот и, кажется, готов был заплакать.
Только теперь, присмотревшись, Зритель понял, что это ребёнок. Его чувства сразу переменились: он испытал уважение к подростку, настолько любящему классическую музыку.
— Вы уже слышали ранее Пляс—Пигальский концерт, молодой человек? — спросил он, чтобы как–то сгладить неловкость.
Но ребёнок, кажется, и в самом деле на него обиделся — он отвернулся и не отвечал, делая вид, что крайне увлечён пятнашками, которые извлёк из кармана.
Зритель пожал плечами и снова обратился к сцене. Как раз в этот момент появился Маэстро. Он быстро вышел на сцену, остановился посредине и принялся оглядывать публику. Был он одет во фрак, а шею его обвивал длинный серый шарф, скрывая под собой подразумевавшуюся белую рубашку. Стоячие места, окружавшие сцену, немедленно бросились к артисту, чтобы получить автограф. Вступая с ними в соперничество, потянулись проходные места. Следом, опасливо отрываясь от своих стульев, рискуя потерять их, торопливо устремились к сцене приставные. Прочие же не спешили покинуть кресла, вполне резонно полагая, что могут остаться без места.
Буквально через минуту маэстро стало не видно в окружившей его липкой человеческой массе. К нему протягивали для подписи программки, пакеты попкорна, платочки, салфетки, ладони и даже интимные дамские штучки. Голос распорядителя, требующего соблюдать порядок и очерёдность, потонул в рёве толпы. Какая–то крайне возбуждённая дама в длинном платье с визгом выбила сумочкой окно со стороны улицы и спрыгнула с карниза внутрь зала. К счастью, её поймал стоящий тут же крепкий мужчина с большими чёрными усами. Зритель подумал, что это, вероятно, её сообщник.
Поддаваясь влиянию толпы, он поднялся со своего места и ринулся к сцене. Он не мог бы объяснить, зачем это делает. По крайней мере, автограф Маэстро ему точно не был нужен.
Тем не менее, он усердно работал локтями, пробиваясь в плотной человеческой массе, и очень скоро ему удалось оказаться почти рядом с Маэстро. Тут Зритель вспомнил, что у него нет ничего, на чём мог бы расписаться великий исполнитель Пляс—Пигальского концерта. Он хотел уже было подставить рукав белой рубашки, но тут его потянули за этот самый рукав. Зритель повернулся. Перед ним стоял полицейский.
Полицейскому с трудом удавалось сохранять равновесие и равнодушное выражение лица, потому что со всех сторон его толкали, как досадную помеху. Один господин норовил как будто невзначай сбить с полисмена его островерхий шлем. Зритель вопросительно посмотрел на полицейского и поднял бровь. Правда, в следующий же момент он её опустил, подумав, что подобное поведение может показаться представителю власти вызывающим.
— Что вам угодно? — вежливо поинтересовался он.
— Это ваше место? — ласково спросил полицейский, указывая на худощавого господина, с коленей которого минуту назад слез Зритель.
— Да, — отвечал тот.
В ту же минуту на руках его щёлкнули наручники.
— Следуйте за мной, — велел полицейский голосом уже отнюдь не ласковым, а суровым и с недоброй укоризной. — Вы арестованы.
— В чём меня обвиняют? — недоуменно вопросил Зритель.
— В убийстве, — строго отвечал полицейский.
Присмотревшись, Зритель увидел, что худощавый господин, на коленях которого он сидел, на самом деле, похоже, не притворялся спящим. Кажется, он давно уже был мёртв. Возможно, он умер в тот момент, когда Зритель уселся на его колени. Зрителю было страшно подумать, что он, со своей необдуманной и грубой настойчивостью в завоевании места, мог стать причиной смерти человека.
Деваться было некуда. Он обречённо последовал за строгим полицейским, бросив беспомощный взгляд на Маэстро, чей долгожданный автограф был так близок. У него и мысли в голове не возникло о побеге или сопротивлении. А ведь он мог бы, пожалуй, толкнуть идущего впереди полисмена в спину и смешаться с толпой. Но Зритель был законопослушным гражданином.
Полисмен привёл его в кабинет директора, в котором был организован временный штаб полиции. Там уже сидели инспектор и городской обвинитель. Они встретили Зрителя осуждающими взглядами, а обвинитель даже прищурился.
— Вот, — сказал полицейский. — Был схвачен при попытке смешаться с толпой.
— Хорошо, — кивнул инспектор. — Я отмечу это в рапорте, вы наверняка получите поощрение.
Полицейский довольно вытянулся и пожал плечами.
— Я не ради поощрения, — сказал он неискренне. — Служба такая.
— Ваша фамилия? — обратился строгий инспектор к Зрителю.
— Бетховен, — отвечал тот.
— Бетховен? Так это вы сочинили Пляс—Пигальский концерт Бетховена? — вмешался обвинитель.
— Я.
— Позвольте пожать вашу руку! — обвинитель бросился к арестованному, пребольно схватил его кисть и принялся трясти.
Инспектор протянул протокол и ручку:
— Подпишите, пожалуйста. На память.
Бетховен оставил на бланке свою размашистую подпись. Довольный инспектор уселся на место и принялся быстро заполнять протокол.
— А мне и подписать нечего, — с сожалением произнёс полисмен. Потом вдруг просиял и бережно достал из внутреннего кармана кителя фотографию женщины. Женщина сидела в пол–оборота к объективу, была некрасива и как будто сердита на неизвестного фотографа.
— Вот, — произнёс полицейский, умильно улыбаясь фотографии и протягивая её Бетховену вместе с самопишущим пером. — Дорогой Розе на вечную память, с любовью и благодарностью, Бетховен.
— Я должен это написать? — поинтересовался Бетховен.
— Ей будет очень приятно, — кивнул полисмен.
Бетховен пожал плечами, взял перо и надписал на обороте фотографии нужные слова.
Между тем инспектор покончил с протоколом и передал его обвинителю. Тот вставил в глаз монокль, откинулся в директорском кресле и принялся внимательно читать.
— Хм… — произносил он то и дело, постукивая себя пальцем то по переносице, то по передним зубам. — Интересно… Вот как!..
Закончив чтение, вложил протокол внутрь чёрной папки, передал её инспектору и обратился к арестованному:
— Значит, вы признаёте себя виновным, господин Бетховен… Это хорошо, это очень осмотрительно с вашей стороны.
— Признаю? — смутился Бетховен.
— Ну да, — обвинитель строго и с подозрением заглянул ему в глаза. — А разве… нет?
Тут Бетховен заметил, что инспектор усиленно делает ему за плечом обвинителя знаки — подмигивает, кивает и отчаянно жестикулирует. Впрочем, смысл и назначение этих знаков, оставались непонятными. Тогда арестованный с мольбой посмотрел на полисмена, но тот отвёл глаза и даже отошёл к окну, повернувшись спиной.
— Мне очень жаль, если тот господин умер по… по моей неосторожности… — нерешительно произнёс Бетховен.
— Неосторожности?! — воскликнул обвинитель так неожиданно, что арестованный вздрогнул. Инспектор за спиной обвинителя сокрушённо покачал головой и вздохнул.
— То есть… — растерялся Бетховен. — То есть, мне очень жаль, что я невольно стал причиной смерти…
— Невольно?! — снова перебил обвинитель. — Невольно… А вот показания свидетелей говорят о совершенно ином. Они прямо изобличают наличие злого умысла и намеренное причинение смерти пострадавшему.
— Но у меня не было такого намерения!
— Это метафизика, — отмахнулся обвинитель. — И господин Ахенштерн и господин Ахенштерн и мадам Пульц однозначно подтверждают, что видели, как вы совершенно осознанно причинили пострадавшему смерть.
— Кто эти господа? — вопросил Бетховен, которому названные фамилии совершенно ни о чём не говорили.
Обвинитель сделал знак стоящему за его спиной инспектору. Тот отошёл к полисмену, по–прежнему любующемуся видами за окном, и что–то прошептал ему на ухо. Полицейский кивнул и исчез за дверью.
Через минуту он вернулся в сопровождении двух господ и дамы. Свидетельницей оказалась та самая дама, что давеча разбила окно и спрыгнула в зал. А двумя господами были любитель белота и карлик. Бетховен ничего не имел против господ, но ему хотелось бы спросить, каким образом в свидетелях убийства оказалась отчаянная мадам Пульц.
— Господа Ахенштерн, Ахенштерн и мадам Пульц, — доложил полисмен. После этого он снова отошёл к окну и принялся ковырять в зубах пластмассовой зубочисткой, извлечённой им из подкладки шлема.
— Вот видите, — обратился обвинитель к Бетховену. — Господа Ахенштерн, Ахенштерн и мадам Пульц.
Любитель карточных игр не сводил с Бетховена пронзительного укоряющего взгляда. Карлик отрешённо посматривал в окно. Присмотревшись к нему получше, Бетховен совершенно точно смог определить, что это всё же не подросток, а взрослый мужчина более чем среднего возраста.
— Вы свободны, господа, — обратился к ним обвинитель.
Свидетели молча, один за другим вышли из кабинета. При этом дама, выходившая последней, обернулась, гневно взглянула на Бетховена и прошептала: «Мерзавец! Такого человека!.. Такого человека!..» Дверь закрылась, но за ней ещё минуту были слышны сдавленные рыдания, ввергнувшие Бетховена в бездну отчаяния. Он и не представлял, сколь любимый городом человек погиб по его жестокосердной глупости и упрямству.
— У нас и вещественные доказательства имеются, — добавил между тем инспектор, глядя на Бетховена неприязненно, почти с ненавистью.
Сказав это, он достал из своего портфеля большой пакет из обёрточной бумаги, подошёл к столу и вытряхнул из конверта сотовый телефон.
— Вот, — пояснил он. — Телефон, принадлежавший господину Манштейну.
— Манштейну! — повторил Бетховен.
— Да, — вцепился в него взглядом обвинитель. — Вы его знали?
— Нет.
— Тогда почему вы сказали «Манштейну»?
— Потому что господин инспектор назвал эту фамилию. Я просто повторил за ним, не знаю зачем — по инерции, видимо.
— Странно, — хмыкнул обвинитель.
Между тем, следователь достал из кармана свой телефон и стал набирать номер. Спустя несколько секунд телефон, принадлежавший покойному, вдруг ожил — завибрировал, экран его засветился. Ушей всех присутствующих коснулись первые такты знаменитого Пляс—Пигальского концерта Бетховена.
— Вот так–то, — торжествующе усмехнулся инспектор, давая отбой. — А вы, наверное, полагали, что вам удалось замести все следы, не так ли?
— Признаться… — начал было Бетховен, но обвинитель не дал ему договорить:
— Да, это лучшее, что вам остаётся. Признаться во всём.
— Мне не в чем признаваться, — понурился Бетховен.
— В самом деле? — с издёвкой выдохнул инспектор, глядя на арестованного с отвращением.
— А вы не скажете, почему назвали свой концерт Пляс—Пигальским? — поинтересовался обвинитель.
— Потому что он был сыгран единственный раз, на площади Пигаль, в не помню каком году, — объяснил Бетховен. — Это была импровизация.
— Да? — усмехнулся инспектор. — А может быть потому, что жену вашей жертвы в девичестве звали мадемуазель Пляс—Пигаль?
— Нет, уверяю вас, не поэтому! — запротестовал Бетховен.
— Так значит, вы не отрицаете, что знаете девичью фамилию жены убитого, — тут же изобличил обвинитель. — Опровергаете только то, что концерт назван именно по девичьей фамилии вашей любовницы.
И хитро посмотрел на инспектора, довольный своей ловкостью.
На это Бетховен уже ничего не смог ответить — его душили слёзы и готовые прорваться рыдания. Он чувствовал себя совершенно подавленным перед лицом неопровержимых улик, представленных слугами закона.
— Ну что ж, дело ясное, — вздохнул обвинитель, кивнул и принялся неспешно раскуривать сигару.
— Совершенно ясное дело, — поддакнул инспектор.
— Видели бы вы, как он пытался затеряться в толпе, — добавил от окна полисмен.
— Я внёс это в протокол, — успокоил его инспектор. — Вы будете вознаграждены по заслугам.
Обвинитель отошёл к окну, и, оттеснив полисмена, принялся смотреть в сгущающиеся сумерки, задумчиво покуривая благоуханную сигару. Наступило молчание, в котором слышно было только тяжёлое дыхание Бетховена, который боролся с чувствами, да тиканье часов на стене.
Наконец, докурив, обвинитель сделал знак инспектору и взялся за свою трость. Инспектор кивнул полисмену. Тот подошёл к Бетховену и взял его за руку, жестом показав ему, что он должен следовать за инспектором.
Они вышли из кабинета — обвинитель впереди, инспектор за ним, далее (руки за спиной) Бетховен и завершающий процессию полисмен.
Казалось, все служащие филармонии, все музыканты, со своими инструментами, высыпали в коридор, чтобы поглазеть на шествие и теперь жались по стенам, с любопытством и ужасом взирая на Бетховена. Стоял в конце коридора строгий дирижёр, отсчитывая палочкой такты приближающихся шагов. Он проводил Бетховена долгим взглядом и, кажется, губы его прошептали вслед: «Убийца!».
Зрители в зале уже расходились, их осталось совсем немного — из тех, что ещё не успели получить автограф Маэстро. Бетховен обратил внимание на то, что Маэстро очевидно устал от концерта. Его глаза были полузакрыты, он покачивался и, если бы не плотное кольцо зрителей, поддерживающее его, то наверняка упал бы. Рука его, как манипулятор автомата, поднималась, ставила быструю подпись на предложенной поверхности и замирала в ожидании следующей манжеты, пачки сигарет или программки. В разбитое сумочкой мадам Пульц окно задувал прохладный ветер и забрасывал жёлтые листья, образовавшие уже заметную кучку у стены. Молчало посреди сцены фортепиано, крышка которого, открытая зрителями сцены, вдруг упала, с треском захлопнувшись.
«Как быстро наступила осень!» — подумал Бетховен.
Он с тоской посмотрел на своё место и заметил убитого, который, казалось, так и спит в кресле.
— Не лучше ли было убрать тело господина Манштейна? — обратился он к инспектору. — Или вы специально держите его там, чтобы мучить меня?!
— Манштейна?.. — удивился инспектор. — Убитого не звали господин Манштейн.
— Не звали?! Но как же так, вы же сами демонстрировали мне телефон господина Манштейна!
— Да, — усмехнулся инспектор, — но при чём здесь убитый? Телефон принадлежит господину Манштейну, а убитого звали герр Франк. Но вы же не думаете, что это как–то оправдывает убийство?
Бетховен понурился под тяжёлым взглядом инспектора и лишь растерянно покачал головой. Он уже не способен был думать ни о чём, его мозг изнуряла только одна мысль: «Всё пропало. Выхода нет».
На галёрке играл на скрипке давешний еврейчик, хотя его уже никто не слушал и некому было подать. Стоящая у его ног шляпа была полна денег.
— А почему бы вам не сыграть нам свой концерт? — предложил вдруг обвинитель.
— И то правда! — оживился инспектор.
— Я ещё ни разу не слышал его, — кивнул полисмен. — Очень было бы здорово послушать.
— Но, право, господа… — смешался Бетховен. — Я сейчас…
— Ну вот, как всегда, — усмехнулся инспектор. — Эти господа композиторы такие чувствительные! Они любят, чтобы их упрашивали и будут жеманиться до последнего.
— Сыграйте нам, сыграйте! — уговаривал обвинитель.
— Но я не умею играть, — пожал плечами Бетховен.
— Да, я занесу это в протокол, — ответил инспектор многозначительному взгляду обвинителя.
— Я бухгалтер, — растерянно пожал плечами Бетховен. — Я не умею играть на фортепиано.
— Значит, это не вы сочинили Пляс—Пигальский концерт Бетховена? — сурово произнёс обвинитель, кивнув инспектору, чтобы тот внёс и эти новые показания обвиняемого в протокол.
— Я, — отвечал Бетховен. — Это была минута вдохновения. Стояла весна. Я был молод, влюблён…
— В мадемуазель Пляс—Пигаль, — вставил обвинитель.
— … Пели птицы, — продолжал Бетховен, не обратив на обвинителя никакого внимания, увлеченный воспоминаниями. На глаза его набежала слеза. — От Сены долетал лёгкий ветерок. Мне было так хорошо! Меня охватила тихая радость бытия, довольство, какое постигает в иную минуту всякую живую душу. И я принялся напевать. Мелодия рождалась сама, без участия нот, ключей, знаков темпа, пауз и прочего, чем мучат детей в школах, на уроках музыки. Она лилась прямо из сердца — свободно и радостно, я не мог сдерживать её или как–то на неё повлиять… Стоящий тут же волынщик принялся мне подыгрывать на своём гнусавом инструменте. Пришёл барабанщик с другой стороны площади, вместе со шляпой для денег. Явился откуда–то старик–шарманщик. Потом возник из ближайшего переулка человек с губной гармоникой. Охваченные единым порывом, мы играли. Играли так вдохновенно, в таком единении душ, что, кажется, небеса вторили нам. Собрались люди. Нам аплодировали… Так родился Пляс—Пигальский концерт Бетховена, к которому я не имею по сути никакого отношения, хотя несомненно являюсь его автором.
Во всё время монолога Бетховена обвинитель с инспектором многозначительно переглядывались, и временами инспектор делал какие–то пометки в протоколе. Полисмен между тем отошёл к группе, окружавшей Маэстро, и наблюдал за кем–то.
Как выяснилось через минуту, предметом наблюдения была та самая дама, на чьей фотографии Бетховен оставил подпись. Довольная тем, что ей удалось получить автограф Маэстро, она, слегка помятая, выбралась из толпы, сжимая в руке заветный фантик от шоколадной конфеты.
Полисмен тут же вцепился ей в руку и потащил к краю сцены. Остановившись и пронзительно глядя на даму, он извлёк из кармана фотографию и продемонстрировал сделанную Бетховеном подпись. Дама всмотрелась, и некрасивое лицо её озарилось радостью.
— Что это значит? — строго вопросил полисмен.
— Как тебе удалось?! — радостно воскликнула дама.
— Что это значит?! — повторил полисмен свой вопрос на тон выше.
— Автограф Бетховена! — не унималась дама. — Я счастлива! Великий, великий композитор!
— Композитор? — гневно и с насмешкой произнёс полицейский. — Полноте, милочка, он никогда им не был, уж вам ли этого не знать! И объясните же мне, в свете сказанного, почему этот господин пишет вам? Дорогой Розе! С любовью!.. Как вы могли поддерживать связь с этим… с этим ничтожеством?! С бухгалтером!
— Но милый… — начала было дама, однако полицейский не стал её слушать.
— Я всегда, всегда знал, что ты мне изменяешь! — воскликнул он, отвешивая женщине тяжёлую пощёчину. Потом бросил ей под ноги фотографию и покинул зал, бросив на ходу:
— Между нами всё кончено.
Обвинитель, тоже с интересом наблюдавший эту сцену, повернулся к Бетховену и укоризненно покачал головой:
— Нехорошо–то как, господин бухгалтер! — произнёс он. И добавил с горечью: — Сколько судеб, имевших несчастье пересечься с вашей судьбой, пошли под откос!
На сцене раздался какой–то шорох и стук. Обернувшись, Бетховен увидел, что это упал Маэстро. Все автографы были розданы, и теперь не стало никого, кто мог бы поддерживать великого исполнителя. Между тем, рука лежащего без чувств музыканта продолжала ритмически подниматься, делать визирующее движение и опускаться, чтобы через мгновенье подняться снова.
— Ну что ж, — произнёс обвинитель, — концерт окончен. Теперь, господин инспектор, вы можете с чистым сердцем препроводить господина бухгалтера к месту казни.
— Да, господин обвинитель, — оживился инспектор, беря Бетховена за руку.
— К месту казни! — горестно воскликнул тот. — Но разве прежде не должно быть суда, разве я не могу пригласить адвоката, разве не имею я право на последнее слово?
— Законами города Штрабаха оговорено, господин Бетховен, — охотно пояснил обвинитель, — что дело об убийстве, особенно совершённом в публичном месте или с особым цинизмом, находится в компетенции верховного обвинителя и может не доводиться до суда, дабы не отнимать у господ судей время на вынесение приговора, который по сути очевиден.
— Однако, господин верховный обвинитель, разве… — начал было Бетховен, но ему не дали договорить:
— Я не верховный обвинитель, — высокомерно произнёс собеседник. — Я обвинитель первого ранга.
— Вот как… — растерялся Бетховен. — Но в таком случае не следует ли донести моё дело сначала до господина верховного обвинителя?
— Господин верховный обвинитель города Штрабаха прекрасно осведомлён о вашем деле, герр Бетховен, — холодно возразил обвинитель. — Приговор уже подписан им несколько минут назад.
— Вот как… — только и смог повторить бухгалтер.
— Да. Верховный обвинитель города Штрабаха господин Ахенштерн лично подписал смертный приговор с пометкой «обжалованию не подлежит».
— Господин Ахенштерн?! — воскликнул Бетховен. — Это был верховный обвинитель?! Почему же вы не предупредили меня? Я подал бы апелляцию.
— Я не обязан этого делать, — высокомерно улыбнулся обвинитель первого ранга. — К тому же, личность верховного обвинителя является неприкосновенной и секретной, во избежание попыток мести со стороны обвиняемых или их родственников.
— Но скажите хотя бы, это был господин Ахенштерн или господин Ахенштерн?
— Господин Ахенштерн.
Бетховен поник и даже не почувствовал, как инспектор увлёк его к выходу из зала, в котором, после их ухода остались только еврейчик, вдохновенно играющий на скрипке Пляс—Пигальский концерт Бетховена, да лежащий на сцене Маэстро.
Во дворе филармонии, куда его вывели, ещё толпились возбуждённые зрители. Крыши близлежащих домов тоже не совсем опустели — видимо, собравшиеся обсуждали недавний концерт. При виде Бетховена, с заведёнными за спину и закованными в наручники руками, по толпе прошёл ропот. Бухгалтер, которому почудилось, что ропот этот обращён ему в поддержку, выпрямился и гордо откинул голову.
Откуда–то явился полисмен, перехватил Бетховена у инспектора и подвёл его к стене, окружающей здание филармонии.
— Угодно ли вам стать лицом к стене и спиной к смерти? — спросил он. — Или предпочитаете встретить смерть лицом?
Бетховен, который до последнего момента сомневался, что его казнят и ждал взрыва недовольства среди зрителей, не нашёлся, что ответить. Повернувшись к толпе он только крикнул:
— Я Бетховен! Слышите? Это я написал Пляс—Пигальский концерт!
— Вы всего лишь жалкий бухгалтер! — закричал инспектор, явно стараясь перетянуть мнение толпы на свою сторону. — Вы даже не умеете играть на фортепиано!
— Убийца и развратник! — добавил обвинитель.
Полицейский достал из кобуры пистолет и повторил свой вопрос:
— Угодно вам обратиться лицом к смерти, или же к стене, господин Бетховен?
Ему явно не терпелось привести приговор в исполнение, как заметил приговорённый. Видимо, ревность ещё глодала его сердце и подбивала к торопливой жестокости.
— Мне всё равно, — гордо отозвался бухгалтер.
— Ему всё равно, — повернулся полисмен к обвинителю.
— Он хочет унизить закон, выразить ему своё презрение! — крикнул кто–то из толпы, и Бетховен окончательно понял, что наблюдатели не на его стороне. Ему показалось, что это кричал тот карлик, господин Ахенштерн. Впрочем, его не было видно за толпой, поэтому Бетховен не мог бы поручиться, что не спутал голос.
— Зачем вы отягощаете свою и без того не малую вину, господин Бетховен? — укоризненно произнёс обвинитель. — Неужели вам так хочется оставить по себе в городе Штрабахе только самую чёрную славу?
Кто–то из толпы бросил в Бетховена камень, но к счастью не попал. Камень стукнулся о бетонную стену и рикошетом ударил по ноге полицейского. Тот зашипел от боли и яростно подтолкнул приговорённого к стене.
— Встаньте уже как–нибудь! — пробормотал он. — Сколько можно всё это тянуть! Неужели вам доставляет удовольствие мучить меня вновь и вновь?!
— Мучить вас? — удивился Бетховен. — Объяснитесь, я не понимаю.
— Ах, полно вам притворяться! — покачал головой полисмен. — Ведь вы же узнали меня, сразу узнали, я уверен.
— Узнал вас? Но… Нет, я даже подозрения не имею о том, кто вы такой. Быть может, меня сбивает с толку ваша форма.
— Кончайте уже! — крикнули из толпы. — Темнеет.
На улице действительно темнело. Поднимался холодный осенний ветер, но даже он не мог остудить пылающие умы и разгорячённые души толпы.
Полицейский торопливо сдёрнул с головы островерхий шлем, вопросительно взглянул на Бетховена. Тот дёрнул губами и покачал головой: нет, он по–прежнему не узнавал.
Тогда полисмен снял китель.
Что–то знакомое почудилось Бетховену, какое–то воспоминание мелькнуло в голове, но он не мог сосредоточиться, уловить его.
— Ну? — улыбнулся полисмен. — Вспомнили?
— Не могу, — покачал головой Бетховен.
— Поторопитесь! — крикнул со своего места понукаемый обвинителем инспектор.
— Скорее вставайте, — засуетился полицейский, — пока меня не уволили со службы. Вы ведь не хотите, чтобы меня уволили, господин Бетховен?
— Нет, не хочу, — отвечал бухгалтер, становясь лицом к стене. — Хотя, мне должно быть всё равно.
— Значит, вы так и не узнали меня… — с сожалением произнёс полисмен, взводя курок револьвера.
— Не могу, — повторил Бетховен. — Напомните хотя бы, при каких обстоятельствах.
— Ну что ж вы так! — покачал головой полисмен, приставляя дуло револьвера к затылку Бетховена. — Ну, вспомните: Пляс—Пигаль… вы напеваете вступление из своего концерта… Какой–то прохожий, думая, что вы просите подаяния, бросает вам под ноги монетку в десять су… Вы улыбаетесь и небрежно поддеваете её носком ботинка… Доходите до двадцать шестого такта, и тут вступает…
— Волынщик! — радостно воскликнул Бетховен.
— Слава богу! — отозвался полисмен и нажал на спуск.
Час спустя всё было кончено, ничто не напоминало о недавно свершённой казни. Тело убрали, смыли кровь со стены. Двор филармонии ничем не напоминал о восторжествовавшем здесь законе. И только осенний ветер забрасывал мостовую жёлтыми листьями.
Город медленно погружался в ночь. Ужинал бараньей ножкой в уютной кухне, при свечах, господин обвинитель первого ранга и рассказывал супруге о событиях дня. В своём кабинете перечитывал протокол по делу Бетховена господин Ахенштерн и в который раз убеждался в справедливости вынесенного им приговора. Дремала перед телевизором, с вязанием на коленях, мадам Пульц. Стояли у кассы № 3 два господина, соединившись головами в узком окошке и подрёмывая в ожидании слесаря, который вот–вот должен подойти и освободить их.
А на своём балконе, в тихом переулке, залитом светом сонных фонарей, полисмен играл на волынке Пляс—Пигальский концерт Бетховена и плакал.
Пропускной режим
1
Иван уже минуты две стоял у турникета и шарил по карманам. Пропуска нигде не было.
— Чёрт, не могу найти, — махнул он рукой. — Может, в кабинете оставил?
— Не могу знать, — строго отозвался вахтёр.
— Ну и ладно, найдётся, — улыбнулся Иван, толкая турникет. Но тот открывался по команде кнопки в будке вахтёра, и поползновения Ивана проигнорировал напрочь.
Вахтёр пошевелил бровями из–за мутного плексигласового окна.
— Попрошу не ломать, эт самое, аппаратуру, — сказал он, подумав.
— Так откройте же, чёрт побери! — не выдержал Иван. Сзади уже роптали торопящиеся покинуть казённую атмосферу, глотнуть свежего уличного воздуха. Они напирали, подталкивали в спину, требуя либо двигаться вперёд, либо освободить дорогу.
— Пропуск?! — изрёк вахтёр.
Не отвечая, Иван попробовал перелезть через турникет, но тот оказался высоковат — не вышло, не та была растяжка.
— Попрошу соблюдать пропускной режим! — строго потребовал вахтёр, угрожающе поднимаясь со стула и выходя из будки.
— Да полноте, милейший, — попробовал Иван пробить вахтёра барской рязвязностью, — давайте хотя бы в конце трудного рабочего дня постараемся избегнуть формалистики.
— Милейшим вы будете называть, эт самое, носильщика в гостинице, проводника в поезде или официанта, когда он притаранит вам скверный бланманже — хмуро отозвался вахтёр. — А я для вас, эт самое, — гражданин полковник.
— По… полковник?
— Полковник гэ–бэ. В отставке. Заковынец.
— В общем–то, это неважно, — попытался улыбнуться Иван. — Мне просто нужно…
— Важно–неважно — это не нам с вами решать, — не принял улыбку полковник. — А уж что вам нужно, так, эт самое, — немного бдительности. Вы уверены, что с вашим пропуском всё в порядке?
— А что с ним может быть?
— А то, что он мог попасть в руки врага.
— Врага? — поднял брови Иван.
— Освободите, эт самое, проход, люди ждут, — сурово игнорировал полковник Заковынец Иванову усмешку.
Позади действительно уже собрались человек пятнадцать, желающих поскорей покинуть учреждение и очутиться дома (забежав по дороге в «Универсам» за фунтом колбасы или курицей–гриль для ужина на скорую руку).
— Но помилуйте, — Иван решил сменить тон, — господин полковник, мне домой надо. Что же мне теперь…
— Пропуск! — потребовал Заковынец.
— Ну вы же знаете уже! — всплеснул руками Иван.
— Вот и освободите, — равнодушно бросил полковник, переводя взгляд на следующего в очереди: — Так… Угу, проходите… Фотографию, ну–ка… вижу, вижу, эт самое, проходите… Пропуск!.. давайте, давайте…
Ивана оттолкнули от турникета, затёрли. В конце концов, кому какое дело до его проблем. Он отошёл, встал в сторонке, прижавшись спиной к окрашенной в тёмно–синюю казёнщину стене. Стало немного не по себе, грустно — даже тоскливо. Сослуживцы уходили, некоторые знакомцы окликали Ивана, он улыбался и пожимал плечами или делал вид, что не заметил, не услышал оклика.
Через полчаса поток иссяк, последние трудоголики по одиночке тянулись ещё минут десять. Наконец, следующую четверть часа не было никого. Тогда Иван решился, направился к турникету.
Из–за плексигласового окна на него вопросительно уставились полковничьи глаза.
— Пропуск?
— Послушайте, господин полковник, давайте договоримся. Вы меня сейчас выпустите, а я завтра конечно же оформлю себе новый пропуск. В конце концов…
— Предъявите пропуск! — не дослушал Заковынец.
Иван в сердцах сплюнул.
— Мне что делать–то теперь? Ночевать здесь, что ли? Жить?
— А вы не кричите молодой человек, — насупился вахтёр. — Ты мне тут, эт самое, не ори, парень. Моё дело маленькое: есть пропуск — проходи, нет пропуска — посторонись.
— Послушайте, у нас же тут не режимный объект, а вполне себе гражданское предприятие. Ладно бы вы меня не впускали, но не выпускать — это же нонсенс.
— Не надо меня, эт самое, иностранными словами пужать, — усмехнулся Заковынец. — Что такое нонсенс, я знаю, так что…
— Да при чём тут… — развёл руками Иван. — Ну хотите, я карманы выверну, чтобы вы убедились, что я ничего не выношу — ни ластика, ни карандаша, ни чертежа, простигосподи, затворной скобы.
— Ты мне тут провокаций не устраивай, — нахмурился полковник. — И вообще, не мешайте, эт самое, работать, гражданин, идите, идите отсюда, если пропуска не имеете. Здесь без пропусков, эт самое, нельзя.
И он, выйдя из своей будки, не грубо, но настырно вытолкал Ивана с КПП обратно за железную дверь, в коридор. И закрыл дверь на замок.
2
Первую половину ночи Иван провёл в своём кабинете, за работой. От нечего делать закончил чертёж, над которым мучился уже два дня сверх нормы. А тут — со злости ли, от безнадёжности ли — уложился часа в четыре. Потом бродил, как призрак, по всем трём этажам НИИ и придумывал слова, которые бросит в лицо полковнику Заковынцу, когда разрешится эта дурацкая ситуация с пропуском — колкие, насмешливые, вопиющие в своей неимоверной сатиричности слова, которые разом покажут всем — и самому полковнику в первую очередь — его старорежимную глупость.
Благо, Иван не был женат и детей не имел, равно как и родителей, так что дома его никто не ждал, телефона не обрывал, работников больниц, моргов и полицейских участков, которые бы нервничали в столь поздний час от недосыпания и дурацких расспросов, не беспокоил. Он мог сколько угодно бродить по тихим коридорам, поскрипывая половицами, играться с освещением, петь «Степь да степь кругом», курить сигареты (сначала свои, потом, когда свои кончились, — найденные в столе у Санычева), смотреть надоевший телевизор и пить растворимый кофе. Позже, когда захотелось есть, в столах мудрых коллег из числа прекрасной половины человечества нашлись и семечки и чуть подсохшая плюшка и курага и печенья. Столы мужской половины снабдили его почернелой краюшкой сырокопчёной колбасы и банкой шпротов. В общем, у Ивана был пир горой. Не хватило только хлеба и баночки пива. Остаток ночи он провёл в тишине актового зала, во сне, из нескольких стульев соорудив себе подобие ложа.
3
Утром никто и не заметил несколько несвежего Иванова вида, а о вчерашнем происшествии все будто забыли за ночь. Во всяком случае, никто не спросил Ивана, чем всё закончилось вчера, не нашёлся ли его пропуск. Зато Костюкин долго пытал всех, не брал ли кто у него остатки колбасы, припасённые на чёрный день. Иван, конечно, молчал. Сошлись на том, что в институте давно не травили мышей.
«Вот так, — сердито думал Иван, стоя за кульманом, — никому ни до кого нет дела. И ведь все видели вчера, что меня не выпускает этот… этот Закавыка. Вот тебе и коллеги–товарищи–сотрудники. Вот тебе и коллектив. Умри с голоду, а скажут, что это мыши жрут их дурацкую колбасу».
В обеденный перерыв он нашёл в курилке Пряхина, кадровика, подсел к нему. Некоторое время нервно курил, прислушиваясь к тому как Пряхин с громким «ф–ф–фы–ы–ы» выдувает струйки дыма и не решаясь приступить к делу. Чёрт его знает, чем грозит ему утрата пропуска. Не паспорт, конечно, но ведь недаром, поди, полковник, хоть и в отставке, так взбеленился из–за этого кусочка картона. Недаром.
У кадровика оставался уже окурок на пару затяжек, а Иван всё не мог собраться с духом. Наконец, когда Пряхин щелчком забросил бычок в ведро с водой и хлопнул себя по коленям, собираясь вновь окунуться в трудовые будни, Иван вяло произнёс:
— А у меня к вам дело, Сергей Гаврилович.
— А? — покосился на него Пряхин. — Ну так заходи ко мне, Иван. Раз дело. Заходи.
Ивану не хотелось тащиться в кабинет, где Пряхин сразу станет чинушей, функционером, лицом облечённым и всё такое прочее, и в голосе его невольно прорежется холодок официальности.
— Пропуск… — заторопился он. — Я, видите ли… Пропуск мне…
— Заходи, Иван, заходи. Я через пару минут на месте буду, наведаюсь только к заму и — буду. Заходи.
Говорил это Пряхин нервно как–то и тоже, кажется, торопился — избавиться от Ивана, поскорей оказаться в своём кабинете. Ничего не оставалось, как уступить.
Иван долго ходил перед закрытой дверью с табличкой «ОК» — ждал. Обед заканчивался и время уже зашкалило на две минуты за крайний срок, а Пряхина всё не было. Порядки в НИИ были не так чтобы очень уж строгие, но когда минутная стрелка уползла за цифру «2», Иван сдался.
К счастью, в коридоре, на пути обратно в свой кабинет, он встретил Пряхина. Тот стоял у доски «Информация» и читал вывешенные там объявления, списки и схемы спасения на случай пожара.
Увидев Ивана, Пряхин протянул руку.
— Здравствуй, Иван. Как рабочий денёк?
Иван оторопело пожал протянутую руку. «Заработался, бедняга», — подумал про кадровика.
— А я как раз вас ищу, — сказал он с осторожной улыбкой.
— А чего меня искать, — заулыбался и кадровик, — я всегда в своём кабинете. Заходи, поболтаем.
— Да–да, конечно, — проигнорировал Иван отговорку. — У меня к вам дело.
— Заходи в кабинет, Иван, — бубнил Пряхин. — Я всегда на месте.
— Пропуск. Мне нужен…
Но Пряхин не дослушал — вдруг рванул по коридору быстрым шагом, будто вспомнил невзначай о срочном деле. Иван решил не выпускать добычу — пошагал следом.
— У меня с пропуском проблема, — сказал он, когда вошли в кабинет и Пряхин уселся за свой стол, напялил очки, принялся перебирать бумаги и напряжённо смотреть в монитор компьютера.
— А–а–а, это ты, — поднял он глаза от монитора, будто только что увидел Ивана. — Зашёл–таки поболтать?.. Что ты там о проблемах–то? Проблемы — не наш стиль, Иван. Смысл нашей работы как раз в том и заключается, Ваня, чтобы у родины было меньше проблем.
— Мне пропуск нужен, — с надеждой вздохнул Иван.
— Да хоть десять, — улыбнулся Пряхин. — Приноси фото и в пять минут всё оформим.
— Фото?
— Ну да, три на четыре.
У Ивана, конечно, фотографии не было. А чтобы сделать новую, нужно было выйти из института. Вот такая закавыка, гражданин полковник в отставке.
«И даже не поинтересовался, где мой старый пропуск!» — думал он с неожиданной злостью, осторожно прикрывая за собой дверь отдела кадров.
4
Рабочий день тянулся невыносимо долго. А вечером у турникета его с холодной улыбкой встречал закавыка Заковынец. «Ну–ну, приятель, — говорил его взгляд, — думаешь на дурачка пролезть? А давай, попробуй…» Иван игнорировал его ехидную улыбочку и с серьёзным видом попытался миновать цербера. Однако тот ухватил злоумышленника за локоть, бесцеремонно оттащил в сторону, взял за грудки и, встряхнув немного, прижал к стене.
— Ты вот что, парень, — так, чтобы никто больше не слышал, прошептал он в самое Иваново лицо, воняя в него жареной картошкой с печенью и луком, — ты меня не волнуй лишний раз. Я человек нервный по причине долгой государевой службы и таких, как ты, мразюков, давил, давлю и давить буду, понял? Ещё раз сунешься без пропуска, я тебе… я за себя не отвечаю. Андерстенд?
Иван кивнул. А что ему оставалось?
— У меня на совести, — не унимался Заковынец, — шесть иностранных агентов. Компрендес? Живыми не брать — такая, парень, эт самое, была у меня личная установка совести. И не брал. И тебя не возьму, сучёныш. Ферштеест? Я самого Лэхема, эт самое, брал. Такой же борзый был, как ты, всё норовил, эт самое, без паспорта… А я его — за жабры и головёшкой — вот этим вот местом, затылочком вот — об арматурку, что из стеночки торчала. Арматурка–то, слышь, из глазика у него, эт самое, вылезла. Анлыёр мусун? Вкурил?
— Вкурил, — пропыхтел Иван.
— Молодца! — улыбнулся полковник и отпустил вспотевшего Ивана. И хлопнул по плечу, напутствуя: — Иди, гражданин, трудись на благо великой нашей страны.
— Так ведь кончился уже рабочий день, — пролепетал Иван. — Мне бы домой… а, гражданин полковник?
— Иди, Ванюша, иди, — смягчился гэ–бэшник. — Вот выправишь себе новый пропуск, тогда и приходи, мой хороший, тогда я тебя и выпущу по всем правилам. И впущу, эт самое, и выпущу.
5
Поесть ему приносили из дома, кто сколько мог. А после очередной получки жизнь и вообще пошла в гору — теперь Иван просто давал денег Анне Борисовне или Вере Владимировне, вместе со списком покупок, и добрые женщины приносили всё необходимое да ещё и проявляли женскую заботу, докупая то, на что у Ивана не хватило соображения. Костюкин по Ивановой просьбе сходил к нему домой и принёс оттуда хранившуюся на всякий случай в темнушке старую раскладушку. Жизнь постепенно налаживалась.
В одну из своих пустынных одиноких ночей Иван встретил на третьем этаже, возле машинного зала, Катю. Это была бледная испуганная девушка, потерявшая свой пропуск, как выяснилось в разговоре, на полгода раньше его. Они проговорили всю ночь до утра, взахлёб, прижимаясь спинами к батареям в сонном и гулком актовом зале. А к утру попробовали на вкус свой первый совместный поцелуй.
Свадьбу сыграли через два месяца, всё в том же актовом зале. Молодым отвели кабинет планировщика, должность которого как раз сократили. Жилищные условия были не ахти — тесновато и с плохой батареей, но для начала они были рады и этому, надеясь в будущем на расширение хотя бы до давно бездействующей бильярдной. Потихоньку обзаводились мебелью, повесили шторки, поменяли батарею, Жанна Ивановна отсадила и принесла из дома герани, алоэ, кислицу, что–то там ещё из стандартного набора домохозяйки. Потом им отдали соседний кабинетик, бывший частью архива, но хранивший лишь всякую ерунду вроде плесневелых чертежей полувековой давности и давно никому не интересных циркуляров. Иван прорубил стену, а вторую входную дверь замуровал, так что получилась у них с Катей вполне себе двухкомнатная — чуть, правда, малометражная — квартирка. Выделили пару квадратов под кухоньку и угол под душевую кабинку, поскольку самым дискомфортным было отсутствие ванной комнаты. В общем, жили тесновато и без излишеств, но зато весело и со смаком.
К осени родился Женечка — удивительно голубоглазый и отчаянно рыжий бутуз. И жизнь Ивана обрела новый смысл, а стены института настороженно познавали совершенно новые для себя звуки. А познав, утрачивали настороженность, оттаивали, добрели и обретали выражение полноценного домашнего уюта.
А потом как–то, месяца два спустя после рождения Женечки, под столом на своём рабочем месте Иван нашёл кусочек картона. Это был его пропуск. Непонятно, как он туда попал: выпал ли из кармана, когда доставал Иван сигареты, и по касательной улетел за ножку, уборщица ли затолкала его туда своей шваброй.
Улыбнувшись, Иван чиркнул зажигалкой и поднёс огонёк к картонному прямоугольнику, без всяких раздумий раз и навсегда порывая с прошлым, с жизнью «за бугром», как они с Катей называли мир за стенами НИИ. В кабинете потом долго и настырно воняло горелым…
6
Это случилось ещё через неделю после обнаружения и казни пропуска. Под конец рабочего дня Иван зашёл в курилку. Пахло палёным — не накуренным, а именно палёным, горелой макулатурой. В углу, над мусорным ведром стоял на коленях Санычев.
— Ты чего там делаешь? — удивился Иван. — Готовишь теракт?
Санычев вздрогнул, подскочил.
— А? — воскликнул он. И, увидев, что это Иван, вздохнул с облегчением: — А–а, это ты…
Иван подошёл ближе, не обращая внимания на покрасневшего, испуганно сопящего коллегу. Наклонился, заглянул. В дымящем ведре догорал кусочек картона, на котором ещё можно было различить физиономию Санычева. Вскоре фотография сморщилась, скукожилась и почернела, навсегда вычеркнув своего владельца из списков человечества.
— Ты только это… — пропыхтел Санычев. — Слышь, Вань, ты это… никому, ладно?
Только теперь Иван понял, зачем коллега принёс вчера на работу две большие, туго набитые сумки.
Он улыбнулся и протянул Санычеву руку. Обнялись и долго стояли так. Санычев плакал.
Трое в лодке
— Шлюха, — говорит он, вычерпывая воду. — Ты всегда была шлюхой. Даже когда я тебя любил.
— А ты любил? — она кое–как выговаривает слова разбитыми губами.
— Шлюха!
— Ты выбил мне зуб, — улыбка выходит жалкой и щербато–уродливой к тому же. Протягивает руку. На ладошке окровавленный обломок зуба. Корень, похоже, остался в десне, дантист обязательно пошлёт на рентген. А это лишние заморочки, лишние деньги. Шлюха.
— На счастье, — робко добавляет она и глядит виновато и преданно, как побитая собака.
Эта собачья преданность во взгляде злит его ещё больше и он хватает её за руку:
— Дай сюда.
— Нет!
— Дай сюда, сука!
Выкручивает запястье, выдёргивает из ослабевшего кулачка зуб и, широко размахнувшись, бросает в океан. Не слышно ничего — ни малейшего всплеска.
Садится на скамейку и снова принимается вычерпывать воду. Маленькая шлюпка постепенно успокаивается после их недолгой борьбы, перестаёт раскачиваться — колебания её становятся мельче, как у замирающего маятника, и медленно сходят на нет. Женщина тихонько плачет.
— Скажи лучше, кто же это нашёлся такой неразборчивый, что тебе засадил? — почти кричит он, отирая набежавший на лицо пот.
— Это твой ребёнок, Дик.
— Шлюха.
— Это твой ребёнок.
— Шлюха!
Солнце жарит, жжёт; мозги и нервы спекаются в один неразборчивый шершавый клубок, который с противным постукиванием катается в голове, отчего хочется плеваться, материться, орать или убить кого–нибудь. Но под рукой нет никого, кроме этой шлюхи, а значит, он рано или поздно убьёт её. И хочется пить. Так хочется пить, что ожидание дождя стало, кажется, единственным смыслом жизни.
Третий день они болтаются в этой шлюпке посреди океана, и хоть бы капля дождя.
— Дик, — говорит она со слезами в голосе, — мы ведь не умрём, Дик?
— Ты можешь подыхать, сколько тебе угодно, — перебивает он. — А я — не собираюсь.
А может быть, и хорошо, что нет дождя. Ведь дождь — это наверняка гроза, а гроза на море — это шторм, а шторм на море — это… Он ведь как чувствовал, что не стоит садиться на то корыто, но — нет, пошёл на поводу у этой шлюхи.
— Как бы ты хотел назвать нашего малыша, Дик?
— Заткнись, или я тебя убью. И не говори мне больше об этом ублюдке у тебя в животе, понятно? Я не хочу о нём слышать.
Нет, так они непременно потонут. Они черпают и черпают, безостановочно, день на пролёт. Ночью дают себе поспать, поочереди, пару часов, и снова черпают. Но вода прибывает, а та отметка, которую он сделал вчера, уже ушла под воду на полсантиметра. Если вода будет прибывать такими темпами, они протянут максимум ещё пару дней. Протянут, ага, если раньше не протянут ноги от жажды…
Наверняка это был Пит. На той вечеринке, ну, ты помнишь, он так и тёрся возле неё. А потом, пока ты отвозил Джудит домой, и она сосала у тебя, на заднем сиденье, там, у «Трёх Жёлтых Гномов», и неоновые блики вывески окрашивали её волосы в синее, этот козёл жарил в твоей спальне твою жену. Вот такой круговорот блядей в природе…
Он косится на женщину. Разбитые губы уродуют её. Она и прежде–то красавицей не была, а теперь… Во рту у неё, поди, пересохло ещё больше, чем у него — от крови и боли.
На миг ему становится жалко эту шлюху, но он представляет себе чудовище, свернувшееся в её водянистой матке скользким маленьким ублюдком, и жалость тает. И он только с остервенением черпает, черпает, черпает. Кожа на руках вся сморщилась от бесконечного увлажнения, потрескалась, её разъедает соль.
— Дик, — она улыбается, а зачерпнутая вода стекает у неё меж пальцев, — а помнишь, Дик, мы с тобой ещё не женаты были, и на день благо…
— Не помню, — пыхтит он между двумя гребками. — Тебе лучше заткнуться и черпать.
— Правда не помнишь? Ты тогда говорил ещё, что…
Он приподнимается; неловко, боясь потерять равновесие, наклоняется к ней и бьёт мокрой рукой по лицу. Летят брызги. Солёная капля попадает ей в глаз, и она, даже, кажется, не обратив внимания на удар, принимается тереть его.
— Я сказал, что тебе лучше заткнуться. Ты поняла? Или врезать ещё?
— Сволочь! — кричит она. — Какая же ты сволочь, Дик! Да если бы даже я и была шлюхой, разве это…
Он бьёт ещё раз — сильнее. Её голова дёргается, женщина наваливается на борт, и на мгновение кажется, что шлюпка сейчас зачерпнёт бортом, зачерпнёт ещё раз и уже не выправится. Но нет, она выправляется.
— Заткнись, Марго, не зли меня, — говорит он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и внушительно, но в каждом слове прорывается дрожащая ярость, требущая выхода. — Я не в том состоянии, когда мне можно злиться, поверь. Я могу убить тебя.
Она смотрит на него, а потом, когда он усаживается и принимается за работу, начинает смеяться. Смех у неё нервный, злой, с нотками безнадёги. Он слышит эту безнадёгу, чувствует и понимает, но не может справиться с собой: поднимается и перебирается к ней, на корму. Женщина сообразив, что он снова будет бить её, выставляет руки в попытке защититься. Глаза её невольно жмурятся в ожидании удара, окровавленный рот кривится, она вполоборота забрасывает голову назад.
Но он не бьёт. Он хватает её за горло, наваливается и начинает душить.
— Дик!..
Проклятье, эта грёбаная жажда и жара довели его до такой слабости, что он даже собственную жену, шлюху, задушить не может! Они молча возятся на корме, раскачивая лодку и не замечая этого и совершенно не боясь, что она сейчас перевернётся. Женщина хватает его то за руки, то за лицо, то за рубаху, царапая, отталкивая, пытаясь ударить. И без того ослабевшая за эти дни, от прилагаемых усилий она слабеет ещё больше. Тяжёлое дыхание переходит в сипение и хрипы, когда ему наконец удаётся из последних сил сдавить её горло.
Он сжимает, кажется, уже полчаса, а она всё не умирает и не умирает, и её уже почти безвольная рука всё пытается нащупать и вцепиться в его глаза.
Тогда он бьёт её головой в лицо — раз, и ещё раз, и ещё. Нос её хрустит и начинает стремительно распухать, кровь заливает губы и подбородок.
— Убери руки! — шепчет он. — Убери руки.
И только после того, как она, то ли послушавшись, то ли потеряв волю бороться, роняет руки на скамейку, ему, наконец, удаётся совладать с её шеей.
Мёртвое тело он осторожно, чтобы не перевернуть разгулявшуюся шлюпку, сбрасывает за борт. После чего обессиленно валится на дно лодки и долго лежит, переводя дыхание и глядя в небо, которое давно расплавилось под солнцем — шкворчит, пузырится и стекает по стенкам плавильного котла вниз, в океан…
Ночью становится так холодно, что он просыпается и, весь мокрый, лязгая зубами, долго не может сообразить, где находится, и усесться на скамейку.
Потом с облегчением вспоминает, что уснул в ванне, в гостинице, а потому скамейку найти и не удастся. Слава богу, что ему всё это только снилось!
— Эй, Марго! — зовёт он жену. — На кой ты выключила в ванной свет? Я же здесь.
Она смотрит с кормы на его возню, но не пытается помочь. С волос её и с блузки стекают струйки воды, тонко журчат; журчание вплетается в мерное дыхание океана.
— Это не я, — говорит она.
Он, наконец, находит скамейку, усаживается и принимается черпать воду, поглядывая на жену.
— Где твоя рука? — спрашивает после нескольких минут молчания, рассматривая нелепо торчащую на её теле, слева, культю. Руку неаккуратно отломили повыше локтя.
— Там была акула, — морщится её лицо воспоминанием. — Такая ужасная акула, Дик, ты бы видел!
Акула в ванне? Да откуда бы ей там взяться!
— Это плохо, — говорит он. — Одной рукой ты много не начерпаешь… Больно?
— Уже нет.
— У нас нет даже йода, чтобы прижечь рану.
— Не беспокойся, Дик, — она с улыбкой проводит ладонью по его щеке. — Дик, не спи, пожалуйста, я не справлюсь одна.
Открыв глаза, он оторопело смотрит на неё несколько секунд, на эту улыбку, на лицо матери Терезы.
— Убери свою лапу, шлюха.
Она отдёргивает руку так, будто он уже ударил её:
— Прости.
Вода. Куда ни глянь, везде эта бесова вода — бесконечная и живая; если долго на неё смотреть, кружится голова и к горлу подступает тошнота. С каким бы удовольствием он выблевал из головы это грёбаное пространство и очутился в своей комнате, и чтобы дымила в пепельнице забытая сигара. От этой воды можно сойти с ума раньше, чем сдохнешь от жажды… Вокруг целый океан, а они подохнут от обезвоживания! Смешно, обхохочешься.
— Сколько я спал? — спрашивает он, снова принимаясь вычерпывать воду.
— Минут пять, не больше.
Дальше они работают молча. Проходит час, или два, или три. Солнце медленно сползает по небесному куполу вниз, но продолжает иссушать их. Пить хочется неимоверно, и кажется, что ты уже никогда не отдерёшь от нёба присохший к нему язык. Есть тоже хочется, но жажда подавляет все остальные желания. Кроме, наверное, одного — убить эту шлюху.
Он отвлекается от работы, чтобы оторвать от рубахи пуговицу и сунуть её в рот.
— Чтобы не присох язык, — объясняет удивленному взгляду Марго. — В каком–то дурацком фильме видел.
Отрывает ещё одну пуговицу и протягивает ей:
— Держи на языке.
— Да, я поняла, спасибо, милый.
— Иди в жопу.
Пуговица слишком мелкая, пожалуй, и он боится, что подавится ею при очередном вдохе. Выплёвывает и смотрит на жену. Она в растерянности, и не знает, как себя повести.
— Выплюнь, — говорит он.
Она с готовностью выплёвывает пуговицу себе на ладонь и некоторое время не находит, что с ней делать. Потом медленно переворачивает ладонь над океаном, и пуговица соскальзывает в воду.
— Можно было случайно подавиться, — неохотно объясняет он. — Нужна пуговица покрупней.
— Ты животное! — внезапно кричит она, да так, что он вздрагивает и смотрит на неё, как на умалишённую. — Думаешь, я не знаю, скольких баб ты трахал, пока жил со мной? Тебе перечислить их всех, а, самец ты грёбаный? А тогда, в доме Эдит, помнишь, когда в окно вам прилетела бутылка… Помнишь, конечно… Как она визжала!
— Так это ты?!
— Животное… — шепчет Марго, сжимая кулаки. — Животное… И ты ещё, сволочь такая, смеешь меня в чём–то упрекать!
Она сплёвывает в океан свою злость и снова принимается вычерпывать воду — раскрасневшаяся от гнева, резкими движениями, и ему кажется, что она вот–вот бросится на него с кулаками. Хватит ли у него сил справиться с этой бесноватой?
— Мы ведь не умрём, Дик, правда? — в следующий момент Марго умоляюще смотрит на него, будто это не она только что была готова убить. — Ведь нас теперь трое, нам нельзя умереть.
Лучше бы она не упоминала об этом ублюдке.
— Заткнись, шалава.
До вечера они трудятся не покладая рук, они так измождены, что готовы ожидать смерти — как избавления. В какой–то момент он опять засыпает и снова видит в мимолётном сне её, сидящую на корме без руки и с развороченным акульими зубами животом. Среди вывернутых кишок поблёскивает в лунном свете необычно большим зёрнышком граната матка, внутри которой, приглядевшись, он различает семечко — свернувшегося ублюдка.
— Дик!
Ему стыдно, что он уснул, и от этого он злится ещё больше. Почему эта стерва не засыпает, а он то и дело начинает клевать носом? Почему? Не может быть, чтобы она была сильней или выносливей, так в чём же дело?
— Ты храпел Дик, ты так храпел. Это просто невозможно.
— Что?! — взрывается он не столько от её раздражённого тона, сколько от чувства собственной вины. — Невозможно? Да ты себя–то слышала хоть раз, ворона? Ты каркаешь по ночам так, что на другом конце города пожарные просыпаются! Бывало, я по пол–ночи не спал от твоего храпа и был готов придушить тебя подушкой.
— Это неправда, — возмущённо отзывается она. — Зачем ты лжёшь, Дик? Я понимаю, ты больше не любишь меня, но зачем же… У меня нет привычки храпеть. А тебе нужно показаться доктору, храп — это опасно, на самом деле.
— Я не вру, понятно тебе?! — орёт он так, что заходящее солнце вздрагивает.
Забыв вычерпывать воду, они долго препираются и выясняют, кто больше виноват в том, что совместная жизнь не была для них раем. Вспоминают всё: храп, подгоревший бекон на завтрак, разбитую фару «Пежо», её мать, которая каждый год дарит ему на день рождения одно и то же: ящик с инструментами — самый дешёвый, какой только сможет отыскать на распродаже. Этими ящиками у него заставлен уже весь угол в гараже.
— Вода! — в какой–то момент вспоминает он, с тревогой вглядываясь в озерцо на дне лодки, будто за тот час, что они выясняли отношения, оно могло существенно увеличиться.
Ночь проходит в опостылевших однообразных действиях: морщась от боли в спине наклониться; шипя от боли в руках, зачерпнуть воды, с трудом выпрямиться и вылить то, что не успел расплескать, в океан. Разговаривать неохота, да и жутко — будто в жёлтой от лунного света ночи можно разбудить кого–то страшного, более погибельного, чем их теперешняя ненависть друг к другу.
Когда она засыпает в свою очередь, и он остаётся один, в голову приходит мысль убить её прямо сейчас — ударить посильнее в висок, чтобы потеряла сознание, и сбросить в океан. Наверняка она утонет. Вот только он не уверен, что сумеет нанести удар достаточной силы — он еле шевелится: ничего почти не делает, а пыхтит при каждом движении как паровоз на крутом подъёме.
Он смотрит на неё спящую и пытается понять, что́ сейчас чувствует.
И понимает, что не чувствует ничего, кроме жажды.
Через две тысячи гребков (он несколько раз сбивался со счёта, но какая уже к чёрту разница!) он будит её, а сам тут же проваливается в сон…
Наверное, она дала ему поспать подольше, потому что когда он слышит её «Дик, проснись», на океан уже наползает рассвет. А вместе с рассветом наползают с запада тучи. Вода! У них будет дождевая вода, а значит, будет надежда протянуть ещё несколько дней. Уж без еды они как–нибудь продержатся пару недель, а без воды…
Какая пара недель, придурок? Вода мало–помалу прибывает, а у вас скоро не будет от голода сил, чтобы вычерпывать её. Если вас не спасут в крайнем случае до послезавтра, вы пойдёте на корм акулам, так–то вот.
К чёрту всё! У них будет вода — это главное. Лишь бы с дождём не пришёл шторм.
У них даже сил, кажется, прибавилось, и они с удвоенной энергией бросаются черпать воду, поглядывая на горизонт, откуда наползает на них чёрно–серая тревожная масса. Налетает прохладный и свежий ветерок. На воде поднимается зыбь.
— А лодку не зальёт дождём? — с тревогой спрашивает Марго. — Не затопит? Нам нельзя утонуть, — и тут же довольно улыбается: — Наконец–то наш маленький напьётся.
Он с ненавистью смотрит на неё.
— Шлюха, — цедит сквозь зубы. — Ты специально достаёшь меня своим ублюдком? Шлюха. Ты всегда была шлюхой. Даже когда я тебя любил.
— А ты любил? — с усмешкой бросает она, и в её взгляде он видит усталость и отвращение.
На его разгорячённую голову падает первая капля дождя.
Реверс
Валентин Сергеевич умер совершенно неожиданно, на шестнадцатой фрикции, в момент реверса. Последним его ощущением был поцелуй взатяг, с привкусом больного зуба, что располагался во рту любовницы четвёртым номером, слева, в нижнем ряду.
Алла Григорьевна, когда любовник вдруг обмяк и придавил её всей своей умершей массой, не почувствовала ничего, кроме разочарования.
— Уже всё, что ли? — прошептала она.
Поскольку Валентин Сергеевич не ответил, она с некоторым недоумением решила, что он уснул. Такое уже бывало, но не в самом, можно сказать, начале пути. Да, к стыду Валентина Сергеевича можно припомнить, что пару раз случалось ему засыпать прямо на, так сказать, взлётно–посадочной полосе. Но бывало такое всё же в момент посадки, а не взлёта.
«Стареет, — подумала Алла Григорьевна, легонько поглаживая любовника по плечу. — А и тяжёлый же, кабаняка!»
Она попробовала как–нибудь невзначай выбраться из–под увесистого груза своих перезрелых интимных отношений, но, зная по опыту, что разбудить Валентина Сергеевича — значит, навлечь на собственные достоинства его непредвзятый взгляд, смирилась, затихла, замерла.
Некоторое настойчивое раздражение она, конечно, чувствовала, но воли ему не дала и не стала расталкивать мужчину не своей мечты. В конце концов, спящий мужик — тоже мужик, тем более, если лежит он на тебе, а не на Шурке Бахметовой, этой крысе ободранной, из вино–водочного.
«Ну, и чего эта дура лежит? — думал Валентин Сергеевич, отойдя к чёрному окну и хулигански усаживаясь на подоконник. — Неужели не чует, что я отдал богу душу?»
Забавно было смотреть на любовницу, которая, немного почистив нос, накручивала теперь на палец локон и пялилась в потолок, колдовски окрашенный зеленоватым светом маленького ночника. В лице её временами отражались му́ка и неудобство от тяжести придавившего сверху тела. Но потревожить уснувшего, с её точки зрения, Валентина Сергеевича она так и не решалась.
Что любопытно, Валентин Сергеевич не чувствовал к своей, теперь уже бывшей, пассии ничего, кроме насмешливой и даже где–то брезгливой жалости.
«А вынуть–то я так и не успел, — подумал он, отчего–то стыдливо. — Интересно, он слабеет сразу или как?..»
«Белить пора, — думала меж тем Алла Григорьевна, поглядывая на смутно белеющий, с болотным оттенком, будто старая простыня, потолок. — Новый год скоро».
Воспоминания о скором Новом годе всегда действовали на неё угнетающе, напоминая, что годы летят, а она всё никак не замужем. Правда, на самом–то деле Новый намечался ещё очень не скоро, но это, опять же, — как посмотреть, это зависит от мировоззрения.
Смутная дрёма наваливалась, путая мысли, затуманивая зрение. Как и смутные времена, она почти не оставляла выбора.
И Алла Григорьевна сдалась — захрапела тихонько.
Из открытой форточки тянуло ночным пряным холодком.
«Интересно, всё же, это дело происходит, — думал Валентин Сергеевич. — А ведь не верил я сроду, что ничего не заканчивается, когда помрёшь».
Тепло пахнуло в форточку булочками с изюмом. Странно, кому это пришло в голову среди ночи булочки печь.
А, ну да, тут же хлебный магазин на первом этаже… Видать, привезли. А неплохо бы сейчас горячую булочку. И чайку.
«Вот так–то, — продолжал он не без довольного ехидства, снова вспомнив о своём положении и об Алле Григорьевне. — Ты дрыхнешь, с трупом, некрофилка, хе–хе. А я не сегодня завтра с господом богом чаи буду гонять. С булочками. С инжирным вареньем. Так–то вот!»
И в следующий момент:
«А может, я и того… ангелом стану. Грехов–то у меня, если посчитать, не так уж и много, не с перебором. Да самый большой мой грех, если подумать, — это ты была, Аллочка свет Григорьевна, а так… и не вспомнишь ничего серьёзного. В церковь ходил по праздикам. Водку не пил. Шибко. Не крал, не прелюбодействовал… Подожди… Насчёт прелюбодейства… Да нет, всё правильно — это ж когда от законной супруги гуляешь, тогда. А бобылю — это ничего, это не грех.»
И ещё:
«А всё же сука ты, Алла! Думаешь, я не знаю, что ты с Челобановым?.. А ведь если бы не ты, я бы сейчас дома спал бы себе спокойно. Оприходовал курочку–гриль, да и сопел бы себе на диване, а не сидел бы тут, на сквозняке, на твою спящую рожу глядя».
А сквозняк и правда становился всё сильней. Норовил подхватить обесплотившего Валентина Сергеевича и унести в неведомые дали иного мира. Он даже вцепился в подоконник, чтобы и вправду не унесло.
И тут в спине, между лопаток, зародилась тупая тревожная боль.
Алле Григорьевне снился сон. Сон был забродивший какой–то, терпкий, душный — наверное, из–за навалившегося тела Валентина Сергеевича. Гуляли по этому сну собаки с мятыми бумажными головами, зловеще голосили в углу петухи, а на щеках её выросла сырая густая плесень, которую приходилось брить, но совершенно без толку, потому что плесень тут же вырастала снова.
Тяжесть лежащего на ней тела, которое уже принимало потихоньку температуру окружающей среды, передавалась сердцу Аллы Григорьевны, и сердце отвечало испуганными трепыханиями. Вот тебе и сны… Ну а что же, всё в природе взаимосвязано. И хотя Алла Григорьевна этой взаимосвязи сейчас не осознавала, но с покорной готовностью продолжала смотреть свои тревожные видения. Она только петухов разогнала большой совковой лопатой.
Петухи оборотились снегом и выпали где–то над средней полосой России–матушки, создавая несезонные заносы. Так что утром жители Саратова поздравляли друг друга с первым снегом. Но это уже другая история.
А Валентин Сергеевич с ликованием обращался в ангела.
Процесс был не самый приятный. Крылья на месте лопаток прорезались с болью — спину ломило, скручивало судорогой шею, хрустел позвоночник, а копчик, казалось, вот–вот отвалится. Но ничего, ради такого дела он согласен был потерпеть.
«Вот так–то тебе, дура! — сквозь боль торжествовал Валентин Сергеевич в сторону своей храпящей любовницы. — Ты думала, я лох по жизни, а я — ангел».
Алла Григорьевна вздрогнула во сне, застонала — на неё как раз набросилась бумагоголовая собака.
Валентин Сергеевич метнул в теперь уже бывшую любовницу последний усмешливый взгляд и расправил крылья. Его неудержимо влекло в полёт, сквозь мрак, сквозь ночь, куда–то туда, далеко–далеко, где в конце обязательно будет свет…
Свет и был. Он рождался на границе пространства и мрака, где–то в бездне вне времени и бытия, где–то высоко–высоко, выше небес.
Валентин Сергеевич вылетел в форточку, в прохладную и беззвёздную сентябрьскую ночь.
Яркий свет манил, влёк, неотвратимо притягивал к себе.
«Солнце, — думал Валентин Сергеевич. — Прямо к солнцу лечу, что твой Икар! Или это тот самый свет в конце тоннеля?»
Чувство необычайной лёгкости обуяло организм души. На мгновение возникло даже, где–то под ложечкой, нехорошее ощущение поднимающейся тошноты, как следствие непривычности свободного полёта.
«Я ангел, ангел! — бушевало в нём. — Иисус Саваофыч, я лечу к тебе, лечу!»
А совсем уже близкий, тот свет стал невыносимым, ослепил, обжёг сомлевшую душу…
Лампа фонаря и не почувствовала прикосновения нежных и трепетных мотыльковых крылышек.
Обожжённое, теперь уже окончательно мёртвое, мохнатое тельце по рваной спирали опустилось к земле и застыло на поверхности холодной сентябрьской лужи, не подняв даже лёгкой ряби.
Как раз в этот трагический момент Алла Григорьевна вздрогнула и, задыхаясь, вынырнула из глубин своего затхлого сна.
«Нет, ну до чего же тяжёл, кабаняка!» — подумала она, решившись, наконец, потихоньку спихнуть с себя тело Валентина Сергеевича.
Чек
«Нет, — думал Ипполит Андреевич, разглядывая в лупу лоскут бумаги, — не помню. Убей не помню».
Лоскут бумаги был чеком на сумму тысяча триста тринадцать рублей пятьдесят копеек и лежал почему–то в самом дальнем углу бумажника, сложенным вчетверо — в этакую пуговицу размером с ноготь.
Ипполит Андреевич всегда хранил чеки на сумму свыше тысячи рублей. Отчётности ради и хозяйства для. Суммы и назначения покупок вносились в специально отведённый для этого гроссбух, в целях последующего экономического анализа да и просто будучи разновидностью мемуаров.
Иногда, по свежей памяти, делались на чеках подписи, чтобы не забыть суть конкретной покупки и её причину, будь то «Тася выныла» или «К празднику». Вот и в этот раз…
Ипполит Андреевич в десятый раз перечёл чек: «Джинн 1 шт 1313,50 руб. Итого: 1313,50 руб». Потом снова перевернул его, посмотрел на обратную сторону. «Федин» значилось на обороте наискось, от угла до угла. Принадлежность или характер почерка определить являлось совершенно невозможным, поскольку написано было печатными буквами. Какими–то странными — то ли виноватыми в чём–то, то ли просто нерешительными от природы — дрожащими печатными буквами. Смысл записи тоже оставался непроглядно тёмным, непостижимым. Ничего память Ипполита Андреевича не могла ему подсказать — она только пыхтела и сосредоточенно морщила лоб, но не произнесла ни слова.
«Нет, — снова подумал Ипполит Андреевич после получаса бесплодных усилий, — не вспомню… Ладно, давай сюда этого балбеса».
Балбесом был сын Федя — тринадцатилетний неудачник и троечник. Он был немедленно призван и допрошен с пристрастием.
«Нет, папа, — твердил троечник. — Ничего ты мне не покупал. Нет, ни в этом месяце, ни в прошлом, ни на каникулах. На новый год последний раз покупал».
«Нет, не было никаких джиннов», — ответил он обиженно на уточняющий вопрос. «Чего я тебе, в детстве потерялся, что ли, в джиннов играть», — недвусмысленно говорил его взгляд.
— Может, опечатка? — обрадованно предположил Ипполит Андреевич. — Может, джинсы имелись в виду?
— Джинсы мама ещё весной купила.
— Но ты же видишь, на чеке написано: Фе–дин… Видишь? — напирал Ипполит Андреевич.
— Вижу.
— Ну?
— Нет, пап, ничего ты мне не покупал. Ни в это месяце, ни в прошлом, ни…
— Ладно, топай отсюда, бестолочь.
Да ведь и в самом деле, не мог этот чек относиться к Феде, никак не мог. Ну что такого мог купить ему Ипполит Андреевич на сумму одна тысяча триста тринадцать рублей пятьдесят копеек? Решительно ничего — ни джинна, ни джина, ни джинсов, ни…
Ипполит Андреевич мучился загадкой чека ещё неделю; отчётность не составлялась, маячил на горизонте первозданный хаос, грозили экономические санкции от супруги Таисии Павловны, обещались исполненные самотерзания вечера и бессонные ночи.
А по прошествии недели загадка разрешилась совершенно внезапно и сама собой, за праздничным сборищем–обедом по поводу пятнадцатилетия совместной жизни четы Салобратовых (то бишь Ипполита Андреевича с Таисией Павловной).
Когда Ипполит Андреевич между делом рассказал гостям в количестве семи человек о странном чеке и неведомой покупке, объяснить которую его память не в силах, и о том, что в доме по этому чеку ну совершенно ничего не прибавилось, многоголосье удивлённых возгласов, предположений, хохотков и междометий прервал негромкий высокий голос троюродного брата Таисии Павловны. Был он по фамилии как раз таки Федин, личность Ипполиту Андреевичу не самая приятная — бобыль, скряга и вообще сволочь.
— Меня ты купил, — негромко и спокойно произнёс он.
— Это как? — уставился на него Ипполит Андреевич с понятным недоумением.
— Да так. С потрохами, — сказал Федин и икнул.
— А почему я не помню? — недоверчиво улыбнулся Ипполит Андреевич.
— А пьян ты был в дупель, — пожал плечами Федин.
И дальше произошёл между ними такой вот быстрый разговор на фоне удивления присутствующих.
— А ты? — вопросил Ипполит Андреевич.
— И я был в матрёшку.
— И я тебя купил?
— Купил.
— За тысячу триста тринадцать с полтиной?
— Копейка в копейку. Всё, что нашлось у тебя в кошельке, всё и выгреб.
— А зачем купил, не помнишь?
— Так я же джинн.
— А?
— Джинн же я, говорю.
— И чего?
— Ну и вот. Ты как узнал, что я любое желание исполняю, так и купил.
— Убей не помню, — скорбно покачал головой Ипполит Андреевич после минутного бесполезного напряжения памяти.
— Не мудрено, после двух беленьких–то.
— И что теперь? — вопросил Ипполит Андреевич, подумав ещё некоторое время.
— Да ничего особенного, — пожал плечами Федин. — Раб я твой теперь.
— Навсегда?
— Эк тебя растащило! — усмехнулся Федин. — На тысячу триста тринадцать рублей и пятьдесят копеек.
— Это как? — недоверчиво произнёс Ипполит Андреевич.
— Да так, — терпеливо принялся объяснять раб. — Каждое твоё пожелание копеечку стоит. Ну и вот. Как истратишь на пожелания весь свой баланс, тысячу с чем там бишь, так и всё — я снова буду свободен.
— А пока, значит, — раб?
— Раб.
— А желания какие умеешь исполнять?
— Да любые.
— Любые? — с нажимом переспросил Ипполит Андреевич.
— Вааще.
— А если яхту попрошу? — уточнил хозяин. — Круизную.
— Легко, — мотнул головой джинн. И спохватился: — Только у тебя баланса не хватит. Яхта три тыщи стоит. Мерседес, если хочешь, — запросто. Девятсот девяносто девять. Ещё и на гараж останется. А яхту можешь кругосветным путешествием заменить. На троих — тыща двести.
— Угу… Вот, значит, как…
Ипполит Андреевич под молчаливыми взглядами гостей и супруги молча налил рюмку. Невежливо опрокинул, не предложив никому. Потом налил ещё одну и поставил перед Фединым.
— Пей.
Федин тяжело покачал головой.
— Не, Андреич, я — пас. Я свою норму уже выхлебал; ты же знаешь: двести пятьдесят — это моя планка.
— Пей, — вязко повторил Ипполит Андреевич, заметно захмелев после последней рюмки.
— Не, Андреич, я…
— Пей! — жёстко произнёс хозяин. — Желание моё такое.
— А–а, — напрягся Федин. — Вон оно как. Берёшь, стало быть, быка за рога…
— Давай.
Федин пожал плечами, покорно замахнул рюмку. После чего предъявил Ипполиту Андреевичу чек на двадцать пять рублей. Чек был свежеотпечатан, было внесено в него пожелание в количестве одной штуки, его стоимость и итоговая сумма — двадцать пять рублей ноль–ноль копеек. Ипполит Андреевич удивился, повертел бумажку в руках, хмыкнул. Приобщать чек к гроссбуху не имело смысла ввиду незначительной суммы покупки, поэтому он его смял и бросил в опустевший салатник из–под оливье. Он только отметил про себя, что услуги джинна Федина стоят сущие копейки.
Ипполит Андреевич налил вторую рюмку, кивнул на неё рабу:
— Понеслась.
— А? — нетрезво мотнул головой Федин, растягивая тесный галстук.
— Пей, говорю. Желание моё такое.
Федин опрокинул. Протянул Ипполиту Андреевичу новый чек.
После пятой рюмки поплывший, обрюзгший и огрузневший джинн Федин торжественно объявил заплетающимся языком, что Ипполиту Андреевичу, как постоянному клиенту, полагается десятипроцентная скидка. Так что шестая вышла уже в двадцать два пятьдесят.
После десятой рюмки Ипполит Андреевич загнал Федина на стол, на котором тот, к всеобщей радости, под аплодисменты, ржание и вопли гостей, вынужден был танцевать восточный танец живота. Когда через полчаса потный Федин сполз со стола и протянул Ипполиту Андреевичу чек на шестьсот пятьдесят рублей, тот досадливо крякнул, дёрнул бровью и изрёк: «Ни хрена себе, цены у вас!»
— Имбляция, — неразборчиво промямлил Федин. — Аувселениясегдастоятбабки.
Вошедшие в азарт гости принялись наперебой подсказывать Ипполиту Андреевичу следующие желания, одно глумливее другого. Выбор рабовладельца остановился на кактусе.
Не менее четверти часа ждали, пока Федин, которого держали под руки, чтобы не завалился, снимет штаны. Женщины (в количестве трёх штук) фыркали, смущённо не смотрели на всю эту сцену и тихонько матерились.
Устав ждать, гости сами помогли джинну стащить брюки. По требованию женской половины трусы оставили. Хотя, надо сказать, одна из дам после очередного глотка красного вошла в раж и подбивала двух других и на трусы. Но нет, трусы были оставлены, после чего на стул водрузили самый «пушистый» кактус из коллекции Таисии Павловны. Федина подвели к стулу и отпустили.
Вопль потряс. Лопнул в серванте один бокал, но он и с момента покупки был подозреваем Таисией Павловной в производственном браке. Хохот и обсуждения долго не смолкали.
После кактуса Федин попробовал присесть ровно один раз, а потом всё только стоял, тяжело навалясь на праздничный стол, качаясь и икая. Его никем не застёгнутые брюки сползли и болтались где–то на коленях. Однако чек на сумму четыреста двадцать пять рублей был предъявлен Ипполиту Андреевичу несмотря ни на что. Хозяин дёрнул бровью, но ничего не сказал. Цена за задницу джинна, в общем–то, была божеской.
А общество оживилось до невозможности, и после того, как Федина подняли с кактуса, новые предложения посыпались горохом и были они одно веселей другого.
Идея заставить джинна выпрыгнуть с четвёртого этажа была отклонена сразу как нерентабельная. Предложение закоренелой балетоманки Зои Максимовны насладиться па–де–де из «Лебединого озера», исполненным на Пролетарской площади и в голом Фединском виде, тоже не нашло отклика в сердцах компании после знойного танца живота. Некоторое оживление вызвал призыв представить собранию ящик лучшего коньяка, но водки оставалось ещё четыре бутылки, так что не сошлись.
Потом долгие споры породила шикарная идея Духовицого о том, что Федин, опять же голым, выйдет на балкон и станет призывать граждан к свершению сексуальной революции. Таисия Павловна пыталась образумить гостей, говоря, что такое мероприятие уже явится нарушением общественного порядка, и возможны неприятности. Но её не слушали. А Ипполит Андреевич говорил: «У нас же джинн есть, какие на хрен неприятности!» Однако в конце концов сексуальная революция была отставлена, тем более, что она давно уже де–факто свершилась.
Противоправное предложение ограбить при помощи Федина сбербанк набросило на шумное сборище покрывало минутного растерянного молчания. Потом кто–то шёпотом сказал, что это уж совсем перебор; остальные согласились, хотя, кажется, и не без сожаления.
А джинн отнёсся к своей судьбе до странности безучастно. Он, кажется, даже задремал, свернувшись калачиком под столом.
В конце концов собрание остановилось на том, что Федин расскажет всем гостям их будущее. Расскажет каждому в отдельности, на кухне, чтобы другие не слышали — это уточнение Таисии Павловны было подхвачено всеми и принято обязательным условием.
Федина не без труда разбудили и объяснили ему задачу.
Джинн долго не мог прийти в себя и сообразить, что от него требуется. А после долгих объяснений и тычков, когда до него, видимо, дошло, пьяно рассмеялся:
— До чего ж вы, мать вашу, однообразны, — саркастичеки усмехнулся он. — Танец живота… Жопой на кактус… Будущее… И хоть бы одна сволочь попросила мира во всём мире… Презираю вас.
Выдав этот непомерно длинный в его состоянии монолог, он снова рухнул под стол.
Его настойчиво и грубо разбудили, вылили на голову кружку холодной воды. Ипполит Андреевич строго и непреклонно потребовал от джинна неукоснительного исполнения возложенных на него согласно факту покупки обязанностей.
Но тут протрезвевший Федин, что–то прикинув, протянул ему калькуляцию сегодняшнего разгульного веселья. Выглядела она так:
Питие водки, 5 рюмок 25,00*5 =125,00
Питие водки, 5 рюмок 22,50*5 =112,50
Танец живота на столе 650,00*1 =650,00
Жопой (в трусах) на кактус 425,00*1 =425,00
Итого: 1312,50
Текущий баланс: 1,00
Расчётная валюта: рубль РФ.
Ипполит Андреевич с разочарованием уяснил калькуляцию и сказал с презрением:
— Ну и подлец ты, Федин. Холодная расчётливая тварь.
Федин полез было драться, но Таисия Павловна завизжала, мужчины кинулись разнимать, пролили бутылку водки, балетоманке Зое Максимовне в пылу борьбы отдавили ногу, горшок с кактусом упал со стула и разбился.
Тем всё и кончилось.
Вернее, всё, да не всё.
Ведь у Ипполита Андреевича остался на счету один рубль. И хоть никакого желания купить на него невозможно, однако же Федин остаётся рабом Ипполита Андреевича, и это ли не радость?
Ипполит Андреевич много раз пытается споить Федина и выяснить, каким образом пополняется баланс, но тот наверняка знает намерения своего хозяина, потому что не пьёт с ним, мерзавец, — вообще больше с Ипполитом Андреевичем не пьёт, ни под каким соусом. Порою, под настроение, просит Ипполит Андреевич у джинна кредит, но тот и здесь ни в какую. Потому что неприятная он личность, этот Федин, — бобыль, скряга и вообще мелочная расчётливая сволочь.
Догнать!
1
Старый паромщик вздрогнул от того, что кто–то довольно невежливо толкнул его в плечо.
— Эй! Проснись, паромщик! — сиплый голос прозвучал в ушах дрожью нетерпения.
— Я и не спал, — зачем–то принялся оправдываться старик. — Я всегда сижу здесь с закрытыми глазами, чтобы не видеть солнца. Оно слепит мои старые глаза.
— Плевать на твои зенки! — сердито оборвал сиплоголосый. — Ты проснулся? Или тебе нужно дать ещё одного хорошего тычка?
— Я проснулся. Не надо.
Старик захлопал глазами, разгоняя сонную одурь, разглядывая стоявшего перед ним человека. В небритом усталом лице нависавшего над паромщиком высокорослого и плечистого мужчины затаились подспудный гнев и суровая решимость.
— Перевозил ли ты сегодня кого–нибудь? — спросил он строго.
— Каждый день я кого–нибудь перевожу, — отвечал старик. — Я паромщик.
— Перевозил ли ты беглеца?
— Если ты скажешь мне, чем беглец отличается от любого другого человека, я смогу точно ответить на твой вопрос.
— Не знаю, — ответил человек, подумав, и опустился на лавку рядом со стариком. — Я никогда не видел его и не могу описать. Но в лице его ты наверняка разглядел бы страх.
— Я не смотрю на лица, особенно тех, кто выше меня ростом — солнце слепит мои старые глаза.
— Так значит, ты видел его! — воскликнул человек. — Иначе откуда бы тебе знать, что он выше тебя ростом?
— Получается, что так, — пожал плечами старик.
— Скорей! Скорей готовь своё корыто и переправь меня на ту сторону! — велел человек, поднимаясь и расклинивая рукоять ворота.
Через минуту древний паром уже тащился поперёк течения. Старик, пыхтя, вращал ворот, а пассажир разулся и сидел на краю парома, свесив усталые ноги в воду, отрешённо поглядывая на волны.
— Третьи сутки, — бормотал он. — Третьи сутки я преследую его, без отдыха и сна. Крепок же этот человек, если я ещё до сих пор не догнал его!
— Что сделал он? — пропыхтел старик закономерный вопрос. — Зачем ты гонишься за ним?
Преследователь посмотрел на него исподлобья.
— Я должен, — отвечал он, отвернувшись. И через минуту добавил:
— Скажи, старик… Ведь ты видел его, скажи мне, как выглядит этот человек? Силён ли он? Мелькнула ли в его взгляде безнадежность или он смотрел как победитель? Дрожали ли его ноги от усталости и страха, или он был бодр и свеж? Что сказал он тебе? Дерзка ли была его речь, или голос прерывался и затухал?
— Всего этого я не знаю, — отвечал паромщик, на минуту переставая вращать ворот. — Потому что я никогда не видел беглеца, и он мне ничего не сказал, кроме «спасибо».
— Я должен убить тебя, — покачал головой преследователь. — За то, что ты помог ему скрыться. И я убью тебя после того, как мы причалим.
Знойный день уступал место раннему вечеру. Над рекой становилось прохладно. Старик тяжело дышал, обессиленно упав на скамью, когда они пристали к другому берегу.
— Стар я стал совсем, — вздохнул он.
— Да, — согласился преследователь, вонзая под сердце старику нож.
— Я говорил, что убью тебя на этом берегу, — сказал он, вытирая лезвие о старикову рубаху.
— Говорил, — подтвердил паромщик.
— Я всегда делаю то, что говорю.
— Завидное умение, — покивал старик.
— Именно поэтому беглецу не уйти от меня.
— Что ты сделаешь, когда догонишь его? Тоже убьёшь?
— Не знаю.
— Ну что ж, — вздохнул старый паромщик, собираясь отойти в мир иной, — быть по сему. Вот только некому теперь будет перевозить людей с берега на берег. Я ведь бобыль — нет у меня ни детей, ни внуков, чтобы принять из длани моей рукоять ворота, ещё тёплую моим теплом. Даже оплакать меня будет некому.
— Кто–нибудь найдётся, — успокоил преследователь. — Так что почивай с миром.
— Да.
— Я скажу в ближайшей деревне, что место паромщика освободилось.
— Вот и ладно, — вздохнул старик и умер.
2
Скопец подслеповато вглядывался в густой сумрак, желая разглядеть приближавшегося человека.
— Кто ты? — спросил он, когда лицо пришельца осветилось слабой луной.
— Видел ли ты беглеца? — ответил пришелец вопросом на вопрос.
— Это зависит от стоимости ответа. Я скопец и подслеповат, но не настолько, чтобы не увидеть бегущего. Дай мне денег, и я скажу тебе всё.
— Зачем оскоплённому деньги? Ведь ты даже не сможешь потратить их на утехи продажной любви.
— И не собирался тратить золото впустую, — усмехнулся скопец. — Просто ни одна женщина не пойдёт замуж за такого, как я, если у него не будет денег.
— Хорошо, — кивнул преследователь, — я дам тебе два золотых.
— Три.
— Я дам тебе три золотых.
Евнух удовлетворённо кивнул и протянул руку.
— Так видел ли ты беглеца? — три лунно–жёлтых кругляшка звякнули, перейдя из руки преследователя в потную ладонь евнуха.
— Я видел множество беглецов. Всегда кто–то от кого–нибудь бежит в этом мире.
— Мне нужен один. Тот, который.
— Он прошёл через деревню три часа назад.
— Прошёл?.. Разве он не бежал? На лице его не было отчаяния безысходности? Страха перед тем мгновением, когда моя рука схватит его за волосы? Разве он не прислушивался на бегу, боясь учуять топот моих ног за спиной?
— Ничего этого не было. Он не торопясь прошёл через деревню и даже остановился у колодца, чтобы напиться. Спокойно поговорил с нашим пастухом. Зашёл в лавку, чтобы купить пару лепёшек и варёных яиц на дорогу.
— Не торопясь…
— Быть может, он не знает, что ты преследуешь его.
— Что ты говоришь, скопец! — разгневался преследователь. — Он не может не знать. Иначе зачем бы ему бежать.
— Он не бежал, говорю тебе.
— Наверное, уже совсем обессилел и смирился с близким концом.
— Тебе лучше знать, — пожал плечами евнух и отвернулся, чтобы спрятать деньги.
— Я ухожу, — сказал преследователь. — Разнеси по деревне, что место паромщика свободно.
— Неужели?! — обрадовался евнух. — Неужели старый паромщик наконец–то сдох?!
— Да, я убил его.
— Что ж, теперь у меня есть и работа! — улыбнулся скопец, направляясь к реке.
3
Уже через минуту гадалка прокляла тот день, когда её сумасшедший отец наполнил жизнетворным семенем утробу своей жены.
— Я проломлю тебе голову, — сказал преследователь, садясь за стол у камина, напротив гадалки. — Вот этой кочергой. Если твоё предсказание окажется неправильным.
— Моё предсказание не может быть правильным или неправильным и оно не способно изменить судьбу.
— Тогда какой в нём прок?
— Это каждый решает для себя сам. Я всего лишь гадалка.
— Понятно. Бойся неправильного предсказания, гадалка.
— Всегда боялась.
— Теперь бойся ещё больше.
— Уже боюсь.
— Тогда начинай предсказывать.
Горсть медяков звякнула о стол, рассыпанная рукой женщины. Она принялась рассматривать монеты, то шевеля губами, то скорбно поджимая их.
— Твоё селение ждёт неурожай, — сказала она через минуту.
— Мне плевать на урожай. Мне нужен беглец, — сурово произнёс преследователь, и рука его потянулась к кочерге, прислонённой к очагу.
— Через полтора года король умрёт, — продолжала гадалка.
— Счастливый путь ему, — равнодушно отозвался преследователь.
— Твоя сестра родит двойню.
— Придётся сдать в приют — ей не прокормить ещё двоих.
— Через три месяца после смерти короля начнётся великая война, и…
— Ты скажешь мне что–нибудь о беглеце? — оборвал преследователь гадалку. — Где и когда я догоню его?
— Об этом мне ничего не известно, — отвечала та.
— Плохо, — пожал плечами преследователь и размозжил ей голову кочергой.
Огонь в камине полыхнул напоследок и угас.
— Сколько я должен тебе за гадание? — спросил преследователь, бросая кочергу на угли. Приставший к ней окровавленный рыжий локон затрещал.
— Один сребреник, — отвечала истекающая кровью гадалка.
Преследователь бросил на стол монету и направился к выходу. Глаза его тускнели усталостью бесконечной погони, он еле волочил ноги. Белый кругляшок серебра затерялся в россыпи меди.
— Зачем ты умертвил меня? — спросила предсказательница, выходя вслед за своим убийцей на крыльцо.
— Ведь я предупреждал, что разнесу тебе голову за неправильное предсказание.
— Но я всё предсказала правильно!
— Ты ничего не поведала мне о главном, гадалка.
— Быть может, никакого беглеца и вовсе нет?
— Если ты не сдохнешь сейчас и будешь продолжать молоть разную чушь, я ударю тебя кочергой ещё раз!
— Хорошо, я умру, — вздохнула гадалка и замертво повалилась на ступени.
4
— Как неожиданно пришла зима! — вздохнул старый вождь, провожая глазами падающие снежинки.
— Зима всегда приходит неожиданно, — кивнул ещё более старый жрец.
— Это так, — грустно улыбнулся вождь. — Каждый раз мы ждём её с самого лета, и каждый раз ей удаётся нас обмануть.
Он повернулся к гостю, сидящему у костра:
— Кто ты, человек?
— Не знаю. Или не помню.
— Что привело тебя в наши земли?
— Не что. Кто.
— И кто же?
— Беглец. Видели вы его?
— В своей жизни я видел много беглецов, — задумался вождь. — Который из них тебе нужен?
— Тот самый.
— Многие хотели бы догнать этого беглеца, — вмешался жрец. — Многих преследователей я знал.
— Он — мой, — отвечал преследователь. — Поэтому никто и не догнал его.
— Все мы чьи–нибудь беглецы, — задумчиво помотал головой жрец. — И все мы чьи–нибудь преследователи. Воистину, мир состоит из тех, кто бежит и тех, кто догоняет.
— Это так. Но у меня нет времени на мудрые мысли, — напомнил преследователь.
— Но наверняка найдётся часок, чтобы выпить с нами доброго вина, — радушно улыбнулся вождь. — Урожай был хорош.
— Я не могу пить вино, пока не догоню его. Не могу ни есть мясо, ни любить женщин, ни радоваться вновь народившимся, ни провожать ушедших, ни бросать зерно в землю, ни пожинать спелые колосья… Мне нужно догнать его.
— И что будет, когда ты его догонишь? — вопросил жрец.
— Я успокоюсь, — отвечал преследователь, поднимаясь и на дрожащих от усталости ногах направляясь к дороге.
— Ради этого стоит умереть вдали от дома, — кивнул вождь.
— Я не собираюсь умирать, — возразил преследователь, не оборачиваясь.
— Зима всегда приходит неожиданно, — усмехнулся жрец.
5
— Когда–то я тоже преследовал его, — сказал умирающий, ложась вдоль дороги, утопающей в весенней слякоти.
— Его?
— Ну или другого, не всё ли равно.
— Мне — нет, — покачал головой преследователь опускаясь в грязь, рядом с умирающим.
— Когда–то мне тоже было не всё равно, — печально улыбнулся тот. — С тех пор прошло и десять и двадцать лет, а потом — ещё больше. И многое изменилось.
— Главное — не меняется.
— Меняется в первую очередь именно главное. И только второстепенное остаётся неизменным. Я слишком поздно это понял.
— Просто ты позволил отчаянию съесть себя, — возразил преследователь, наблюдая, как тает в грязной луже белая монета его плевка.
— Я не позволял, — слабо качнул головой умирающий. — Да оно и не спрашивало позволения… Сколько уже месяцев или лет гонишься ты за ним?
— Не считал, — пожал плечами преследователь. — Что может быть глупее, чем считать уходящие дни!
— Твоя правда. Однажды я стал считать и сбился со счёта.
— Их было так много?
— Нет, просто мне стало страшно.
— Можешь заняться подсчётом теперь, чтобы скоротать последние минуты. Бояться всё равно уже больше нечего.
— И ты опять прав: чего бояться тому, кто готовится в плавание против течения времени.
— А мне — пора, — кивнул преследователь, поднимаясь, кряхтя и опираясь на палку.
— Ты не поможешь мне умереть?
— Нет. Ты должен уметь это сам. А если не умеешь, так у тебя ещё осталось немного времени — как раз хватит, чтобы научиться.
6
— Я так долго гнался за тобой, — беззубо улыбнулся преследователь, присаживаясь и дрожащей рукой кладя рядом свой древний посох. — Я так долго гнался за тобой, что уже и не помню — зачем.
— Так всегда и бывает, — отозвался беглец.
— На губах моих нет вкуса победы, — продолжал преследователь, пропуская слова беглеца мимо ушей. — Только горечь.
— Это горечь поражения.
— Неужели я проиграл?
— Ты не выиграл.
Они смотрели друг другу в глаза и во взглядах их не было ни ненависти, ни радости от состоявшейся встречи.
— Странное чувство, — горько улыбнулся преследователь, — мне не хочется тебя убивать.
— Гадалка ошиблась, — отвечал беглец. — Твоя сестра не родила двойню. У неё вышла тройня.
— Их сдали в приют?
— Нет, слава богам. Иначе сейчас у нас не было бы президента.
— Ну что ж, — пожал плечами преследователь, — значит, я всё же не зря разбил ей голову кочергой.
— Если бы можно было так просто разбить кочергой голову судьбе, тысячи кузнецов сделали бы себе состояние.
Преследователь достал из рукава свой верный нож. Клинок немного затупился от времени, консервных банок, твёрдой колбасы и чёрствого хлеба, но потёртая наборная рукоять по–прежнему ложилась в руку удобно и гладко. Вот только рука была уже не та.
— Столько лет… — пробормотал он. — Столько лет я гнался за тобой.
— Целую жизнь, — подсказал беглец. — Или даже больше.
— Больше жизни я догонял тебя, — продолжал преследователь, — и теперь… вот же странность!.. теперь я знаю, что ты мне вовсе и не нужен. Я гнался не за тем.
— Обычная история, — улыбнулся беглец.
— Но убить–то я тебя должен, раз уж догнал.
— По всему выходит, что так. И никто тогда не скажет, что жизнь твоя прожита напрасно.
Преследователь бросил на беглеца быстрый взгляд — ему почудился подвох в этих словах, ирония в голосе. Но глаза беглеца были чисты и спокойны. Кажется, он и вправду так думал, как говорил.
— Зато я не видел, как старилась моя жена, — произнёс преследователь, отвечая почудившейся издёвке. — Это стало бы мне горше смерти.
— И то верно, — кивнул беглец.
Пошёл снег. Снежинки таяли, пролетая над костром, и тут же испарялись. Костёр потрескивал задумчиво и почти не дымил — дрова были сухи. Два старца сидели друг против друга и волосы их под снегом становились ещё белее.
«Зима всегда приходит неожиданно, — вспомнил он слова вождя. — Каждый раз мы ждём её с самого лета, и каждый раз ей удаётся нас обмануть».
Надо было их тоже убить, зря он этого не сделал тогда. Двумя обманутыми стало бы на земле меньше. Эх, да что уж там, всех ведь не избавишь.
— Я ударю тебя в сердце, — сказал он, беря нож на изготовку. — Надеюсь, мне удастся попасть точно и не причинить тебе лишних страданий.
— Страдания никогда не бывают лишними, — пожал плечами беглец. — Как и жизнь никогда не кончается вовремя.
Преследователь помотал головой, разгоняя словесный туман. Кряхтя, поднялся, потянул посох.
— Позволь напоследок сказать тебе одну вещь, — улыбнулся беглец, наблюдая за тем, как его преследователь пытается распрямиться, держась за поясницу.
— Только одну, — кивнул тот.
— Одну, — пообещал беглец. — Прежде чем ты умрёшь, ты обязательно должен это знать.
— Говори скорей и покончим с этим делом. А то холодно.
— Нет лучшего способа догнать убегающего, чем заставить его гнаться за тобой.
Преследователь пожевал губами, озадаченно глядя на беглеца.
— Хм… — произнёс он после некоторого раздумья. — И что же ты хочешь этим сказать? Ты не боишься смерти?
— Страшна вовсе не смерть. Страшно непонимание того, что ты давно умер.
— Ладно, хватит. Ты сказал что хотел, пора и честь знать.
Ему наконец удалось распрямиться и, опираясь на посох, он подошёл к беглецу. Тот поднялся навстречу…
7
Снег скоро кончился. Опустился вечер.
К догоревшему костру пришли волки. Они тревожно обнюхивали цепочку человеческих следов, подобрали недоеденный кусок лепёшки, сцепились за колбасные шкурки.
Потом уселись в круг и принялись выть на луну.
Кто как не волк лучше всего знает, что луну не догнать, как бы быстры ни были твои ноги.
Глотатели
Глотать он научился довольно рано. Можно сказать, с рождения.
Первая пуговица была проглочена им полутора лет отроду. Таинственное исчезновение в собственном организме этого незначительного, но столь интересного предмета было воспринято почти экстатически и навсегда определило судьбу.
Юбилейная семьдесят пятая пуговица проглотилась на десятый день рождения. Это была последняя пуговица из имеющихся в доме.
«Милый, — сказала ему мать, — ты не мог бы глотать что–нибудь другое? Попробуй, например, кнопки — их у нас много. Или… или керамзит из цветочных горшков».
Но он был неумолим. Вкус уже сложился, ему не хотелось ничего, кроме привычного. В ход пошли пуговицы с родительских рубашек и платьев. Но они быстро закончились, а их пропажа каждый раз вызывала целую бурю эмоций со стороны родителей, вынужденных ходить на работу, подпоясавшись кушаками или закалывая борта рубах и блузок булавками.
В конце концов ему волей–неволей пришлось попробовать кнопки. Это было открытие, это был новый, острый, вкус, это было, как если бы человек, привыкший к вегетарианской, безвкусной, приготовленной на пару пище, впервые попробовал настоящие хинкали. С тех пор он пристрастился к кнопкам, благо, их было достаточно. Почувствовав прелесть остринки, он теперь позволял себе экспериментировать и делал одно кулинарное открытие за другим. Когда кончились кнопки, в ход пошли булавки, запас которых, впрочем, тоже довольно быстро иссяк, а родители перешли на кимоно, что впоследствии вылилось в любовь вообще ко всему японскому. Прибежищем отца и матери стала медитация под веткой сакуры, привезённой из путешествия в страну восходящего солнца. С работы они вынуждены были уволиться, что намного сократило период его детства, поскольку ему пришлось думать о заработке, чтобы не умереть с голоду. В школе он недоучился.
Сначала он пытался зарабатывать в переходе — тем, что глотал всякую мелочь вроде иголок и бритвенных лезвий, но жалких медяков, в которые равнодушные прохожие оценивали его талант, не хватало даже на реквизит для этих незатейливых упражнений.
В конце концов ему повезло — кто–то из служителей шоу–бизнеса заметил его. Результатом этого везения стало то, что он устроился на работу в цирк, где ежедневно, под аплодисменты и испуганно–восторженные возгласы зрителей, глотал ножи и шпаги. Теперь у него было достаточно денег, чтобы содержать отца и мать, посадить для них в большом горшке настоящую сакуру и раз в год организовывать им путешествие в Японию.
Однажды они не вернулись из очередной поездки. А через месяц из префектуры Осака пришла бандероль, в которой оказалось письмо и небольшая шкатулка в японском стиле с иероглифами.
В письме мать писала, что они решили остаться в стране восходящего солнца навсегда. Обосновались они хорошо, пусть он не беспокоится. Отец устроился на работу ниндзей, сама она подрабатывает гейшей, так что иен хватает, и риса в этом году — урожай. Она приглашала его в гости, а пока напоминала, чтобы он не забывал повязывать шарф, смотрел себе под ноги и не лез в лужи, а то ведь водится за ним такая привычка.
В шкатулке оказались гостинцы — семь острейших сюрикэнов от отца и набор самого разного фасона пуговиц в японском стиле — от матери.
Он с удовольствием поужинал сюрикэнами, под сакурой, которая, ничего не подозревая, буйно цвела в своём горшке и грезила о Фудзи. Пуговицы он оставил для красоты, поскольку давно уже на находил в них вкуса — даже в японских, с иероглифами.
Ещё через год он женился, на милой цирковой девушке — глотательнице огня. Она была сиротой и пришла к нему жить с двумя канистрами бензина, комплектом факелов и попугаем по имени Каси́к, который умел читать стихи: «Я — попугай с Антильских островов, но я живу в квадратной келье мага…» и так далее. Они начали жить счастливо вчетвером (он, она, попугай, сакура).
Но через пару месяцев их квартира сгорела, из–за неосторожности девушки в обращении с огнём. Погибли сакура, шкатулка с пуговицами и попугай по имени Касик.
Они перешли жить в общежитие при цирковом училище — администрация любезно выделила двум своим главным номерам просторную и гулкую, отчасти меблированную комнату с видом на цирковой двор, где под медленным рождественским снегом грустил в вольере одинокий озябший страус Бильбо.
Потом, через полгода, у них родился маленький мальчик.
Мать в письме бандеролью поздравляла их с рождением сына, сообщала, что отец получил повышение и теперь преподаёт ниндзюцу, пишет хайку и собирается баллотироваться в мэры префектуры Осака. Он, дескать, настаивает, чтобы внука назвали Итиро, писала мать и с улыбкой добавляла от себя, что следовать этому настоянию необязательно, можно назвать мальчика и Сатоси.
В небольшой шкатулке в японском стиле с иероглифами лежали гостинцы — несколько арарэ для него и баночка напалма для супруги. Новорожденному предназначался в подарок последний молочный зуб его деда, который тот пронёс через всю жизнь в ладанке на груди и который, по уверениям будущего префекта Осаки, принесёт потомку удачу и процветание. Ещё в шкатулку были положены веточка сакуры и попугаячье яйцо.
Сакура была посажена в новый купленный горшок, а яйцо подложено под одинокого страуса, уныло созерцавшего в своей вольере в цирковом дворе наступление осени. Птица, вдруг обретшая смысл жизни, успешно высидела птенца, которого сначала думали назвать Касиком Вторым, но в конце концов дали имя Итиро Сатоси. Страус не хотел отдавать своё приёмное чадо, а когда его таки забрали, захирел и едва не умер в тоске, так что пришлось, по согласованию с администрацией, забрать себе и его тоже.
Зимой супруги совсем было собрались погостить у родителей в Японии и уже купили билеты, но он не смог пронести через контроль в аэропорту свой плотный завтрак из полукилограмма гвоздей — детектор каждый раз подавал тревогу, стоило войти в контур. Вдобавок ко всему в сумочке его супруги обнаружили жестянку с остатками напалма. Уголовное дело о покушении на акт терроризма заводить в отношении их не стали, но с тех пор в цирковом дворе, возле пустой вольеры страуса Бильбо, часто видели разных личностей в длинных плащах и в шляпах, надвинутых на глаза. Это раздражало и беспокоило.
Наступившей затем весной Итиро Сатоси порадовал всех хайку Бусона, прочитанным на чистейшем японском языке, сакура — цветением, а маленький мальчик — первой проглоченной монетой в десять рублей. Наверное, молочный зуб его деда, префекта Осаки, давал о себе знать, и мальчика ожидало действительно солидное и обеспеченное будущее. С тех пор они вели тщательную калькуляцию и знали, что к своему юбилейному — десятому — дню рождения маленький мальчик стоил шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три рубля шестьдесят копеек.
«Я ваша копилка, — любил пошутить маленький мальчик. — Только небьющаяся».
«Ты копилка нашего счастья,» — улыбалась мать.
Через пару лет быт их наладился — администрация цирка улучшила их жилищные условия отдельной трёхкомнатной квартирой в новостройках. Тёмные личности в длинных плащах и надвинутых на глаза шляпах, видимо, не знали нового адреса, потому что больше никогда не появлялись вблизи их жилища, что вернуло в жизнь прежний улыбчивый покой, когда пожелание доброго утра произносится не полушёпотом, а звучит полногласо и радостно, с искренней верой в то, что утро действительно будет добрым, а за ним ещё много–много добрых утр.
Так и живут они в мире и согласии вшестером (он, она, маленький мальчик, попугай, страус и сакура).
Самый необитаемый остров
На этом необитаемом острове Иван оказался совершенно случайно, в среду, после ужина и после того как жена раскрыла его застарелую порочную связь с Людочкой из пятого отдела.
Зловеще–пессимистически каркнула за окном ничего не подозревающая ворона, как раз в тот момент, когда жена Лиза поставила жирную точку в разговоре: «А не пошёл бы ты, Ванечка, куда подальше!» и зачем–то показала вороне кулак.
Тут–то Иван и очутился на острове. Совершенно необитаемом.
Вот такой случился с ним ёкарный бабай. И это был самый ёкарный из бабаев, когда–либо встававших на Ивановом пути.
Конечно, Людочка была ошибкой. Иван и раньше понимал это где–то на подсознательном уровне, но боялся признаться себе в этом, чтобы не встать перед необходимостью что–то делать. Людочка была особой нервной, чувствительной, по–секретарски экзальтированной. Даже намёк на какую бы то ни было трещину в устоявшихся отношениях причинил бы ей жестокую травму. А как следствие — Ивану.
И ведь нельзя назвать это юношеской глупостью или подвести иной какой базис, основанный на незнании Иваном жизни. Нет, он, конечно, был ещё не в том возрасте, когда мужское достоинство используется исключительно по прямому назначению, как в детстве. Но уже и вышел из того периода, когда оно не по назначению используется чаще, чем по оному. Поэтому чем–чем, а незнанием жизни обосновать его поведение было бы неправильно. Ну да не суть важно. Для нашего рассказа важнее то, что случилось далее.
Совсем необитаемый остров представлял из себя классический вариант подобного явления, известный, пожалуй, каждому по юмористическим картинкам — безбрежная водная гладь и небольшой клочок земли, посреди которого высится одинокая пальма. А под ней свечкой торчит Иван. А в океане плещутся акулы с крокодилами и косят на Ивана недобрым взглядом.
«Ох!» — подумал он, с тоской обозревая пространства.
Назревал шторм. Ветер поднимался такой, что пришлось немедленно вцепиться в пальму. Тяжёлые тучи наползали со всех сторон, словно устремились к острову в едином порыве удушить несчастного новоявленного робинзона. Сверкали на горизонте молнии, грозя тысячами, а то и миллионами вольт.
Подхваченная мощным порывом ветра, пронеслась со скоростью сошедшего с ума кукурузника давешняя ворона. Бросила на Ивана очумелый растерянный взгляд, неразборчиво каркнула, рухнула в океан.
С неба раздался вдруг громогласный смех, который Иван поначалу принял за раскаты грома. Но нет, то был смех.
Тут–то Иван и сообразил, что находится в рассерженном Лизином воображении. Но легче ему от этого не стало. Супругу свою он знал хорошо и был прекрасно осведомлён, на что её воображение способно.
«Птицу–то за что?» — подумал он, вспомнив несчастную ворону.
А ветер ярился так, что казалось, вот сейчас подхватит и унесёт, бросит вслед за вороной в океанскую рябь. Накатывал из–за горизонта не то что девятый — двадцать девятый вал. Иван ещё крепче обнял пальму, задержал дыхание, зажмурился, готовясь принять смерть.
Когда открыл глаза, увидел, что обнимает Людочку из пятого отдела — свою так некстати разоблачённую, порочную любовь. Первым порывом было потянуться к ней губами, слиться в последнем прощальном поцелуе. Но Людочка внезапно обернулась крокодилом.
Когда крокодил разинул свою кошмарную, зловонную, голодную пасть прямо перед Ивановым лицом, тот закричал, стремительно отпрыгнул, упал на песок; потом отполз, вскочил на ноги и кинулся бежать со всех ног от ужасной рептилии.
Он бежал долго, стараясь не наступить случайно на какую–нибудь из омерзительных змей, что взялись, казалось, из неведомых Ивану измерений и кишели теперь под ногами. Бежал, пока не услышал воинственных воплей откуда–то спереди, со стороны океанского прибоя.
Перескочив очередную дюну, Иван увидел…
Улюлюкая, навстречу ему бежали два десятка аборигенов. Хмурые чёрные люди в набедренных повязках из листьев пальмы, поголовно татуированные, с копьями и дубинками в руках. Несомненно это были каннибалы. В первых рядах неслась к Ивану тяжелогрудая женщина в возрасте, размахивающая человеческой берцовой костью. Взгяд её не сулил ничего хорошего, а лицо поразило Ивана необыкновенным сходством с чертами тёщи, Екатерины Семёновны.
Он растерянно замер на месте, не в силах сейчас же и немедленно предпочесть, кем ему легче быть съеденным — крокодилом или черными братьями по биологическому виду. А тёща–атаманша вдруг, размахнувшись на всём скаку, метнула в Ивана своё оружие. Удар пришёлся точно в голову.
«Ох!» — успел подумать Иван, теряя сознание.
В следующую секунду он очутился в тесном пространстве, пропахшем пылью и сковавшем его по рукам и ногам. И только голова его да ступни торчали наружу из тесного чёрного короба. Дыхание перехватило, когда под яростные аплодисменты над ним склонился мужчина в чёрном фраке и с пилой в руках. Улыбнувшись тонкими бледными губами под хищным острым носом, фокусник приложил пилу к коробу и принялся споро перепиливать закричавшего Ивана.
Аплодисменты нарастали, переходя в овации по мере того, как пила приближалась к покрывшейся пупырышками страха Ивановой коже. Или то был шум океанского прибоя? Всё смешалось в голове нашего несчастного героя и, едва обретя сознание, он — слава богу! — снова потерял его…
Упирался в хмурое небо где–то высоко над головой Ивана башенный кран. Стрела неведомо зачем поднимала в хмурую высь огромную бетонную плиту, непонятно для чего и кому нужную на необитаемом острове, ибо никакой стройки рядом не было и даже не намечалось. Зато рядом была Иванова голова.
Натужно гудели и трепетали, подобно Лизиным натянутым нервам, тросы, радостно готовые немедленно не справиться с тяжестью. Ветер, который за всё время Ивановых мучений не ослаб ни на йоту, раскачивал плиту с такой лёгкостью, будто это был спичечный коробок. Похоже, выверял прицел.
«Ох!» — мелькнуло в Ивановом мозгу в последний момент, когда плита уже сорвалась с привязи и летела на рандеву с его головой. И ещё: «Не стой под стрелой!»
…
Приходил в сознание он долго и мучительно. Шумел беспокойный прибой. Болтался в набегавшей волне взъерошенный труп несчастной вороны, попавшей в переделку ни за что ни про что — только потому, что ей приспичило не вовремя каркнуть.
Открыв глаза и покосившись по сторонам, Иван увидел лежащего рядом всё того же крокодила. Задумчивый взгляд рептилии застыл на Ивановом лице.
Он закричал…
Эпилог
Прошли годы.
Иван так и живёт в Лизином воображении, на своём самом необитаемом острове. Необходимость в Иване возникает всё реже и реже, да и вспоминает о нём Лиза как–то уже без азарта: ну пройдёт иногда с неба небольшой камнепад, или случится нашествие прожорливых голодных крабов… но это же — так, мелочи.
Уже давно Лиза вышла замуж за Подоева, Иванова шефа, и живёт с ним в четырёхкомнатной квартире в районе Черенки, на улице Знаменской, в четвёртом для Подоева браке.
«Отпусти! — шепчет порой Иван в минуты вечерней слабости, с тоской глядя на неведомые созвездия Лизиного сознания. — Ну отпусти меня, Лизанька!»
Но Лиза не отпускает. Потому что мало ли что: вот разругается с Подоевым окончательно и устроит тогда Ивану землетрясение с падающими с неба крокодилами, тёщами и метеоритным дождём.
Послесловие
Мне вот подумалось: а ведь каждый человек по сути является богом всех людей.
И когда засыпаешь ты, ещё не факт, что засыпаешь именно ты, а не твой бог, в чьём воображении ты живёшь, на самом необитаемом из островов…
Засим и закончу.
Да и летающие бензопилы сбиваются за окном в стаю — пора перебираться в подпол.
Исшествие
И был день, и множество людей собралось вокруг него на торжище. И тогда сказал он присным и пришлым и всем им: не хочу больше слышать вас, ибо противны мне речения ваши, и помыслы ваши мне мерзки. Стану свободен от вас! И прутом лишил себя слуха. И стала тишь; и понял он, что это хорошо; и сладко было безмолвие духу его.
А те смотрели на него и говорили меж собой: что это за человек? праведен ли он, чтобы так обличать нас?
Он же сказал: не хочу лицезреть вас вовеки, ибо мерзки деяния ваши глазам моим. И лишил себя зрения света, говоря: оставлю же только язык, чтобы пророчествовать сим и обличать их. И стало так.
Вотще; ибо не было пророчеств на языке его, и мозг в голове его будто иссох, и сердце его стало что вода, и кости — аки прах; и только боль и страдания телесные. И тогда в смятении духа рек: что ж, пусть будет так! бессловесным пришёл я в этот мир, немым и изойду из него. И отсек язык свой, и бросил в пыль, и собака ела его.
Вокруг же говорили: эва! И смотрели на него глазами своими; и были зеницы их пустота, и слова их были пусты.
И сказал он в сердце своём: брошу и стопы мои, чтобы никогда не ходить мне путями неправды, что ложатся под ноги их, а они перебирают ногами и говорят: вот, хорошо, хорошо. И отнял левую ступню свою, и правую отнял тоже, и бросил. И собаки ели их.
И рек он в сердце своём: больно же это!
И ещё рек: сокрушу и руки мои, дабы никогда не вершили того, что вершат злые мира сего; да буду непричастен!
И отсек левую. А десницу отнять не мог, ибо не было чем. И в бессилии стал тогда грызть зубами пясто её.
И был рядом добрый человек именем Матвей, и сказал в слезах: помогу бедному сему. И отсек правую руку его.
И тогда сидел он в крови и прахе, в немочи и пустоте. И — в скорби, ибо радости не было, и свобода не посетила духа его. И были вокруг тьма и безмолвие.
Те же удивлялись, и ярились, и говорили меж собой: вот как он с нами! сожжём же его, дабы не было иным примера, а нам — позорища.
И сожгли.
Любовь — винтовка
Преступник Николай не любил милиционеров, и у него была трудная судьба с двумя ходками, распавшимся браком и неоконченным высшим.
Милиционеры тоже взаимно не любили Николая и при каждом удобном случае старались доказать ему свою нелюбовь. Случаи подворачивались часто, потому что Николай был неисправимый преступник. И милиционеры доказывали — у них всё получалось, почти как в кино.
В тот день Николай пошёл на дело, хотя, скажем прямо, дел у него не было никаких, кроме как нарушать закон. Таковы все преступники и Николай был не исключение.
Когда он уже грабил банк, и у него была на лице маска, а в руках пистолет, а очередь возмущалась, что у неё заканчивается обеденный перерыв, вдруг что–то пошло не так. Если говорить конкретно, оказалось, что вернулся охранник банка. Точнее говоря, вернулась. Потому что это была женщина–милиционер, она отлучилась в туалет как раз когда Николай пришёл на дело, а теперь вернулась и поражалась тому, как быстро изменилась ситуация, пока она писала, и её звали Любовь.
Любовь была настоящей русской красавицей с длинной тугой косой и симпатичной, хотя и поношенной, пилоткой. На груди её непорочно поблёскивал значок за доблестную службу сотрудника эм–вэ–дэ. Ещё у неё был холодный разум, горячее сердце и чистые руки, по Дзержинскому, который, впрочем, давно в милиции не в моде. Она жила одна (что неудивительно при наличии погонов старшего сержанта), но со многими.
Вернувшись из туалета, милиционер Любовь совсем не долго удивлялась ситуации, потому что сумела быстро её оценить. Быстрая и правильная оценка ситуации — это главное, что необходимо любому сотруднику эм–вэ–дэ, потому что никогда не знаешь, где тебя поджидает встреча с правонарушителем и во сколько ему это обойдётся.
— Преступник Николай, я должна вас задержать! — громко объявила милиционер Николаю, который как раз складывал деньги в саквояж, а кассир была бледная и ничего не понимающая. Её звали Татьяна, но чаще — Танюха.
— Задержи меня, золотко, задержи, — отозвался преступник Николай и рассмеялся в лицо Любови аморальным намёком, ведь у него был пистолет. Он и не знал, что милиционер Любовь была из тех русских женщин, которые коня в избу. И хотя у неё тоже был пистолет, и Николай догадывался об этом, но сейчас на его стороне были преступный умысел и безапелляционная готовность совершить ещё более тяжкое преступление. А также на его стороне была очередь, которой хотелось, чтобы всё поскорей закончилось, и кассир Танюха могла бы продолжить обслуживание граждан. А власть у нас вообще принято не любить.
Милиционер Любовь проигнорировала антиморальный намёк закоренелого преступника, но учла его и поняла, как нужно действовать.
— Пойдём? — многозначительно произнесла она, кивнув на закуток, в котором отдыхала в обеденный перерыв. — Задержу.
Несмотря на всю многозначительность интонации, Николай понял Любовь совершенно однозначно, но это сейчас не входило в его планы, хотя и было жаль — у него уже несколько месяцев не было ничего такого, а кроме того ему было бы очень приятно поиметь в лице Любови всю ненавистную милицию разом. И именно это и стало решающим фактором, перевесив сомнения.
Положив в саквояж последнюю пачку купюр, он кивнул и ответил:
— Ну, пойдём.
И они пошли.
После того, как Николай сделал с Любовью всё, о чём мечтал долгими тюремными ночами, и вытянулся на топчане довольный и радостный за всю милицию, Любовь очень внезапно пристегнула его наручниками к батарее и объявила:
— Всё, преступник Николай, вы задержаны!
И ещё она объяснила ему, что он имеет право хранить молчание и всё такое. Но Николай ничего хранить не стал, а очень громко объявил Любови, что она мусорская сука.
Однако, деваться ему было некуда во всех смыслах этого выражения. Любовь и наручники очень похожи друг на друга, это почти одно и то же, а любовь уже полыхала в груди Николая. В груди Любови она тоже трепетала, подобно вечному огню на ветру в сквере Памяти.
Вот такая странная штука любовь, вдруг сметающая всякие там баррикады и сводящая вместе людей, стоящих по их разные стороны.
— Даже и не знаю, что с тобой делать, преступник Николай, — покачала головой Любовь.
— Если не знаешь, что следует делать, лучше не делай ничего, — посоветовал Николай.
— Любовь — река, полюбишь и зэка, — вздохнула милиционер Любовь.
— Любовь — что винтовка, полюбишь и ментовку, — симпровизировал преступник Николай.
И потом он открыл Любови свою душу. Он поведал ей всю свою жизнь, от памперсов до тюремной решётки, и про то, как стал преступником.
— Жизнь легла несмываемым пятном на мою душу, — закончил он свой рассказ.
— Иногда нужно сдавать душу в химчистку совести, — мудро и образно изрекла милиционер Любовь. — Или хотя бы пользоваться «Ванишем» доброты.
И потом Любовь тоже открыла ему свою душу и рассказала всю свою жизнь от изношенной пилотки до роддома.
И она достала из лифчика ключ от наручников, но сначала они с Николаем страстно поцеловались.
Когда за Николаем приехала машина с неработающей мигалкой, а прапорщик Васильев дышал перегаром, всё было уже решено, и в банке оставались только кассир Танюха и очередь…
Преступник Николай с Любовью эмигрировали в Свазиленд или в Лобамбу, где и находятся поныне в федеральном розыске.
Любовь согревает Николая своим горячим сердцем, направляет холодным разумом и удерживает его преступные наклонности в своих чистых руках. Бывший преступник Николай работает полицейским. Они очень любят друг друга и часто с нежностью вспоминают прошлое, а когда нежность становится невыносимой, бурно занимаются любовью.
Их сексуальные игры однообразно разнообразны: Любовь в милицейской форме надевает на преступника Николая наручники и прессует. А он поёт ей страстную песню в исполнении Боярского и Тереховой «Любовь, зачем ты мучаешь меня?!»
Так они и живут, долго и счастливо, и умирают в один день (точнее — в одну ночь), на одной кровати, чтобы утром родиться вновь.
Всякие разные истории
Про кальций
— Дайте мне что–нибудь от хрупкости костей, — попросил гражданин в джинсовой паре.
Пока он говорил, одна рука его тихо треснула, вывалилась из рукава куртки и упала на кафельный пол аптеки.
Уборщица нервно дёрнула шваброй, воззрилась на конечность.
— Ой, так у вас остеопороз, — удивилась аптекарша — молоденькая симпатичная пигалица.
— Не знаю, — растерялся гражданин, надламываясь в левой ноге. — Ну вот! — воскликнул он. — Нога…
— У меня у зятя такое, — осуждающе покачала головой уборщица. — Но он рукам воли не даёт и почём зря по аптекам не разбрасывает.
— Возьмите кальций и витаин «дэ», — предложила аптекарша.
— Давайте, — согласился гражданин.
Аптекарша отбила таблетки, протянула больному.
Но у гражданина не получилось взять, потому что едва он протянул руку в окошечко, рука задела за прилавок и отломилась.
— Ну вот… — расстроился гражданин.
— Запущенный случай, — констатировала уборщица.
— Как же вы будете принимать таблетки? — посочувствовала пигалица. — У вас есть, кому за вами ухаживать?
— Нет, от меня жена утром ушла, — расстроился гражданин воспоминанием. — К водителю такси.
Уборщица между тем собрала его руки и рассовала их по карманам джинсовой куртки больного — одну в один, другую — в другой. Потом спохватилась, что сунула левую руку в правый карман и принялась переделывать.
— Вот теперь — правильно, — удовлетворённо сказала она, покончив с этим делом, и кивнула.
Потом ещё положила в один карман таблетки с кальцием, а в другой — витамин «дэ». Всё–таки она была доброй женщиной.
— Спасибо, — поблагодарил гражданин, ломаясь в правой голени. — Что б тебя! — выругался он на ногу и кое–как поковылял к выходу.
У выхода уборщица догнала его, достала у него из кармана кошелёк и отсчитала тридцать восемь рублей пятьдесят копеек — за таблетки и витамины.
— До свидания! — растроганно произнесла аптекарша.
— Здравствуйте, — сказал другой посетитель, входя. — Дайте мне что–нибудь закрепляющее, — попросил он.
Пока он говорил это, его рука хрустнула, выскользнула из рукава плаща и упала на кафельный пол.
— Ну вот, — грустно произнёс новый посетитель, — не успел.
— Да что же сегодня за день такой! — раздражённо воскликнула уборщица.
Про сосульку
Сосулька присматривалась к проходящим под ней людям, выбирая голову.
Долго колебалась между дамой в косынке поверх шиньона и толстым мужчиной в шляпе. Но они оба обманули её ожидания: задрали голову вверх, увидели сосульку и свернули.
Потом под ней прошла супружеская пара, которая направлялась в суд на бракоразводный процесс. Сосулька долго не могла выбрать, кого из них травмировать, избавив тем самым от позора и сохранив семью. Пока она колебалась, пара уже миновала опасную зону.
Затем проковылял мужчина с остеопорозом — он шёл в аптеку за таблетками кальция. Сосулька решила не размениваться по мелочам.
Потом под ней прошёл мальчик, двоечник из восьмого класса школы, расположившейся через дорогу. Сосулька уже совсем готова была упасть, но в последний момент передумала. Впрочем, мальчика–двоечника это не спасло.
И как же она возликовала, что не стала спешить, когда увидела работника ЖЭКа идущего прямо под козырьком!
Она быстро рассчитала момент отрыва в соответствии с законом Ньютона, учла силу ветра и полетела.
Но работник ЖЭКа в последний момент отпрыгнул, отбежал в сторону. Сосулька упала на гололёд, разбилась и умерла.
— Ха–ха–ха, — рассмеялся работник ЖЭКа. — Глупая сосуля! Даром, что ли, я тридцать два года работаю в ЖЭКе номер двадцать восемь? Да я вас знаю как облупленных! Кого ты хотела травмировать! Ха–ха–ха!
Пока он так смеялся, его переехал троллейбус, которого занесло на гололедице и водитель не справился с управлением.
И поделом. Заслуженная кара постигнет всякого сотрудника ЖЭКа, который своевременно не устраняет с крыш сосули.
Про воды
— Дайте мне что–нибудь от переломов, — попросил гражданин, входя в аптеку.
Уборщица неприязненно покосилась на него, но ничего не сказала.
— Возьмите кальций, — посоветовала аптекарша и побледнела.
— Почему вы побледнели? — спросил гражданин. — Я что, так плохо выгляжу?
— Да при чём здесь вы, — отмахнулась аптекарша. — Это у меня воды отошли.
— Вы что, беременны? — спросил гражданин.
— Да, — поморщилась аптекарша.
— На каком месяце? — полюбопытствовал гражданин.
— На последнем, — охнула пигалица, потому что у неё произошла схватка.
— Кого ждёте, мальчика или девочку? — не отставал гражданин.
— Никого не жду, — отвечала пигалица. — Мальчик у меня уже есть, от него и девочка.
— У вас не сложилась жизнь, да? — участливо поинтересовался гражданин.
— Да, — кивнула аптекарша.
И она уже хотела рассказать участливому гражданину свою судьбу, но тут что–то хрупнуло, и рука гражданина вывалилась из рукава пиджака.
— Таки отломилась, — сказал гражданин.
— Да что же сегодня за день такой! — воскликнула уборщица, поднимая руку и запихивая её гражданину под мышку.
А пигалица вдруг застонала, приседая и держась за живот.
Про поэзию
Учительница русского языка и литературы не любила свою работу и ненавидела детей, потому что через них прошёл болезненный излом в её жизни — ведь она могла стать фотомоделью, а стала учительницей русского языка и литературы.
Вдобавок ко всему, утром она ушла от мужа к водителю такси и теперь испытывала некоторое чувство неловкости за своё неумение устроиться в жизни.
— Почему же ты опять не выучил стихотворенье? — мягко спросила она мальчика–двоечника, ученика восьмого класса.
— Я чувствую в себе отторжение к рифмованной и ритмически организованной прозе, — сказал двоечник.
— Но если ты получишь двойку в четверти, я не получу повышение квалификационного уровня, — сказала учительница с ласковой укоризной.
— Но я не люблю литературу, — сказал двоечник.
— Но это неправильно, — мудро улыбнулась учительница подростковому максимализму. — Литературу надо любить, она воспитывает душу юного подростка.
— Но я не люблю этого поэта, — упирался двоечник.
— Но это замечательный поэт, — увещевала учительница русского языка и литературы. — Он написал много прекрасных стихов.
— Но я презираю дактиль, — находил двоечник новые и новые аргументы.
— Как же ты надоел мне, как ты мне надоел! — вскричала учительница хватаясь за указку. И она принялась со всей силы бить ею ученика–двоечника.
— Ай! — кричал двоечник. — Ты чё, сдурела?.. Ну ты чё, а?..
— Не чё, а что, идиот! — кричала учительница, продолжая наносить удары.
Через пять минут двоечник затих в углу, под наглядными пособиями — свернулся калачиком и только хрипел и постанывал, а с губ его падали хлопья кровавой пены и некрасиво окрашивали белые туфли учительницы, которыми она пинала двоечника в лицо.
А весь класс смеялся. Подростки так безобразно глупы и так безоглядно жестоки!
Про швабру
— Дайте мне что–нибудь от головы, — сказал гражданин, войдя в аптеку.
«Ну слава богу! — подумала уборщица. — Хоть один нормальный человек за сегодня».
— Возьмите цитрамон, — предложила аптекарша — молоденькая симпатичная пигалица, — не отрываясь от грудного вскармливания.
— Хорошо, давайте, — согласился гражданин.
Когда он протянул руку за таблетками, рука ударилась о прилавок и отломилась.
— Да что же сегодня за день–то такой треклятый! — воскликнула уборщица, в ярости ломая свою швабру об колено.
Про развод
Судья страдала мигренью и думала только об аптеке, а тут — эти.
— Разведите нас, — сказала женщина хронического возраста. — Я его больше не люблю. Наша любовь мертва.
— Да какое мне дело, любите вы его или нет, — поморщилась судья. — У меня башка раскалывается.
— Тогда меня, меня с ней разведите, — попросил мужчина. — Не могу больше жить с этой хабалкой, сил моих нет. Наша любовь давно мертва.
— Мужчина, я же вам поясняю, что у меня башка трещит, — рассердилась на него судья. — Сегодня разводов не будет.
— А что будет? — спросил мужчина, страдая.
— Нарушения пэ–дэ–дэ, — придумала судья, лишь бы отвязаться от этих придурков.
— Хорошо, — сказал мужчина и ушёл.
Он сел в свой троллейбус, хотя была вовсе не его смена, и поехал совершать пэ–дэ–дэ.
Когда на дорогу выскочил работник ЖЭКа и демонически расхохотался, водитель троллейбуса вознёс хвалу богу и не справился с управлением, совершив наезд.
— Я нарушил пэ–дэ–дэ, — сказал он судье, вернувшись в суд. — Теперь разведите нас.
— До чего, всё же, наши люди бесчувственны к чужой боли! — воскликнула судья. — Но я вас всё равно не разведу, из принципа!
— Это как же? — опешили супруги.
— А вот так, — злобно ответила судья и победно рассмеялась. А потом пошла и немедленно написала заявление об увольнении из органов судебной власти.
Семья супругов была сохранена, но это никому не принесло радости, потому что мертвая любовь сильно воняет — какая уж тут радость.
Про асфиксию
— Дайте мне что–нибудь от переломов, — попросил работник ЖЭКа, войдя в аптеку.
Не говоря ни слова, уборщица набросилась на него и задушила, в результате чего работник ЖЭКа скончался от асфиксии.
И поделом. Заслуженная кара постигнет всякого работника ЖЭКа, который своевременно не устраняет с крыш сосули.
Про конец
*** Конец ***
Всякие разные истории, том 2
Проходная
Маша Капустина завернула за угол и уже видела родную проходную, когда кто–то из рассветного полумрака схватил её за руку.
«Насильник!» — затрепетала девушка и громко вскрикнула.
К счастью, рядом оказался электрик Сошко из цеха ЦПС — человек не робкого десятка и не безнадёжный в плане физических данных. Подскочив к насильнику, он ловко уложил его на асфальт удачным ударом кулака в подбородок.
Насильник попытался подняться — видимо, намереваясь оказать сопротивление. Увидев это, к электрику на помощь поспешил вальцовщик Смирнов и, прежде чем насильник успел что–либо предпринять, нанёс ему рассчитанный удар ногой по копчику.
Насильник, которому стоило бы присмиреть и позволить сопроводить себя в органы дознания и следствия, пытался подняться и что–то кричал.
— Да я за Машку любому башку снесу! — вскричал сварщик Гаврилов, выяснив у электрика Сошко, в чём дело. Не отвечая за себя, он набросился на злодея и несколько раз ударил его куда ни попадя, но кулаки у сварщика были железные, так что насильник выиграл от неприцельности ударов не много.
— Достали они, правда, — возмущался присоединившийся к ним стропальщик Одинцов, когда узнал, кого задержали. — У меня Натаху уже три раза охмурить пытались, — и он в ярости отвесил насильнику пару тяжёлых пощёчин.
Следом до насильника дотянулся ногой проходивший мимо механик Рылеев. Новая жена вот уже второй день запрещала ему курить, так что настроение у механика было гнусное и он не мог сдержать гнева в отношении любого насилия над личностью.
Явившийся откуда–то мастер сортопрокатного цеха Дудка меж тем пристроился к насильнику сбоку и методично бил его по почкам, приговаривая «Я вас, жидов козломордых, гнобил и гнобить буду!»
Батюшка отец Андрей, направлявшийся в заводскую часовню, остановился и некоторое время наблюдал за всем этим действом, размышляя, является наказание насильника богоугодным делом, или побоище следует пресечь словом пастыря и наложением на безвольное тело креста.
Между тем к группе присоединился слесарь Софронов из пятого цеха — известный забияка и скинхед, так что с этого момента у насильника не оставалось никаких шансов вырваться и убежать или оказать сколько–нибудь существенное сопротивление правосудию; а крановщица Редько с визгом издирала злостному насильнику щёки и таскала его за волосы, чем окончательно дезориентировала его.
Мелькала ряса отца Андрея, который обездвиживал насильника и лишал его воли к сопротивлению ударами ноги в пах, но точность попаданий оставляла желать лучшего, хотя в миру — давно, правда — сей пастырь был милиционером патрульно–постовой службы и должен бы иметь привычку.
Один из двух сантехников, проходивших мимо, на вызов по прорыву канализации, опознал в насильнике своего заимодавца, которому должен был тысячу до получки, и, преисполнившись праведным гневом, наносил злодею яростные удары разводным ключом по пяткам.
— Он ещё и брыкается, зараза! — лютовал крановщик Зазорин, хватая насильника за уши и бия его головой в лицо.
Если бы не заводской гудок, предупреждавший о начале трудовых будней, насильнику не удалось бы избежать немедленного наказания за свои гнусные посягательства.
После того как гудок призвал защитников девичьей чести к исполнению служебных обязанностей, насильник, повинуясь инстинкту, принялся отползать за угол — наверное, чтобы тихо скончаться в уединении, но сантехники и батюшка отец Андрей, которых призыв гудка ни к чему не обязывал, ещё некоторое время преследовали его — довольно, впрочем, долгое время, потому что насильнику удалось проползти две остановки.
Скрываясь от заслуженного наказания, он попытался скрыться в универсаме «Универсам», заполз в фойе и хотел было проползти в торговый зал, но кассирша Зоя вовремя пресекла его поползновения, крикнув: «Куда без тележки, гражданин? Без тележки нельзя. Возьмите тележку».
Насильник хотел было взять тележку, но в этот момент его настигли сантехники, и новые удары разводного ключа по пяткам лишили преступника воли к жизни. «Таки убили», — сказал он и отдал богу душу под напутственный пинок отца Андрея в пах.
Вид у бога, как показалось кассирше Зое, был немного растерян.
Яйца
Андрогина Сергеевна, уборщица из аптеки номер восемь была с яйцами. Именно поэтому она шла очень медленно и осторожно, широко расставляя ноги, чтобы, не дай бог, не растянуться в апрельской слякоти.
Навстречу ей двигался гражданин и читал центральную городскую газету, на первой полосе которой крупными буквами было набрано «Бог — есть!».
— Остеопорозно, сынок! — предупредила его уборщица, предвидя угрозу столкновения.
Гражданин с газетой не услышал уборщицу и продолжал быстро шагать вперёд. Тогда Андрогина Сергеевна метнулась от него в сторону и при этом попалась под ноги двум сантехникам, которые бежали из универсама на остановку, торопясь на прорыв канализации, с которого звонили уже ещё два раза. На полном ходу работники трубы и унитаза не смогли уйти от столкновения и наскочили прямо на уборщицу.
— Ах вы гниды! — вскричала та, уронив ячейку с яйцами.
Сантехники, однако, даже не остановились, потому что к остановке как раз подходил трамвай номер четырнадцать, и по лицу вагоновожатой было видно, что она просчитывает момент, в который нужно будет закрыть двери, чтобы вовремя не пустить в вагон сантехников. Вагоновожатую звали Люба, её бывший муж был сантехником, а потому она хорошо знала и закономерно ненавидела эту породу мужчин.
Между тем, напуганный уборщицей гражданин с газетой неосторожно выскочил на привокзальную площадь и едва не попал под машину, в которой ехал генерал ракетных войск Тарасов и разговаривал по телефону с майором Гудеевым, заступившим на дежурство по охране воздушных рубежей родины. Водитель — молодой младший лейтенантик — занервничал, не справился с управлением, и генеральскую машину вынесло на трамвайные пути, после чего она тут же и заглохла. Взлетела над площадью стая перепуганных происшествием голубей.
Водитель безуспешно пытался завести машину, недобрым словом поминая гражданина с газетой, а генерал продолжал разговаривать по телефону. И тут прямо на них вывернул стремительный трамвай четырнадцатый номер, уходящий от погони обманутых вагоновожатой Любой сантехников. Ровно в ту же секунду машина, словно почувствовав недоброе, наконец завелась.
— Жми–и–и! — закричал генерал, хватая водителя за плечо и пуча глаза на приближающийся вагон.
— Есть! — отвечал майор Гудеев на том конце джи–пи–эр–эс, и с радостной мыслью «Наконец–то!» до упора вдавил в пульт красную кнопку.
Вспорхнула над землёй шустрая стайка ракет с ядерными боеголовками и на крыльях возмездия понеслась в сторону потенциального противника.
К счастью, пролетая над городом, она столкнулась со стаей голубей, имеющей численное превосходство; навигационные системы ракет были выведены из строя, и воинственные боеголовки попадали где–то в поле, за речкой Жменькой.
Так была предотвращена третья мировая война. Ну так известное же дело: голубь — птица мира.
Бог Фёдор Петрович
Накануне, в четверг, сразу после завтрака, Фёдор Петрович стал богом. Он не мог бы объяснить, как это произошло, потому что случилось всё внезапно, непредсказуемо и без всяких на то оснований. Сам Фёдор Петрович в бога никогда не верил, ни о чём подобном не помышлял, и вообще, на производстве, где работал вот уже четверть века токарем, характеризовался сугубо положительно.
Супруга его, Мария Адольфовна, узнав о казусе, приключившемся с мужем, собрала вещи и ушла к механику Рылееву. Впрочем, она давно об этом втайне помышляла, но не находила удобного случая.
Механик Рылеев, надо сказать, оказался мужчиной безответственным, деспотичным и к супружеской жизни с Марией Адольфовной совершенно неподготовленным — он даже бросить курить в туалете был не готов, так что на четвёртом месяце супружеской жизни она покинула и его. Помыкалась бедная, помыкалась по съёмным квартирам да и ушла в монастырь.
Сын Фёдора Петровича, Николай Фёдорович, памятуя об участи сыновей божьих — как правило, незавидной — и не желая себе такой же, немедленно уволился с работы, сменил фамилию и теперь живёт с женой Варварой в городе Ужгороде.
Фёдор Петрович, враз оказавшись в одиночестве, здраво рассудил, что одиночество — это вообще удел всякого бога, а потому не стал предпринимать никаких мер к восстановлению своего семейного благополоучия.
На следующий день центральная городская газета вышла с броским заголовком во всю ширину страницы: «Бог — есть!» Зачастили по улицам юродивые и калики перехожие (в одном, говорят, признали даже инженера Куреева — человека независимых и атеистических взглядов), в церквах стало непродохнуть от скопления народа, по улицам ходили крестные ходы с плакатами «С нами бог!», разносились в предпасхальных воздухах благодатные песнопения.
Бог Фёдор Петрович не стал увольняться с завода и совмещал свою основную профессиональную деятельность с общественной работой в качестве бога, которая, как и всякая общестенная работа, дохода не приносила, а утомляла так, что не дай бог, но зато доставляла массу удовольствия.
Особенно полюбилось Фёдору Петровичу работать с молитвами верующих. Самые жаркие и настойчивые молитвы он заносил в блокнотик и обязательно исполнял. В тот день у него была только одна такая горячая молитва — некто Любовь Почекаева обращалась к нему с просьбой, чтобы сегодня не было никаких аварий на подстанциях, и электроэнергия в городе не отключалась ни на минуту. Фёдор Петрович с удивлением внёс эту молитву в блокнотик и с удовлетворением исполнил.
А вот с душами ему работать пока не доводилось. И когда в универсаме «Универсам» насильник, а на деле — плотник Костя Ноев, отдал ему свою душу, Фёдор Петрович растерялся, потому как не знал, что с ней делать, ибо это был первый случай в его практике. Он хотел зайти в торговый зал и положить её на полку, но его остановила кассирша Зоя, закричав: «Куда без тележки, гражданин? Без тележки нельзя. Возьмите тележку». Тележка богу Фёдору Петровичу была без надобности, поэтому он, пораздумав, вложил душу обратно в плотника Ноева и отправился домой, выпить пивка.
Потоп
Вагоновожатая Люба смотрела в зеркало заднего вида на сантехников и беспощадно улыбалась. Она из принципа не останавливалась ни на одной остановке, но и сантехники из принципа и чувства долга не могли остановиться ни на одной остановке, потому что понимали, что от того, как быстро они прибудут на место прорыва канализации зависят жизни людей. Поэтому они бежали за трамваем с яростной решимостью успеть.
Люба на максимальной скорости промчалась до кольца и, не сбрасывая темпа, понеслась обратно, моля бога, чтобы электричество не сломалось. Сантехники не отставали, с ужасом представляя себе дикую канализацию, чьи повадки они так хорошо знали. Выйдя из повиновения человеку, эта стихия могла запросто уничтожить жизнь на Земле.
Потоп начался, когда Люба Почекаева вела трамвай на четвёртый круг, а пассажиры, которым давно прискучило делать ставки на сантехников — догонят–не догонят, мирно спали.
Очень быстро канализация затопила рыночную площадь, автостоянку, гаражный кооператив и универсам «Универсам». Потом она добралась до пригорода, смыла частный сектор и устремилась пожирать окружающее пространство, как биомасса из фантастического фильма ужасов.
Вскоре речка Жменька вышла из берегов и залила близлежащие поля, отчего едва не произошла экологическая катастрофа, потому что ядерные боеголовки ушли под воду и их смыло в канализацию. Люди гибли пачками. Они взывали к богу, но бог Фёдор Петрович спал и не слышал их мольбы, потому что с пивком у него вышел перебор.
К счастью, влюблённый в Машу Капустину плотник Ноев построил из ящиков, собранных возле универсама «Универсам», ковчег и всех спас, чем раз и навсегда заслужил любовь благодарной Маши Капустиной.
Люди, напуганные потопом, разуверились в боге. Слава богу, что Фёдор Петрович не рассчитался с завода, а то ведь, как известно, бог существует только до тех пор, пока в него кто–нибудь верит; и сидел бы он сейчас без дела — не бог, не токарь. А так он по–прежнему токарит на заводе металлоконструкций и лишь иногда, в шутку, выточит из какой–нибудь болванки Адама да Еву.
А город с тех пор стал режимным из–за спящих в канализации ядерных боеголовок.
Анна на рельсах
Первой была бабка — преждевременно скрюченная, прокуренная, провонявшая марксизмом–ленинизмом и валерьяновыми каплями работница партхоза.
— Хреново кончит девка, — подвела она итог собрания семейной партячейки по случаю нарождения нового члена социалистического общества; запротоколировала и прихлопнула печатью.
— Это почему же так? — вопросил отец.
— Да потому что дурак ты, — отрезала бабка, раскуривая «беломорину».
— Это почему же я дурак?
— Да потому что испоганил девке судьбу, контра.
— Да чем же это я испоганил судьбу–то её, Элевсестра Платоновна? — не отставал обиженный папаша.
Но бабка объяснить так ничего и не удосужилась, а через два месяца померла в инсульте, унеся за собой в могилу под красной звездой неразгаданную тайну отцовой дурости.
Подрастающая Анечка часто ловила на себе странноватые любопытные взгляды взрослых, но не понимала их и не придавала им никакого значения. Пару раз она видела, как грустная матушка шариковой ручкой старательно вымарывает нечто в программе телевидения на неделю. Аннушке очень хотелось знать, что именно, но мать поступала хитро: замазывала целиком колонку, так что определить конкретную цель её редактуры было решительно невозможно. А на право смотреть телевизор в тот день накладывалось вето.
Все семь печатей, за которыми была укрыта бабкина тайна, осыпались под хрупкими пальчиками учительницы литературы, когда Анна вошла в десятый класс. А мальчик Миша, её первая, робкая и многострадальная любовь, на перемене весело сказал:
— Ничего, Каренина, десять лет впереди — это не так уж мало для настоящей комсомолки.
Но десяти лет не случилось, потому что пьяной электричкой накатила перестройка и создала порочный излом в графике Аниной жизни.
В институт она не поступила — уснула прямо на экзамене. Была у неё ангина от холодной газировки, выпитой в неумеренных количествах, и температура под сорок. Воздушно–трепетная экзаменатор разбудила её, сказала: «Девушка, приезжайте на будущий год, ладно? Выспитесь хорошенько и приезжайте».
На будущий год Аннушка не поехала, а устроилась няней в детский сад и попутно училась в ПТУ на крановщицу мостового крана. Будущее страны в коротких штанишках любило простую и душевную Аннушку наивной детской любовью, не заглядывающей ни в паспорт, ни в будущее. А мостовые краны доверчиво ластились к рукам, пряча подальше свой железно–механический норов. И всё сложилось. Правда, работу по специальности найти Аннушка не могла, но к счастью даже в самые лихие годы две половины страны любили друг друга и регулярно пожинали плоды любви, которые, по прошествии должного срока, отдавали в тёплые Анины руки — на первичное воспитание.
Когда ей было двадцать три, повесился отец. В тот день его вызывали в военкомат, для сверки. Вернулся он хмурый и неразговорчивый. Сказал только: «Всё, кончилась жизнь. С учёта сняли. Даже на войну я не гожусь, в пушечное мясо. На что же я тогда ещё годен?» А вечером и повесился, в ванной–туалете, предварительно выключив свет, чтобы счётчик не крутил даром. Обнаружили тело наутро и долго искали предсмертную записку — может, под ванну запала или за стиральную машину. Так и не нашли ничего. Видать, отец решил уйти молча; и это было очень обидно.
Со смертью отца матушка принялась стремительно стареть и портиться характером, который и раньше–то не был лёгок. В голове у неё тоже что–то перестало работать — какой–то моторчик, который теперь лишь натужно гудел, жужжал и только временами принимался неторопко вращать лопасти матушкиного разума.
— Вон, настоящая Анна Каренина в твои годы уже под паровоз легла, а ты чего добилась? — говаривала она, строго глядя на Аню, жадно поедавшую голодные капустные пирожки.
«А я — ненастоящая», — грустно думала Аннушка, запивая пирожки сладким чаем и в сотый раз представляя себе настоящую Анну на рельсах: что она пережила в последнюю свою минуту?
Ей таки удалось устроиться крановщицей на завод металлоконструкций; это придало её жизни новый вкус — вкус окалины, железа и разбитного трудового коллектива. А ещё — привкус зарплаты, на которую можно было позволить себе непозволительное. Кроме того, судьбоносные перемены привнесли в Анин характер некоторую толику цинизма, а в душу — боль быстрого повзросления и много грустных воспоминаний об ушедшей навсегда юности.
Мальчик Миша, её первая многострадальная любовь, в минувшие бритоголовые девяностые как–то вдруг и скоро стал бизнесменом. Случайно они встретились на вокзале и два часа просидели в ресторане «Гудок», вспоминая прошлое. Потом Анна отдалась ему в номере вокзальной гостиницы. Он взял её торопливо, равнодушно и невкусно. И кончилось всё очень быстро, потому что через час Миша уезжал на поезде куда–то на восток, качать нефть. Анне остались на память о нём немая горечь, пустота и трудные вопросы «зачем?» и «почему?», на которые она не могла найти ответов. И не знала, что мальчика Мишу в поезде зарезал, из ревности, любовник. Наверное, он зарезал бы и Аню, но она не жила по месту прописки в заводском общежитии и появлялась там очень редко. Не судьба, как говорится.
Своего Вронского она встретила, когда ей было двадцать шесть. Алексей Вронский тоже был не тот — не настоящий, как сразу определила Аннушка. Но заполонившая душу внезапная любовь не стала разбираться в тонкостях соответствия или несоответствия, а цинично бросила в зябкий жар, ослепила и подавила волю.
Вронский был заботлив, строг, мужествен и в меру суров. Умел сделать внезапный подарок, чем подкупал бесповоротно; умел и нежданный выговор, от которого душе становилось зябко и хотелось ласки. Ласка следовала за выговором незамедлительно, возвращая тепло и давая чувство подлинных отношений.
У него уже имелось две женщины, но разве для такого мужчины это много? Тем более, что одна из его женщин привыкла быть от него без ума, а вторая — привыкла вообще не быть. Потерявшаяся в любви Аннушка безмолвно стала третьей, теша себя надеждой однажды остаться единственной и последней. Что ж, каждая женщина имеет право на женские глупости, даже если фамилия у неё — Каренина. А может быть, в первую очередь именно поэтому. Анна потеряла голову, а взамен, как это часто случается у женщин, обрела смысл жизни.
Первой по меркам Вронского стать не получалось и не получилось. Всегда находилось что–нибудь, что препятствовало или просто не способствовало. Но в Аннушке проснулось некое странное упорство в достижении желаемого — настойчивость, коей раньше она в себе не замечала. Пожалуй, с её стороны и правда были глубокие чувства. И тем не менее, разложенный любовный пасьянс никак не сходился.
Время двигалось шагом. Потом перешло на трусцу. Поезда приходили и уходили. Жизнь что–то уж очень торопливо двигалась вперёд в попытке догнать уходящее время. Любовь притерпелась, выболела и уже не сводила душу нестерпимой ревностью, но зато часто сводило челюсти скукой.
Кончилось всё как–то внезапно и нехорошо — Вронский эмигрировал в Албанию, откуда, оказалось, происходил его древний род. Враз осиротевшие женщины его на некоторое время стали близкими подругами, но потом всё же рассорились и постарались поскорее забыть друг о друге и об Алексее Кирилловиче. Спустя какое–то время это им в разной степени удалось.
Как–то незаметно состарилась и умерла матушка — такое часто бывает. Анна поплакала, отвела, как полагается, девятины и сороковины и стала жить дальше, теперь уже совсем одна.
Предсмертная записка отца обнаружилась случайно, в кармане старого матушкиного халата, когда на годовщину Анна перебирала вещи покойницы. Кажется, послание так и не было ни разу читано, потому что халатик этот матушка после смерти отца не надевала.
Отец писал:
«Товарищ жена!
Пишу тебе в последние минуты никчёмной жизни моей, бездарно разменянной на пошлость мещанского бытия и устремления к недостижимым коммуМистическим идеалам.
Как горько чувствовать свою ненужность! Ведь не только себе я теперь не нужен, но даже и Родине нашей, так внезапно сменившей курс. Настолько внезапно, что меня выбросило за борт от резкого поворота, и сколь ни долго трепыхался я на водных гладях жизни, но вот — силы мои иссякли, и я иду ко дну.
Прости меня за всё в чём я, быть может (даже сам того не ведая), перед тобой виноват. А за то, о чём ведаю и помню, прости вдвойне. Прости за то, что не любил тебя никогда, кроме как в первые месяцы совместного нашего пути навстречу светлому будущему, которое на деле оказалось, извини за выражение, дряблой жопой пьяного парторга (помнишь как Гарбузов отплясывал на столе? Я тогда подумал богохульно: если такова жопа нашей славной партии, то куда же она нас приведёт?).
Впрочем, ведь и ты не любила меня. Я же знаю, что Аня не моя дочь, а Гарбузова. Спросишь, почему же я никогда тебя не изобличил и не тиранил этой позорной правдою? Да, не изобличил и не тиранил. А зачем бы? Какая, в конце концов, разница, кто чья дочь, если цель одна и помыслы едины? Тогда это было неважно, а потом, с течением времени, стало ещё неважнее.
Вот так–то, товарищ жена.
Нижеследующее прочитай дочери.
Дорогая моя дочь Анна Аркадьевна, прости меня за всё и не поминай лихом! За имя дурацкое прости и за фамилию тоже. Но Каренина, думаю, всё же лучше, чем какая–нибудь Кулебякина или Гарбузова, к примеру.
Будь счастлива, дочь моя! Конечно, с твоим отнюдь не каренинским характером (я про Анну Толстовскую, а не про семейный наш темперамент) влетит тебе это в копеечку, но не пожелать не имею права. Будь счастлива ещё раз!
На этом моё последнее обращение к вам и закончу, пожалуй.
С коммуМистическим приветом! Ваш, теперь уже бывший, муж и отец, уходящий на вечные поиски великого ''Быть может''. Здесь–то, на Земле–матушке, его уж не найти, видать».
Вот такой романтик оказался наповерку папенька.
К чести Аннушки нужно сказать, что и этот, последний, удар судьбы она перенесла стоически, осталась собою и не стала Гарбузовой.
Нынче ей сорок шесть. Она продолжает трудиться на мостовом кране в одном из цехов завода металлоконструкций. Трудовой коллектив её очень любит, и зовёт не иначе как «Наша Анна на рельсах». Любят её цеха, автокары, трубы, стропальщики, заводские сторожа и собаки. А её кран просто души в ней не чает и в чужих руках работать отказывается категорически, так что руководство цеха поневоле вынуждено пристально заботиться об Анином здоровье и благорасположении духа.
Она одна, но не одинока; по–прежнему безоглядно влюбчива, но умеет вовремя остановиться; а налёт наивной циничности придаёт ей тонкий шарм, который когда–нибудь обязательно разглядит и полюбит настоящий ценитель женских душ. Ей удалось самое главное — справиться с тем, что написано было на роду и не позволить мрачному бабкиному предсказанию сбыться.
Вот такая, вкратце, немудрёная жизнь.
Моя японская девушка
Моя японская девушка курит трубку и задушевно читает Блока: «Ночи. Урица. Фонарь. Апытека. Бесымысрены и тускыры сывет…»
Ещё моя японская девушка наливает в борщ соевый соус, кладёт васаби, и шумно прихлёбывает, когда ест, и близоруко и узкоглазо смотрит на меня поверх очков с толстыми линзами.
Ещё моя японская девушка плачет во время оргазма — скулит, как балерина, которая описалась прямо на сцене Большого театра. Правда, я не уверен, что она действительно испытывает со мной оргазм, но на кассете, которую она мне показывала — она там трахается со своим японским бойфрендом — моя японская девушка именно так и плачет. Меня это не очень беспокоит, потому что японский бойфренд остался далеко на восходе солнца, на острове Кюсю, а моя японская девушка плачет теперь со мной, на улице Радищева в городе Новосибирске.
Выплакавшись, моя японская девушка садится в постели повыше, складывает свои ноги мне на живот и раскуривает свою маленькую кукурузную трубку. «Рёня, — говорит она, — мирый Рёня, я рюбырю тебя, кака, сука, бяка». Моей японской девушке очень нравятся эти слова — «кака», «сука» и «бяка»; она говорит, что это как ветер родины, ворвавшийся в распахнутое на улице Радищева в городе Новосибирске окно.
Рёня — это моё имя, произнесённое на японский манер. Мне нравится. Гораздо больше нравится, чем Ясуси — имя её японского бойфренда, зимующего нынче на острове Кюсю. Моя японская девушка утверждает, что мы с этим Ясуси обязательно стали бы друзьями, и что Ясуси настоящий самурай. Но мне, лежащему на кровати в квартире номер девять дома номер сорок один по улице Радищева, в городе Новосибирске, с ногами моей японской девушки на животе (пятки у неё очень маленькие, гладкие и твёрдые, будто сделаны из слоновой кости), очень трудно представить у себя в друзьях самурая с именем Ясуси.
И когда метель за окном начинает завывать особенно яростно, кожа моей японской девушки покрывается пупырышками от сибирского холода. Я знаю, чем это закончится, потому что это всегда заканчивается одним и тем же. И оттого я очень люблю метель. Потому что моя японская девушка классно делает минет. Она вынимает изо рта трубку, снимает с меня свои ноги, и принимается обрабатывать у меня в паху гигиенической салфеткой с ароматом ромашки. А потом сосёт так, что пылесос в шкафу готов провалиться сквозь землю от стыда. Только гладить руки моей японской девушки мне в это время неприятно — из–за пупырышек. Это всё равно, что ласкать тушку ощипанного гуся.
Она делает мне минет, а я обозреваю мысленным взором застывшее, будто лужа серого холодного желе, Японское море — там, далеко–далеко, где, в тысяче километров на восток от острова Кюсю, вот–вот зародится новый день, что придёт на смену тому, в котором моя японская девушка делает мне минет. Я вижу самурая Ясуси: он лежит на полу в своём бумажном доме, едва освещённый бумажным фонариком; лежит голый, со вспоротым животом, а его кишки валяются рядом, на холодном полу, как бумажные гирлянды, выпавшие из надрезанного мешка деда Мороза. Мне становится грустно и радостно одновременно, а потом я кончаю.
Моя японская девушка любит смотреть, как я кончаю — она просто балдеет от этого зрелища, как балдею я от её всхлипов описавшейся балерины. Мы балдеем друг от друга и верим, что будем счастливы и умрём в один день.
А под утро, в три часа, когда самый сон, с острова Кюсю звонит её брат и говорит, что их японамама вдруг заболела, и врачи дают ей пару дней, не больше. Моя японская девушка криворото плачет у меня на плече, и толстые линзы её очков покрываются жировой плёнкой оттого, что она тычется мне в шею. Я снимаю тяжёлые очки с её носа и протираю их гигиенической салфеткой с ароматом ромашки.
Потом мы быстро и молча одеваемся, быстро и молча пьём кофе. Я звоню в аэропорт и заказываю билет.
И вот, моя японская девушка оставляет меня и улетает в Японию, где ждёт её последнего взгляда японамама, и где самурай Ясуси снова будет по четвергам делать ей куни и читать Басё, а она станет варить ему борщ с соевым соусом. Она улетает самолётом пять–сорок и обещает вернуться, но мы оба знаем, что обещанию моей японской девушки верить нельзя. Не потому, что она такая вот вся лживая сучка, а потому что судьба такая. И вообще, буддизм — это древнейшая мировая религия.
В аэропорту мы даже не целуемся. Она торопливо и буднично кивает мне на прощанье и уходит за черту, подведённую под нашей любовью не нами.
Вернувшись из аэропорта, я наливаю себе водки и заедаю тарелкой борща с соевым соусом и васаби.
Постель пахнет моей японской девушкой, поэтому я не ложусь досыпать и, стоя у окна, курю маленькую кукурузную трубку, которую она оставила мне на память. Я припадаю лбом к холодному стеклу, за которым ярится метель, и слышу низкий, чуть с хрипотцой, голос моей японской девушки, доносящийся из снежной замути: «Ночи. Урица. Фонарь. Апытека. Бесымысрены и тускыры сывет…»
И думаю о том, что ведь я и правда, наверно, её любил.
Полонез
Неуютно сгорбившись под чахлым полосатым навесом, Кудякова смолила «Яву». Снег с дождём окроплял выложенные в ящиках желтобокие бананы, зеленогрудые яблоки, палкообразные огурцы и прочую плодо–овощную «канитель», как называла её Кудякова. Ноябрьская кляклая серость давила на плечи, выстужала задубевшую в боях за светлое будущее душу. Торговля не шла. Да и чего бы ей идти в такой бездушный день. Граждане — нахохлившиеся и медлительные, хмурые и торопливые, никакие и никудышные — проходили мимо и на плоды дальних экваториальных и субэкваториальных стран решительно не смотрели.
У ларька явился гражданин предпенсионного возраста и непрезентабельного вида в чёрном драповом пальтишке эпохи, кажется, «Кинопанорамы», «Пионерской зорьки» и хлеба по восемнадцать копеек.
Приблизившись, он остановился у металлической стойки, поддерживающей навес, и длительно уставился на Кудякову.
— Чего? — спросила та после минутного молчания, не выдержав этого настойчивого взгляда.
— Вы же девушка, — проговорил гражданин неопределённо, но, кажется, с укоризной.
— Ну, — не стала отнекиваться Кудякова, хотя девушкой была последний раз четверть века тому назад.
— А дымите, как… как кочегар из Бздыхолетовки, простите за специфическую ассоцитивность мышления.
— И чо? — сипло вопросила Кудякова и сухо, продолжительно закашлялась.
— Во–во! — обрадовался гражданин её кашлю. — Ишь как зашлись!
— Те чо надо–то? — поинтересовалась Кудякова, быстро затянувшись и сплёвывая под ноги.
— Вы же девушка, — укоризненно повторил гражданин. — Мать. Мадонна.
Мадонна Кудякова подозрительно глянула на гражданина. Да нет, гражданин был самого обычного, хотя и сильно поношенного, вида, предпенсионного возраста, очевидно трезв, и не было в его лице ничего маниакального, и глаза его не горели психопатическим огнём.
— Короче, — сказала Кудякова, затянувшись в последний раз и бросив бычок себе под ноги, в компанию дюжины других, уже скуренных за этот день, — те чо надо–то?
Была она в платке, старой дублёнке и массивных резиновых сапогах; тяжела, грозна, преждевременно сморщена неподатливой жизнью и весьма непроста в свои без году пятьдесят.
Её быстрые глазки с подозрением пробежали по лицу и по всему безотрадному силуэту гражданина в ношеном драповом пальто, остановились на худых и давно не чищенных чёрных ботинках с лохматыми от времени зелёными шнурками.
— Понимаете ли, — раздумчиво произнёс гражданин, — люди делятся, собственно, на четыре сорта: на тех, кто хочет и делает; на тех, кто не хочет, но делает; на тех, кто хочет, но не делает и, наконец, тех, кто не хочет и не делает.
Кудякова молчала, ожидая продолжения. Но и гражданин примолк, сделав подачу и предвосхищая, видимо, ответ собеседницы.
— Возьми яблок, — зябко поёжилась мадонна и жадно потянулась душой к согревающей фляжке, припасённой под прилавком. — Или бананов возьми. Чем трепаться–то попусту.
— Я не ем бананы, — пожал плечами гражданин. — А яблоки мне противопоказаны — кислотность у меня нездоровая.
— То–то я смотрю, кислый ты какой, — кивнула Кудякова. — Ну если ничего брать не будешь, так и иди отсель, не толпись попусту, — и прибавила ещё для надёжности одно короткое и веское слово.
— Мне хочется лишь незначительного общения, — сказал гражданин, не замечая неказистого слова. — Хотелось немного скрасить ваше отрешённое одиночество. А вы — курите. А ведь вы же — девушка, женщина, мать…
— … твою, — возникла мадонна в новой образовавшейся паузе. — Мать твою, ты чо ко мне привязался?
— Ну что вы, — смутился почему–то гражданин. — О привязанности говорить пока рано. Хотя, не скрою, меня привлекла миловидность вашего лица, заставила забыть о врождённой стеснительности.
— Вот и топай, — поддержала Кудякова. — Забыл, а теперь шуруй отсюдава, не засти солнце. Бананы, они солнце любят.
Гражданин удивлённо посмотрел на небо, с которого всё падал и падал мелкий зернистый снег вперемешку с дождём. Ни о каком солнце, разумеется, и речи не было — одна лишь невзрачная ноябрьская серость кругом.
У трамвайной остановки, пропуская пешеходов на переходе, остановился легковой автомобиль. Из открытого окна его неслась оглушающая музыка — радио было включено на такую громкость, что при случае могло бы создать праздничную атмосферу на массовых гуляньях или сельскохозяйственной ярмарке. Оркестр под управлением известного в узких кругах дирижёра оживлённо исполнял полонез из оперы «Евгений Онегин». Тёплая, бодрая музыка лилась в мокрое ноябрьское пространство и обещала, что обязательно ещё будет лето, и будут бабочки, и тёплые дожди, и путёвки в санаторий, и шашлыки, и танцы до утра. Грузный водитель армянской наружности, с густыми усами над пухлой губой, нетерпеливо постукивал пальцами–сардельками по рулевому колесу. Он опаздывал на деловой ланч с важным поставщиком хозтоваров.
— Позвольте пригласить? — гражданин в зелёных шнурках зашёл за прилавок, приблизился к Кудяковой, лихо прищёлкнул каблуками стоптанных ботинок, взбоднул головой, будто молодой задиристый козлик, галантно протянул руку.
— Чо? — не поняла мадонна.
— На полонез, — пояснил гражданин и снова взбоднул головой.
Кудякова внезапно смутилась. Её давно никто не приглашал на полонез, зато с ней охотно ругались подслеповатые, но цепкие старушки, возомнившие переобвес, и ещё дочь Ленка — по каждому поводу и без повода; а ещё её терпеть не могла Рощина из одиннадцатой, а Кубасов только и знал, что просить сто рублей на «поправиться», полюбовничек хренов.
Новые пассажиры вошли в трамвай. Поднялись самыми последними два мощные суровые гражданки. Закрылись двери.
Кудякова вдруг потеряла дыхание и голос. Грудь её заволновалась, заволновалась, и румянец хлынул на прихваченные ноябрём щёки. Она робко пожала плечами и сколь могла грациозно подала гражданину широкую и крепкую ладонь свою в вязаной перчатке с сине–белым узором.
И они как–то внезапно и порывисто закружились, закружились, закружились в танце.
Кавалер вёл умело, и ни разу его стоптанный ботинок не коснулся неподобающим образом сапога мадонны, и ни разу не поскользнулись они на хрупкой, но коварной ноябрьской наледи.
— Вы прекрасно вальсируете, — интимно шептал гражданин партнёрше, и щёки её рдели всё больше и больше, и лёгкое головокружение заливало всё вокруг звонкой пустотой. И облачка их дыханий смешивались и растворялись. Мелькали перед глазами — кружились в вальсе — трамвай, дом бытовых услуг, кондитерская, пошедшие на взлёт голуби, милая девочка с красным воздушным шаром… Тяжело хлопали по асфальту сапоги мадонны, великоватые ей на половину размера, сбился платок, захлебнулся туманом растерянной радости взор, летел по воздуху подол передника, подхваченный трепетной рукою.
«Ах, хорошо–то как, право! — волновалась она, выгибаясь станом. — Раз–два–три… раз–два–три… А каков кавалер–то, а!.. Недолго и увлечься… раз–два–три… как смотрит, как смотрит!… Горю вся, мамочки родные, пропадаю!.. Раз–два–три… Один раз живём…»
Голуби унеслись к площади возле дома бытовых услуг, где явился толстощёкий мальчик лет четырёх отроду, и в руках его сладкосахарно белела надкушенная булка.
Пешеходы на переходе кончились, а автомобиль всё стоял и стоял, и музыка всё играла и играла. Водитель армянской наружности задумчиво разглядывал рулевое колесо, словно впервые его увидел и пытался теперь угадать, для чего эта штука могла бы ему пригодиться.
На самом же деле Арутюн Аванесович Мелитян буквально минуту назад умер в третьем инфаркте.
А трамвай тоже всё стоял и стоял. И двери его были закрыты. Можно было решить, будто вагоновожатая просто залюбовалась танцем, замечталась о своём, забыв о маршруте следования номер двенадцать; и пассажиры припали к окнам, сентиментально улыбаясь и тихонько перешёптываясь. А кто–то мог бы предположить, что вагоновожатая, не дай бог, скончалась в третьем инфаркте.
Но нет — на самом деле трамвай стоял потому, что на него устроили облаву контролёры, давно и прочно забывшие простую истину: лучший контролёр — это совесть пассажира.
А милая девочка с красным воздушным шаром вырастет и станет женой известного мафиози.
Сага о ненужных
Телевизор стоял на помойке и ему было непривычно одиноко. И больно было чувствовать себя внезапно не в центре внимания, ненужным. А люди проходили мимо и не было им до него никакого дела. Только собака одна подошла, чтобы обнюхать и задрать на кинескоп заднюю лапу. И всё. А люди на телевизор даже не смотрели. Если не считать старого бомжа, который примерялся унести, но подорванное неправильным образом жизни и алкоголем здоровье не позволило.
«Ну ничего, я покажу им! — думал телевизор. — Вот я им ещё покажу!»
И он стал показывать.
Мультик про дядю Фёдора никого не удивил и не остановил. Речь президента не привлекла ничьёго внимания. Песня в исполнении Лаймы Вайкуле приманила чей–то скользкий взгляд, но и то, пожалуй, случайный.
Передачи и фильмы сменяли один другой. Телевизор, всё более входя в азарт и всё больше не понимая, почему остаётся без внимания, торопился показать всё и сразу, заинтересовать хоть чем–нибудь.
Вотще.
А потом подъехал мусоровоз. Механическая лапа один за другим поднимала баки и с гудением опрокидывала неприглядые отходы человеческой жизнедеятельности в огромный контейнер. Водитель тем временем развлекался фильмом «Где находится нофелет?», который как раз принялся показывать телевизор.
А когда подошла очередь последнего бака, шофёр наклонился и, крякнув, поднял телевизор. Водрузил его поверх кучи мусора.
«Неужели?! — затрепетал телевизор. — Неужели… хозяин? Я нужен, нужен!»
Механическая лапа меж тем с гудением обхватила бак, подняла и перевернула.
Телевизор провалился во тьму.
Мусоровоз мчался по городским улицам, направляясь на свалку. Его сегодняшняя битва за чистоту микрорайона подошла к концу, и водитель торопился на обед.
Глубоко в контейнере мусоровоза телевизор показывал «Спокойной ночи малыши». Удивлённый голубой глаз старой облезлой куклы без ноги восторженно поглядывал на происходящее из–под газеты «Сегодня». И столько в нём было удивления и наивной радости, что телевизор просто распирало от гордости.
К сожалению, он не мог издать ни звука (собственно, потому его и выбросили на свалку), но разве это так важно… А кукла раз за разом повторяла тонким голоском: «ма–ма… ма–ма… ма–ма…»
А на помойке, мимо которой они проезжали, старый пылесос яростно наводил порядок, из последних сил втягивая обрывки газет, полиэтиленовые мешки и картофельные очистки.
Мотылёк и мальчик (депрессивная сказка)
Ветер подхватил его, взъерошил, едва не помял, лишил самообладания и сил. Мелькнула желтоликая китаянка Луна. Звёздная карусель закружила голову. Потом какая–то душная тьма поглотила его — и вовремя, потому что тут же ударил гром и тяжёлые дождевые косы упали с неба на землю.
Сначала он обрадовался, но вскоре понял, что радость его преждевременна. Лишённые световой подпитки крылышки враз ослабели, а мрачная притаившаяся тьма, в которой он очутился, больше напоминала хищный зев ласточки, настигшей в самый неожиданный момент. Душно пахло пылью, тяжко веяло неразборчивыми застарелыми запахами множества кухонь.
Было темно и душно. Куда бы он ни пытался двинуться, везде натыкался на шершавую пыльную стену. Хищный оскал застарелой клаустрофобии клацал зубами в непроглядном и тесном мраке.
«Мама! — невольно вырвалось у него. — Мамочка! Куда же меня занесло?»
А занесло бедолагу в вентиляционную шахту старой пятиэтажки на улице Гагарина. Только он об этом не догадывался. Он метался от одной пыльной прокопчённой стенки до другой, опускаясь всё ниже, не видя ни единого проблеска света, уже мысленно прощаясь с китаянкой Луной, звёздной каруселью, пахучими июньскими цветами и такой недолгой жизнью. Мотыльки так трепетны и слабы!
«Боже, боже!» — воскликнул он, цепляясь нежным крылышком за какой–то острый выступ, теряя равновесие и стремительно падая вниз.
И тут… О да, да! Тонкий лучик света прорезал тьму, подобно тончайшему бритвенному лезвию: где–то внизу включили свет, долгожданный свет, который оживит его крылья, даст ему силы бороться.
Собрав остатки воли, он устремился туда, туда, где сквозь небольшое квадратное оконце в стене проникало это жизнеутверждающее сияние. Нет, конечно это не было сиянием, — это был довольно тусклый свет, но поставьте себя на его мотыльковое место, в непроглядную и безнадежную тьму…
Сквозь редкую решётку вентиляции он влетел внутрь.
Небольшое помещение оказалось ванной комнатой, совмещённой с туалетом. Возле унитаза стоял мальчик лет семи или восьми и смотрел на мотылька. Взгляд его был сонно–обалделый, но в нём уже читалось проснувшееся удивление.
— Вот это да! — сказал мальчик. — Мотылёк!
— Да, — едва пролепетал мотылёк, обессиленно опускаясь на бачок унитаза. — И слава богу, я, кажется, жив.
— Но у тебя, похоже, подбито крыло, — задумчиво произнёс мальчик, покачав головой.
— Я ободрал его о шершавый кирпич, — вздохнул мотылёк, ещё дрожа после пережитого кошмара.
— Значит, ты не сможешь улететь, — выпятил губу мальчик.
— Я постараюсь, — улыбнулся мотылёк. — Не хотелось бы никого стеснять. Я только отдохну немного, наберусь сил и… А ты, значит, живёшь здесь, мой маленький спаситель?
— Да, — кивнул мальчик. И тут же поправился: — То есть, нет. Я зашёл пописать. А живу я — там, в комнате.
— О… — тактично смутился мотылёк. — Прости, что я… Сейчас я улечу обратно в вентиляцию, чтобы не стеснять тебя, мой милый.
— Ничего, ничего, — успокоил мальчик. — Я уже пописал.
— А… — кивнул мотылёк. — Ну что ж… Как тебя зовут?
— Меня зовут Владимир, — сказал мальчик. — Мама назвала меня так, чтобы я жил В ЛАДу И МИРе с самим собой и всем человечеством.
— Какая хорошая у тебя мама! — воскликнул мотылёк. — Она хочет, чтобы ты вырос настоящим человеком.
— Да, пожалуй, — согласился Володя.
— Что ж… — улыбнулся мотылёк, — мне остаётся только порадоваться милости судьбы, которая после стольких терзаний снизошла ко мне и послала спасение — этот тонкий лучик света, прорезавший тьму страха и одиночества. Что она послала мне тебя.
— Да, — отвечал Володя.
Быстрым движением руки он ловко прихлопнул мотылька и смыл его в унитаз, в который как раз, наконец–то, набралась вода.
Ну не любил он чешуекрылых, что тут поделаешь. И вообще насекомых не любил.
На пальцах его осталась шелковистая пыль, они стали приятно скользкими, их было интересно потирать друг о друга. И ещё долго, лёжа в постели, Володя поглаживал подушечки пальцев — указательный о большой, — ощущая эту шелковистую гладкость нежной пыльцы с мотыльковых крылышек.
А потом это прошло, и он уснул. Ему снился «Фар Край–3»; и колдунья Cитра была с ним нежна.
С Новым годом, Сальвадор!
Впереди, запинаясь, идёт Дима. Недетские губы его маски сурово, по–мужски, поджаты, взгляд устремлён в пустоту. Ножки то и дело спотыкаются на обломках кирпичей, старых ржавых сковородках, досках каких–то и крысиных трупиках. За ним — Машенька, испуганно опустив глазки, дрожа, вся такая тихая, как ангел небесный в короткой шубке. Потом Катенька, Миша, Костик, Витя, Оленька, ещё Миша, Женечка, Таня, Ваня и Лёшенька. Мои двенадцать месяцев. Кружат, держась за руки, в неторопливом хороводе. Милые, милые!
Ель едва не касается звезданутой макушкой низкого потолка. В пыльном свете единственной лампочки пышность её кажется особенно вызывающей, но безвкусицы мне таки удалось избежать. Разве что мишуры немного с избытком… А впрочем, нет, всё хорошо, так ненавязчиво. В этот раз даже лучше, чем обычно. Давно я лелеял мечту оформить ёлку в стиле Сальвадора Дали, но как–то всё обстоятельства не потакали моим желаниям. И вот, наконец, задалось. С гордостью поглядываю на плод трудов своих: на смурные глаза, собственноручно нарисованные на красных, синих и зелёных с золотом шариках, на гирлянды из причудливо переплетённых бумажных рук, на мишуру из париков и шиньонов, на знаменитые текучие часы и всё прочее, столь точно передающее атмосферу праздника и моей души. А маски на детских личиках! Это было стержнем нынешней моей задумки — маски. Тоже, разумеется, в стиле Сальвадора. Не все те унылые в своей набившей оскомину обычности зайчики, белочки, бэтмэны и бармалеи, а — воин, сон, леди Луис, слоник из «Искушения Святого Антония» и конечно же Богоматерь Гвадалупская. Хоровод образов медленно кружит, плывёт в неверном паутинном свете лампочки, в мириадах теней, взыскует сумрачной печали, щиплет ослабевшее сердце, тревожит дух.
И только неухоженность помещения меня угнетает. Ведь сколько призывают управляющие компании, дескать «Граждане! не захламляйте подвалы! А если завтра война? Где пересиживать будете?» — нет, по–прежнему должны дети ножки свои ломать. Тащат в подвалы всё, что ни попадя. И ладно бы в каморки свои уторкивали весь этот хлам, так нет — непременно бросят ненужности пустопорожней жизни своей прямо посреди зала. Я, конечно, постарался прибрать тут накануне, в меру старчески дрожащих сил своих, но ведь не те уже мои годы, ох не те…
Дети поют.
«В лесу родилась ёлочка…» — тянут их трепетные чистые голоса. И в затхлой сумрачной тишине подвала становится чуть светлей.
В углу, в венозном переплетении труб неумолчно журчит вода, окропляя цементный пол, уже густо убелённый сединами плесени. Это истекает кровью бюджет жильцов, которым завтра поставят в счёт общедомовые нужды.
В другом углу свалены гнилые ящики, чей–то плечистый пустоглазый бюст, чучело крокодила и ржавый самовар. Я пытался отчистить его, чтобы устроить детям чаепитие, но затея не удалась, потому что в самоваре образовалась дыра, через которую видны стали набитые в него неслучившиеся жизни. Жизней оказалось много, они покоились в гробах — навскидку не меньше трёх десятков — самых разных марок — тут были, судя по опустошённым упаковкам, и «Гусарские» и «Контекс» и «Кондиломи». Они источали толстый запах небытия…
Песенка заканчивается. Теперь дети идут в хороводе молча, поглядывая на меня. Может быть, им кажется, что их массовик–затейник задремал. Может быть и так, может быть. Но я‑то знаю, что сна у меня ни в одном глазу. Я улыбаюсь и хлопаю в ладоши.
— Так, дети, а теперь давайте играть в неудовлетворённое желание.
— А когда мы пойдём в лес? — робко спрашивает Женечка из–под маски Богоматери Гвадалупской.
— В лес? — я наклоняюсь к ней, снимаю вязаную шапочку с помпоном и глажу девочку по лысенькой головке. — А что, Женечка, ты, уже устала, милая?
— Нет, я не устала, я в лес хочу, — отвечает она ещё больше тушуясь.
— Скоро, маленькая, скоро ты пойдёшь в лес. Вот закончится утренник, и пойдёшь, моя хорошая. Ещё ведь не было самого главного — я ещё не раздал подарки.
— А когда будут подалки? — картавит Костик—Воин. — Я пи́сать хочу.
Я отвожу Костика в уголок, помогаю приспустить штанишки, и мальчик орошает стену, и тонкий звон его струйки сливается с журчанием трубы. Воин улыбается. То ли наступившему облегчению, то ли симфоническому слиянию двух струй.
Вернув Костика в круг, берусь за мешок, припрятанный в брошенном шкафу.
— Ну а теперь, — бодро взываю я голосом развесёлого ярмарочного зазывалы, — налетай, гагарки, разбирай подарки!
Хоровод рассыпается, детишки несмело обступают меня.
— Смелей, — говорю им, — смелей, милые мои, что ж вы такие дикие! Самый отважный получит волшебную несъедаемую шоколадку.
Достаю из мешка зеленоватую, неаккуратно отрубленную тупым топором голову с выпученными глазами — шутливая резиновая поделка китайского легпрома. Оглашаю:
— Вот большой зелёный мяч, он лететь умеет вскачь. Кто его получит? Кого он быстро бегать научит?
Катенька — леди Луис — робко протягивает ручонки. Ладошки её обхватывают неподатливые и скользкие резиновые щёки, прижимают игрушку к груди.
Следующий подарок — попа, которая громко и очень правдоподобно пукает, если нажать на ягодицы.
— А вот подарочек отменный, — возвещаю я. — Он музыкальный несомненно. Кто мечтал стать настройщиком фортепьяно? Забирай свой подарок, у нас без обмана.
Слоник Витя тянет тонкие бледные ручки, подхватывает пятую точку, тут же нажимает на ягодицы. Дети смеются непорочным звукам природы и принимаются наперебой пукать, старательно тужась.
— Ой, — говорит Ваня, — я, кажется, штанишки замарал.
Приходится прервать раздачу подарков, отвести Ванечку в сторонку и осмотреть штанишки.
— Ничего, — говорю я, — всё в порядке, о мой Незримый Человек. Если и есть какие–то следы на твоих штанишках, то они столь же незримы, как и ты сам.
Ваня прыскает. Мы возвращаемся к мешку с подарками, где нас нетерпеливо дожидаются остальные.
Маленькая, но вполне себе действующая гильотинка, способная казнить пойманную крысу или старого друга–хомячка, достаётся Костику. Глазёнки Воина загораются, когда нажатие защёлки приводит в действие острый как бритва нож.
Далее следуют волк в овечьей шкуре, танцующий кошачий скелет, амурчик с головой дьявола, раздавленная в лепёшку жаба с удивлённым взглядом, пара стеклянных глаз, в которых плавают серебристые рыбки, лёгкие злостного курильщика и много других чудес.
— Ну а теперь поощрим твои рефлексы, — говорю я леди Луис Катеньке, когда раздача подарков закончена, и протягиваю обещанную несъедаемую шоколадку из полиуритана. Радостная Катенька разворачивает тусклое серебро обёртки, откусывает, с наслаждением жуёт. Остальные с молчаливой завистью смотрят на девочку и с сожалением следят за тем, как уменьшается в размерах десерт. Несколько минут полной тишины, в которой слышно только, как жуёт, причмокивает и сглатывает Катенькин рот.
Наконец с шоколадкой покончено, и все с облегчением переводят спёртые дыхания.
— Вот и славно, — говорю я.
— Я в лес хочу, — заявляет Женечка. Голос у неё уже плаксив — дети устали и хотят спать.
— Да–да, конечно, — киваю я. — Давайте будем считать наш утренник завершённым, а новый год — начатым.
Дети строятся попарно, берутся за руки, и я вывожу их из подвала под тихие и бездонные небеса, проливающиеся на нас чёрными водами, в которых посверкивают блёстки чешуи неведомых рыб.
Детям нравится моя метафора, они улыбаются и галдят, показывая пальцами на звёзды.
— Только никого не ешьте по дороге, — напутствую я. — Очень вас прошу, милые дети.
— Мы никого не съедим, — торжественно обещает сон Миша, мой последний, мой сладкий сон.
Напоследок я говорю им:
— С Новым годом, детишки!
— С Но–овым го–одом, Са–альвадо–ор! — отвечают они нестройным хором и неловкими своими походками, ещё более неловкими от объёмистых подарков, отправляются обратно в лес.
Я стою и провожаю детей долгим взглядом. Увязая в снегу, они медленно бредут гуськом по целине, напластанной недавней метелью — Воин, леди Луис, слоник, Богоматерь Гвадалупская, Бюрократ… Маски им великоваты, так что детям то и дело приходится их поправлять. У впередиидущего Воина в руках ниточка воздушного шарика; Мелкие Останки реют над строем.
Завидев детей, встречная женщина заполошно всплёскивает руками и с истошным криком «Де–ети–и–и!» бросается бежать. Падает, копошится в снегу, пытаясь подняться. Дети видят её, но хранят данное мне обещание никого не есть. Женщина наконец поднимается, неровно и тряско бежит, вычурно нелепо разбрасывая кривые ноги, скрывается за скрипом покорёженной подъездной двери. Бледное лицо старика наблюдает за происходящим из полуосвещённого окна в третьем этаже. В руках старика я различаю ружьё. Поднятая криком женщины, снимается с голого тополя стая ворон. С потревоженных веток медленными прядями осыпается снег, припорашивает морду безучастно издыхающей под деревом собаки. Тишина такая, что барабанные перепонки плавятся в ушах.
Я наблюдаю за детьми до тех пор, пока последнее пальтишко — маленькая серая точка, испуганный мышиный зрачок — не скрывается в обступившем город лесу. Тогда поворачиваюсь и спускаюсь обратно в подвал моей жизни.
Теперь здесь пусто и грустно, как бывает в завершении любого праздника. В углу всё так же истекает бюджетной кровью труба. Россыпи конфетти, обрывки серпантина, обглоданные кости, мандариновая кожура, одинокая звезданутая ель. И особый детский, лесной запах.
Сначала я меланхолически плачу, а потом, прикорнув на ящике с самоваром в обнимку, задрёмываю.
Мне снится, я в возрасте шести лет, когда я верю, что стал девочкой, а пока с большой осторожностью приподнимаю кожу моря, чтобы рассмотреть собаку, которая спит под сенью воды. Но собаки там нет, потому что она издохла под старым тополем, убитая ружьём того мерзкого старика в окне.
Тогда я, вспомнив, поднимаюсь и достаю из мешка последний подарок, подарок самому себе — это…
Тут Сальвадор в ужасе просыпается, и меня больше нет.








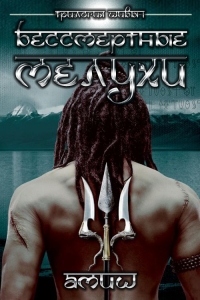

Комментарии к книге «Трамвай без права пересадки», Алексей Анатольевич Притуляк
Всего 0 комментариев