Елизавета АЛЕКСАНДРОВА-ЗОРИНА ПРИГОВОР
Рассказы
Прости, друг
Он не видел снов, не мучился воспоминаниями, не знал, кто он и откуда, а жил так, словно родился утром, а умрет вечером. В интернате за сотым километром, обнесенном глухим бетонным забором, у него не было ни имени, ни судьбы, и врач звал его Вторым, по номеру палаты.
Его лицо бугрилось шрамами, а рот был рассечен надвое, и, ощупывая себя короткими обрубленными пальцами, он не мог вспомнить свою жизнь до того момента, как, разбудив пощечинами, медсестра спросила: «Как тебя зовут?» С тех пор этим вопросом он начинал и заканчивал свой день — и, раскачиваясь на пружинистой кровати, бормотал под нос: «Как меня зовут? Как меня зовут? Как меня зовут?» В интернате жили безумные старики и дауны, так что санитарки делили между собой Второго. Они приходили ночью и, скинув халат, лезли под одеяло, целуя его шрамы, а охали так, что просыпались старики. Он не видел в темноте их лиц и различал лишь по мужским именам, которые они шептали ему на ухо, представляя вместо него киноактеров или чужих мужей.
Но в один из дней, который, как и все дни, должен был закончиться, не начавшись, в интернате появилась его жена. Упав на колени, рыдала, целуя широкие ступни, и отталкивала смущенного доктора, который пытался поднять ее с пола.
— Вы уверены, что это он? — протирая очки кончиком халата, спросил доктор, а санитарки, столпившись в дверях, прятали слезы.
— Андрей, — повторял Второй, пробуя свое имя на вкус, — Андрей Бродов.
— Андрюша, милый, что с тобой сделали, — рыдала жена, разглаживая пальцем его шрамы.
Дома его встретили сыновья, которые уже не помнили его голоса, и, обняв, испуганно расцеловали в колючие щеки, а высохшая от разлуки мать бросилась на шею.
— Сыночек! Кровиночка моя!
На протянутой в ванной веревке сушились носовые платки, насквозь вымокшие от слез, а жена не переставала плакать — даже когда они занимались любовью — и, проводя языком по изрезанному лицу, рассказывала:
— Исполнителей посадили, а его — нет. Как же, откупился! Клялся, что ты жив, давал деньги на поиски… — жена запнулась. — Помог мне открыть дело…
Андрей почувствовал, как треснул ее голос, и, взяв за волосы, притянул к себе.
— Тебя не было столько лет, я искала, ждала… — сильнее заплакала она. — Как ты можешь меня подозревать?!
В день, когда он исчез, мать начала вязать шарф, веря — пока стучит спицами, сын, где бы ни был, будет жив. Клубки шерсти прыгали разноцветными котятами, а она, всхлипывая, повторяла, как заклинание, его имя. Когда нитки кончились, она распустила старые свитера, затем — новые, неношеные вещи, а гости, приходившие в дом, приносили с собой по клубку, который доставали из кармана, словно игрушку для маленькой девочки. Шарф был уже таким длинным, что, свернутый в рулон, едва умещался в комнате, а теперь, закутывая сына, как младенца, мать рассказывала о его детстве и, листая фотоальбомы, пыталась вытащить из выжженной, как пустыня, памяти хотя бы воспоминание о воспоминаниях.
— Вот он! — ткнув кривым ногтем в фотографию, буркнула мать.
Андрей приблизил фото к лицу, разглядывая мужчин в лодке — себя, в охотничьей шляпе и рубашке с короткими рукавами, и его, в обрезанных шортах, загорелого, улыбчивого. «Помог мне…» — услышал он шепот жены, и кровь прилила к лицу.
— Лучший друг, будь он проклят! — Мать хотела убрать снимок, но Андрей, выхватив, спрятал за пазуху.
За огромным столом, разложив фотокарточки, газетные вырезки, перевязанные бечевкой дневники, засушенные в книге цветы, набитые безделушками шкатулки, заграничные открытки и детские рисунки, его родные заново проживали ту жизнь, о которой он забыл, смеялись, плакали, ссорились, мирились — и, сами того не замечая, сглаживали прожитое, подправляя и переписывая то, о чем не хотелось вспоминать.
— Вы похожи на меня? — спрашивал он сыновей, у которых было его лицо.
— Конечно, отец! — переглядываясь, смеялись они.
На экране его памяти замелькали черно–белые, обрывочные фильмы, в которых он видел жену, мать, детей, но не видел себя. Ночами ему снилась прошлая жизнь, но, проснувшись, он не мог ее вспомнить и, втирая в затылок мятное масло, плакал от головной боли.
— Мы были счастливы? — расчесывал он пятерней волосы жены.
— Очень, — улыбалась она, сама не зная, врет или нет.
Он донашивал свою старую одежду, а она висела мешком, словно с чужого плеча, открывал книги на загнутых страницах, перебирал музыкальную коллекцию, крутил видеокассеты, пытаясь полюбить то, что любил, и понять того, кем был.
— Человек складывается из прочитанных романов, заученных стихов, просмотренных фильмов, сорвавшихся с языка признаний, снесенных оскорблений, выпитых бутылок, подписанных бумаг, смятых простыней, из женщин, детей, родителей, друзей, одноклассников, соседей, случайных прохожих… — твердил он, разглядывая обрубленные пальцы.
— Хорошо, что ты вернулся, сыночек, — не слушая, обнимала его мать.
— Но если все это отбросить, что останется? — упрямо бубнил он. — Ничего? И это ничего — я?
Но мать понимала по–своему.
— В моем сердце ты все тот же мальчик, — кивнув на детский портрет на стене, мать провела сухой, шелушащейся ладонью по его изрезанному лицу.
Дверь не закрывалась: приходили гости, вглядывались в заросшее шрамами лицо, качали головами и, вздыхая, хлопали по плечу так, что за неделю оно припухло и саднило от боли. Разливая по бокалам, ему рассказывали о нем самом, путая правду с вымыслом, доставали из рукавов истории о том, кто был одновременно так похож и не похож на него. «А помнишь, помнишь?..» — входили они в раж, и Андрей лгал: «Помню…» Наконец, он выучил свою прошлую жизнь так, как неталантливый, но примерный ученик зубрит урок, не в силах понять его, — и в кругу родных был почти счастлив.
Он долго не мог привыкнуть к городскому шуму, который грохотал в его голове — как поезд, проносящийся по мосту, и боялся улиц, где прохожие толкали локтями и кололи, как иголками, злыми взглядами. Целыми днями он сидел дома, кутаясь в связанный матерью шарф, а ночью, подняв воротник, выбирался на улицу и, пугаясь каждого шороха, крался по разбитому тротуару, разглядывая нависавшие над ним здания с ощерившимися маскаронами и желтевшими окнами, в которые он, привстав на цыпочки, пытался заглянуть.
Однажды у подъезда его окликнули свистом. Из темноты под тусклый свет фонаря вышел мужчина с улыбкой, вырезанной из старой фотографии. У него было гладковыбритое, полное лицо и двоившийся ямочкой подбородок, упрямо выдававшийся вперед, и, хотя они были ровесниками, друг казался моложе на десяток лет.
Они долго молчали, ощупывая друг друга взглядами, и не решались подойти ближе. Наконец мужчина, шагнув навстречу, протянул руку — и, поджав губы, Андрей ответил на пожатие.
— Боже, что с твоими пальцами? — неподдельно удивился друг, и Андрей усмехнулся в ответ.
— Не помню… — и, скривившись, сплюнул: — Тебе виднее…
Он задрал голову, разглядев в окне сутулый силуэт матери, мнущей в руках вязаный шарф.
— Совсем ничего не помнишь? — спросил друг, уставившись в переносицу.
В ответ Андрей только мотнул головой. Ночь была терпкая и густая, как свежезаваренный кофе, а в черноте подворотен шептались призраки прошлого, и он, перекатывая во рту молчание, прислушивался, пытаясь разобрать их слова.
Глядя исподлобья, друг достал пачку, вытащил зубами сигарету и, закурив, стал пускать колечки.
— Или ты меня — или я тебя, — как в детской считалке, проткнул он пальцем сначала его, потом себя. — Мы с тобой слишком далеко зашли. Просто я оказался быстрее. — Отбросив окурок, друг засипел, как рваная грелка: — Или ты меня — или я тебя…
Перед глазами всплыли размытые детские фотоснимки, где, вымазанные в грязи, они носились по двору с кривыми сучковатыми палками и нахлобученными, как военные каски, мисками, привязанными к голове бечевкой. Отломив от дерева сухую ветку, Андрей приставил ее к груди друга, держа как автомат. Тот, запрокинув голову, рассмеялся, но глаза, увлажнившись, погрустнели.
— Вспомнил? — он шутливо поднял руки. — А как связывали веревкой дверные ручки, а потом, позвонив, убегали — помнишь? И соседи, матерясь, не могли открыть двери, потому что каждый тянул на себя… А как полили сладкой водой белье, которое сушилось во дворе?.. Помнишь, сколько мух прилетело на цветастые бабкины панталоны? А как отцы пороли нас по очереди, сначала твой, потом мой? И мы сесть не могли, так задницы ныли…
Проведя рукой по его холеному, гладкому лицу, Андрей с силой обрушил палку, и друг, прикрываясь от удара, оттолкнул его.
— А как ты ко мне убийцу подослал, помнишь? — завопил он, и стоящая рядом машина взвизгнула сигнализацией. — А сам с женой в театр пошел, на балет. Только он моего соседа по ошибке грохнул! А как твои ребята мне селезенку отбили, еле уполз, как жене угрожали, как ребенка похитили? — он задыхался от крика. — Будто не знаю, что это ты! У меня, дурака, рука дрогнула, а ты бы меня не пожалел!
Голова раскалывалась от боли, словно каждое слово вбивалось в нее гвоздем, и Андрей, растирая виски, сел на землю. Друг пнул его в бок и сам, не удержавшись на ногах, упал рядом.
— Ничего не помнишь? — лупил он его. — Не помнишь?!
На втором этаже с шумом распахнулось окно:
— Да заткнитесь же, наконец! — хрипло крикнули оттуда.
— Пошел ты! — хором огрызнулись они — и, переглянувшись, невольно рассмеялись.
Поплевав на пальцы, друг затушил окурок и, уткнувшись Андрею в плечо, выдохнул:
— Прости меня, друг!
Они сильно, до боли, обнялись, а потом, расхохотавшись и разрыдавшись одновременно, принялись кататься по земле, как двое мальчишек.
— Прости, прости!.. — выл друг, растирая слезы по грязному лицу.
— Это ты, ты меня прости!..
«Прости, прости…» — звенели в ушах слова друга, и, перекручивая простыни, Андрей долго ворочался, не в силах уснуть, пока, проглотив две таблетки снотворного, не провалился в темный, как крепкий сон, подъезд. Сгрудившись над скрюченным телом, несколько бритоголовых ребят лупили его ногами в живот, а Андрей, раскалываясь на части, был одновременно и тем, кого били, и теми, кто бил. Проснувшись, он схватился за ноющий живот и, растолкав жену, хрипло спросил:
— Мы с тобой в театр ходили?
— Что? Что?.. — протирая глаза, она посмотрела на часы.
— В театр, на балет? — тормошил он ее. — В театр ходили?
— Ходили, ходили, — пряча голову под подушку, простонала жена.
Обмерив его, портные сшили костюмы, в которых он чувствовал себя покойником, сбежавшим с собственных похорон, врачи пичкали пахучими микстурами и лекарствами, а дантист, заглянув в рот, вырвал гнилые осколки, слепив ему новые зубы, которые приходилось оставлять на ночь в чашке с водой. Он все больше становился похожим на самого себя — и, клацая фарфоровыми зубами, повторял:
— Андрей Бродов, Андрей Бродов… — и подмышки щекотало от счастья.
Ночами они с женой ломали кровать, как прежде, до рождения сыновей, кусая друг другу губы и переплетаясь руками и ногами, словно лианы, а когда, откинувшись на вымокшие подушки, засыпали, то видели один сон на двоих, в котором, сплетаясь в клубок и кусая до крови губы, всю ночь ломали кровать. Но по утрам в висках стучало, словно из протекавшего крана по умывальнику: «Или ты меня — или я тебя…»
— Тебя как будто подменили! — разглядывая его тело, шептала жена, но Андрей, обхватив за талию, целовал ее — и, прижимаясь крепче, она убеждалась, что он прежний.
В городе ему вслед оборачивались и шептались, прикрывая рты ладонями, а парнишка с прилипшей на губах шелухой от семечек бежал перед ним, считая пальцем шрамы на его лице. Кто–то здоровался, пряча глаза, кто–то хватал за руку, кричал в ухо, трепал по щеке, высыпая ему за пазуху горсть забытых имен, и от улыбок, которые, оторвавшись от ртов, мелькали перед его глазами, кружилась голова.
Андрей брел, словно пьяный, не разбирая дороги, как вдруг перед ним распахнулась дверь в рыбную лавку, и красная, покрытая паутинками морщин рука втащила его внутрь. Пухлая торговка, вымазанная рыбьей чешуей, опустила засов, набросив табличку «Закрыто», и, уставившись бесцветными, как у засоленной сельди, глазами, шумно выдохнула:
— Не узнаешь?
Он помотал головой.
— Я тебя тоже не узнаю, — хмыкнула женщина.
На витрине лежали выпотрошенные пустобрюхие рыбины, и от сильного запаха слезились глаза. Женщина смущенно поправила платок, из–под которого торчали лохматые пряди волос, сделала шаг, замерла, разглядывая Андрея, потом провела рукой по его груди, спустилась ниже, и он, отпрянув, выругался.
— Когда ты пропал, я сразу почуяла, что навсегда, — прижав руку к груди, пробормотала она. — Все искали тебя, а я знала, что не вернешься.
— Я вернулся, — он растерянно разглядывал ее потрескавшееся лицо.
— Это не ты, — покачала она головой и, увидев вздернутую бровь, повторила: — Ты, но не ты. И взгляд не твой, и голос, и лицо… — Пряча заслезившиеся глаза, торговка открыла дверь, спрятав табличку. — Да и я — не я, — отмахнулась она и, схватив тряпку, стала спешно вытирать витрину.
Андрей перетаптывался, пытаясь вспомнить, кем была ему эта женщина, но вместо сердца у него по–прежнему зияла черная дыра.
— А от ребеночка я избавилась, помогать–то мне было некому, — она взяла большой нож и стала чистить рыбу, так что у Андрея, опустившего взгляд на ее живот, подступила тошнота к горлу. — Сразу избавилась, как ты пропал.
Он выскочил на улицу, прислонившись к стене дома, расслабил воротник, тяжело дыша. Женщина выбежала следом.
— Про ребеночка–то я тебе наврала, — горячо зашептала она, обдавая рыбным запахом. — Не было ребеночка, Андрюшенька…
Дома он час простоял в душе, смывая рыбный запах, которым пропиталась одежда, а ночью, наглотавшись снотворного, видел пухлый живот торговки, которая чистила себя, словно рыбу, большим, перепачканным чешуей ножом, и пока жена не растолкала его, мечущегося по постели, в ушах гудел голос, низкий, как колокольный гул: «Не было ребеночка, не было…»
В кармане халата он прятал клочок бумаги с телефонным номером, который, скатав в бумажный шарик, подбрасывал на ладони, словно тот обжигал руку, так что полустершиеся цифры, выведенные неровным почерком, уже едва можно было разобрать. Но он помнил их наизусть. А как–то вечером, запершись в ванной, не выдержал и позвонил, представляя, сколько раз он набирал этот номер прежде.
— Привет, друг! — прикрыв рот ладонью, прошептал он.
На том конце отозвались на пароль:
— Привет, друг!
Оба долго молчали, не тяготясь молчанием, и, замерев, вслушивались в дыхание.
— Время было такое… — откашлявшись, начал было друг.
— Брось, — перебил его Андрей, — не надо. Я хочу забыть, — он повесил на губах кривую усмешку, — забыть то, чего все равно не помню.
— Я помню за двоих.
— Спал с моей женой? — вдруг спросил Андрей.
Шумно выдохнув, друг долго молчал, подбирая слова.
— Не хотел, чтобы вышла за другого… Не знал, как загладить вину… — почувствовав, как глупо звучат объяснения, запнулся и, прочистив горло, отрезал: — Спал.
Пустырь зарос бурьяном и маленькими кривыми деревцами, выглядывавшими из кустов, словно мальчишки, играющие в прятки. Старые деревянные дома прогнили, скособочившись, как разбитые радикулитом старики, крыши съехали на бок, карнизы обвалились, а ветер, хохоча, носился по пустым комнатам и стучал оконными рамами. Андрей прятался в овраге, на дне которого собралась прокисшая дождевая вода, и его ботинки вымокли насквозь. Толстая муха то и дело садилась на лоб, потирая лапки, и он смахивал ее рукавом, но, взвизгнув, она возвращалась обратно. Поймав муху в кулак, он поднес к уху, вслушиваясь в злое жужжание.
Прижимая кривую палку к груди, друг крался, озираясь по сторонам, и старался ступать тихо, не слышно, но под его ногой хрустнула ветка, и из оврага полетели комья грязи.
— Граната! Ба–бах!
Друг рухнул как подкошенный.
— Убит!
Выскочив из оврага, Андрей пнул обмякшее тело ногой, взял палку, взвесил ее в руке и, переломив через колено, отбросил в сторону. Друг таращился застывшими глазами, и Андрей, протянув к его лицу кулак, разжал его. Муха, замерев, долго не решалась взлететь, а потом, сорвавшись, исчезла. Андрей смотрел на пустую, как его память, ладонь, и думал, что жизнь — это то, что происходит с нами здесь и сейчас, а прошлое так же обманчиво, как сны, мечты и несбывшиеся надежды.
Потом они уткнулись лбами и, зажмурившись, заорали, срывая глотки. Из зарослей испуганно вылетели птицы, вдалеке залаяли псы. По щекам потекли слезы, лица раскраснелись, покрылись пятнами, и Андрей, захлебнувшись криком, смолк, а друг продолжал вопить, пока не кончилось дыхание.
— Я всегда побеждал! — засмеялся он, обняв Андрея.
Собрав хворост, друг разжег костер и, развернув промасленные свертки, достал бутерброды. Андрей стянул мокрые ботинки, вытянув ноги к костру, и, повесив на палку носки, стал сушить их над огнем.
— Я как будто провалился во времени, — друг, открыв зубами бутылку, сделал глоток. — Остаться бы в детстве, правда?
Он передал Андрею бутылку, и тот выпил, не морщась.
— Те два окна — твои, ты жил на кухне, родители в комнате, — показывал друг на покосившийся, вросший в землю дом, — а ниже этажом — мы с отцом.
— А твоя мать?
Друг передернул плечами:
— Я ее не помнил, твоя воспитывала как своего. Ты даже сердился, ревновал. А отцы наши как–то, напившись, подрались и чуть не поубивали друг друга, весь двор сбежался.
— Вот дураки, — хмыкнул Андрей, пытаясь представить отцов, но, вглядываясь в слепые окна, видел только размытые, неясные, как миражи, силуэты.
Гнилые лестницы крошились под ногами, они поднимались, держась за руки, и, осторожно ступая, проверяли каждую ступеньку. Пахло гнилью и прелым деревом, стены заросли серым грибком, а отсыревшие двери, задраенные, словно люки на корабле, мхом, приходилось выбивать плечом.
— Чувствуешь запах щей? — зашептал друг. — Твоя мать скоро позовет нас обедать. Отцы торчат во дворе, чинят ржавую копейку, на которой нельзя доехать даже до магазина, а у соседей за стенкой хрипит старый транзистор и плачет некормленый младенец.
Андрей растянулся на ржавой кровати, застонавшей под ним, словно от боли, а друг оседлал кособокий стул, и, глядя на двух мальчишек, возившихся на полу с выструганными из дерева игрушками, они несколько часов провели в молчании, слушая звон посуды на кухне, смех отцов, плач младенца и хриплые песни за стенкой, пока густые сумерки не опустились на их воспоминания, как театральный занавес.
— Хорошо, что ты вернулся, — оборвал друг тишину, когда машина въехала в город. — Есть с кем помолчать…
Андрей закивал, улыбаясь.
— Я тебя здесь высажу, — притормозил друг машину, — чтобы твои нас не увидели.
Они обнялись, прижавшись щеками, сильно, до хруста суставов, пожали руки, и Андрей, выскочив из машины, побежал, озираясь по сторонам, а друг смотрел ему вслед до тех пор, пока, превратившись в черную точку, он не растаял на горизонте.
За обедом Андрей разглядывал сыновей, носивших на лицах его мясистый, нависавший над верхней губой нос, и думал, что, повторяясь в детях, мы пытаемся обмануть смерть, а обманываем самих себя.
— Каким я был? — спросил он, протирая тарелку коркой хлеба. — Добрым или злым? Жестоким? Завистливым? Вспыльчивым?
Сыновья, уткнувшись в тарелки, угрюмо ковыряли фаршированную рыбу, а жена с матерью, которые вновь, как до его возвращения, не смотрели друг на друга, молчали, пережевывая свои мысли. Андрей чувствовал, что родные тяготятся им, а их жизнь, встревоженная его возвращением, словно пруд брошенным камнем, затягивается обыденной суетой, и в днях, расписанных до последней минуты, ему нет места.
— Бабником? Азартным картежником? Обжорой? Пустомелей? Неудачником? Самодуром? Подонком? — отложив вилку, повысил он голос.
— Мы тебя любили таким, каким ты был… — сказала жена и, спохватившись, поправилась: — Какой ты есть.
— Каким?! — вскричал Андрей. — Каким я был? Равнодушным? Страстным? Безмозглым? Хитрым? Ненадежным? Смешным? Опасным? Я ведь ничего о себе не знаю, словно я сам себе чужой!
Родные переглянулись, а мать, встав из–за стола, стала убирать тарелки. «Память может вернуться, а может не вернуться никогда, он может вспомнить все, что было до травмы, а может забыть, что происходит с ним сейчас…» — пожимая плечами, говорил им врач, и, глядя в его вязкие, выцветшие от пустых снов глаза, родные чувствовали неприятный холодок, сбегавший по спине.
— Ты был хорошим мальчиком, — проскрипела мать, как несмазанная телега.
— Я просто хочу вспомнить, — Андрей спрятал голову в ладони. — Хочу вспомнить, каким я был, что чувствовал, что думал, о чем мечтал, чего боялся, что ненавидел и что любил?..
Оглядевшись, он увидел, что остался один за столом, а мать, бормоча под нос его имя, моет посуду, ссутулив острые плечи.
В тесной рыбной лавке толпились покупатели, тыча пальцем, выбирали камбалу, а торговка, разгребая красными руками куски льда, доставала рыбину, поглаживая ее по блестящим бокам, и подносила к носу. Увидев в окне Бродова, женщина сняла заляпанный фартук, скомкала его, бросив на пол, и, не обращая внимания на покупателей, вышла на улицу.
От нее нестерпимо несло рыбой, от рук, от волос, от платья, а изо рта пахло соленой мойвой, и когда она прильнула, поцеловав в шею, Андрей, поморщившись, отвернулся. Выудив из кармана мелочь, торговка купила в ларьке две бутылки пива, которые открыла зажигалкой, и протянула одну Андрею.
— Я знала, что ты придешь, — причмокнув, сделала она большой глоток.
Молча они свернули к невысокому кирпичному дому, заросшему яблонями, стучавшими в окна кривыми, тяжелыми ветками. Торговка жила на первом этаже, в тесной, неубранной квартирке, в углах которой, запутавшись в паутине, пылились ее девичьи мечты. Сбросив туфли, она забралась с ногами на постель, выставив потрескавшиеся пятки.
— Ты всегда приходил, когда тебе было плохо, — допив бутылку, она поставила ее на пол. — Хоть бы раз пришел, когда хорошо…
На комоде стояла размытая фотография, сделанная на старую мыльницу. Андрей поднес ее к окну.
— Это ты? — изумился он, разглядывая стройную брюнетку с длинными, до пояса, волосами. — А с тобой это… — он не договорил.
Неприятно хохотнув, торговка покачала головой.
— Нет, это не я, — и, помолчав, добавила, — и не ты.
И, уткнувшись в подушку, пьяно разрыдалась.
Поставив фотокарточку на место, Андрей вышел, осторожно прикрыв дверь.
А дома заперся в ванной, включив воду, и достал из кармана телефон.
— Чувствую себя чужим…
— Я тоже, — отозвался друг. — И жена — словно чужая жена, и дети — будто не мои. Да и тот, кто смотрит на меня из отражения, я ли это?
Андрей закрутил кран, протер рукавом запотевшее зеркало и, вглядевшись в бугрившееся шрамами лицо, поморщился.
— Знаешь, каждую ночь я вижу во сне тот день… — протянул друг.
— Я же просил — не надо.
— Не могу. Это разъедает мне сердце, — не слушая, продолжал он. — Во сне я проживаю все снова и снова, минуту за минутой, а когда просыпаюсь, не могу избавиться от воспоминаний, которые набрасываются из каждого угла, словно подосланные убийцы, так что вся жизнь превращается для меня в длинный–длинный день, который я никак не могу забыть… Я ведь часто бываю там, — добавил он, помолчав. — Давай съездим вместе?
Андрей зажмурился, нырнув в темноту.
— Зачем? — спросил он наконец.
— Чтобы я забыл, а ты вспомнил, — деланно засмеялся друг, и Андрей почувствовал, как съежилась его душа.
Они угрюмо молчали, уставившись на дорогу, петлявшую, как судьба, и только приемник тихо бурчал что–то под нос, словно выживший из ума старик. Машина подпрыгивала на ухабах, и мелкий, похожий на туман дождь царапался в окно, а Андрей, уткнувшись лбом в холодное стекло, гадал, не пожалеет ли он, вспомнив то, что забыл.
Не проронив ни слова, они вышли к заброшенным, исписанным краской ангарам, заросшим высокой, по пояс, травой, и друг повел его вытоптанной тропой, в дальний сарай, стоявший в стороне. Ржавая дверь билась на ветру, как раненная птица, внутри было промозгло и темно. Друг показал на темное, едва различимое пятно на бетонной стене.
— Кровь.
Андрей провел ладонью и отдернул ее, будто обжегшись.
— Тебя привезли в мешке, связанного, с набитым тряпками ртом, бросили сюда, — друг кивнул в угол, — били ногами, — он показал как били, и у Андрея заныл живот. — Потом вытащили из мешка, развязали. Ты полз, оставляя за собой след крови, а мы смеялись, засекая время. Ты полз долго, словно дверь удалялась от тебя все дальше и дальше.
Андрей лег в угол, прижав колени к подбородку, и ботинки друга, приблизившись к его лицу, стали размером с собаку. Голова раскалывалась, будто оттуда пытался вырваться тот, кем он был, запертый, словно узник, в забытых воспоминаниях.
— Я ненавидел тебя — за подосланных убийц, за угрозы… За все, что ты сделал мне! — Лицо друга было изрезано тенью, которая падала от зарешеченного окна.
Андрей корчился на полу, а призраки прошлого выли, словно ветер, стучали дверью, метались тенями по грязному полу и, облекшись в плоть, нависали над ним, наматывая цепи на кулак. Он разглядел обступивших его сутулых мужчин, и тело заныло от боли, а ноги, отнявшись, перестали слушаться.
— Потом мы били тебя головой об стену, — покрываясь пятнами, друг принялся в исступлении колотить кулаком по стене, сбивая его в кровь, — били, пока она не стала красной…
Он слизал кровь и, достав платок, перевязал руку.
— Как ты мог? — всхлипнул Андрей, проведя обрубленными пальцами по лицу.
Он вспомнил мальчишек, бегущих с мисками на головах, и его сердце вылезло наружу, словно грыжа.
— Ты вырубился, — задыхаясь, словно от быстрого бега, просипел друг, расстегнув ширинку, — и я стал поливать тебя, пока ты не очнулся, захлебываясь мочой.
Кровь ударила ему в лицо, и Андрей вскочил на ноги.
— Подонок! — закричал он, ударив друга в грудь.
Скинув плащ, тот бросил его на пол и, вытерев взмокший лоб, затараторил:
— Потом приехал нотариус, наш человек. Заглянув в ангар, поморщился и не стал заходить. Ты подписал все бумаги, левой рукой, потому что правая была перебита…
Почувствовав острую боль в пальцах, Андрей замахнулся, но друг оттолкнул его, не смолкая:
— Мы затолкали тебя в мешок, отнесли в машину…
Андрей набросился на него со спины, зажав горло:
— Ты был мне как брат!
Оба кричали, не слушая друг друга.
— А потом тебя повезли в другую область, бросили в лесу, недалеко от дороги. Я не думал убивать тебя, хотел только на время вывести из игры, — друг захрипел, пытаясь убрать его руку.
— Ты спал с моей женой! — душил его Андрей. — Ты изуродовал меня, сломал жизнь! Ты все отнял у меня! Память, детство, все, что было!
— Я ждал, что ты вернешься… Я искал тебя… — задыхался друг, и его голос слабел. — Я не хотел, прости…
Он уже глотал воздух, как рыба, выброшенная на берег, и, царапая стену, ломал ногти, но Андрей, плача, не отпускал его, пока друг, стихнув, не обмяк. Швырнув на пол, он принялся бить его ногами, оставляя грязные следы от ботинок на лице, а потом, разрыдавшись в голос, бросился к нему, обняв.
— Эй, очнись, очнись!
Он с силой затряс его, нагнувшись ко рту, пытался поделиться дыханием, потом, разорвав рубашку, стал массировать, пытаясь завести сердце, давил, пока грудь не посинела, но друг лежал, раскинув руки, и растерянно смотрел на него, уставившись остекленевшим взглядом. Андрей целовал его, тормошил, ерошил волосы, бил по щекам, повторяя:
— Прости, прости, прости… Прости–и–и! — завыл он, и эхо, разбившись на тысячи осколков, разлетелось во все стороны. — Прости!
Он вернулся домой только утром, вымазанный в грязи, в сбитых ботинках, с лопнувшей улыбкой и сердцем, которое торчало наружу. У подъезда стояла полицейская машина, а дома ждали гости.
— Ошибочка вышла, — развел руками сержант, а его напарник кивнул на набитую дорожную сумку.
Сыновья смотрели исподлобья, кусая заусенцы, а жена дрожала, теребя в руках мокрый платок. Андрей растерянно огляделся. Родные настороженно молчали, втыкая в него, словно дротики, брезгливые взгляды, от которых у него взмокла спина и заныли колени.
— Ошибочка вышла, — повторил сержант. — Анализы проверили, а оно вот как оказалось, — топча свою тень, он с трудом подбирал слова.
— Собирайся! — пролаял второй.
Из комнаты выглянула мать, осунувшаяся, с красными от бессонницы глазами, и Андрей увидел в ее руках спицы.
— А ведь и правда похож… — перекрестив его, она захлопнула дверь.
Он протянул руку к жене, но та испуганно отпрянула.
— Уведите же его отсюда! — простонала она, закрывая лицо.
— Что происходит? — крикнул Андрей, когда полицейские взяли его под руки. — Я не понимаю!
— Пойдем, пойдем, — выталкивали его из квартиры. — Отвезем тебя домой.
— В чем дело? Это мой дом! — закричал он, вырываясь, и, развернув его лицом к стене, полицейские свели руки за спиной, защелкнув на запястьях наручники.
Его везли по кривой, петлявшей улице мимо теснившихся домов, покосившихся сараев, сорванных вывесок, магазинов, ларьков, слепых фонарей, любопытных прохожих, мимо рыбной лавки, где толпились покупатели, школы, куда водила мать, рассказывая, как, сбегая по лестнице, он расшиб коленку, мимо сгнивших деревянных бараков, пустыря, где когда–то был их двор, с протянутыми бельевыми веревками, ржавыми гаражами и вросшим в землю столом, на котором старики с утра до ночи стучали костяшками домино, мимо заброшенных ангаров, заросших по пояс травой, мимо закисшего пруда, мимо указателя, где значился город, которого он не помнил.
В интернате его положили в ту же палату, на продавленную кровать, и, распластав, как лягушку, привязали руки и ноги, сделав укол, после которого он обмяк, словно тряпичная кукла.
— Андрей, — по утрам повторял он будившей его медсестре. — Андрей Бродов.
Вокруг его кровати толпились старики с провалившимися носами и вывернутыми коленками, наркоманы, у которых из рукавов торчали обрубки рук, и смешливые дауны, льнувшие, как ласковые телята, чтобы их почесали за ухом. Они расспрашивали про жену, клянчили сигареты и, заглядывая в глаза, пытались увидеть в них то, что увидел он сам за бетонным забором.
— Андрей Бродов, — упрямо представлялся он и гладил себя по голове, словно ребенка.
Первое время ему присылали посылки, набитые консервами и печеньем, которым он делился с даунами, хохотавшими, словно от щекотки, и открытки с казенным типографским поздравлением, отпечатанным внутри. Мать передала ему носки, связанные из разноцветных ниток, а он спал в них, не снимая, и, разглядывая протершуюся дырку, из которой торчал большой палец, слушал стук спиц и тихий, осипший от молитв материнский голос.
Жалея, санитарки тайком пускали его к телефону, заставляя расплачиваться поцелуями, колючими, как репей.
— Это Андрей, — хрипел он в трубку и долго слушал короткие гудки, похожие на шаги убегающего человека.
Он звонил каждую ночь, пока однажды ему не ответил чужой голос:
— Они уехали. Навсегда.
Он носил теперь чужое имя, вцепившись, словно в спасательный круг, в чужую судьбу, и, вглядываясь в сырые разводы на потолке, видел жену, старуху–мать, пеленающую его в вязаный шарф, и сыновей, которые, высыпая из шкатулок собранные монеты, рассказывали о днях, выцветших в его памяти, словно стираное белье. Ему казалось, что он вспомнил молодую женщину с черными до пояса волосами, ремень отца, плач младенца за стенкой, нахлобученные на головы миски, материнские поцелуи, кислые щи, лица, голоса, смех, разговоры, и его виски ломило от воспоминаний.
Ему мерещилось, что его голос ломается, становясь высоким, визгливым, как у мальчишки, и, разговаривая с врачом, разглядывавшим его, спустив на нос очки, он боялся, что тот заметит его разбитую коленку. На прогулке он обламывал ветки деревьев, подбирая хорошую палку, а однажды на обеде, отбросив ложку, выпил суп из медной миски и нахлобучил ее себе на голову. Как женщины носят плод, так он носил в себе ребенка, который, разрастаясь, вытеснял в нем мужчину, заполняя детскими ощущениями и мечтами.
— Смотри, штанишки не намочи, — язвил врач, глядя как он, сложив пальцы, играет тенью на стене.
Но каждую ночь, проваливаясь в тяжелый и горький от таблеток сон, он раскалывал скорлупу детских воспоминаний и минута в минуту проживал тот вечер, который, казалось, никогда не закончится, повторяясь в его снах, как в приставленных зеркалах.
— Прости… — стонал он, когда кошмары наваливались на него, словно подосланные убийцы, и старики накрывали его голову тяжелой подушкой, чтобы не мешал им спать.
Бросив отяжелевшее тело на плащ, он волок его к мусорной яме, забитой бутылками и похожими на сопливые платки пакетами с клеем, а друг смотрел на него, не сводя глаз, и его рот, застыв в гримасе, казалось, что–то кричал ему, чего он уже не мог услышать.
— Или ты — или я, — целуя, прижимался он к гладкой, надушенной одеколоном щеке и швырял тело вниз.
Забросав вырванным с корнем иван–чаем, сухими ветками, кусками ржавого железа и битым стеклом, он присыпал сверху землей и, смастерив из двух кривых коряг, похожих на те, какими они играли в детстве, самодельный крест, втыкал его сверху.
Сев в машину, долго вспоминал, как ее завести, несколько раз врезался в ангар, смяв капот, а потом, отъехав как можно дальше, спускал машину в скисший пруд. Она тонула долго, всплывая брюхом, как дохлая рыба, а потом еще долго подмигивала ему вслед горевшими под водой фарами.
— Прости! — плакал он каждую ночь, бредя по дороге, и воспоминания тянули вниз, словно кандалы каторжника, делая каждый шаг тяжелым, как раскаяние. — Прости, друг!
Он просыпался, оглушенный собственным криком, взмокший, трясущийся, словно в лихорадке, а спавшая на ногах медсестра, не разлепляя век, под которыми досматривала свои сны, делала ему укол.
«Или ты — или я…» — смеялся мальчишка, коловший его палкой в бок, а Андрей, забываясь в бреду, похожем на грязный мешок, в который его затолкали, забив тряпками рот, гадал, чего же он хочет больше: вспомнить или забыть.
Приговор
Врач долго молчал, а потом, откашлявшись в кулак, нацепил казенную улыбку.
— Поезжайте в санаторий, на море. Только не тяните…
«А то будет поздно», — закивал Гамов. Анализы были плохие, и врач, пожав плечами, на больнице не настаивал.
— Сколько? — спросил Гамов, пристально посмотрев ему в глаза.
Врач заерзал на стуле, снова откашлялся.
— Три–четыре месяца…
Он не помнил, как добрался до дома, очнулся уже в прихожей, где из зеркала на него смотрел осунувшийся мужчина с красными, покрытыми паутинкой сосудов глазами. «Три–четыре месяца…» — звенел в ушах голос врача.
Смяв костюм, он швырнул его на пол и, закурив, голый опустился в кресло, обхватив голову руками. Его жизнь, как мозаика, складывалась из сотен тысяч «не»: не играл в шахматы, не гонял в футбол, не ходил в горы, не подливал в кофе коньяк, не целовался под дождем, не бывал в Африке, не видел полярного сияния, не танцевал танго, не построил дачу, не защитил кандидатскую, не пел застольные песни, не набил татуировку, не дрался, не убивал, не писал книги, не сидел в тюрьме. Ни жены, ни детей, прожил как бесплодная смоковница, и умрет, ничего не оставив после себя.
С друзьями созванивался редко, обсудить работу и болезни, а откровенничал только с зеркалом. Все чаще в трубке слышалось: «Петьку помнишь, длинного? Инфаркт, нет больше Петьки». Или: «Костя разбился, уснул за рулем». Долго цокали языками, вспоминали былое, жалели Петьку или Костю, и только тихое эхо предательски повторяло: «Хорошо, что не я…» Гамов потянулся к трубке, но, передумав, с силой швырнул телефон об стену. Разбившись, он рассыпался на куски. «Гамов–то, Гамов…» — будут говорить друзья, втиснув его смерть между своим несварением и вчерашним футбольным матчем.
Одиночество навалилось холодной могильной плитой, и Гамов заплакал. Затушив об пол окурок, прожег ковер, прошел на кухню, машинально открыл холодильник, захлопнул, ударив кулаком по дверце. На плите стояла турка с холодным кофе; отломив от нее пластиковую ручку, Гамов стал пить прямо из турки, уставившись в окно, на соседний дом, с такими же тесными квартирами, свежевыкрашенными подъездами, щербатыми лестницами и угрюмыми жильцами, среди которых, он верил, живут двойники тех, кто населял его дом. Вечерами, когда окна желтели уютным светом, он разглядывал чернеющие фигурки, переходившие из комнаты в комнату, танцующие, ссорящиеся, занимающиеся любовью, и чувствовал себя вором, крадущим чужие эмоции, напитавшись которыми, ложился спать. А теперь, растирая виски, причитал: «Почему я? Почему не они?»
Ближе к ночи появлялся одинокий женский силуэт, замиравший с чашкой у окна, и Гамов знал, что, подглядывая за чужими квартирами, женщина гонит свое одиночество, которое ходит за ней по пятам, как привязавшийся уличный пес. Иногда они стояли часами, застыв, смотрели друг на друга, и хотя он не видел ее лица, ощущал приятную дрожь, рассыпавшуюся мурашками по спине.
Пойти к ней? Взбежать по лестнице и, переждав, пока пройдет одышка, утопить кнопку звонка? Уткнуться в плечо, расплакавшись, как ребенок? Провести с ней ночь? Остаться на три–четыре месяца? Подарить сына, которого он уже не увидит?
Он распахнул окно, и теперь женщина могла разглядеть его, голого. Гамов расправил плечи, втянул живот и, скосив глаза на свое отражение в стекле, приуныл. Было холодно, ветер, кусаясь, щекотал низ живота, и Гамову померещилось, что женщина улыбнулась. Но силуэт в окне растаял, свет погас. Одиночество навалилось с прежней силой. Он умрет, а она будет стоять у окна; он умрет, а она будет пить кофе и разглядывать фигурки в чужих окнах, наполняясь ворованными чувствами. А потом, ударив по выключателю, нырнет под одеяло, гадая, чего не хватает ей в желтых окнах, пока, уколовшись о догадку, как о булавку, не вспомнит одинокого мужчину, лица которого не могла разглядеть. Гамов с силой захлопнул окно, и стекло треснуло от удара.
Он прошел в комнату, щелкнул пультом, и телевизор забубнил, как выживший из ума старик. Зазвонил телефон. Гамов с удивлением поднял разбитую трубку, два медных полукруглых устройства, болтавшихся на проводах, и приложил к уху.
— Гамов, вы меня слышите? Гамов? — пролаял начальник.
Он не отвечал, пережевывая молчание.
— Завтра приезжайте пораньше, проведем срочное совещание!
— Пошел к черту! — завопил Гамов, перекрикивая короткие гудки.
Он уже много лет не высыпался, а на работе, уткнувшись в компьютер, мечтал, будто спит, проваливаясь в мягкий, как пуховые одеяла, сон. Но ночами ему снился офис, автомобильные пробки, продуктовые витрины, бумаги, отчеты, проглоченные банкоматом кредитки, неоплаченные квитанции, бизнес–ланчи, телефонные разговоры — и вся жизнь казалась ему длинным–длинным скучным днем. Он ждал пенсии, считая годы, которые сыпались песком сквозь пальцы, и грезил о доме у реки, с пахучим сладким жасмином, цветущим за окном, продавленном гамаке, растянутом между деревьями, и смуглой, изрезанной морщинами кухарке, приходившей бы по утрам. А теперь, жмурясь, видел гроб, болтающийся, как качели, на веревках, привязанных к кривым ивам, и морщинистую старуху, несущую в заплечном мешке его приговор: «Три–четыре месяца…»
Улыбаясь, телеведущая тараторила о том, что его уже не касалось: «Через полгода… через год… через два…» Гамов дернул шнур из розетки, и ее лицо, растянувшись, лопнуло.
Смерть — это апокалипсис, который каждый проходит в одиночку. Продлить жизнь, пусть ненадолго, но задержавшись в людской памяти?.. Словно зарубку на березе, оставить после себя хоть что–то?.. Гамов попробовал писать. Вытряхнув папку, разложил на столе отчеты, перевернув их обратной стороной, и с нажимом вывел: «Приговор». Просидев битый час, выворачивал заголовок наизнанку, разбирал по буквам, которые перекатывал во рту, как леденцы, и вновь складывал в «приговор», но не написал больше ни слова и швырнул в ведро скомканные листы. «Это моя жизнь, — думал он, — чистый лист бумаги, скомканный и выброшенный …»
Заточив карандаш, попытался изобразить себя, стоящего голым у распахнутого окна, разбитый телефон и силуэт женщины из соседнего дома, у которой проступали черты Смерти, старухи с рыхлым, как гнилой гриб, лицом, протыкавшей кривым ногтем его правый бок. Он сильнее надавил на карандаш, и грифель сломался, оставив след на бумаге. Гамов откинулся на спинку стула, растирая виски. Как передать одиночество и боль? Как нарисовать метастазы, которые, как ржавчина, разъедали его изнутри? Напольные часы пробили полночь. «Три–четыре месяца», — гулко отозвалось в висках.
Гамов решил достать пистолет или длинный, с зубчатым лезвием, нож, оставляющий лохматые рваные раны. Он обречен, значит ему нечего бояться, он уйдет, но не один, а прихватив с собой десяток подонков. Гамов расчертил лист бумаги, набросал фамилии: несколько чиновников с казенными душами, толстый священник, за которым, как ручные собачонки, по пятам бегали черти, самодовольный толстосум из соседнего дома, паркующий на тротуаре огромный джип, который приходилось обходить по дороге, пачкая ботинки в грязной луже. «Как я вас всех ненавижу!» — выдохнул он, скривившись. Поджидая их, Гамов спрячет лицо за поднятым воротником; уходя, распишется ножом на щеке, вырезав свои инициалы, и в городе, прикрывая рты ладонями, зашепчутся о народном мстителе. От глупой фантазии на шее выступили красные пятна, и сердце застучало — как бомба с часовым механизмом, разгоняя больную кровь по жилам.
Вновь зазвонил телефон. Гамов поднял трубку, удивляясь, что она еще работает, едва держась на оголенных, как нервы, проводах.
— Гамов, не спите? — от этого бодрого голоса у него свело живот. — Забыл сказать, прихватите отчет.
Разорвав провода, Гамов внес в список имя начальника.
«Тебя — первым!» — с ненавистью подумал он.
Он достал припасенную бутылку вина, которую привез из заграничной поездки, куда однажды выбрался, купившись на красочные туристические открытки. Ему снилось ночами, будто он лежит на горячем песке, пока море лижет ему пятки, или бродит по каменным лабиринтам улиц, где окна домишек похожи на вытаращенные глаза, а крыши — на сдвинутые на лоб шляпы. Но, приехав к морю, он просидел в своем номере, прячась от палящего солнца и считая дни до отъезда, а напоследок набил чемодан сувенирами, которые некому было дарить, и приобрел в магазинчике бутылку дорогого вина, которую не с кем было распить. Он хранил ее для особого случая: открывая холодильник, доставал, поглаживая по запотевшим бокам, и представлял, как, пригласив женщину, поставит бутылку на стол, освещенный свечами, а пробка, вывернутая штопором, причмокнув, выскочит из горлышка, обдав терпким винным ароматом. Но женщины, как и деньги, обходили его стороной, и наклейка на бутылке, отмокая, теряла краски, сползая, словно старый чулок. «Особый случай…» — с горечью пробормотал он и стал искать штопор. Не найдя, попытался сковырнуть пробку ножом, раскрошив, стал проталкивать в бутылку, но пробка застряла, как тромб. Достав молоток, он отколол горлышко и, натянув марлю на кружку, процедил вино от битого стекла, расплескивая его по столу. Пил, боясь проглотить осколок, полоскал рот, несколько раз вскакивал, выплевывая вино в раковину, окрашивавшуюся вишневыми пятнами.
На работу он больше не выйдет. Позвонит среди ночи начальнику и скажет все, что накопилось за годы. Или приедет в офис и, закурив, положит ноги на стол, пожевывая кончик дымящей сигареты. Запищит противопожарная сигнализация, и сослуживцы, оторвавшись от компьютеров, всплеснут руками. «Гамов? — залает начальник, выскочив из стеклянного, похожего на аквариум, кабинета. — Гамов? Вы почему курите? И где отчет?» Он достанет из–под стола переполненную мусорную корзину и, привстав на цыпочки, наденет начальнику на голову: «Вот твой отчет!»
На банковском счету хранились деньги, немало, все, что откладывал к пенсии. Прикинув, какую сумму сможет выручить за квартиру, он задумался о благотворительности. Мало ли больных детей, приговоренных этим «три–четыре месяца»?
— Ты–то хоть пожил! — сказал он своему отражению в зеркале, а оно в ответ только грустно усмехнулось.
Нет, лучше он пойдет на улицу, возьмет за руку прохожего со слезящимися глазами и съежившейся душой и, протянув ему деньги, скажет: «Это вам!» Просто: «Это вам!» — и больше ничего. Подняв воротник, смешается с толпой, и прохожий, растерянно мнущий набитый пачками пакет, не успеет даже запомнить его лица. А потом каждый день, ставя в церкви безымянные свечи, будет вспоминать незнакомца, подарившего ему пакет с деньгами, и Гамов будет жить в его воспоминаниях, переселившись туда, словно в Царствие Небесное.
— Человек жив, пока его помнят, — объяснил он отражению, сложившему бровь вопросительным знаком. — И умирает, забытый всеми, даже если еще жив.
— Так чего же ты боишься смерти, если давно мертвец? — захохотало зеркало, и Гамов, испуганно отпрянув, завесил его тряпкой.
«Как в квартире покойника», — суеверно перекрестился он и отчетливо представил, как в забитых землей глазницах пробивается трава, а деревца растут из могилы, словно руки, поскрипывая от ветра, наваливавшегося на них всем телом. «Три–четыре месяца…»
— Да какого черта?! — вскричал Гамов. — Какого черта?! Какого черта?! — он заходил из комнаты в комнату, размахивая руками, как полоумный, и приговаривая: — Какого черта?!
Всю жизнь копил, откладывал, отказывая себе в удовольствиях, чтобы отдать все первому встречному? Да, его годы были похожи на гнилые орехи, от которых во рту выступала горькая слюна и сводило живот, но теперь все изменится — и отпущенное ему время он проведет так, чтобы устать от жизни. Завтра же снимет все деньги и будет тратить, словно сказочно богат.
— Один день — да мой! — крикнул он слепому зеркалу. — У кого нет «завтра», для того «сегодня» длится вечность!
Спустив все деньги, поедет в провинцию, в сонный пыльный городишко, где останется с пухлыми деревенскими девицами, бьющимися в объятьях, словно пойманная в сеть рыба.
И когда Смерть, обдавая его гнилостным дыханием, спросит:
— Как ты жил?
Он ответит:
— У меня было много женщин, мои ночи были похожи на дни, а жизнь — на пьяный кабак, в котором веселятся, пока не свалятся под стол, но теперь я устал и хочу уснуть, чтобы не проснуться.
Он услышал злой смех и, оглядевшись, понял, что смеется он сам:
— Небогатая же у тебя фантазия… — сказал себе Гамов.
Или, продав квартиру, уедет навсегда, пустится в путешествие по миру, оставит город, в котором жил — словно запертый в камере преступник, приговоренный к пожизненному. Выбрасывая книги с полки, Гамов отыскал мятый атлас, разложив на ковре, долго листал его, водил пальцем по материкам, читал названия городов, пока, утомленный мечтами, не уснул прямо на полу, уткнувшись лицом в карту Африки.
«Только не тяните…» — каркнул врач, вынырнувший из воспоминаний.
— Только не тяните, — эхом повторил Гамов, очнувшись.
Он нашел в интернете телефон интим–салона, набрав номер, вытер ладонью выступившую на лбу испарину.
— Блондинку, брюнетку, рыженькую? Молоденькую или опытную? — выспрашивал вкрадчивый голос.
— Блондинку, — брякнул Гамов, хотя ему нравились брюнетки. — Молоденькую.
Через час в дверь позвонили, и Гамов, стянув с постели простыню, обернулся ею, став похожим на римского сенатора. На пороге стояла коротконогая девица с жидкими, выжженными перекисью волосами.
— Папаша, иди в душ! — скомандовала она, снимая сапоги. Оглядев скомканный костюм, приподняла его ногой, с женской деловитостью пощупала ткань.
«У меня много лет не было женщин, — уставившись на девицу, перекатывал Гамов во рту заготовленную фразу. — И я очень одинок…» Но язык присох к небу, и он едва выдавил из себя, словно пасту из засохшего тюбика:
— Меня… не было…
— С мылом мойся! — не слушая, отрезала проститутка и, взяв пульт, растянулась на диване, закинув ноги на спинку. — Эй, а что у тебя с телеком? Ты псих, что ли?
Гамов заперся в ванной, включил воду. В правом боку заныло, засвербило от боли, и он, нащупав выступавшую шишку, всхлипнул. «Она здесь?» — спросил он сегодня врача, тыча в бок. Тот снял очки, подышал на них, протер краем халата. «Она везде», — вздохнув, ответил он, и в его глазах не было жалости.
— Ну, как ты хочешь? — по–деловому спросила девушка, зубами открывая упаковку с презервативом.
Гамов достал деньги, протянул ей, пряча глаза.
— Дочка, иди домой…
Пожав плечами, девушка взяла деньги и, покрутив в руках презерватив, положила на тумбочку.
— Телефон оставить? — спросила она, обернувшись.
Гамов замотал головой.
В груди, словно опухоль, разрасталось отчаяние, комом подступавшее к горлу, и, сдавив шишку, он сипло спросил:
— Думаешь, последнее слово за тобой? Думаешь, буду ждать, пока ты меня убьешь? — он взял нож, ковырнул бок, и простыня окрасилась кровью. — Это я, я убью тебя!
Поставив табурет в центре комнаты, вскарабкался, привязал к люстре галстук и, набросив петлю на шею, спокойно, словно понарошку, отбросил табурет ногой. Люстра, едва не оборвавшись, затрещала, покосилась, и свет погас. Гамов захрипел, пытаясь высвободиться, но петля сильно затянулась, и кровь прилила к голове, которая, казалось, была готова лопнуть, словно перезрелое яблоко. Он забился в конвульсиях, обмяк, и посиневший язык вывалился изо рта, но материя лопнула, и Гамов грохнулся на пол.
А когда очнулся — серое утро висело за окном. Шея ныла от боли и любое движение давалось с трудом, бок запекся кровью, а на опухшем лице синел кровоподтек. Надрываясь, звонил будильник. Гамов прошел в ванную, встал под холодный душ, затем побрился, выдавливая языком бугорок на щеке, почистил зубы. Шлепая босыми ногами, прошел на кухню, выбросил сломанную турку, сварил кофе в кастрюльке и, разбив яйца о край сковороды, сделал яичницу. Перерыв аптечку, заклеил пластырем поцарапанный бок, проглотил обезболивающее.
Отряхнув костюм, быстро погладил его, достал новую рубашку. Поднял смятые листы, разгладив, аккуратно сложил в папку. Разбитый телевизор затолкал в сумку, вымел осколки лохматым веником. Отыскав разорванную трубку, зачистил ножом провода, скрепил их, склеил пластиковый пенал — и как только положил на рычаг, телефон зазвонил.
— Гамов? Гамов, слышите? — завопили на том конце. — Гамов, але?
— Да–да.
— Совещание, помните? Жду вас в офисе.
— Выезжаю.
Он сорвал тряпку с завешенного зеркала, оглядел покрывшуюся пятнами шею, пригладил пятерней волосы. «Три–четыре месяца!» — крикнуло ему вслед отражение, но Гамов, громыхая дверным замком, его уже не услышал.
Одноклассников. нет
Город был с ноготь, и одноэтажные домишки теснились вдоль единственной дороги, ведущей из ниоткуда в никуда. Обдавая грязью, по улице проехал черный джип, и за ним, словно собачонки, бросились с криком чумазые мальчишки. За рулем машины сидел такой же мальчишка, с синими от ягод губами и содранными коленками, выросший когда–то в этом городе, как сорняк у дороги. Оглядываясь на бегущих детей, он думал, что в каждом живет ребенок, которым мы были, и, свернувшись в груди, ворочается от воспоминаний. Может, этот ребенок и есть наша душа?..
Школа была обнесена щербатым забором, и Иван, как в детстве, влез в дыру между досками, стараясь не порвать рубашку. Шли каникулы, на школьном дворе было пусто. Сколоченные из кривых сучкастых палок ворота кренились на бок. Достав из кустов сдутый мяч, Иван пробежал с ним к воротам, вспоминая, как «финтил» в детстве. Но, запутавшись в ногах, грохнулся и, закрыв лицо ладонью, громко расхохотался.
В школе было тихо, шаги звенели гулким эхом, рассыпавшимся на сотни шагов, словно следом бежали призраки прошлого. В дверях кабинета он столкнулся с учительницей, прижимавшей к груди охапку тетрадей. Отпрянув друг от друга, оба в голос охнули. Поправив сползшие на нос очки, женщина нервно рассмеялась.
— Добрый день, — кивнул Иван, всматриваясь в незнакомое лицо.
Она продолжала разглядывать его, и на шее от смущения проступили красные пятна. Иван обернулся по сторонам, но они были одни.
— Постарела? А ты не изменился…
После уроков они прятались на крыше старого сарая, в котором школьный сторож хранил ржавые грабли и лопаты, и, срывая с веток «дичку», бросали огрызки за забор.
— Поженимся? — крепко сжав ее худенькое запястье, зло шептал он ей на ухо. — Поженимся?
А она заливалась колокольчиком и болтала ногами, любуясь на свои туфли.
— Поженимся? — твердил он, покрываясь испариной, и она, сжалившись, прижималась к нему, обдавая свежестью.
— Поженимся, двоечник.
А потом она уехала в областной центр, выпав из его жизни, как куплет из песни, а Иван, связав вещи в узелок, подался на заработки в столицу. Но если куплет написан, значит, должен быть спет, и, вернувшись через несколько лет, он постучал в ее окно.
На спине тонкими линиями отпечатались сухие травинки, и, уезжая, он увозил с собой запах прелого сена, следы поцелуев и обманутые надежды. Он хотел вернуться за ней, но жизнь вила из него веревки, удачи сменялись проигрышами, стрельба — большими сделками, а потом он встретил первую жену, похожую на всех кинозвезд сразу, и о той, которой обещал вернуться, забыл.
А теперь смотрел на рано состарившуюся, располневшую учительницу, с потрескавшимися руками и грязным деревенским загаром, и надеялся, что память играет с ним злую шутку. Но таких яблочно–зеленых глаз с янтарными крапинками не было ни у одной другой женщины.
— Школы в округе закрыли, осталась только наша, но учеников мало, — тараторила она, боясь замолчать хоть на секунду. — Учителей не хватает, а мне после института одна дорога была…
Она всплыла в памяти между второй и третьей женой, и в нос ударил запах прелого сена. После разводов он становился беднее ровно наполовину, а любовницы обходились дороже жен, и, вспоминая ее заливистый смех и ситцевое платье, которое, задираясь на ветру, обнажало крепкие загорелые ноги, он поклялся утром же отправиться в родной городишко.
— Красивые — все сучки, — выкуривал он пятую сигарету за ночь, ворочаясь в постели. — А эта будет по пятам ходить, в глаза заглядывать…
Высыпав на ладонь горсть таблеток, он проглотил, не запивая, и провалился в тягучий, густой сон, в котором его жены были мужчинами, а он — женщиной. А утром, когда будильник, завизжав, разорвал сон на куски, Иван уже и не помнил, куда собирался ехать.
На стенах все так же лупилась краска, а в горшках чахли фиалки, словно время здесь остановилось. Доска была в меловых разводах, и она, взяв тряпку, кинулась ее протирать.
— Лёша Рыжий женился на девчонке из соседнего класса, у нее уже на выпускном животик из–под платья топорщился. Жили плохо, ругались, ребенок без присмотра бегал по улице, чумазый, голодный. Он стал пить, жену поколачивать, и ее отец в долгу не оставался. Лёшка даже в больницу раз загремел, а вышел — ей лицо раскроил, не узнать было.
Иван вспомнил своих жен, и на губах повисла кривая ухмылка.
— А закончилось все в одну ночь. Раздобыли с дружком технический спирт, раздавили на двоих — Лёшка сразу умер, дружок по дороге в больницу… А жена его уж как голосила над гробом, как убивалась, и когда закапывать стали, в обморок грохнулась.
— Вот и пойми вас, баб, — усмехнулся Иван, и она вздрогнула, уколовшись грубым словечком.
Он достал пачку сигарет, помяв фильтр, прикурил.
— Тут нельзя, — пробормотала она.
Он поднял глаза, а она, густо покраснев, отвернулась к окну и, распахнув пыльные рамы, впустила в класс свежий воздух.
— Злой, Малой и Костик вместе погибли, — кивнула она на последние парты, и Иван вспомнил трех неразлучных друзей, которых боялись даже
учителя.
— На Лёшкиных поминках пили всю ночь, а под утро в магазин поехали, за добавкой. Только через день машину нашли, в овраге…
Прикурив сигарету от другой, он подошел к окну, щелчком выбросив окурок во двор.
— Учительница первая моя, — пробормотал он, перекатывая сигарету языком, и она, смешивая запах сена с терпким мужским парфюмом, порывисто прижалась к его груди. Он заметил, как под хной в ее волосах уже пробивается седина, и думал, что любая из ее учениц теперь больше похожа на нее, чем она сама.
— Светка в Москву подалась, — отпрянула она и, сев за стол, стала перебирать тетради. — Счастья искать… Мать ее верит, что Светочка хорошо устроилась, вышла замуж за миллионера, может, и за границу уехала. Говорит, что дочка стала важной дамой, матери–деревенщины стесняется, вот и не появляется, не звонит, не пишет. Ну а мы все поддакиваем… Жалко старуху, одна дочка–то была…
— Ты бы чего–нибудь повеселее рассказала, — щелкая суставами, размял он пальцы.
— Ох, Ванечка… — вздохнула она, уткнув лицо в ладони, и вырвавшееся ласковое имя вернуло их в юность, на крышу сарая, где они, срывая яблоки, шептались о женитьбе.
Иван обнял ее за плечи, и она расплакалась, вытирая слезы рукавом, а ее грудь вздымалась так сильно, будто из нее вот–вот выскочит девчонка, которой она когда–то была.
На связке ключей болтался деревянный брелок, на котором была вырезана ее девичья фамилия. «Не замужем», — решил Иван и, задохнувшись, вдруг понял, что не может вспомнить ее имени.
— А помнишь толстушку Марусю? — подняла она голову, и он, достав платок, осторожно вытер ее заплаканное лицо. — Троих родила, таких же пухлых и румяных, как сама. Только муж к молодой ушел, а она — к бутылке. За пару лет сгорела… А детей в приют отдали, у отца в новой семье еще трое народилось…
Иван протянул ей платок, и она громко высморкалась, продолжая всхлипывать.
«Л + И» — вырезал он как–то ножичком на ее сарае, и она, испугавшись, что заметят родители, приставила туда старую лопату, спрятав любовное признание. Но для Ивана было главным — на своем настоять, и через день надпись появилась прямо на калитке, над ящиком для писем. «Ох, намучаешься ты с этим двоечником», — поймав их на улице под руку, пугала ее мать, пряча улыбку, а он, поигрывая ножичком, смотрел исподлобья, нахально улыбаясь. Но он был из тех, кому женщины все прощали, и ее мать, потрепав его по грязной щеке, шептала тайком: «Ну, совет да любовь…»
«Л + И… Лида, Лиза, Лиля…» — он помнил запах прелого сена, прилипшие к спине сухие травинки, колокольчик, звеневший на всю округу, но ее имя выпало из памяти, как птенец из гнезда.
У нее были некрасиво располневшие, натруженные руки, с потрескавшейся сухой кожей, а на безымянном пальце сидело медное колечко, которое было ей мало. Ивана бросило в жар, он расстегнул верхнюю пуговицу, ослабив воротник, и прикурил новую сигарету.
Она перехватила его взгляд и, пряча руки, выдохнула:
— Оно не снимается…
«Лида, Лиля, Лиза, Лена, Леля…» — в его жизни было столько женщин, что все они казались на одно лицо, и, отправляясь на свидание, он записывал имя на купюре, потому что, запоминая все цифры, которые когда–либо видел, он не мог запомнить ни одного женского имени, путая жен, любовниц и прислугу, и, расплачиваясь в ресторане своей шпаргалкой, он привозил подружку домой, не помня, как ее зовут.
— Не все же плохо кончили, кто–то ведь поднялся? — раздраженно спросил он и, смутившись, стал, как в детстве, кусать заусенцы.
Она ударила его по руке, словно учительница ученика, и, нервно прыснув от смеха, опять взяла тряпку, чтобы протереть доску.
— Филиппок уехал в Европу, — вздохнула она.
— Вот видишь, — пожал плечами Иван и ревниво спросил: — Дело открыл?
— Да нет, в порту работал, потом на корабль завербовался. И сгинул.
— Тебе какие–то гадости на ум лезут, а может, он жизнь устроил. Умный ведь парень был, не то что я… — неловко усмехнулся он, взлохматив волосы пятерней.
Она развернулась на каблуках и продекламировала, словно на уроке литературы:
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели…
Он захлопал, чтобы скрыть раздражение, но она, почувствовав это, осеклась. Уставившись в пол, долго молчала, но, кусая губы, не удержалась:
— Помнишь Математика?
Математик носил очки, и его маленькие хитрые глазки плавали за толстыми стеклами, как рыбки в аквариуме. Он был мастер на все руки, чинил сломанные стулья, латал школьную крышу, вырезал деревянные фигурки, ловко орудуя ножичком, и за это ему прощали двойки, от которых тяжелел дневник. На уроках он спал, уронив голову на руки, или глазел в окно, разинув рот, и учителя вызывали его к доске, когда к концу дня хотелось выместить на ком–нибудь свою усталость.
— И как же ты, дружок, решишь уравнение с одним неизвестным? — нацелив на него указку, нависал учитель алгебры.
И класс, замерев, ждал развлечения.
— Уравнение — это жизнь, — насупившись, сказал мальчишка. — А неизвестное — мы сами. Только чего его решать, коли смерть всех уравняет?..
Одноклассники чесали затылки, а учитель, проглотив язык, так и стоял над его партой, выпучив глаза, пока школьный звонок не разрезал повисшую тишину. С тех пор двоечника звали Математиком, и это прозвище прицепилось к нему, как репей.
— ПТУ он закончил с грехом пополам, работал грузчиком в областном центре. Дебелый стал, здоровый, кулаки — словно боксерские груши. И как напивался, кричал, что он Математик, так что его и там так звали. А потом кто–то из мужиков принес сыновью тетрадку с задачками и попросил решить. А Математик пялился–пялился в тетрадь, да и задвинул ему про уравнение с неизвестным. Мужик разозлился и ударил его бутылкой по голове.
— Вот и решилось уравнение… — потирая виски, пробормотал Иван. — С неизвестным.
За окном сгущались сумерки, в классе было темно, но она не включала лампу. В тусклом свете сглаживались ее морщины, пропадали глубокие складки у рта, и она все больше становилась похожа на ту девчонку, которой он надел на палец медное колечко.
Вытащив из ящика стола коробок, она стала вычищать спичкой землю из–под ногтей, и Иван брезгливо поморщился.
Она перечислила несколько имен:
— У кого инфаркт, у кого инсульт…
— Да не может быть! — грохнул он кулаком по столу, и она, вздрогнув, выронила спичку. — Ну какие инфаркты в нашем возрасте? Что ты несешь?
По ее лицу пробежала дрожь, которую он разглядел даже в темноте, и Иван, чертыхаясь, взял ее за подбородок, приподняв голову:
— Прости…
И обоим в нос ударил запах прелого сена.
— А первым Васька ушел. До двадцати не дожил. В гараже заперся и машину завел. Из–за девки отравился, дурак… — они посмотрели на парту у окна, где когда–то сидел парень с пшеничными волосами и добродушной улыбкой, которая гуляла по его лицу, как кошка, сама по себе. Он и сейчас там сидел, улыбаясь им. — Дурачок… — покачала она головой Ваське, которому уже годилась в матери.
Он положил палец на запястье, считая пульс. В грудь вонзились тысячи иголок, сердце налилось свинцом. «Хоть бы живым отсюда убраться», — стучало у него в висках.
Прозвенел звонок, и, обгоняя свой смех, в класс вбежали Злой, Малой и Костик. С порога швырнув портфель на парту, вошел Лёша, потирая проломленную голову, тащился следом Математик, толстушка Маруся, заливаясь пьяными слезами, озиралась на свою тощую, как смерть, тень, и у Ивана поплыло перед глазами.
— А Дуньку помнишь? — вскрикнула она. — Дунька–то…
— Хватит! — заорал он. — Хватит, замолчи! Хватит!
В коридоре послышался сухой кашель.
— Вы чего в темноте? — проскрипел, как несмазанная телега, старик–сторож, хлопнув ладонью по выключателю.
Яркий свет ударил по глазам, и призраки растаяли, оставляя после себя тихий шепот, закатившийся в щели между досками.
— Мыши, — ударил старик палкой по полу, и шепот на время затих.
Из школы вышли, вслушиваясь в собственное молчание. Иван обернулся на сарай, жавшийся когда–то к школе, как ребенок к матери, но сарай давно снесли, а яблоню срубили.
Иван подал ей руку, раздражаясь, как неловко она забирается в джип, одергивая задравшуюся юбку, а она, проведя рукой по кожаному креслу, ахнула, вжавшись в сидение. Он включил музыку, легкий мелодичный джаз привел его в чувство. Сняв вымокшую рубашку, он остался в одной майке. Косясь на его бугристые мышцы и твердые, выпиравшие соски, она сжала колени, словно хотела слить их, и, смутившись, отвернулась к окну, будто видела что–то в густой темноте. Он разглядывал ее раздавшиеся ноги, чувствуя прилив нежной жалости, которая наполняла его до краев, грозясь выплеснуться наружу, и, повернув ключ зажигания, бросил взгляд на боковое зеркало, из которого на него смотрел дом с привидениями, обнесенный школьным забором.
Он боялся, что над ящиком для писем увидит вырезанное четверть века назад любовное признание, но густая, словно кисель, ночь спрятала и «Л + И», и ящик для писем, и калитку, оставив только черноту, в которую, зажмурившись, он провалился, переступив порог. Щелкнув зажигалкой, Иван осветил тесный сарай, и она смущенно прикрыла лицо. У стены были сложены неколотые дрова, перевязанные проволокой, в углу пылились трехлитровые банки, на ржавом гвозде болтался старый ватник, из которого кусками торчал утеплитель. Запах прошлогоднего сена, разбросанного на полу, был сладким и томительным, как юношеские воспоминания. «Лена, Люба, Лида, Лиза, Лиля…» — перебирал он имена, пока она расстилала ватник. Он не спросил ее, почему она не позвала в дом, радуясь, что они вновь в этом сарае, в котором столько лет их любовь хранилась вместе с проросшей картошкой.
Она легла на ватник, прерывисто дыша, и Иван, расстегнув брюки, прильнул к ней, морщась от кислого запаха пота.
«Лиза, наверное, Лиза… — лихорадочно вспоминал он, стягивая с нее юбку. — Нет, Лида. Или Лиля?»
— Я увезу тебя отсюда, — хрипло шептал он, лаская ее мягкую грудь, и она заливалась колокольчиком, щекоча его поцелуями. — Увезу тебя… Прости…
Он проснулся ранним утром, разбуженный криками петухов, и, вслушиваясь в ее ровное дыхание, осторожно поднялся, натянув брюки. Она спала или притворялась спящей, свернувшись как ребенок, и разглядывая ее расплывшееся тело, Иван гадал, есть ли у нее дети. Может, она замужем, вот и не пригласила в дом? Или живы родители? Может, все эти годы растила их сына, потому и не сняла медное колечко? Или ее тоже мучил запах сена и отсыревшего дерева, мотылек, бьющийся в стекло, пыльная паутина в углу и любовные признания, при воспоминании о которых ворочался в груди ребенок?
Сквозь щели между досками бил солнечный свет, кромсавший сарай на части. В последний раз взглянув на нее, он вышел, тихонечко прикрыв дверь, которая скрипнула, будто кто–то всхлипнул.
«Лиза? Лида? Лиля? Как же я мог забыть… — бормотал он, и его лицо горело, как от пощечины. — Или Лена?» Продолжая перебирать имена, он сменил диск, включил веселую музыку и, выстукивая ритм пальцем по рулю, уехал по дороге, ведущей из ниоткуда в никуда.

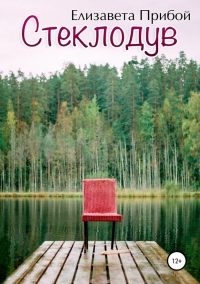






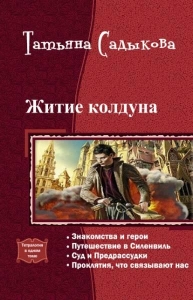

Комментарии к книге «Приговор», Елизавета Борисовна Александрова-Зорина
Всего 0 комментариев